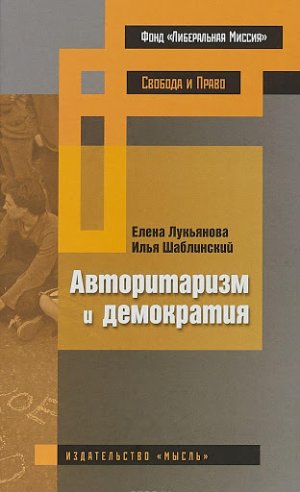
Введение
Политические режимы, при которых в руках одного человека либо узкой группы лиц сосредоточена неограниченная власть, — специальный и достаточно интересный объект мира современных правовых явлений. В этом мире почти не остается места для абсолютных монархий с наследуемой властью, опирающейся на династическую традицию. Но для авторитарных режимов это пространство пока сохраняется. Причем некоторые из этих режимов предпринимают попытки обзавестись собственной династической традицией, превратившись в псевдомонархии.
После Второй мировой войны возникновение и укрепление режимов личной власти происходило в условиях противостояния двух военно-политических блоков — советского и североатлантического. С целью укрепления личной власти авторитарные правители выбирали себе внешних покровителей и союзников, паразитируя на межблоковых противоречиях. В ту пору весьма актуальной оказалась проблема дифференциации авторитарных и тоталитарных режимов. Последние рождались в основном при идеологической и материальной поддержке советского блока и, как известно, стремились контролировать не только политическую, но и все иные сферы жизни в «своих» странах.
В 1950–60-е годы авторитаризм и идея «сильной руки» были «в тренде» в Азии и Южной Америке практически в той же мере, что и идея демократии в Европе. Хотя авторитарные антикоммунистические режимы в Португалии, Испании и Греции казались многим хоть и архаичными, но в какой-то мере оправданными. Ведь рядом, в Центральной и Восточной Европе, существовали подобные и даже более жесткие тоталитарные режимы, сплоченные в советский блок. Поэтому политическая полиция не бездействовала нигде.
В 1970–80-е годы репрессивная функция многих подобных режимов постепенно стала ослабевать: диктатуры смягчались и трансформировались. На рубеже нового тысячелетия целый ряд государств пережили пору восстановления демократических институтов. В Европе еще в 1970-е годы были восстановлены демократии в Греции, Португалии и Испании. В Азии пережили трансформацию, а затем и крах авторитарные режимы на Филиппинах и в Индонезии. Относительно мирно демократизировались Тайвань и Южная Корея. В Южной Америке переходы от военных диктатур к демократии оказались разными — мирными в Бразилии и Чили и не очень мирными в Аргентине и Парагвае.
В любом случае обозначилась тенденция, связанная с восстановлением демократических институтов в ряде государств на разных континентах. В последнее десятилетие XX века произошел распад Советского Союза, который привел к образованию новых демократий. Однако спустя некоторое время ученые констатировали возвратный характер авторитаризма, который особенно ярко проявился в ряде постсоветских стран. Некоторые даже пришли к выводу, что спустя четверть века распад Советского Союза вообще выглядит как антидемократизационное событие. Новые режимы показали свою специфичность. Восприняв основные черты классического авторитаризма, они все же были особенными, несущими признаки другого времени и других человеческих ценностей. Их главной отличительной чертой стал имитационный характер основных демократических институтов и процедур. Отличает их и меньший характер насилия, и особые свойства войн, и специфические целеполагания, основанные на общих пережитках социалистического пути развития.
Мы уверены, что все эти черты новых автократий — и общие и особенные — должны быть учтены и осмыслены. Просто потому, что мечта человечества о тотальном закате авторитаризма пока не сбылась, а значит, тема авторитарных режимов в современном мире не теряет своей актуальности.
И конечно, в данном контексте нам особенно интересен российский опыт. Нам очень важно понять, что произошло и происходит с политическим режимом в нашей стране. А для этого необходим подробный разбор событий двух последних десятилетий в России. Каковы трансформации институтов президента, парламента и суда? Нам представляется, что рассмотрение внутренних проблем нашего государства именно в компаративном и историческом аспектах подобных режимов в разных частях мира может быть плодотворным. Тем более что есть все основания полагать, что закат авторитаризма все же не за горами. И нам важно понимать, исходя из непростого опыта других, как все это будет происходить в нашей стране.
Главным образом, хотя и не исключительно, нас, конечно, интересует правовой аспект проблемы. Но это не значит, что мы не пересекаем границу между правовыми и политическими науками. В любом случае выбранной теме показан междисциплинарный подход.
Еще одной особенностью книги является то, что она написана двумя авторами — соратниками по видению и пониманию процессов, но очень разными по эмоциональному восприятию и стилистике изложения материала. Мужчина, написавший первую часть книги, в этом научном тандеме был, естественно, сдержаннее, суше и академичнее, а женщина (части третья и четвертая) — жестче, лапидарнее и образнее. И мы решили не приводить тексты каждого к единому усредненному знаменателю, а написали совместно соединяющую их вторую часть. Все остальное оставили в двух авторских стилях без ущерба для целостности содержания. И да пусть поймет и простит нас за эту вольность читатель!
Часть первая
Авторитарные режимы в XX веке
Глава 1
О рамках исследования и дифференциации авторитарных и тоталитарных режимов
В этой части мы остановимся на рассмотрении проблем политических режимов, возникших и сформировавшихся после Второй мировой войны. Сделаем исключение лишь для режимов Ф. Франко в Испании, А. Кармона — А. Салазара в Португалии и отчасти для политического режима в Мексике. Они прошли основные стадии своего развития и упадка уже в послевоенном мире. Следует отметить, что появление в теоретических работах (и, наверное, в первую очередь в работах философов «франкфуртской школы») понятия «авторитарный режим», по мнению многих авторов, оказалось в определенной мере связано с осмыслением политико-правовых особенностей как раз послевоенных режимов в Испании и Португалии[1]. Эти режимы все еще оставались диктатурами и развивались в определенной изоляции от демократизирующейся Европы, но к ним уже явно был неприменим термин «тоталитаризм», выработанный с учетом реальностей режимов Муссолини в Италии и Гитлера в Германии. Нужно сказать, что именно тогда стала заметна некоторая зыбкость и условность критериев, позволяющих отграничивать «чисто» тоталитарные режимы от авторитарных. Мы все же не собираемся отрицать или умалять инструментальной полезности этих критериев.
В мире, который мы называем послевоенным, в первые же годы его формирования было образовано то, что сегодня мы относим к основам современного международного правопорядка. В 1945 году был утвержден Устав ООН, спустя еще три года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. Еще два года спустя 14 европейских государств подписали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Нормы этих международно-правовых актов заложили новую основу для современных межгосударственных отношений и во многом предопределили направления внутренней политики присоединившихся к этим нормам государств, хотя для многих из них этот путь был непростым.
Не менее важно и другое. Именно в это послевоенное время получил широкое распространение и дополнительное обоснование взгляд на демократию как на ценность. Национал-социализм в Германии и фашизм в Италии породили и свои образы государства и политического режима, и свои соблазны. И хотя они были побеждены в тяжелейшей войне, они, безусловно, обозначили альтернативу политической демократии как способу организации власти. Приверженцы демократии стали лучше представлять себе ее цену.
В то же время диктаторы, опирающиеся на национализм, получили образцы, на которые они могли с уважением и восхищением коситься и у которых что-то заимствовать, хотя никогда в этом не признавались. Их альтернатива демократии была подпитана немалым историческим опытом, в том числе мрачным и трагическим. И надо сказать, что эта альтернатива не была в тот период единственной. Одним из порождений того же послевоенного мира стало сообщество тоталитарных государств — сателлитов Союза ССР, воспроизводивших в той или иной мере советский режим. Причем данное сообщество несколько десятилетий расширялось.
В связи с этим возникает необходимость попытаться четко дифференцировать авторитарные и тоталитарные режимы. Данной проблеме, как известно, посвящена обширная литература. И хотя для нашей работы проблема указанных различий носит второстепенный характер, к ней следует обращаться в тех случаях, когда конкретный режим личной власти по мере и широте охвата контроля над обществом либо по степени жестокости выходит за некоторые рамки, заставляя вспоминать опыт тоталитарных государств. Для нас также представляет интерес процесс возникновения авторитарных режимов в результате разложения тоталитарного государства и на основе его бывших структур.
В любом случае о тоталитаризме можно говорить тогда, когда мы встречаемся с монопольным положением официальной идеологии и правящей партии, сращиванием аппарата этой партии с государственным аппаратом, жестким преследованием любого инакомыслия и нелояльности, идеологическим контролем над СМИ, культурной сферой и экономикой. Как известно, тоталитаризм мог означать как диктат правящей партии в отношении предпринимателей, так и полную национализацию средств производства и торговли.
Обеспечение эффективности подобных режимов могло быть достигнуто лишь при определенных условиях. Скажем, в первую очередь при достаточной агрессивности и мощи репрессивного аппарата, а также реальной приверженности (достигающей степени энтузиазма) значительной части граждан официальной идеологии. Последнее требовало также жестких ограничений на выезд за рубеж для граждан данного государства: они не должны были получать поводов для сравнений не в пользу опекающего их режима. Требовалось и поддержание в обществе определенного морально-психологического климата. Соблюдение всех этих условий требовало немалых усилий и затрат.
Перечисленные выше признаки тоталитарного государства могли быть выражены в разной степени. Формально соответствующие им политические режимы в Албании и Польше, в Северной Корее и Чехословакии, в Китае и ГДР могли весьма существенно различаться в том, что касалось закрытости от внешнего мира или жесткости идеологического контроля. В течение 1950–60-х годов сообщество этих режимов еще расширялось, но некоторые из них пережили тяжелые кризисы. К рубежу 1980–90-х все тоталитарные режимы в Европе (пережившие ту или иную эволюцию) прекратили свое существование. В большинстве случаев это произошло мирно, но были и случаи народных восстаний.
В Азии подобные режимы (прежде всего, конечно, в Китае, а также во Вьетнаме и в Лаосе) тоже пережили непростые времена, но все же смогли адаптироваться к новым экономическим реалиям и новой международной обстановке. Фактически они отказались от многих тоталитарных механизмов, допустив свободный выезд граждан за рубеж, обучение в иностранных университетах и пользование Интернетом (правда, с рядом ограничений). Постепенно был ослаблен и контроль за сферой культуры — в частности, за литературным творчеством и кинематографом.
Во всех этих трех азиатских государствах по мере осуществления рыночных преобразований постепенно сложились правящие олигархии (пришедшие на смену вождистским режимам). Внутри олигархий выработались механизмы смены и преемственности власти. Это вполне может быть истолковано как форма специфической авторитарной модернизации. При этом в каждом из этих государств монополия на власть одной партии, а точнее, узкой бюрократической группировки в полной мере сохранилась. И фактический запрет на какую бы то ни было независимую от власти общественно-политическую деятельность никто не отменял. Формально сохранилась и руководящая роль официальной идеологии (во всех упомянутых государствах генетически связанной с примитивизированным марксизмом). Хотя в условиях быстрого роста рыночной экономики эта роль выглядит все более искусственной. Марксистские догмы исподволь фактически замещаются разными вариантами национализма. Но идеологический контроль над СМИ остается вполне реальным.
В условиях бурного развития предпринимательства и относительной открытости этих обществ данные традиционные ограничения воспринимаются, возможно, менее остро (хотя об этом мы не можем судить с полной уверенностью). Но в любом случае очевидно, что политические режимы в Китае и во Вьетнаме (небольшой Лаос мы также ставим в этот ряд) в значительной мере утратили признаки, присущие тоталитарным режимам.
Эти признаки к началу XXI века оставались свойственны лишь КНДР и Кубе.
В этой связи — о рамках проблематики настоящей работы. Мы не обращаемся в ней к проблемам тоталитарных режимов — тех, что подпадают под данное определение с учетом приведенных выше критериев. Представляется, что данная тема в любом случае должна рассматриваться в качестве самостоятельной.
Мы также не рассматриваем опыт создания и трансформации политических режимов Китая и Вьетнама. Эти режимы изначально формировались как тоталитарные и вождистские — в процессе гражданских войн и в условиях острых внешнеполитических кризисов. Правящие в этих странах группы соответственно с конца 1940-х и 1950-х годов не утрачивали власти и не меняли используемого партийного бренда, поскольку монопольно правящими в обоих государствах остаются коммунистические партии.
Нас в большей мере интересуют случаи перехода от демократического правления к авторитарному и (отчасти) наоборот, поскольку интерес также представляет процесс ослабления и разложения авторитарных режимов. Такими примерами особенно богата история государств Центральной и Южной Америки. Но весьма интересен и опыт некоторых восточно-азиатских государств (в частности, Индонезии и Филиппин), а также некоторых государств Северной Африки.
Специального внимания заслуживает процесс формирования новых государств на постсоветском пространстве, в границах бывшего СССР. За четверть века с момента распада Советского Союза на его месте успели возникнуть и укрепиться несколько авторитарных режимов. Мы имеем в виду режимы, установившиеся в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
В Армении, Грузии и Кыргызстане в эти годы происходили серьезные политические изменения, но монополии на власть одной группировки так и не сложилось (в трех балтийских республиках и Молдове политическая жизнь с момента распада СССР развивалась все же в основном в рамках демократических процедур).
Изначально все эти государства складывались в 1990-х годах на основе вполне демократических конституций и даже некоторого опыта реальной политической конкуренции. Но итоги оказались разными. Политическое соперничество могло перерастать как в кровавые гражданские конфликты (в Грузии, России, Азербайджане), так и в полномасштабную гражданскую войну (Таджикистан). В условиях смуты и затяжного экономического кризиса не замедлили явиться авторитарные вожди. В одних случаях они представляли верхушку старой партийной номенклатуры (как в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане), в других — новые околовластные группировки (как в Белоруссии, Таджикистане). Нередко их воспринимали как гарантов определенной стабильности и защитников новой (рыночной) экономической среды. И нередко для этого были веские основания. Режимы личной власти выглядели подчас как переходная форма государства, пригодная для преодоления кризиса и проведения некоторых назревших реформ в экономике. Примерно с этой точки зрения многие рассматривали и политический режим, установившийся в России в начале XXI века.
За четверть века существования подобных режимов на постсоветском пространстве выявились их определенные особенности и тенденции развития. Обнаружились как сходства с авторитаризмами второй половины XX века, так и отдельные специфические черты. Поэтому, с учетом поставленных задач, следует предложить некоторые определения, которые в дальнейшем могут послужить для нас удобным инструментом. Тут мы, конечно, присоединяемся к обширному отряду исследователей, разрабатывавших эту многообещающую тему весь прошлый век и сформулировавших немало понятий, отражавших разные стороны явления. Первое десятилетие текущего века добавило, как уже говорилось, нечто новое к этому опыту.
Итак, под авторитарным политическим режимом мы понимаем режим, обеспечивающий неограниченную власть одного лица и его бюрократической группы над государственным аппаратом и СМИ, имитирующий иногда в целях легитимации демократические процедуры либо использующий в тех же целях лишь харизму правителя, подкрепленную силой репрессивного аппарата.
Обычно контроль авторитарного правителя и его группы не выходит за пределы названных сфер (в отличие от контроля при тоталитарном режиме). Однако известны случаи, когда авторитарные лидеры пытались влиять и на сферы образования и культуры (фактически навязывая свои вкусы) или даже предлагали обществу подобие официальной идеологии. В таких случаях в теоретическом плане дифференциация авторитарных и тоталитарных режимов затруднена. Юристы и политологи дискутировали, скажем, в 1960-х годах по поводу сущностных характеристик режимов Ф. Франко в Испании, А. Салазара в Португалии или, уже парой десятилетий позже, М. Каддафи в Ливии и С. Хусейна в Ираке. Разумеется, суть таких дискуссий не в наклеивании этикеток. Их суть — в выявлении некоторых сущностных характеристик, позволяющих лучше понять факторы легитимации подобных режимов, их способность к внутренним трансформациям и, наконец, их долговечность.
Для некоторых консервативных авторов XIX–XX веков авторитаризм был приемлем постольку, поскольку воспроизводил или возрождал правовые формы и стиль абсолютной монархии в новых условиях. Имелись в виду ситуации, когда династическая традиция по тем или иным причинам оказывалась прервана. И для государств с сильными монархическими традициями такое воспроизведение (или замещение) форм и стилей действительно выглядело вполне органично. Вероятно, именно эту органичность смены символов — когда монархическая традиция заменяется авторитарной и наоборот — имел, в частности, в виду испанский диктатор Франко, когда восстанавливал институт монархии в рамках своего режима и назначал наследного принца Хуана Карлоса своим преемником.
Однако никакой авторитарный режим не может рассчитывать на легитимность старой (и даже не очень старой) монархии — легитимность традиционную, связанную с династической традицией. Обычно авторитарный правитель рассчитывает на легитимность, которую обеспечивает его харизма. Тут мы лишь возвращаемся к известному выводу М. Вебера. В случаях, когда глава режима утрачивает харизму, когда его популярность слабеет, его режим оказывается под угрозой. То же самое относится и к случаям, когда глава режима уходит из жизни, избежав революций и трансформаций. Тогда в глазах значительной части граждан авторитарная власть перестает быть морально оправданной. Хотя, впрочем, это не всегда означает трансформацию режима.
Подобный режим, как мы знаем из опыта Бразилии и Аргентины, может поддерживать себя по крайней мере еще какое-то время благодаря неустанной работе репрессивного аппарата или авторитету силовых структур. Другой вариант выживания для режима — создание псевдомонархического механизма преемственности власти и передачи ее сыну ушедшего лидера.
В то же время единоличное правление не исключает и даже предполагает образование относительно сплоченной олигархической группы, способной в нужный момент поддержать или даже сменить вождя. Интересам такой группы обычно соответствует создание доминирующей партии или правящей корпорации, использующей тот или иной партийный бренд. Такая корпорация — полезный инструмент в деле имитации демократических процедур, которые являются дополнительными средствами легитимации авторитарного политического режима. А в наше время — почти всякого режима.
Различия в средствах, используемых для легитимации и поддержания авторитарных режимов, обычно рассматриваются в качестве оснований для их классификации. Таких классификаций предложено уже немало, и поэтому мы считаем необходимым обозначить некоторые из них, поскольку предполагаем далее их использовать.
К наиболее известным можно отнести классификацию различных видов авторитаризма, предложенную Хуаном Линцем[2], согласно которой можно выделять традиционалистские, или султанистские, режимы, исключающие любой политический плюрализм, а также режимы, допускающие ограниченный плюрализм при сохранении незыблемой власти лидера.
Традиционалистские (султанистские) режимы, как и следует из их названия, складываются на основе укорененной в обществе традиции единовластия и силового подавления любого инакомыслия. Для них характерно:
1) деспотическое правление одного лица, то есть режим личной власти конкретного диктатора, опирающегося на свой клан и лично преданную ему гвардию;
2) отсутствие или искусственное ограничение политического плюрализма и институтов политического представительства либо их полная имитация;
3) соединение политического господства и контроля над крупнейшими экономическими активами, то есть единство власти и собственности.
Такие традиционалистские режимы — относительная редкость в наше время.
Гораздо чаще встречаются авторитарные режимы, которые:
1) допускают ограниченный политический плюрализм, хотя чаще всего в форме нескольких вполне декоративных структур;
2) выстраивают систему политического представительства, обеспечивающего постоянное доминирование одной партии, и проводят выборы, дающие всегда сходные результаты;
3) стремятся ставить социально значимые задачи, поддерживаемые значительной частью населения.
К таким задачам могут относиться преодоление бедности, модернизация экономики и, в частности, развитие национальной промышленности, особенно импортозамещающих отраслей. Подобные режимы, получившие достаточно широкое распространение в 1930–60-е годы в Латинской Америке и в Азии, воплощали собой некий популистский тип авторитаризма.
Среди указанных режимов иногда различают кланово-бюрократические и военно-бюрократические режимы с учетом того, что во многих случаях диктатуры были следствием военных переворотов, целенаправленных действий армейской верхушки, генералитета или представителей среднего офицерского состава. Хотя эта классификация — по субъектному составу правящих групп — оставляет в стороне ряд сущностных характеристик данных режимов.
Военные режимы, как показывает опыт, не особо любят тратить время и ресурсы на суету, связанную с изображением демократии. Они полагаются на авторитет военного вождя либо просто на авторитет силы. В ряде случаев военное правление и означало именно отказ (декларируемый как временный) от демократических процедур. Установление власти «черных полковников» в Греции в 1967 году, перевороты А. Пиночета в Чили в 1973 году и группы генералов во главе с К. Эвреном в Турции в 1980 году сопровождались роспуском всех представительных органов и отказом от выборов в целях недопущения к власти (отстранения от власти) левых радикалов.
Военные режимы возглавляются представителями армейских кругов (обычно высшего генералитета), но, как известно, иногда путчи удаются полковникам и энергичным майорам. Например, руководителей переворота на Кипре в 1974 году иронически называли «черными майорами» по аналогии с «черными полковниками» из Греции. Контролируя ключевые посты, военные не могут не привлекать к сотрудничеству гражданских специалистов, более или менее разделяющих их взгляды. Администраторы «из гражданских» находятся в таких случаях в подчиненном положении. Правда, в Португалии гражданский министр А. Салазар, получив власть от армейской верхушки, фактически возглавил и даже ужесточил режим, созданный в результате военного переворота. Но это особый, нехарактерный случай. Как правило, переход власти от военных к гражданским влечет за собой возвращение к демократическим процедурам.
Кланово-бюрократические авторитарные режимы, образовавшиеся в последние десятилетия в самых разных частях мира, в целом показали себя более устойчивыми, нежели военные диктатуры. Можно предположить, что создание декоративных (или в значительной мере декоративных) представительных органов, регулярное проведение выборов в формате национальных праздников, а также имитация многопартийности (при условии признания псевдооппозицией руководящей роли главной партии и ее лидера) приносят нужный психологический и легитимирующий эффект. Правда, как показывает практика, тоже до поры до времени.
Современной разновидностью кланово-бюрократических режимов следует признать гибридные (имитационные) режимы. О них нужно сказать несколько слов специально. Они, по сути дела, предоставляют собой некоторые дополнительные опции для авторитарного правителя. В каких случаях? Если лидер желает иметь под рукой доказательства относительной демократичности его режима или действительно питает некоторый (может быть, даже сугубо научный) интерес к мнениям оппонентов.
Под имитационным (гибридным) политическим режимом мы понимаем режим, который в процессе обеспечения неограниченной власти одного лица и его клана допускает деятельность некоторых независимых от власти институтов (СМИ, общественные объединения и т. п.), не имеющих, впрочем, реального влияния. Поддерживая таким путем репутацию своих режимов как относительно демократических, единоличные правители предоставляют политологам возможность множить определения «мягкого», или «электорального», авторитаризма[3]. Хотя нужно признать, что черты «гибридных» режимов мы можем найти и в «управляемой демократии» в Индонезии при власти Сухарто, и в режимах Бразилии и Мексики 1970–80-х годов. И все же наибольший интерес для нас представляют подобные режимы, созданные к началу XXI века в постсоциалистических странах, и особенно на пространствах бывшего Союза ССР — в Азербайджане, Белоруссии и Российской Федерации.
Глава 2
Стадии формирования авторитарных режимов
Использование правовых инструментов при их установлении и формировании
Период авторитарного правления обычно распадается на несколько стадий, не всегда, правда, достаточно четко различимых. Их содержание бывает связано с замашками главы режима, экономической конъюнктурой и с изменениями в международной обстановке. Как правило, развитие авторитарного режима включает стадию его установления и конституционного оформления, а также стадию последующей консолидации, то есть консервации сложившихся механизмов властвования. У нас в данном случае особый интерес вызывает юридическая сторона вопроса, хотя немалую роль может играть и идеологическое декорирование режима. Неизбежна также стадия ослабления или трансформации авторитаризма. Обычно она обусловлена тем, что судьба режима оказывается тесно связанной с судьбой конкретного человека — авторитарного лидера, который не может избежать старения и дряхления. Впрочем, иногда процесс может быть ускорен и иными, негериатрическими факторами.
Можно попытаться рассмотреть все эти стадии развития авторитарных режимов, от установления их основ до демонтажа, на основе сравнительного анализа опыта различных государств. Речь должна идти как о тех авторитарных режимах, которые уже принадлежат прошлому, так и о тех, чье функционирование мы наблюдаем сегодня.
Отправной точкой для формирования авторитарных режимов чаще всего служит либо силовой захват власти (переворот), сопровождающийся смещением действующего правительства, либо введение законно избранным (назначенным) главой государства (правительства) военного или чрезвычайного положения, открывающего путь к узурпации власти. То есть чаще всего установлению авторитарного правления предшествует одномоментный акт, связанный, как правило, с определенными насильственными действиями.
Следует отметить, что совершенно иную модель формирования политического режима с доминированием одной партии (и правящей группы) представляет собой Мексика. Там установление авторитарного режима происходило в 30–50-х годах XX века в рамках ступенчатого, многостадийного процесса, не исключающего выборов с определенной конкуренцией и формальным признанием гражданских прав. Мексиканский опыт в какой-то мере оказался востребованным на рубеже XX–XXI веков, когда на постсоветском пространстве формировались подобные политические режимы в результате ступенчатой, пошаговой концентрации всей полноты власти в руках лица, контролирующего (как правило) исполнительную власть. Ниже мы специально рассмотрим этот вариант.
Итак, два первых сценария означают открытый одномоментный разрыв с существующей конституционной и легальной основой власти и отказ от ее конституционности (то есть от ее ограничения писаным правом). Применение насилия для устранения любых противников переворота обычно опережает попытки выдвижения какой-либо юридической базы для него. При этом во всех случаях достаточно большое внимание уделяется пропагандистскому обоснованию смены режима. С помощью подконтрольных СМИ население обычно ставится в известность о целях переворота и устраняемых с его помощью угрозах. Так, установление авторитарных режимов в 1950–70-х годах обычно оправдывалось угрозой прихода к власти леворадикальных (коммунистических) группировок либо угрозой их чрезмерного влияния. При этом на деле в ряде случаев сами по себе смещаемые правительства (главы государств) никак не могли быть отнесены к подобным силам. Но их обвиняли, и часто совершенно необоснованно, в попустительстве радикалам.
Говоря о способах захвата власти, можно рассмотреть исторический опыт ряда стран. Например, военному перевороту маршала Кастелу Бранку в Бразилии в 1964 году предшествовали попытки ослабить вполне конституционным путем позиции леволиберального президента Ж. Гуларта, вызывавшего раздражение генералитета. Против президента было настроено правоконсервативное большинство Национального конгресса, которое решилось на нетривиальный ход: незадолго до вступления президента в должность была принята поправка к Конституции, вводившая новую должность председателя правительства, наделенного всей полнотой исполнительной власти. Это была попытка компромисса, противоречащего самой концепции Конституции Бразилии 1946 года — согласно ее статье 78 исполнительная власть осуществлялась президентом республики. После введения поста главы правительства, назначаемого Национальным конгрессом, Бразилия на короткое время превратилась из президентской республики в парламентскую.
Однако президенту Ж. Гуларту удалось провести в 1963 году референдум, на который он вынес вопрос именно об этом конституционном изменении: «Вы одобряете поправку, которая установила парламентаризм?» (на португальском — «Aprova о ato adicional que instituiu о parlamentarismo?»). Около 80% избирателей ответили на этот вопрос отрицательно и тем самым выразили поддержку Гуларту. Тогда он, опираясь уже на итоги референдума, попытался провести ряд реформ (в частности, аграрную), против которых выступали как правоконсервативные политики, так и армейское начальство. В этой ситуации последнее начало решительные действия.
Надо сказать, что в начале 1960-х годов политика любого правительства в Бразилии (так же, как и в ряде других государств) оценивалась в контексте противостояния двух военно-политических блоков, ассоциируемых с США и СССР. В итоге Гуларта обвинили в проведении прокоммунистического курса, тем более что он восстановил дипломатические отношения с СССР[4].
31 марта 1964 года в штате Минос-Жейрас начался мятеж местного гарнизона, который был поддержан верхушкой армии. Частей, сохранивших верность президенту, не нашлось, и Гуларт вынужден был покинуть страну.
Набор предлогов для военного переворота и установления авторитарного режима в Аргентине в 1976 году был в целом сходен с тем, который использовали бразильские генералы. В основном аргентинские военные ссылались на активизацию леворадикальной организации «Монтонерос» и «бездействие» правительства. На этом основании члены военной хунты во главе с генералом Хорхе Виделой отправили президента Марию (Исабель) Перон под домашний арест и распустили Национальный конгресс.
В Чили военному перевороту 1973 года предшествовала длительная тяжелая конфронтация левого правительства президента Сальвадора Альенде, пришедшего к власти в результате выборов в 1970 году, с правой оппозицией, представленной в парламенте и армии. В отличие от Бразилии и Аргентины в Чили левоцентристские партии (конкретно блок «Народное единство») реально получили законную возможность контролировать исполнительную власть.
В результате переворота страна оказалась расколотой. Мятежники во главе с командующим сухопутными силами Аугусто Пиночетом видели основную угрозу именно в правительстве республики и его сторонниках по всей стране. Захват власти носил характер масштабной общевойсковой операции и привел к многочисленным жертвам. 11 сентября 1973 года мятежные части высадили десант с нескольких военных кораблей в порту Вальпараисо (предварительно расстреляв моряков, отказавшихся участвовать в мятеже), а потом двинули танки к центру столицы, Сантьяго. При штурме президентского дворца погибли сотни его защитников, включая президента Альенде. Поэтому в ряду других южноамериканских переворотов, совершенных во второй половине XX века, переворот в Чили отличается особо кровопролитным характером.
В Индонезии жесткий авторитарный режим установился примерно в те же годы, что и в Бразилии (в 1965–1967 годах). Основанием для него послужили не просто угрозы левых радикалов, но и реальная попытка прокитайски настроенных офицеров (маоистов) захватить власть в стране. Будущий глава режима генерал Сухарто, тогда командовавший стратегическим резервом армии, оказался на политической авансцене во время подавления попытки переворота. Мятеж был подавлен, а Сухарто, сыгравший ключевую роль в его разгроме, стал главнокомандующим. Чуть позже по его инициативе была создана возглавляемая им лично особая силовая структура, соединившая в себе армейские и полицейские функции — оперативное командование по восстановлению безопасности и порядка (Копкамтиб).
По сути дела, в Индонезии один переворот был использован для осуществления другого. Копкамтиб и отряды добровольцев в течение нескольких месяцев занимались разгромом компартии и массовыми казнями ее членов. 1 февраля 1966 года генерал Сухарто был назначен президентом Сукарно министром обороны. Фактически вся власть в государстве к этому времени перешла к армейской верхушке и к главнокомандующему. 12 марта 1967 года, подчиняясь воле военных, Временный народный консультативный конгресс (ВНКК) отстранил от должности президента Сукарно (обвиненного в потворстве путчистам) и назначил генерала Сухарто исполняющим обязанности президента. Спустя еще год, 27 марта 1968 года, на специальной сессии ВНКК Сухарто был избран на пост президента Индонезии.
В отличие от Сухарто правитель Филиппин Фердинанд Маркос стал президентом в 1965 году в результате вполне демократических выборов, выдержав жесткую конкуренцию. В 1969 году он был переизбран на второй срок, получив серьезный перевес над достаточно известным соперником. Хотя эта вторая победа оказалась уже не вполне чистой — Маркосу адресовали множество упреков в подкупе избирателей и фальсификации результатов выборов. Судя по всему, к этому времени Маркос уже размышлял над тем, как продлить свой второй срок. Через три года после выборов он заявил, что компартия развернула в стране необычайно активную деятельность, которой нужно дать отпор. Это было явное и умышленное преувеличение, но Маркос опирался на опыт соседней Индонезии. 21 сентября 1972 года он ввел чрезвычайное положение и отменил действие Конституции 1935 года, составленной по образцу Конституции США, предусматривавшей разделение властей и систему сдержек и противовесов. Были распущены конгресс и местные органы власти, запрещена деятельность всех легальных политических партий (компартия была запрещена раньше). Запрещены были также любые акции протеста, включая забастовки и демонстрации. При этом Маркос официально объявил, что новый политический режим является «конституционно-авторитарным».
В Уругвае, как и на Филиппинах, авторитарное правление началось с того, что действующий глава государства, президент Хуан Мария Бордаберри, в июне 1973 года распустил парламент и создал вместо него государственный совет из совершенно лояльных ему лиц. Это орган президент наделил законодательными функциями. Была ограничена свобода слова и другие демократические свободы, включая право на проведение демонстраций и забастовок. Вопреки запрету, крупнейшее профсоюзное объединение Уругвая объявило забастовку, которая продолжалась почти две недели, но не принесла результата. Президента, по крайней мере на первых порах, полностью поддерживала армия.
Если говорить о конституционном оформлении авторитарных режимов, то при их установлении в результате одномоментного акта (переворота или введения чрезвычайного положения) инициаторы нового режима, как правило, выбирают по отношению к действующей конституции государства одну из двух тактик. Речь идет либо о замене конституции на новый, более удобный для режима документ (позволяющий говорить о «новой эпохе»), либо о полном игнорировании темы конституции как таковой.
В случае выбора первой тактики действия всех или некоторых норм конституции приостанавливается и начинается разработка нового конституционного акта, который и принимается в течение определенного времени. Такой акт, как правило, предоставляет обширные полномочия исполнительной власти, находящейся в руках авторитарного правителя, сводя к минимуму формальные возможности контроля над ней (хотя наличие такого акта представляет собой просто пустую формальность). Данный акт может также предусматривать некие специальные удобства для диктатора (диктаторов). Например, Конституция Греции 1968 года предусмотрела должность регента в рамках конституционной монархии, поскольку король не поддержал авторитарный режим «черных полковников» и вынужден был эмигрировать. Регентом стал один из «полководцев».
Вторая тактика сводится к тому, что основной закон остается прежним, но его нормы фактически игнорируются (формально их действие также может быть временно приостановлено). И о конституции как бы забывают.
Обе тактики подразумевают активное использование декретного (или указного) права. Авторитарный правитель (правящая хунта) единолично или при помощи узкой коллегии принимает акты, имеющие нормативный характер. Как правило, подобные акты принимаются и издаются вне рамок законодательных процедур. Представительные органы либо вовсе не созываются после роспуска, либо играют сугубо декоративную роль.
Иными словами, подведение новой конституционной основы под новый режим вовсе не является обязательным условием. Тут все зависит от стратегии инициаторов переворота, их идейно-политической базы и традиций государства. Стадия провозглашения нового режима и определения его основных характеристик может быть сопряжена как с приостановлением действующей конституции, так и с изданием новой.
В Бразилии (1964 год), Греции (1967 год) и Чили (1973 год) действующие конституции поначалу формально не отменялись, но фактически они утрачивали силу и только спустя некоторое время заменялись на новые конституционные акты, соответствовавшие целям и задачам лидеров авторитарных режимов.
В Бразилии едва ли не каждая смена политического режима (в том числе и после 1945 года) сопровождалась принятием новой конституции. С конституционно-правовой точки зрения одной из целей переворота 1964 года была замена прямых выборов президента республики выборами посредством специальной коллегии, состоящей из сторонников нового режима. Другой целью являлось устранение противников режима из политической жизни. Формальной основой новой власти стали так называемые институционные акты, издаваемые военной хунтой. Институционный акт № 1 указывал, что действие Конституции 1946 года не прекращается, но в нее вносятся отдельные изменения. В частности, правительство получило право лишать конкретных лиц всех политических прав сроком на 10 лет (тут можно вспомнить практику большевистского режима в СССР по отношению к так называемым лишенцам; разница, однако, заключалась в том, что в СССР и нелишенцы никакими политическими правами фактически не обладали). В числе первых политических прав были лишены бывшие президенты Бразилии Жуселину Кубичек и Жасиу Куадрус.
Нужно сказать, что первыми реальными политическими жертвами переворотов обычно оказывались вовсе не те радикалы, которые объявлялись главной угрозой. Так, Национальный конгресс Бразилии формально не был распущен, но депутатских мандатов были лишены те, кого путчисты считали своими конкретными политическими противниками. Без них парламент генералам вполне еще мог пригодиться. В итоге 11 апреля 1964 года руководитель переворота Кастелу Бранку был избран электоральной коллегией Национального конгресса временным президентом. Позже действие его полномочий неоднократно продлевалось. В 1965 году Институционным актом № 5 Национальный конгресс был распущен, а президент наделен диктаторскими полномочиями. Еще одним институционным актом была приостановлена деятельность всех политических партий. В 1966 году двум партиям все же разрешили участвовать в выборах — одна из них выражала интересы путчистов, а другая осторожно соглашалась с первой.
24 января 1967 года Кастелу Бранку и его соратники приняли новую Конституцию, решив обобщить все свои конституционные нововведения и подвести юридическую основу под режим. Конституция устанавливала, что президент избирается на 4 года коллегией выборщиков, состоящей из депутатов Национального конгресса и делегатов от законодательных собраний штатов. Были отменены прямые выборы губернаторов штатов, а полномочия центральной власти и субъектов федерации перераспределены в пользу центра, хотя формально Бразилия осталась федеративным государством.
Конституция Бразилии 1964 года упоминала о демократических правах, но предоставляла президенту право их ограничивать. И этим правом Кастелу Бранку активно пользовался. Были запрещены митинги и демонстрации, а также забастовки по экономическим мотивам. Была ограничена деятельность профсоюзов, а также право на заключение коллективных договоров.
В принципе, смысл этих ограничений заключался в привлечении иностранных инвестиций и создании благоприятных условий для национального бизнеса. Поэтому значительной частью среднего класса эти ограничения свобод (прежде всего запрет права на забастовку) были поддержаны. Теми же, кто оставался недоволен, серьезно занимались полиция и спецслужбы. Режим наращивал свою репрессивную деятельность постепенно: сначала были арестованы сотни его противников, потом счет пошел на тысячи.
На Филиппинах новая конституция была принята в условиях чрезвычайного положения на референдуме в 1973 году, спустя пять лет после переворота. Парадокс на первый взгляд заключался в том, что она предусматривала переход к парламентской республике — формирование однопалатной Национальной ассамблеи и образование правительства во главе с премьер-министром, ответственного перед Национальной ассамблеей. Однако конституционная форма правления не имела в реальности никакого значения, поскольку на период чрезвычайного положения президент Маркос наделялся всей полнотой и законодательной и исполнительной власти[5]. В данном случае обозначился глубокий разрыв между формально демократическими конституционными институтами западной модели и их реальным воплощением в условиях восточного государства с несформировавшейся социальной структурой и отсталыми производительными силами.
На Кубе правительство Фульхенсиа Батисты, захватившего власть в марте 1952 года, уже месяц спустя опубликовало новый Основной закон. Это вызвало широкое возмущение, поскольку первоначально диктатор пообещал соблюдать демократическую Конституцию Кубы 1940 года (приостановив, правда, ряд ее норм). Батиста продолжал править еще семь лет, ссылаясь на опубликованный им документ, который мало кто на Кубе считал полноценной конституцией. В конце концов свергнувший Батисту революционер-харизматик Фидель Кастро среди прочего пообещал возобновить действие Конституции 1940 года. Но так и не сделал этого — ему демократическая конституция также оказалась не нужна.
В Чили действие Конституции 1925 года формально было прекращено лишь семь лет спустя после военного переворота 11 сентября 1973 года. Но все эти годы она фактически не действовала из-за введенного осадного положения. Интересно отметить, что принятая в 1980 году при авторитарном режиме Пиночета новая чилийская Конституция продолжала действовать с некоторыми поправками после демонтажа режима и восстановления демократии.
В Греции новая Конституция, удовлетворяющая вкусам военного режима, была провозглашена спустя полтора года после переворота в ноябре 1968 года. Поначалу военной хунте и ее лидеру Георгиосу Попандопулосу представлялось удобным сохранить монархическую форму государства, хотя монарх уже бежал за границу. Спустя пять лет, окончательно утратив надежду на примирение с королевской семьей, хунта отменила монархию, что нашло отражение и в Конституции: Греция была провозглашена президентской республикой.
В этой связи следует сказать несколько слов о симбиозе монархии (уже ограниченной определенными конституционными рамками) и авторитарного режима. В довоенной Европе такой симбиоз возникал и в Италии в 1922 году, когда король Виктор Эммануил III назначил премьер-министром Б. Муссолини, и в Испании в 1923 году, когда король Альфонсо XIII одобрил переворот, совершенный генералом М. Примо де Риверой. В обоих случаях формировались диктатуры, исподволь подрывавшие авторитет традиционных монархий. Последние к этому времени уже утратили часть своей прежней легитимности. Но сотрудничество и в какой-то мере срастание с диктатурами сделало их еще более уязвимыми. По мере снижения популярности авторитарных правителей снижалась и значимость монархов, выглядевших декоративными фигурами при диктаторах.
Такая же участь ждала монархию в Греции после того, как король Константин опрометчиво поддержал военный переворот в марте 1967 года. Позже он изменил свою точку зрения на установленный «черными полковниками» режим и даже пытался ему оппонировать. Но это уже не сыграло особой роли. Большинство греков оказались разочарованы в монархии и в итоге выразили эти настроения в ходе референдума, определившего республиканскую форму правления в Греции.
Напротив, в Испании в феврале 1981 года король Хуан Карлос стал главной силой сопротивления путчистам, пытавшимся восстановить военную диктатуру. Демократическая (рационально-легальная, по М. Веберу) легитимность к этому времени была признана и поддержана большинством испанцев. Однако в стране было немало сторонников старого франкистского порядка. Демократия оставалась еще слабой и неустойчивой. Король же, потребовав от путчистов сложить оружие, сослался на волю испанцев, выраженную в ходе недавних парламентских выборов. По сути дела, он поделился своей легитимностью с молодой демократией. Его действия сорвали планы заговорщиков — поддержав демократию, он тем самым укрепил позиции конституционной монархии как института.
Обычно достижение устойчивости демократической легитимности является результатом длительного и сложного процесса. Пока такая демократическая устойчивость не достигнута, у разного рода кандидатов в диктаторы всегда остаются возможности для рискованных затей. И частью их благодарной аудитории обязательно становятся разуверившиеся в традиционной монархии монархисты.
Тактика, связанная с сохранением авторитарными правителями прежней конституции, может быть обусловлена разными обстоятельствами.
Например, в Аргентине, где режим военных установился в 1976 году, речь о его новой конституционной основе даже не заходила. Прежде всего потому, что в отличие от Бразилии, где новые конституции принимались регулярно, в Аргентине с 1853 года действовала одна Конституция, в которую было внесено незначительное число поправок. То есть аргентинская Конституция обладала определенным авторитетом. Но это обусловило лишь то, что в марте 1976 года путчисты не отменили ее, а просто проигнорировали. Формально у хунты, конечно, не было полномочий для приостановления конституционных норм. Но фактически эти нормы не соблюдались — например, вопреки статье 32, запрещающей ограничения свободы печати, военным режимом была введена цензура. Формально Аргентина оставалась федерацией, но фактически хунта стала назначать губернаторами своих ставленников. Хорхе Видела и его люди сосредоточили в своих руках огромный объем полномочий, связанных в том числе с осуществлением уголовного преследования, регулированием трудовых отношений (были запрещены профсоюзы), проведением экономических преобразований в духе монетаризма и т. д.
Авторитарный правитель Индонезии Сухарто всегда заявлял, что руководствуется Конституцией 1945 года и не собирается заменять ее другим основным законом. Дело было в том, что эта Конституция, олицетворявшая победу в национально-освободительной борьбе, не содержала норм, жестко ограничивавших полномочия президента. Конституция также очень невнятно определяла порядок работы и полномочия парламента; в частности, о сессиях Совета народных представителей в пункте 2 статьи 19 говорилось, что они собираются по меньшей мере один раз в году. Президент и вице-президент согласно пункту 2 статьи 6 избирались специальным органом — Народным консультативным советом, созываемым не реже одного раза в пять лет. Все эти нормы были весьма удобны для нужд диктатуры. И Сухарто плодотворно воспользовался ими, сформировав марионеточные представительные органы и расширив свои полномочия до объема полномочий абсолютного монарха.
Таким образом, подведение новой конституционной основы под новый политический режим не является обязательным условием его утверждения. Здесь все зависит от стратегии инициаторов переворота, их идейно-политической базы и традиций государства.
Стоит только добавить несколько слов об основных этапах установления авторитарного режима в Мексике. После почти десятилетней гражданской войны и периода частой смены власти в 1917 году была принята Конституция, установившая президентскую республику (в значительной мере по американскому образцу) и созданы условия для проведения регулярных президентских и парламентских выборов. Избирательные кампании проходили при достаточно жесткой реальной конкуренции различных политических сил. Однако политические партии создавались, как правило, только к выборам и были весьма неустойчивыми образованиями. Первая крупная политическая партия — Национально-революционная (НРП) — была создана в 1926 году в основном усилиями правящей группы и сразу стала доминирующей политической силой страны. Правящая элита обеспечила и тесную связь этой партии с государственным аппаратом: государственные служащие фактически обязаны были уплачивать налог в пользу НРП. Естественно, что в течение следующих нескольких лет данная партия заняла главенствующее положение в политической системе страны.
Глава 3
Консолидация авторитарных режимов и обеспечение их легитимации
В практике функционирования авторитарных режимов второй половины XX века важное место занимает проблема их консолидации, которая чаще всего означала более или менее активное применение репрессий по отношению к оппонентам. Вообще, репрессии и преследование политической оппозиции — важная часть внутренней политики авторитарных режимов и показательный аспект их существования. Причем эта политика может быть как усиливающейся, так и ослабляющейся[6].
При этом для некоторых режимов демонстрация их репрессивной мощи являлась главным (и единственным) средством легитимации. Граждан принуждали подчиняться силе и признать за авторитарным правителем (его группой) право на применение насилия. Кроме этого, правитель мог также рассчитывать на свою харизму (если тут вспомнить М. Вебера). Для адептов авторитарного режима и его сторонников этого было вполне достаточно. Но для противников, понятное дело, такой режим оставался нелегитимным в любом случае. При этом всегда оставалась значительная часть населения, настроенная вполне аполитично. Эти люди предпочитали выжидать и делать выводы лишь при условии выполнения режимом своих обещаний. Имитация демократических процедур (выборов и референдумов) была предназначена в основном для данного слоя. Упражнения в имитациях требовались и для укрепления позиций режима на международной арене.
Во всяком случае, режим, сущностью которого является единоличная неограниченная власть, но который не опирается на монархическую традицию, должен умело сочетать репрессивную политику и имитацию демократических процедур. В той или иной мере также он должен демонстрировать свою приверженность законности. Хотя бы даже только той законности, которую установил он сам. Все авторитарные режимы Старого и Нового света использовали в разных сочетаниях эти основные инструменты своей легитимации.
Военный режим в Бразилии в течение двух лет после переворота 1964 года преуспел в устранении с политической арены всех своих возможных соперников начиная с экс-президентов. При этом совершившие переворот генералы, возглавляемые маршалом Кастелу Бранку, все еще были озабочены легитимностью своего правления, то есть формами выражения доверия к нему по крайней мере части электората. Они могли рассчитывать на поддержку большинства консервативных избирателей, а также тех сограждан, которые требовали от любых правительств благоприятных условий для предпринимательства и борьбы с преступностью.
Поэтому режимом была создана видимость политической конкуренции. Для регистрации новой политической партии требовалось получить поддержку (подписи) не менее 120 депутатов Палаты представителей Национального конгресса и не менее 20 сенаторов. Такое количество подписей могли получить лишь провластный Национальный союз обновления (НСО) и выполняющее роль оппозиции Бразильское демократическое движение (БДД). Все остальные действовавшие на тот момент партии оказались вне закона.
В 1965 году по стране прокатились демонстрации протеста. Произошли столкновения их участников с полицией, тысячи людей были арестованы. Но к первым после переворота парламентским выборам в ноябре 1966 года режим подготовился серьезно. Партия власти (НСО) получила около 70% мест в обеих палатах.
Вскоре даже этот вполне послушный Национальный конгресс стал вызвать раздражение военной хунты (которую возглавлял уже новый диктатор — Артуро да Коста-и-Силва), и поэтому деятельность парламента была приостановлена на неопределенный срок Институциональным актом № 5. Одновременно президент получил право издавать декреты, обладающие силой закона, а Институциональный акт № 8 отменил все запланированные ранее выборы вплоть до муниципального уровня.
В итоге репрессии против любых оппонентов режима резко ужесточились. Помимо специальных подразделений полиции, в борьбу с оппонентами включились организации активных сторонников власти — так называемые батальоны смерти. Наряду с охотой за бандитами и бродягами из фавел они занимались выборочными расправами над критиками властей — журналистами, студентами и профсоюзными активистами. Поэтому парламентские выборы в ноябре 1970 года дали власти почти две трети депутатских мандатов.
В 1972 году была принята поправка к Конституции, вводившая смертную казнь за некоторые виды антиправительственной деятельности. В том же году (по инициативе президента) НСО возглавил сенатор, ранее занимавший должность начальника полиции Рио-де-Жанейро и лично принимавший участие в пытках.
Жесткости и уверенности военным властям отчасти придавало то, что именно в эти годы экономика Бразилии показывала наивысшие темпы роста. И в этой связи хунта решилась даже на некоторое ослабление контроля над СМИ, в частности над телекомпаниями. В ходе избирательной кампании 1974 года многим критикам режима удалось выступить в телеэфире. В результате декоративно-оппозиционное БДД получило 165 мест из 364 в Палате депутатов и 20 из 66 мест в Сенате. Прошедшие в 1974–1975 годах выборы в законодательные собрания бразильских регионов также показали постепенный рост влияния оппозиции — даже облеченной в форму декоративного разношерстного БДД. Партия власти постепенно теряла позиции.
Но ни на расширение репрессий, ни на отказ от выборов руководство режима все же не пошло. Оно лишь укрепило некоторые законодательные гарантии status quo. Конституция была дополнена нормой, согласно которой часть сенаторов назначалась регионами по согласованию с военными властями. Срок полномочий президента увеличился до шести лет.
В 1979 году военные решили, что облегчение процедуры создания партий приведет к раздроблению и ослаблению оппозиции, то есть к распаду искусственного БДД. Процедура была облегчена, БДД действительно распалось, возникли новые партии, однако оппозиция снова увеличила свое представительство. Можно предположить, что различными методами фальсификаций результатов выборов авторитарный режим пользовался все же недостаточно широко или даже не считал такие методы вполне оправданными.
Долгие поиски баланса между репрессиями и легитимностью в конечном счете привели военные власти к выводу о неизбежности возвращения к демократии и необходимости политической борьбы в конкурентной среде[7].
Одним из наиболее репрессивных авторитарных режимов считается режим генерала Аугусто Пиночета, существовавший в Чили с 1973 по 1990 год. При нем вообще не проводились выборы, представительные органы не функционировали, а все гражданские учреждения (в частности, СМИ) действовали под контролем военных. Роль законов играли декреты правительственной хунты. Фактически была выстроена военно-авторитарная диктатура. В июне 1974 года Пиночет был провозглашен верховным лидером нации (Jefe Supremo do la Nation), а в декабре того же года — президентом. Но его власть — фактически уже неограниченную — никак нельзя было признать легитимной.
Первоначально предполагалось, что хунта будет коллегиальным органом. Не исключалась и ротация ее членов. Но Пиночет в течение года после переворота прочно утвердился в качестве лидера и ясно дал понять, что критика в его адрес (и в адрес правительственной хунты) абсолютно недопустима вне зависимости от того, с какого политического фланга она исходит. Деятельность политических партий (и правых и левых) была запрещена. Сначала это касалось только партий, входивших в блок «Народное единство», но позже (с марта 1977 года) — и всех остальных, включая совершенно лояльных хунте. Несколько раньше (в декабре 1975 года) был издан декрет, позволяющий закрывать газеты и радиостанции, объявленные «антипатриотическими».
Кроме того, начиная со дня переворота группировка Пиночета (включавшая командующих всеми родами войск) проводила политику подавления и физического истребления представителей любой оппозиции. В частности, в первые недели существования режима при подавлении очагов сопротивления военным погибло несколько сотен чилийцев. Репрессии продолжались до последних лет существования диктатуры, менялась лишь их интенсивность. Жертвами арестов, нападений, похищений и бессудных казней становились не только оппозиционные политики, журналисты, профсоюзные активисты, но и обычные граждане. По разным данным, в годы диктатуры погибли или пропали без вести от 3 до 10 тысяч жителей страны. Консолидация расколотого общества отчасти обеспечивалась страхом и скреплялась кровью.
В то же время режим стремился находить поддержку среди наиболее консервативных слоев населения, различных групп бизнеса. Хунта могла также полагаться на традиционное уважение чилийцев к национальным вооруженным силам и на личный авторитет главы режима. Тех, кто ранее голосовал на выборах за левые партии и участвовал в деятельности профсоюзов, режим поначалу рассматривал как своих однозначных противников. Но спустя несколько лет данная позиция была несколько скорректирована.
К концу 70-х годов режим Пиночета пошел на некоторые уступки умеренным (в частности, христианско-демократическим) профсоюзам. В 1978 году был создан Национальный координационный совет трудящихся, которому постепенно удалось оживить профсоюзную деятельность по всей стране. Режим посчитал это для себя неопасным. В 1979 году вышел декрет, разрешавший легальную деятельность первичным профсоюзным организациям. Режим рассчитывал на определенное расширение своей социальной базы, и некоторых успехов ему удалось добиться. Хотя весьма важную роль тут играла поддержка контролируемых властями СМИ. В таких условиях Пиночет мог решиться и на плебисцит.
В январе 1978 года на общенациональном референдуме примерно 75% чилийцев выразили поддержку политике хунты (находящаяся в подполье оппозиция указала на случаи фальсификации результатов голосования). Спустя два с лишним года, в сентябре 1980-го, избиратели Чили проголосовали за новую конституцию страны и за продление полномочий А. Пиночета еще на восемь лет. Оба референдума проходили в условиях жесткого контроля военных над избирательными комитетами и СМИ, а критика диктатора и его режима не допускалась.
В Аргентине сразу после переворота в марте 1976 года военными властями и их приспешниками тоже был развязан террор против тех, кто был недоволен режимом. Его противников — реальных и потенциальных — без суда арестовывали, пытали, казнили. На них нападали на улицах добровольные помощники режима. В нынешних аргентинских учебниках эта травля получила наименование «грязная война». Репрессии начались уже при первом руководителе хунты Хорхе Видале и продолжились при его преемниках. При этом Видаль и его соратники всеми силами пытались представить себя защитниками интересов малого и среднего бизнеса. Одновременно они стремились ослабить влияние своих потенциальных соперников из Перонистской партии (по сути, социал-демократической) в рабочей среде. Но эта политика не была вполне успешной. Лидеры режима не пользовались особой популярностью. Даже победа национальной сборной на домашнем чемпионате мира по футболу в 1978 году особо хунте не помогла. Ни выборов, ни референдумов военные власти Аргентины не проводили.
Политологи и юристы, анализировавшие итоги авторитарных правлений в Бразилии, Чили и Аргентине, обращали внимание на определенную разницу в методах проведения репрессивной политики и роли судов в этих странах. Например, Э. Перейра обращает внимание на подход бразильских генералов после переворота 1964 года к репрессиям и сдерживанию политических оппонентов. Он указывает, что в Бразилии процессы над обвиняемыми в государственных преступлениях устраивались публично в военных судах, включавших одного гражданского судью-профессионала. На их решения можно было подать апелляцию в вышестоящие военные трибуналы и в конечном счете в Верховный суд.
Напротив, правительство Чили при Пиночете репрессировало большинство своих оппонентов во внесудебном порядке. Даже в тех случаях, когда суд устраивался, разбирательство проходило при закрытых дверях, а в качестве судей заседали военные, не имевшие юридического образования. Что касается обычных судов, то они работали так же, как и до переворота, но не доставили Пиночету никаких проблем. Объясняя причины тотального конформизма чилийских судей, получивших образование и подготовку в условиях демократии и в стране с сильной правовой традицией, исследователи приходят к выводу, что помимо обычного страха действовал и другой фактор. Речь идет о «многолетней приверженности к аполитизму, которая, будучи поднята на уровень идеологии, поддерживалась сильной судебной бюрократией»[8].
Наиболее масштабные и почти полностью внесудебные репрессии организовала, по мнению Перейры, аргентинская хунта. Перейра объясняет это тем, что военные были раздражены предшествующим опытом рассмотрения дел политических оппонентов в гражданских судах. В 1971–1973 годах Национальный уголовный трибунал оказался (по мнению военных) слишком медлительным и непоследовательным в решениях. То, что многие из осужденных слишком рано оказались на свободе, военные сочли «безответственной амнистией и избавились от последних остатков уважении к суду»[9].
Нужно сказать, данный исследователь весьма снисходителен к опыту военных судов в Бразилии в период диктатуры. У других ученых такой подход вызывает обоснованные сомнения[10]. Вероятно, эти сомнения могла бы разделить и экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, которая провела в тюрьме при диктатуре два года и после перенесенных пыток вынуждена была долго лечиться.
Таким образом, судебная система и право играли в процессе легитимации авторитарных режимов особую роль. Политические права в рамках данных режимов, как правило, не обеспечивались (и часто вообще отрицались), но при этом большинство авторитарных правителей были заинтересованы в том, чтобы у граждан сохранялось убеждение в законности установленных порядков, в защищенности их собственности от преступных посягательств и в эффективности судебной системы в целом. Питер Г. Соломон-младший справедливо отмечает, что «необходимость руководить или управлять авторитарными государствами, которые не находятся на грани крушения и не сталкиваются с политической конкуренцией, может стать дополнительной причиной для того, чтобы обратиться к праву и судам»[11].
Таким образом, обобщая сказанное, отметим, что следует различать по крайней мере две возможные модели отношений власти и судов при авторитарных правлениях.
Первая модель, которую политологи называют «испанской» или «фрагментированной», предполагала относительную независимость гражданских судов, притом что все сколь-нибудь значимые для власти процессы становились предметом судов специальных — в основном военных. «В Испании при Франко особенно в последние десятилетия его правления судебную власть можно было считать независимой, — пишет Соломон, — так как существовали нормальные механизмы институциональной защиты судей. Но судьи были лишены реальных полномочий, поскольку все споры, представлявшие интерес для правительства, были переданы в ведение отдельной системы трибуналов, члены которой не имели той защиты, которую имели судьи. Правда, судьи обычных судов были стеснены ограничениями хорошо организованной судебной бюрократии, а периодический контроль качества работы поощрял конформистское поведение, однако они не испытывали внешнего вмешательства или давления»[12].
Подобная модель в большей или меньшей степени работала и в Бразилии, и в Аргентине, и в Чили. Но при этом, как отмечалось, военные власти (особенно двух последних стран), не довольствуясь военными судами и участием военных в судебных процедурах, широко практиковали и внесудебные репрессии.
Другая модель взаимодействия судебной и исполнительной властей, формально предусматривая независимость судей и обходясь без специальных судов, была построена на неформальных отношениях и договоренностях, играющих главную роль при вынесении судебных решений. Данная модель более всего подходила для политических режимов, которые впоследствии стали именовать «гибридными». В их рамках сама по себе «сложившаяся практика отношений гарантирует, что суды не будут выносить решений против интересов режима»[13]. Такая модель подразумевает отсутствие глубоких правовых традиций, и в частности традиций независимости судебной власти: судьи фактически осознают себя представителями не обособленной ветви власти, но скорее единой властной корпорации, интересы которой они должны блюсти в первую очередь. Подобные отношения власти и судов были характерны для Индонезии под властью Сухарто, для Филиппин под властью Ф. Маркоса, для Сингапура под властью Ли Куан Ю и для ряда других авторитарных государств. Имея для этого серьезные основания, Соломон относит к таким режимам и современную Российскую Федерацию[14].
Впрочем, до установления в отношениях с судами подобной модели (которая могла стать результатом определенной эволюции и смягчения режима) власть авторитарного лидера могла действовать предельно жестоко. Упомянутая выше «грязная война» военного аргентинского правительства против критиков режима не идет ни в какое сравнение с той бойней, какую учинила группировка Сухарто в Индонезии сразу после прихода к власти. Выше упоминалось, что поводом для возвышения будущего индонезийского диктатора было его участие в 1965 году в подавлении мятежа так называемого Движения 30 сентября, ориентированного на маоистский Китай. Но далее в течение примерно двух лет по всей стране шли аресты и казни тех, кто подозревался в сочувствии «Движению». Для выявления таких сочувствующих и обеспечения массовости репрессий создавались отряды из местных жителей, которые помогали армейским подразделениям. По разным оценкам, было казнено до полумиллиона человек.
В марте 1968 года послушный военным властям временный Народный консультативный конгресс (НКК) избрал Сухарто президентом Индонезии. Но до проведения парламентских выборов и полной легитимации нового порядка Сухарто предпринял действия, гарантировавшие ему нужный результат голосования. В частности, еще в 1965 году была создана организация «Секбер Голкар» (объединенный секретариат функциональных групп), призванная играть роль партии власти. По закону о выборах 1968 года 22% мест в будущем парламенте и 33% в НКК резервировались за представителями армии. Это обосновывалось необходимостью защиты социального мира и стабильности от вмешательства враждебных элементов — прежде всего имелись в виду коммунистический Китай и находящиеся под его контролем местные коммунисты. В 1967 году НКК был принят акт «Меры по решению проблемы китайцев в Индонезии» и ряд других документов. Среди указанных мер было закрытие всех китайских газет (кроме одной, официально разрешенной), запрет на проведение китайских религиозных церемоний, закрытие большей части китайских школ. Устанавливались также ограничения на использование китайского языка. Официальная пропаганда фактически ассоциировала определенную этническую группу (китайцев) с враждебной и даже подрывной идеологией. В основном это был именно пропагандистский прием: значительная часть индонезийских китайцев была занята в малом бизнесе и к социализму в Китае относилась неприязненно.
Сухарто демонстрировал также заботу о территориальной целостности государства, или, точнее, о наращении его территории. В 1969 году был проведен референдум о вхождении в состав Индонезии области Западный Ириан (огромной по площади западной части острова Новая Гвинея). В 1975 году войска Индонезии вторглись на территорию Восточного Тимора, бывшего владения Португалии, занимавшую восточную часть острова Тимор — одного из обширных островов Индонезийского архипелага. К тому времени на территории уже действовали движения, выступавшие за государственную независимость. Поэтому войскам Сухарто пришлось преодолевать довольно упорное сопротивление. Подавив его, Сухарто объявил Восточный Тимор 27-й провинцией Индонезии. Впрочем, в горах продолжилась партизанская война. Аннексию Восточного Тимора признала только Австралия. Но многие другие государства, включая США, официально не признавая аннексированные территории частью Индонезии, тем не менее негласно поддерживали Сухарто.
В 1971 году были проведены парламентские выборы, на которых проправительственный «Голкар» получил 63% голосов.
В 1973 году Сухарто, уже при поддержке НКК, провел реформу партийной системы. Четыре действовавшие мусульманские партии вынуждены были объединиться в единую партию (Партия единства и развития). В единую партию (Демократическую) пришлось слиться и нескольким партиям, представлявшим интересы местных христиан, а также националистов. Таким образом, помимо проправительственного «Голкара», были искусственно образованы два его «спарринг-партнера».
При Сухарто выборы в парламент Индонезии (Совет народных представителей) с участием этих трех партий проходили потом еще в 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 годах — примерно с одним и тем же результатом: «Голкар» обычно получал от 60 до 75% голосов, Партия единства и развития — не более 15%, Демократическая партия — около 10%. Данную модель политической жизни стали называть «управляемой демократией».
Несмотря на все эти меры, режиму Сухарто несколько раз все-таки приходилось бороться с реальной, а не декоративной оппозицией. В 1970 году, незадолго до выборов в ряде крупных городов Индонезии прошли демонстрации студентов, протестующих против формирования диктаторского режима. Против них были брошены войска. Организаторов выявляли и бросали в тюрьму. Лояльные СМИ называли их подрывными элементами, действующими в интересах Китая. Спустя 10 лет к Сухарто с открытым письмом обратилась большая группа индонезийских интеллектуалов, включая экономистов, писателей и бывших военачальников. Они обращали внимание главы режима на коррупцию в его ближайшем окружении, на опасности сырьевой модели развития экономики, на отсутствие обратной связи между обществом и властью. Сухарто проигнорировал обращение, если не считать того, что некоторые подписанты были позже репрессированы.
Нужно отметить, что авторитарный режим Сухарто, с его моделью управляемой демократии, стабильно функционировал более 30 лет. И похоже, что некоторыми современными диктаторами он до сих пор рассматривается в качестве образца.
Режим Фердинанда Маркоса на Филиппинах формировался примерно в одно время с режимом Сухарто — возможно, кое-что заимствуя у него. Но особенностью его подхода к обеспечению легитимации авторитарного режима можно считать активное использование института референдума. Маркос проводил всенародные голосования по вопросам принятия новой конституции (1973 год), расширения президентских полномочий в условиях чрезвычайного положения (1978, 1975 годы) и в связи с продлением чрезвычайного положения (1976, 1978 годы). Поскольку все эти голосования проходили над плотным контролем армии, особых сомнений в их результатах изначально не возникало.
Маркос создал провластное Движение за новое общество (подобное индонезийскому «Голкару»), которое неизменно побеждало на выборах. В отличие от Сухарто он сумел договориться с местной коммунистической партией и легализовал ее. Репрессии, которые Маркос проводил против своих политических оппонентов, носили выборочный или точечный характер. Но одно из политических убийств (Бенигно Акино-младшего) стало для режима роковым. Подозрение в преступлении пало на Маркоса, который в ходе президентских выборов в 1986 году, переросших в итоге в народные волнения, покинул Филиппины, и пост президента заняла вдова Бенигно Корасон Акино. В 2004 году день смерти Бенигно Акино был провозглашен национальным праздником и нерабочим днем. Позже президентом Филиппин стал его сын Бенигно Акино III.
Впрочем, нужно отметить, что отношение крупных групп населения к массовым репрессиям и нарушениям гражданских прав зависит от национальных традиций и политической культуры. В Уругвае после введения в 1973 году президентом Бордаберри (явно пытавшимся копировать действия Маркоса) авторитарного правления действующая Конституция 1967 года не была отменена, но ее действие было приостановлено. Спустя два года после переворота президентом и его окружением был выработан план реформы власти. Он предполагал отказ от парламентаризма, создание Совета нации, наделенного правом избирать президента, запрет коммунистических и прокоммунистических партий и групп. Против оппонентов нового режима были приняты самые жесткие меры. Нужно сказать, что в Уругвае, отличающемся от большинства государств Латинской Америки достаточно прочными демократическими традициями, значительной частью населения эти меры были восприняты с раздражением. Как отмечает Н. Никонова, «в Уругвае незаконные аресты, издевательства и спланированные пропажи людей, которые были связаны с левыми силами... противоречили национальной истории, основанной на устойчивости демократических институтов и чрезвычайно либеральной политической культуре»[15].
Военные подготовили проект новой конституции, который в 1980 году был вынесен на референдум. Вопреки ожиданиям власти большинство избирателей проголосовало против проекта.
В Мексике Институционно-революционная партия (данное, сохранившееся до настоящего времени наименование было введено в 1946 году) в течение примерно 70 лет действовала и побеждала на всех выборах практически в отсутствие какой-либо конкуренции. Формально в стране была установлена многопартийность, но закон о партиях предусматривал крайне жесткие требования к создаваемым политическим организациям (в частности, нормы о минимальной численности в 67 тысяч членов и о создании региональных отделений в большинстве штатов). В реальности вплоть до начала 1980-х годов количество политических партий, официально допущенных к участию в парламентских и президентских выборах, никогда не превышало трех. Правящая на протяжении десятилетий ИРП срослась с государственным аппаратом. Политический режим приобрел откровенно авторитарный характер. Но при этом установленный в 1934 году Конституцией Мексики запрет на занятие должности президента более одного срока (принцип непереизбрания) препятствовал образованию режима личной власти, обеспечивая также определенное обновление политической элиты. В сущности, в этом и заключалось главное (и весьма существенное) отличие мексиканского политического режима от всех других режимов, описанных выше. Авторитарный режим в Мексике, укрепляясь и оказывая давление на оппонентов, тем не менее не становился единоличной диктатурой.
Глава 4
Идеологическое оформление авторитарных режимов
Выработка оригинальной государственной идеологии, как известно, не относится к числу неотъемлемых признаков авторитарных режимов. То есть подобные режимы обычно не используют тех форм навязывания идей и учений, которые нам знакомы по советскому прошлому. Принято считать, что идеологический контроль над сферой культуры и СМИ, введение идеологических предметов в программы школ и университетов, идеологические требования к госслужащим и прочее — черты, присущие другому типу политических режимов, тоталитарному.
И с этим выводом мы не будем спорить. Но нужно признать, что и в условиях режимов, формировавшихся прежде всего с целью обеспечения неограниченной власти одного лица (группы лиц), у этого лица (и его окружения) иногда возникает соблазн подкрепить свои идейные установки всей мощью государства. Государственная идеология в таких случаях рассматривается как дополнительный инструмент, укрепляющий status quo.
В этой связи следует различать два подхода к оформлению идеологической позиции власти.
Первый поход состоит в том, что идейные установки главы режима (правящей группы) широко пропагандируются именно как установки правящей и доминирующей в государстве политической силы, но не становятся идеологией государства. Эти установки, как правило, не образуют и целостной идеологии.
Второй подход состоит в закреплении подобных установок в официальных актах государства — законах или даже конституциях. То есть они становятся обязательными для граждан. Когда такое начинает происходить, принято считать, что политический режим перерождается из авторитарного в тоталитарный. По крайней мере, он явно приобретает тоталитарные черты, оставляя исследователям широкое поле для дискуссий на тему классификаций.
Политические режимы, существовавшие в Испании (до 1975 года) и Португалии (до 1976 года), практиковали именно такой подход — закрепляли идеологию государственными актами (в Португалии — Конституцией). В Египте при Г.-А. Насере и в Ливии при М. Каддафи идеология отчасти также находила отражение в конституциях и законах. Режимы, существовавшие на Филиппинах при Маркосе до 1986 года и в Индонезии при Сухарто до 1998 года, закрепляли в законах отдельные идеологические принципы, которые использовались для укрепления личной власти.
Из ныне действующих авторитарных режимов к подобной модели можно отнести, пожалуй, только режим в Туркмении, сложившийся в конце 1990-х годов.
Следует также обратить внимание на основные типы содержания идеологий, используемых авторитарными правителями. Несмотря на все свое разнообразие, они, как ни странно, использовали один из двух наборов идеологических установок: традиционалистский (он же антикоммунистический) и прокоммунистический (или радикально-социалистический). В определенной мере выбор одного из этих двух вариантов был обусловлен тем самым международным межблоковым противостоянием, которым вообще в значительной мере было определено все идейное содержание целой эпохи — второй половины XX века. Да, конечно, попытки обоснования авторитарного режима с помощью какого-то третьего идеологического пути тоже бывали в истории (например, идея «джамахирии», выдвинутая диктатором Ливии). Но при ближайшем рассмотрении всегда выяснялось, что уйти от двух исходных идеологических моделей так и не удалось.
Главной идеологической установкой, как правило, является оправдание диктатуры и диктаторских методов руководства и отрицание демократических институтов. Аргументы обычно сводятся к тому, что жесткие меры — это защита общества от радикалов, от анархистских и революционных элементов, угрожающих правопорядку и стабильному экономическому развитию. Поэтому в условиях борьбы с такими негативными явлениями ограничение свобод, в том числе свободы слова и права на митинги и демонстрации, является адекватной ценой общественного спокойствия как цели авторитарного режима. Другая идеологическая установка, более свойственная прокоммунистическим режимам, — это обоснование запрета многопартийности задачей преодоления раскола общества. Еще одним объектом заботы являются обычно традиционные верования граждан и положение доминирующей церкви. Авторитарные режимы, существовавшие в Латинской Америке и на Филиппинах, выступали в качестве главных приверженцев и защитников католической церкви. В Греции военная хунта, соответственно, защищала от анархистов и атеистов православную церковь.
При этом главным инструментом защиты всех упомянутых институтов выступает армия. Культ вооруженных сил и солдата — защитника спокойствия граждан всегда был общей чертой идеологий почти всех рассматриваемых режимов.
Еще одной общей чертой идеологий всех подобных режимов независимо от их разновидностей выступает культивирование тех или иных версий национализма. Но эта черта обычно сильнее выражена в идеологиях традиционалистского типа.
Рассмотрим теперь некоторые конкретные примеры государственных идеологий (или попыток их создать) в рамках авторитарных режимов.
Испанский каудильо Ф. Франко и португальский премьер-министр А. Салазар получили власть в результате военных переворотов и начали идеологическое оформление своих режимов еще в предвоенные годы. Салазар — примерно с 1933 года, Франко — с 1939-го. Оба сохранили свою власть в годы войны, но позже были вынуждены адаптировать ее к реалиям послевоенного мира. В некоторой мере это сказалось и на их государственных идеологиях. И испанский и португальский опыт дает достаточно полное представление о том, как фактически оформляется и какую роль может играть государственная идеология в условиях режимов, сущностью которых является личная власть конкретной персоны. Испанское государство при Франко и португальское при Салазаре с учетом ряда их черт вполне могли бы считаться тоталитарными, и все же важно подчеркнуть, что особенности и судьбы обеих диктатур были самым тесным образом связаны с личностями диктаторов. От их личных взглядов, предпочтений и настроений непосредственно зависело все течение государственной жизни. В том числе и ее идеологическое декорирование.
В частности, Франко вполне произвольно вернул испанскому государству монархическую форму правления (вопреки настроениям многих своих соратников из «Испанской Фаланги»), выбрал себе наследника, принадлежавшего к альфонсистской ветви династии испанских Бурбонов, и юридически оформил свое правление как регентство. Примерно так же он формировал и идеологическую основу своей диктатуры — исходя из собственных идейных предпочтений и прагматических соображений.
Религиозность диктатора находила отражение в том, что государственные и партийные документы упоминали о важной роли католической церкви. Строго говоря, у католицизма не было специфической политической доктрины, которая могла бы стать частью идеологии режима. Но церковь, безусловно, получила официальные рычаги влияния в плане введения цензуры на культурную жизнь страны. В частности, на развитие кинематографа и театра. Некоторые известные художественные фильмы, снятые испанскими режиссерами и получившие международное признание, оказались на родине под запретом. В то же время сам Франко мог при желании отменить любой запрет и снять любые ограничения. Он, например, весьма благожелательно относился к Сальвадору Дали, заказывал ему портрет своей внучки и выделил помещение для музея. И это при том, что творчество Дали вряд ли могло считаться образцом с точки зрения католической морали. Но художник выказывал почтение диктатору, а это было куда важнее.
Важным элементом идеологии режима была идея государственного единства Испании, исключавшая любые формы автономии регионов — в первую очередь Каталонии и Страны Басков. Здесь следует напомнить, что и гражданскую войну 1936–1939 годов армия Франко вела под лозунгом борьбы с сепаратизмами всех видов. После укрепления режима было запрещено официальное использование баскского и каталонского языков. Ограничивались и запрещались все иные формы национальной самобытности (вплоть до каталонского национального танца «Сардана»).
Еще одним элементом государственной идеологии франкистской Испании стала одна из версий корпоративистского учения. Согласно положениям этого учения, предприниматели, руководители компаний и наемные работники должны были объединяться в профессиональные (либо отраслевые) структуры — корпорации. Последними подменялись и профсоюзы, и объединения предпринимателей. Идея корпораций противопоставлялась марксистской идее классовой борьбы (точнее, марксистской версии этой идеи). И хотя членство в корпорации особо не стесняло руководителей компаний и фирм, вступление в нее считалось обязательным.
В отличие от Испании в Португалии примерно те же идеологические установки были закреплены в Конституции 1933 года, а также в ряде других законодательных актов. Таким образом, этим установкам был придан статус общеобязательных. В этом смысле политический режим Салазара действительно мало чем отличался от тоталитарного. Для его обозначения было введено специальное понятие — Estado Novo («новое государство»).
Признавая важную роль католической церкви, государственная идеология при Салазаре все же устанавливала отделение церкви от государства, что было закреплено в статье 46 Конституции. Придавая большое значение идее величия португальской нации, данная идеология тем не менее отрицала расизм и расовые теории. Вероятно, тут большое значение имели отношения с бывшей колонией, большой португалоязычной многонациональной страной — Бразилией. Государственный национализм в Португалии нашел отражение в своеобразной доктрине лузотропикализма, подразумевавшей органическое (или семейное) единство португальцев и народов португальских колоний. Лузотропикализм оправдывал цивилизационную миссию португальских колонизаторов, в частности, тем, что на колонизуемых территориях устанавливалась расовая демократия, то есть фактическое равенство рас. На самом деле в данной доктрине угадывалась мысль о естественной иерархии: белые португальцы в этой дружной потугалоязычной семье все же должны были чувствовать себя хозяевами, а не белые скорее слугами. Так или иначе, все эти идеи, нашедшие свое выражение в работах бразильского писателя Ж. Фрейре, пришлись по душе Салазару и его приближенным.
Корпоративизм в Португалии также был отражен в специальном законодательном акте — Национальном трудовом статусе.
Нет сомнений в том, что идеология, закрепленная в Португалии в качестве официальной, при всей схожести с идеологиями фашистских режимов Италии, национал-социалистической Германии и франкистской Испании, несла на себе отпечаток личности Антонио Салазара. Позднейшие коррективы в нее вносились также в соответствии с тактикой и вкусами диктатора.
Вообще, мода на государственную идеологию, заданная коммунистическим режимом в СССР и усвоенная фашистскими государствами, к 60-м годам XX века хоть и утратила былое влияние, но не сошла на нет. Диктатор Индонезии Сухарто, будучи человеком весьма прагматичным, счел нужным обозначить идеологическую базу своего режима (когда Франко и Салазар были еще живы). Он использовал для этого принципы «Панча Сила», провозглашенные еще в 1945 году первым президентом страны Сукарно. Указанные предельно общие принципы (такие, как «вера в единого Бога, единство страны, социальная справедливость» и пр.) генерал Сухарто дополнил актуальной идеей «двойной функции» или «священной миссии» армии. Военные должны были, помимо защиты страны от внешних угроз, участвовать в социально-экономической жизни страны и тем самым поддерживать стабильность ее развития. Данная идеологическая установка получила воплощение в очень конкретных формах. За представителями армии, согласно закону о выборах 1968 года, резервировалось 22% всех мест в Совете народных представителей (парламенте) и 33% мест в Народном консультативном конгрессе (формально высший орган государственной власти, созываемый не реже одного раза в пять лет). Кроме этого, силовые структуры получили право брать под контроль крупные предприятия — воплощение мечты многих генералов.
К середине 1980-х годов режим Сухарто дозрел до провозглашения «единого принципа». Согласно ему, политическим партиям (коих осталось всего три) и всем гражданам было запрещено придерживаться каких-либо иных мировоззрений, помимо идей «Панча Сила». К этому времени индонезийский режим официально обозначался как «новый порядок».
Идеология режима Маркоса на Филиппинах формировалась примерно в те же годы. За спиной Маркоса была не только успешная военная карьера, но и две победы на президентских выборах, в связи с чем идеологическое оформление его правления предполагало широкое использование слов «демократия», «демократическая революция», «воля народа» и т. п. Именно поэтому программная работа Маркоса, вышедшая в 1971 году, за год до введения им чрезвычайного положения, называлась «Революция сегодня — это демократия». По методологии и идейному содержанию она была крайне эклектична, как, впрочем, всякое писание диктатора (или человека, собирающегося стать диктатором), стремящегося угодить всем наиболее важным электоральным группам. Так, филиппинцам левых взглядов книга предлагала цитаты из «Манифеста Коммунистической партии», а католикам — высказывания папы римского Павла VI.
И все же сущностью данного идеологического винегрета следует считать изощренное политическое лицемерие. Обозначив в качестве одной из целей своего правления защиту прав человека, Маркос репрессировал всех (или почти всех) своих политических оппонентов и установил жесткий контроль над СМИ.
По примеру своего индонезийского коллеги филиппинский диктатор провозгласил своей важнейшей целью построение «нового общества». И к началу 1980-х годов дал понять, что цель эта достигнута, в связи с чем в идеологический оборот были запущены понятия «вождь нации» и «отец народа» — титулы Маркоса.
Лицемерие и прагматизм Маркоса не были свойственны идеологии режима «черных полковников» в Греции в 1967–1974 годах. Свою сущностную идейную позицию — консервативно-националистическую — они стремились выразить так же четко, как Франко и Салазар; правда, без учета того, что Европа 1960–70-х годов — в том числе и сама Греция — уже сильно отличалась от довоенного мира. В качестве цели своего переворота (в терминах официальной идеологии — «революции 21 апреля») руководители режима видели «национальное возрождение» и построение «Великой Греции». Саму себя правящая группа во главе с Г. Пападопулосом именовала «национальным революционным правительством». Революционная риторика должна была обрамлять и защищать традиционные греческие ценности, прежде всего доминирующую роль Греческой православной церкви. И хотя православие и до переворота являлось государственной религией Греции, идеология режима предполагала еще более тесные церковно-государственные отношения[16]. Православные священники получили статус государственных служащих и гарантированную государством зарплату. Из бюджета регулярно выделялись значительные средства на строительство храмов. Государство взяло на себя финансирование духовных академий, пытаясь влиять на то, чтобы приходы возглавлялись полностью лояльными режиму священниками с консервативно-националистическим мировоззрением.
Все явления культурной жизни оценивались режимом и церковью с крайне консервативных позиций. Враждебными православной традиции и национальной культуре объявлялись любые формы популярной западной культуры, в том числе рок-музыка, движение хиппи, атеизм. Литературные и сценические произведения подвергались цензуре.
Идеологи режима охотно использовали понятие «национальный дух», заимствованное ранее из немецкой философии. «Нация» понималась в духе французского традиционализма де Местра как совокупность всех поколений греков, начиная с V–VI веков до Рождества Христова. Один из главных слоганов режима звучал как выражение крайнего национализма — «Греция для греков-христиан». При этом явных проявлений расизма или антисемитизма, а также выпадов против демократии эти идеологи избегали. Они все же нуждались в поддержке западных союзников.
Но в любом случае с апреля 1967 года в Греции, на родине самой идеи демократии, была запрещена деятельность всех политических партий, а СМИ оказались под жестким идеологическим контролем. Правда, этот контроль не означал полного подчинения редакций государству, как в СССР.
Демократический режим, существовавший в Греции до апреля 1967 года, критиковался как продажный, коррумпированный и выражавший интересы лишь кучки политиканов. Для его обозначения был введен термин «старопартизм». С точки зрения «черных полковников», этот «старый» режим допустил образование «анархокоммунистического заговора», угрожавшего самому греческому государству, именно для ликвидации данного заговора потребовалась и «революция»[17].
Предполагалось, что идеология «черных полковников» предложит какие-то новые основы для новой греческой демократии. Но ожидание этой «новой демократии» затянулось до падения режима.
С теоретической точки зрения идеологи режима должны были бы защищать идею монархии. Но поскольку отношения с реальным королем у членов правящей группы не сложились, монархизм был постепенно удален из идейного арсенала. А в 1973 году по результатам общенационального референдума монархия в Греции была отменена.
Особенности идеологии «режима полковников» должны были доводиться до старшеклассников в гимназиях — в школьные программы был введен специальный предмет, посвященный «революции 21 апреля», и пересмотрены учебники по истории и литературе.
Несмотря на идею построения «Великой Греции», лидеры режима «черных полковников» изначально не декларировали намерений расширять территорию государства. Но по мере снижения популярности режима и сужения его социальной базы в пропагандистском обороте все чаще стала использоваться идея «энозиса» — присоединения Кипра. После смещения Пападопулоса и захвата лидерской позиции Иоаннидисом данная идея была выдвинута на первый план. Предполагалось, что движущей силой «энозиса» будет воля греческого большинства острова. Эту волю предполагалось подкрепить действиями вооруженных формирований греческой общины. На какое-то время задача присоединения Кипра оказалась главной в идейном оснащении режима. Но, как известно, эта идея и привела в конечном счете к краху диктатуры.
В отличие от греческих «черных полковников» лидеры авторитарных режимов Бразилии, Чили и Аргентины, возникших и существовавших примерно в те же годы, не придавали идеологическому оформлению специального значения, не делали идеологию и пропаганду важным направлением внутренней политики. Безусловно, они контролировали СМИ и преследовали журналистов и писателей, критиковавших власть. Но конструирование целостной государственной идеологической программы лидерам этих режимов не было свойственно. Прежде всего потому, что свои главные задачи они воспринимали как охранительство или защиту — защиту от коммунистического движения и идеологии (как раз создание целостных государственных идеологий считалось свойством коммунистических режимов). Но все же, помимо своего жесткого и агрессивного антикоммунизма, южноамериканские диктаторы обычно достаточно четко обозначали — в официальных документах и выступлениях — некоторые свои важнейшие идейные установки. Речь шла о принципах, ради которых, собственно, и устанавливались авторитарные режимы и проводились репрессии. Обычно говорилось о защите частной собственности (подразумевалось и предпринимательство) и традиционной религии. В Бразилии и отчасти в Чили эти установки дополнялись еще и идеей технологической модернизации. Бразильские авторитарные лидеры неоднократно заявляли о необходимости развития любой ценой, о том, что с помощью диктатуры можно вытащить страну из отсталости. Что касается репрессий, то они рассматривались главами режима как адекватная цена за реализацию экономических мер, позволяющих защищать частную собственность и создавать условия для развития предпринимательства. Эти лидеры также представляли себя защитниками и хранителями религиозных ценностей, которые, по их мнению, требовали крутых мер против тех, кого «хранители» считали врагами религии и идеи собственности.
Данные установки нужно рассматривать в определенном историческом контексте. В частности, авторитарные лидеры Бразилии, Аргентины, Чили и Парагвая ссылались на негативный пример коммунистического режима на Кубе, где были национализированы почти все частные предприятия, а оппозиция подавлялась не менее жестоко. То есть лидеры авторитарных режимов предлагали рассматривать себя как альтернативу реализации кубинского сценария в Южной Америке. Они, конечно, преувеличивали кубинскую угрозу. Но их аргументация все же работала, поскольку холодная война, порожденная межблоковым противостоянием 1950–80-х годов, распространяла атмосферу идеологической вражды на общественную жизнь очень многих стран, в том числе южноамериканских и азиатских.
Отдельно следует упомянуть случаи использования широкой исламизации общественной жизни в целях создания идеологической базы авторитарных режимов. В первую очередь речь идет о режиме генерала Зии-уль-Хака в Пакистане, существовавшем в 1977–1988 годах. Хронологически исламизация государства в рамках политики генерала Зии предшествовала иранской революции, и, вероятно, именно она может считаться предвестником того, что несколько позже назовут «исламским возрождением конца XX века». В своей политике генерал использовал реальный рост интереса к традиционным и радикальным формам ислама в Пакистане в 1970-х годах, хотя этот процесс охватывал не самую большую часть пакистанского общества и не затрагивал те его слои, которые вовсе не желали возврата к средневековым нормам. Но генералу важно было опереться на традиционалистов. Им была обозначена цель — построение «подлинно исламского общества». С учетом этой цели в законодательство были инкорпорированы некоторые нормы шариата и введены традиционные наказания за некоторые виды преступлений. При Верховном суде Пакистана был создан Федеральный шариатский суд, наделенный правом объявлять недействительным любой закон, противоречащий, по его мнению, исламу. На предмет соответствия исламу были пересмотрены и все школьные учебники, в каждом подразделении армии появились муллы, а английский язык был повсеместно заменен на урду.
Следует еще раз подчеркнуть, что у значительной части общества исламизация вызвала раздражение. Но после введения в 1979 году советских войск в Афганистан режим генерала получил дополнительный импульс для укрепления — его значимость возросла в глазах элиты США, еще не заметившей угрозы радикального ислама, но считавшей необходимым препятствовать экспансии СССР.
Наряду с режимами, ориентированными в условиях межблокового противостояния на США, в мире функционировали авторитарные режимы, относившие себя к противоположному лагерю, связанному с Советским Союзом. Их идеологии имели свою специфику.
Среди таких стран в первую очередь следует упомянуть Египет и Ливию. У египетского и ливийского режимов были схожие обстоятельства рождения и немало общих черт в организации власти и ее идеологическом оформлении. Помимо всего прочего, ливийский диктатор считал себя последователем диктатора египетского и был его безусловным почитателем. Оба режима возникли после военных антимонархических переворотов (в Египте в 1952 году, в Ливии в 1969 году). В обоих случаях авторитарная власть монарха была замещена еще более авторитарной властью «лидера революции». В обоих случаях эти революционные лидеры после незначительных колебаний и с учетом национальных специфик начали воспроизводить идеологическую модель Советского Союза в части взаимодействия государства и доминирующей политической партии. В СССР данная модель называлась «социалистической ориентацией». Поэтому советские лидеры считали данные режимы идеологически близкими и оказывали им разностороннюю поддержку.
Идеологическая база авторитарного режима, возникшего в Египте после переворота 1952 года, оформлялась примерно в течение десятилетия. Лидеру режима Гамалю Абдель Насеру потребовалась всего пара лет, чтобы, устранив конкурентов, стать единоличным правителем, и еще два-три года, чтобы определиться со своей внешнеполитической стратегией. После того как в 1956 году СССР поддержал Египет в ходе войны, связанной с национализацией Суэцкого канала, выбор лидера Египта был предрешен. Он стал заявлять о необходимости строительства социализма и социалистического государства по образцу СССР. Внешнеполитический выбор обусловил выбор идеологический.
Некоторые предпосылки для этого уже были. Изначально режим, установившийся в 1952 году, использовал сильные антианглийские настроения в египетском обществе. У многих египтян вызывало раздражение, что и после обретения политической независимости их страна оставалась в экономической зависимости от Великобритании, от британского и вообще европейского бизнеса. Отвечая этим настроениям, Насер национализировал не только Суэцкий канал, но и имущество сотен английских, а заодно и иных частных компаний. Вопрос, насколько эти мероприятия улучшили состояние экономики Египта, мы выносим за скобки. Но данный курс был обозначен как в Каире, так и в Москве как антиимпериалистический. В книге Насера «Философия революции» (1954 год) можно было найти обоснование этого курса, а также претензий Египта на лидерство в арабском и мусульманском мире. Панарабизм в ней рассматривался как форма антиимпериализма.
Сразу после переворота 1952 года Насер и его сторонники стали искать форму идеологического обоснования своей монополии на власть. В Конституцию Египта 1953 года была включена норма, запрещавшая деятельность политических партий. Это оправдывалось тем, что партии раскалывают общество, вызывая вражду между его различными слоями и классами. При этом допускалось создание организации, выражающей интересы «всего народа». С 1953 по 1957 год такую роль выполняла партия «Освобождение», а с 1957 года — организация «Национальный союз». С 1961 года Насер начал корректировать идеологию своего режима и сам режим в значительном соответствии с советской моделью. Лидером Египта были приняты такие важные элементы сталинской по своей сути модели социализма, как руководящая роль единственной партии и национализация крупной промышленности. В то же время Насер выступал в защиту лояльных режиму частных предпринимателей и традиционной религии египтян — ислама. При этом Египет формально оставался светским государством, а радикальные мусульманские организации типа «Братьев-мусульман» находились под запретом.
С конца 1961 года Насер приступил к созданию новой идеологизированной партии — Арабского социалистического союза (АСС). Ее создание как единственной правящей партии было одобрено Национальным конгрессом — собранием, выборы в которое проходили по куриям: от рабочих, крестьян, предпринимателей, интеллигенции, студентов и женщин. Целью АСС был провозглашен социализм. На его построение отводилось не менее 10 лет, но в Конституции 1964 года Египет уже был провозглашен «демократическим социалистическим государством».
Доктрина «арабского социализма» некоторое время использовалась и преемником Насера — Анваром Садатом. Но примерно через пять лет от нее, как и от сотрудничества с СССР, решено было отказаться.
Концепция «ливийской джамахирии», безальтернативно навязанная ливийскому обществу диктатором Муамаром Каддафи, в определенной мере тоже учитывала опыт СССР, но одновременно и опыт Египта времен Насера. Каддафи шел уже проторенной дорогой, но при этом не учитывал чужих ошибок. Его главный идеологический труд «Зеленая книга» вышел в ту пору, когда в Египте уже отказывались от социалистического проекта. Но Каддафи все же включил в название своего государства — Джамахирии — слово «социалистическая». При этом он предусмотрел важную роль шариата в правовой системе, и ислам был объявлен государственной религией.
Джамахирия формально означала систему выборных органов народного самоуправления — народных конгрессов, выстроенную пирамидально. Должность главы государства на верхушке пирамиды отсутствовала. Однако вся система представительств на практике дублировалась системой революционных комитетов (ревкомов), возглавляемых «революционным руководством». Во главе последнего находился, разумеется, лидер революции Каддафи. Таким образом, символически отказавшись от государственных постов, он сохранил абсолютную власть. Тому, кто был знаком с опытом власти генерального секретаря ЦК ВКП(б)/КПСС, особенно в те годы, когда эту должность не совмещали ни с одним из высших постов в государстве, всю эту ливийскую конструкцию трудно было признать оригинальной. Система ревкомов, по сути дела, выполняла роль «руководящей и направляющей» партии во главе с бессменным лидером. Адепты и пропагандисты Каддафи вели активную агитационную работу в других арабских государствах, но в целом без особого успеха.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев навязанные властью государственные идеологии утрачивали свое влияние и статус, как только из политики или из жизни уходил главный носитель власти. Судьба идеологии оказывалась тесно связана с судьбой диктатора. Так было и в Египте, и в Греции, и в Индонезии, и на Филиппинах, и в Ливии, и в других странах. Все попытки конструировать в сложных многослойных обществах, переживающих внутреннюю борьбу или даже раскол, единые, навязываемые сверху идеологии, заканчивались крахом. Поскольку в отличие от тоталитарных режимов авторитарные в основном не вмешивались в те сферы жизни, которые не были непосредственно связаны с политикой, процесс идеологизации не затрагивал значительных общественных групп. В этих обществах очень многие все же могли оставаться равнодушными к идеям вождей. При этом вожди обычно не посягали на незыблемость традиционных религий.
Нужно отметить, что иногда созданная одним диктатором ниша государственной идеологии использовалась другим диктатором для насаждения совсем иного набора идей, соответствовавших его вкусам, взглядам или новой политической конъюнктуре, как, например, в Египте при Садате — преемнике Насера или в Туркменистане при Бердымухамедове — преемнике Ниязова.
Еще одна интересная деталь. Иногда популярность лидера, насаждавшего определенную идеологию, сохранялась дольше, нежели само влияние этой идеологии. При авторитарных правлениях харизма обычно важнее идеи. В частности, популярность Насера в Египте и Сухарто в Индонезии все еще достаточно высока. Хотя использовавшиеся ими идеологемы почти полностью забыты.
Глава 5
Стабильность и сменяемость авторитарных лидеров
Стабильности всякого авторитарного режима в наибольшей мере способствует достаточно длительное пребывание у власти одного лица — основателя и гаранта режима. Общественно-политическая жизнь таких государств вращается в основном вокруг личности диктатора. И если он обладает сильной харизмой и обеспечивает некоторые иные условия стабильности, его правление, а значит, и существование режима может быть долгим. Президент Филиппин Маркос оставался во главе государства 21 год, из которых 15 лет правил единолично, как полновластный диктатор. Президент Египта Мубарак правил 30 лет, президент Индонезии Сухарто — 32 года, каудильо Испании Франко — 36 лет, президент Парагвая Стресснер — 45 лет.
Немаловажно понимать, какими способами поддерживалась устойчивая популярность данных лидеров и обеспечивалась готовность значительной части населения мириться с несменяемостью власти. Практика функционирования авторитарных режимов позволяет выявить по крайней мере два таких способа.
Первый из них — устранение с политической сцены всех возможных конкурентов авторитарного правителя. Любая политическая фигура, появившаяся либо из рядов оппонентов, либо из окружения самого вождя и претендующая на самостоятельность, подлежала дискредитации и преследованию. Обычной в таких случаях технологией служило возбуждение уголовного дела и изоляция конкурента по решению послушного суда. Вполне действенной могла быть и угроза уголовного преследования, дополненная травлей в СМИ. В частности, диктатор Чили Аугусто Пиночет примерно таким образом избавился от одного из своих соратников, генерала Густаво Ли Гусмана, совершенно некстати вынесшего на обсуждение вопрос о коллегиальности в работе хунты. Лидер всегда должен был оставаться главным и единственным персонажем на политической сцене. Его соратникам обычно дозволялось лишь транслировать его волю — светить отраженным светом.
Вторым способом является создание представления о безальтернативности лидера — контролируемые властью СМИ обеспечивают полное доминирование в медийном пространстве главы режима и его точки зрения на актуальные вопросы. Его образ постоянно присутствует в каждом выпуске новостей, возглавляя и так не очень длинную галерею значимых в государстве персон. У диктаторов всегда была возможность обратиться к гражданам непосредственно — с телеэкрана или с радиообращением. Диктаторы Латинской Америки, как правило, пользовались этими возможностями весьма охотно, нередко злоупотребляя вниманием аудитории. Но в любом случае это зависело от темперамента и типа характера диктатора. Поэтому, например, А. Салазар в Португалии выступал с обращениями крайне редко и встречами даже с вполне лояльными представителями народа пренебрегал, поскольку это не входило в арсенал пропагандистских приемов его режима.
Как бы то ни было, в рамках любого авторитарного режима у граждан должно быть сформировано мнение о незаменимости вождя. Он — вне конкуренции и вне правил. Если не он, то кто?
И все же даже в условиях авторитарных режимов возникают обстоятельства, требующие принятия решения о выборе нового лидера, то есть о смене власти. Одним из таких обстоятельств может быть тяжелая болезнь или смерть главы режима. Как известно, есть силы, над которыми ни один диктатор не властен.
В таких случаях у правящего клана, а точнее, у узкой придворной группы, заинтересованной в сохранении status quo, обычно есть возможность выдвинуть преемника, в наибольшей степени отвечающего ее интересам. Такое выдвижение чаще всего является результатом внутриклановой сделки. Хотя при этом не исключается и определенная борьба. Сам по себе процесс наделения властным титулом в условиях авторитарного режима фактически не поддается регулированию конституциями и законами. Главную роль играет способность преемника и его сторонников контролировать силовые структуры и обеспечивать тот самый status quo.
Обычно преемником диктатора становится наиболее влиятельное лицо из его ближайшего окружения. После случившегося в 1968 году инсульта у бессменного правителя Португалии 79-летнего А. Салазара, находившегося у власти примерно 40 лет, его преемником стал 62-летний Марсело Каэтану. Последний был давним другом и соратником диктатора, работавшим с ним еще в 1920-е годы в Министерстве финансов. Его назначение не вызвало особых споров в правящей группе. Так жизнь авторитарного режима была продлена еще на шесть лет.
Напротив, после инсульта, случившегося в 1969 году у военного диктатора Бразилии А. Коста-и-Силвы, его коллеги по правящей хунте, весьма амбициозные генералы, поначалу так и не смогли договориться о приемлемой для всех кандидатуре нового лидера режима. Поэтому в течение трех месяцев государство управлялось коллегиально тремя членами хунты — А. Таварисом, М. Мелу и А. Радемакером.
Еще один вариант действий правящей группы (клана) в случае ухода диктатора — передача власти его родственнику (обычно сыну). Такие случаи особенно иллюстративны при характеристике некоторых авторитарных режимов как псевдомонархий, а сознания их приверженцев — как монархического.
В 2000 году после смерти сирийского диктатора Хафеза Асада власть благодаря поддержке правящей бюрократии унаследовал его сын — Башар Асад. В 2003 году в Азербайджане президент страны Гейдар Алиев выдвинул свою кандидатуру на очередных президентских выборах наряду с кандидатурой своего сына Ильхама. Позже отец снял свою кандидатуру в пользу сына, которому и передал власть. В этом случае передача власти произошла еще при жизни диктатора, за полгода до его смерти. В 2006 году после смерти главы Туркменистана С. Ниязова благодаря поддержке силовых структур власть унаследовал Г. Бердымухамедов, который, по слухам, является внебрачным сыном диктатора.
Но если вынести за скобки тяжелую болезнь или смерть как основание для смены диктатора, можно ли предположить, что несменяемость власти является важным признаком авторитарного правления? Иными словами — является ли сменяемость глав режима признаком, указывающим на наличие демократических институтов?
В этой связи приведем точку зрения М. А. Краснова: «Чтобы удостовериться в существовании если не демократии, то как минимум условий для ее развития... достаточно посмотреть, если речь идет о президентских и полупрезидентских республиках, существует ли в них явная или скрытая (при передаче власти по монархическому сценарию) несменяемость президентов... если нет такой смены, демократические институты перестают выполнять свою прямую функцию институционализированного контроля общества над государством (народа над органами публичной власти)»[18].
Думается, что это верно, — режим личной власти несовместим с демократией. И вывод о несменяемости власти как признаке отсутствия демократии вполне применим ко всем авторитарным режимам, установившимся на постсоветском пространстве в бывших республиках СССР.
Однако при этом практика некоторых авторитарных режимов свидетельствует о том, что и при наличии реальной или даже регулярной смены власти они не меняют своего характера и не допускают реального функционирования демократических институтов. В таких случаях сменяемость власти является не следствием «институционализированного контроля общества над государством», но всего лишь следствием противоречий внутри правящей группы либо исполнения ее членами неформальных договоренностей.
Так, в Аргентине в марте 1981 года, спустя пять лет после военного переворота, в руководстве авторитарного режима назрел кризис, обусловленный ухудшением экономической ситуации и массовыми протестными выступлениями. В результате глава режима генерал Хорхе Видела вынужден был уступить свое место другому генералу — Роберто Эдуардо Виоле. Смена власти прошла мирно, хотя противоречия между представителями различных родов войск в аргентинской правящей группе к этому времени серьезно обострились. Новый лидер Виола тоже не смог обуздать кризис, и уже через девять месяцев военная хунта сделала заявление о его неспособности выполнять обязанности главы государства «по состоянию здоровья». В результате еще одной внутриклановой сделки полномочия главы режима были переданы вице-адмиралу Карлосу Лакосте. Но и он удержался у власти немногим более недели, уступив место генералу Леопольду Галтьери.
Вполне очевидно, что частая и быстрая смена лидеров данного авторитарного режима была не следствием давления общественного мнения либо каких-либо институционализированных форм контроля, но свидетельством внутриклановой борьбы, порожденной кризисом, в который вступил авторитарный режим. Эта чехарда в итоге ослабляла его и дискредитовала даже в глазах его сторонников.
Авторитарный режим, установленный в апреле 1967 года группой военных в Греции, несколько лет фактически возглавлял полковник Георгиос Папандопулос. В 1973 году он даже стал президентом страны, но к этому времени в значительной мере уже утратил свой авторитет среди бывших соратников и последователей. Поэтому после очередного массового разогнанного полицией выступления студентов один из бывших союзников Папандопулоса бригадный генерал Димитриос Иоаннидис при поддержке других военных отстранил президента от власти и назначил на президентскую должность послушного и близкого ему человека, Федона Гизикиса, сохранив при этом в своих руках реальную власть. В отличие от смены диктаторов в Аргентине в 1981 году, в Греции данный переход власти был результатом не сделки внутри хунты, но ее раскола и нового насильственного переворота. Однако, как и следовало ожидать, на пользу хунте и режиму это не пошло.
В период правления военных в Бразилии в 1964–1988 годах, в рамках достаточно жесткого авторитарного режима, смены лидеров происходили четырежды, причем трижды они были обусловлены истечением заранее обусловленного срока правления главы государства. Особенностью данного режима следует считать то, что члены правящей группы подчинялись заранее принятым на себя ограничениям и допускали периодическую сменяемость власти, что является достаточно редким случаем для авторитарных режимов.
В этом же ряду стоит опыт Мексики (1940–90-е годы) и Китая (последние 30 лет). В Мексике, остававшейся вплоть до 1980-х годов вполне авторитарным государством с фактической монополией на власть одной партии, действовала тем не менее норма Конституции 1917 года, запрещавшая одному лицу занимать президентскую должность более одного срока. И мексиканские лидеры ее придерживались. Просто с 1930-х годов они ввели традицию заблаговременно определять кандидатуру преемника на президентском посту.
В Китае норма, ограничивающая руководителя главной партии страны двумя сроками полномочий, была закреплена в Уставе Коммунистической партии Китая (КПК). Генеральные секретари ЦК КПК до 2018 года соблюдали эту внутрипартийную норму и, уходя с высшего партийного поста, покидали высшую должность в государстве — председателя КНР. Ав статье 79 Конституции КНР 1982 года содержалась норма, запрещающая занимать посты председателя и заместителя председателя КНР более двух (пятилетних) сроков подряд. Сам по себе авторитарный характер режима от этого никак не менялся. Выборы всегда носили декоративный характер и не ставили под сомнение роль китайской компартии. Назначение нового генерального секретаря ЦК КПК всегда было результатом длительного жестко формализованного внутрипартийного отбора и неформальной сделки в Политбюро ЦК.
В 2018 году руководство КПК предложило от ограничения, установленного статьей 79 Конституции, отказаться.
Иногда решения, выработанные придворной кликой, могут прямо противоречить конституции страны. В таких случаях конституция игнорируется: в рамках подобных режимов она в любом случае является всего лишь декларацией. Ярким примером тому является ситуация в Туркменистане. В декабре 2006 года после смерти президента С. Ниязова его полномочия, согласно Конституции, должен был исполнять председатель меджлиса О. Атаев. Однако силовики, игравшие главную роль в Государственном совете безопасности Туркменистана, договорились о наделении властью вице-премьера Г. Бердымухамедова. Атаев, судя по некоторым данным, стал возражать, но сразу же был обвинен в совершении преступления и заключен под стражу. Еще через день он был освобожден от должности. Ни о нем, ни об уголовном деле, возбужденном против него, с тех пор ничего не известно.
В 2017 году после смерти диктатора Узбекистана президента И. Каримова его полномочия, в соответствии с Конституцией Узбекистана, перешли к председателю Сената, верхней палаты парламента. Но главным человеком в клане Каримова считался председатель правительства — Ш. Мерзиёев (Мирзияев). Он быстро получил поддержку силовиков и, вероятно, дал это понять председателю Сената. В результате последний остался в живых и даже на свободе только потому, что быстро сориентировался и понял расклад сил. После шестидневного исполнения президентских полномочий он сложил их, сделав специальное заявление.
Следует упомянуть и о ситуациях, когда авторитарные лидеры, сохраняя в руках всю реальную власть, предпочитали на определенное время занимать некую теневую позицию, продвигая на должность номинального главы государства одного из своих ставленников.
Например, в Мексике один из популярных политиков предвоенной эпохи П.-Э. Кальес, занимавший пост президента в 1924–1928 годах, после убийства не успевшего вступить в должность своего преемника, весьма популярного политика А. Обрегона, ввел новый, не предусмотренный Конституцией пост — Jefe Maximo (главного руководителя) и сам же этот пост занял. А временным президентом при этом был назначен один из его приверженцев Э. П. Хиль. Так Кальес сохранил реальную власть и давал указания президенту. Хиля сменил Рубио, которого в свою очередь сменил Родригес. Все они избирались в полном соответствии с законом и Конституцией, но оставались при этом людьми, полностью зависимыми от Кальеса, который к своему титулу добавил еще и пост военного министра и руководил вооруженными силами. Этот период в мексиканской истории получил название «максимато» — президенты, фактически назначаемые Кальесом, обладали определенной независимостью, но важнейшие вопросы должен был решать Jefe Maximo. Очередной президент Ласаро Карденас также получил возможность участвовать в выборах 1934 года и победить благодаря поддержке Кальеса. Но позже он сумел освободиться от навязчивой опеки своего патрона, значительно изменившего к тому времени свои политические позиции.
Подобный сюжет мы находим и в истории Доминиканской Республики — небольшого островного государства в Карибском бассейне. Там с 1930 по 1961 год фактическим главой государства был диктатор Р. Трухильо. Получив власть в результате переворота, он постепенно подчинил себе весь государственный аппарат, сделав частью государства свою партию. После двух президентских сроков он сообщил, что, следуя заветам Джорджа Вашингтона, уходит из власти, но на самом деле сохранил весь объем властных полномочий. Формально он позволил баллотироваться на пост президента своему ставленнику, пожилому вице-президенту (X. Пейнардо), а когда тот умер — другому ставленнику. Впрочем, Трухильо сохранил за собой посты главнокомандующего и лидера единственной в стране правящей партии. Позже он занимал пост президента еще два срока (1942–1952), предварительно увеличив длительность каденции до пяти лет. В 1952 году он предоставил однократное право побыть президентом своему родному брату Эктору Трухильо, «победившему» на безальтернативных выборах. Семья Трухильо обладала не только политическим влиянием — она владела также всеми основными активами не слишком большой экономики Доминиканской Республики. Эпоха Трухильо в истории островного государства закончилась в 1961 году, когда диктатор был убит в результате заговора.
Глава 6
Роль авторитарных режимов в экономической модернизации и обеспечении политической стабильности
Главный смысл авторитарных правлений обычно усматривался их сторонниками в политической стабилизации, в защите предпринимателей и, шире, собственников от всевозможных радикальных движений и организованной преступности, то есть в обеспечении максимально благоприятных условий для бизнеса и развитии национальных экономик. Но все эти декларируемые цели, как правило, были подменными, поскольку очевидной целью всех диктаторских режимов является получение неограниченной бесконтрольной власти и связанных с ней экономических благ.
Таким образом, при установлении любой диктатуры неизбежно возникает вопрос о соразмерности официально декларируемых угроз общественному спокойствию и собственности со стороны радикалов и/или мафии и недекларируемой, но реальной угрозы злоупотреблений со стороны самого диктатора и его соратников, представляющих собой, по сути, новую мафию в условиях полного произвола. Сопоставление этих угроз всегда было предметом бесконечных и, в сущности, безрезультатных дискуссий.
Каждый некоммунистический авторитарный режим всегда рассматривал себя в качестве защитника предпринимательства и экономического процветания. При этом лидеры режимов считали вполне возможной защиту бизнеса и частной собственности в условиях отсутствия свободы слова, без политической конкуренции и независимости судов. Их критики, напротив, полагали, что для полноценной защиты права собственности и успешного экономического развития необходимы именно демократические институты. Стороны по-разному интерпретировали одни и те же факты, связанные в основном с экономической жизнью авторитарных режимов.
Действительно, итоги авторитарных правлений в различных странах можно трактовать по-разному. Хотя некоторые оценки считаются вполне общепринятыми. «Большинство авторитарных режимов, — полагает Т. Е. Ворожейкина, — было в той или иной мере ориентировано на осуществление социально-экономической модернизации и пыталось — с разной степенью успеха — продвигаться в этом направлении. В этом смысле все современные авторитарные режимы могут быть, хотя и с большой долей условности, названы режимами авторитарной модернизации. К ним могут быть отнесены, во-первых, латиноамериканские популистские режимы и, во-вторых, собственно, режимы авторитарной модернизации, как персоналистские, так и авторитарно-бюрократические»[19].
В истории Республики Корея (Южная Корея) как самостоятельного государства наиболее длительный период (почти 25 лет) составляет время непрерывного авторитарного правления и президентуры двух генералов — Пак Чжон Хи и Чон Ду Хвана. Первый из них поставил и, по сути дела, решил задачу экспортной экспансии страны. К началу его правления экономика республики уже полностью удовлетворяла потребности внутреннего рынка и нуждалась в выходе на рынки внешние. Президент действительно сделал немало для того, чтобы корейским товарам открылись рынки Японии и США. К началу 1970-х годов лидирующими отраслями экономики стали текстильная и швейная промышленность. Япония оказалась заполонена корейским ширпотребом. Экспортное производство способствовало росту занятости и доходов населения.
Одновременно создавались условия для широкого привлечения в Корею инвестиций и технологий из Японии. В республике начали строиться предприятия по производству (сборке) бытовой электроники. Данная политика поначалу вызывала раздражение у части населения, поскольку японцы издавна считались врагами. Но Пак Чжон Хи заключал торговые соглашения с Японией, несмотря на возможную непопулярность этого курса, поскольку он мог себе это позволить в силу авторитарного характера режима. В то же время данный режим обеспечивал защиту прав собственности формирующегося в стране среднего класса национальной буржуазии. Политическая воля и поддержка государства играли в этом процессе немалую роль. В республике был буквально создан культ научно-технического прогресса и модернизации[20].
В итоге темпы ежегодного экономического роста в Южной Корее в 1970-е годы превышали 20%. Таким образом, была создана основа для последующего технологического рывка южнокорейских компаний. А в 1990-х годах, уже в условиях демократического государства, прорыв страны на лидерские позиции в ряде отраслей стал реальностью.
Таким образом, авторитарное правление в Южной Корее в целом содействовало экономической модернизации. Однако все эти годы достаточно широкие слои корейского общества добивались обеспечения всех демократических прав. И не без оснований считали, что при наличии этих прав экономическое развитие шло бы не менее быстро. В целом картина складывалась противоречивая.
Примерно то же самое можно сказать об итогах авторитарного правления Чан Кай Ши на Тайване. Изначально после бегства с материка в 1949 году его правительство не могло рассчитывать на особую популярность у жителей острова, поскольку в бытность его правителем всего Китая Чан Кай Ши боролся с тем, что он называл тайваньским сепаратизмом. Но после 1949 года он начал на острове аграрную реформу, которая послужила основой индустриализации Тайваня: у крупных землевладельцев принудительно выкупались излишки земли, которые потом на выгодных условиях распродавались мелким собственникам. Первыми инвесторами в тайваньскую промышленность оказались американские компании и бывшие тайваньские феодалы, получившие немалые средства в результате выкупа их земель. Первоначально они были не в восторге от реформ Чан Кай Ши. Но немалую роль в процессе реформирования играли его авторитарные методы. Хотя, конечно, на деле большее значение имели инвестиции американских компаний в экономику острова и прямая экономическая помощь США, а также быстрое развитие национального малого и среднего бизнеса.
Постепенно курс на модернизацию экономики получал все более широкую поддержку тайваньцев. Хотя вопрос, как бы шло это развитие, если бы режим был более демократичным, до сих пор остается открытым. Режим военного положения на Тайване действовал до 1987 года. Жертвами развязанного в этот период «белого террора» стали тысячи жителей острова. Их обвиняли в основном в сотрудничестве с властями материкового Китая и с китайской компартией. В условиях полного произвола силовых структур попасть под сфабрикованные обвинения мог кто угодно. Но насколько это кореллировалось с целями модернизации? Можно лишь сказать, что на экономическом развитии страны репрессии против политических противников Гоминьдана особенно не отражались. Только к середине 1980-х годов на Тайване были сформированы основные демократические институты — независимые суды, СМИ, демократически избранный парламент. А к началу 1990-х годов Тайвань вышел в лидеры в таких наукоемких отраслях, как производство микросхем, компьютерных плат и персональных компьютеров. Можно сказать, что в 1980–90-е годы модернизационные процессы в экономической и политической сферах шли параллельно.
И тем не менее все эти успехи принято связывать с правлением Чан Кай Ши и его преемников. Хотя мы не стали бы однозначно утверждать, что главную роль в экономическом развитии Тайваня сыграло именно авторитарное правление.
Наибольшее количество противоречивых оценок связано и с экономической стратегией авторитарного режима Пиночета в Чили. Данный опыт многими зарубежными и российскими экспертами рассматривается как пример наиболее эффективного использования различных экономических инструментов в условиях авторитарного правления. С одной стороны, приводятся красноречивые экономические показатели. С другой стороны, рядом экспертов эти достижения ставятся под сомнение, поскольку устойчивый рост экономика Чили продемонстрировала лишь к концу правления Пиночета. Первые годы диктатуры оказались связаны с тяжелым экономическим кризисом. Кроме того, остается открытым вопрос, адекватна ли цена смены (или корректировки) экономического курса, стоившей жизни тысячам чилийцев, ставших жертвами репрессивного аппарата.
Данный вопрос относится и к Бразилии конца 1960-х — начала 1970-х годов. Там темпы экономического роста были даже выше чилийских (от 10 до 13% с 1968 по 1973 год). Но репрессивный аппарат работал столь же интенсивно.
Что касается основных инструментов модернизации экономики, то в Чили они были примерно теми же, что и в Бразилии[21]. К их теоретическим источникам обычно относят разработки американского экономиста М. Фридмэна и «чикагской школы». Среди этих инструментов можно, в частности, выделить следующие:
• снижение правительственных расходов, ужесточение бюджетной политики, сокращение финансирования здравоохранения и образования;
• сокращение государственной эмиссии денег;
• сокращение потребительских расходов путем замораживания зарплат (или даже их сокращения);
• создание благоприятного налогового климата для иностранных инвестиций (в основном из США, но также из ряда европейских стран), привлечение в экономику транснациональных корпораций.
Примерно такой же модели пытались следовать и военные правители Уругвая, обосновывавшие установление авторитарного режима необходимостью либерализации экономики и привлечения иностранных инвесторов. Ими были приняты специальные декреты, регулирующие деятельность иностранного капитала в Уругвае: декрет-закон об иностранных инвестициях от 28 марта 1974 года и регламентирующий декрет к нему от 10 октября 1974 года. На иностранных инвесторов в целом был распространен режим деятельности национальных компаний. Были образованы свободные экономические зоны (Нуэва Пальмира, Колониа и Карраско).
Правда, первоначальным следствием всех этих мер в Чили и Бразилии было сокращение производства и рост безработицы. Но диктаторы призывали население к терпению и спокойствию, поскольку благоприятный результат мог быть достигнут не сразу. А для чрезмерно нетерпеливых и беспокойных — например, для профсоюзных активистов — данная аргументация несколько уточнялась и ужесточалась, поскольку они в таких случаях могли рассматриваться как злостные радикалы.
Существенное различие между стратегиями двух авторитарных режимов заключалось в том, что в Бразилии сохранился весьма значительный госсектор и бразильские власти поддерживали достаточно высокий уровень федеральных налогов, сурово преследуя неплательщиков[22]. Государство вообще продолжало играть довольно активную роль в экономике Бразилии. В частности, с помощью таможенной и кредитной политики поощрялся экспорт и в то же время с помощью различных протекционистских мер сдерживался импорт. Нужно также отметить, что в 1990-х годах в условиях демократии либеральным президентам Ф. Коллору и особенно Ф. Э. Кордозе пришлось идти на масштабную приватизацию[23].
В Чили правительства, действовавшие в течение 1970-х и 1980-х годов, предприняли серьезные меры, направленные на уход государства из экономики даже вопреки традиционному государственничеству чилийских военных. Госсектор был сведен к минимуму (кроме медных рудников, национализированных еще при президентах Фрее и Альенде). Экономика страны была открыта для внешних конкурентов. Это привело к разорению многих предприятий. Безработица в итоге достигала 30% трудоспособного населения. Но в течение примерно десятилетия в Чили произошла диверсификация экспорта и всей экономики в целом. Помимо меди, доля которой сокращалась, страна стала экспортировать вино, фрукты, овощи и консервы. В Чили решились и на такую меру, которой трудно было ожидать от военного режима: привлечение частного, в том числе иностранного, капитала для обслуживания инфраструктуры страны. А именно связи и энергетики. После приватизации крупных электрических и телефонных компаний их эффективность заметно повысилась.
Тем не менее в Чили, как и в Бразилии, значительная часть населения продолжала считать, что за определенные экономические успехи заплачена неадекватно высокая социальная цена. Модернизация коснулась производственных технологий, изменила быт простых граждан и отчасти облик городов, заполнившихся новыми автомобилями, произведенными бразильскими заводами «Форда», «Дженерал Моторс», «Фольксвагена», «Тойоты» и других автогигантов. При этом модернизационный процесс никак не затронул широкого пласта отношений по взаимодействию труда и капитала, военных и гражданских, полиции и тех, кого она вроде бы должна была защищать. Эти отношения продолжали основываться на скрытом неправовом принуждении, то есть скорее на праве силы, нежели на силе права. Традиционная иерархия продолжала играть более важную роль, нежели отношения, опосредованные правовыми нормами. Ситуация усугублялась тем, что бурный рост экономик двух южноамериканских государств не уменьшил слоя людей, живущих в бедности или даже нищете. Данный слой чувствовал себя вообще не особо причастным к экономическим успехам и чужим на празднике жизни средней и крупной буржуазии. И чилийский и бразильский режимы последовательно ограничивали и угнетали профсоюзное движение, запрещали любые партии социалистического направления. То есть, по сути дела, лишали самые обездоленные группы граждан средств представительства и защиты.
Однако в последние годы существования этих авторитарных режимов многие ограничения на деятельность профсоюзов оказались сняты. Отчасти эти послабления были вынужденными. Например, в 1978–1979 годах в Бразилии бастовало около полумиллиона рабочих промышленного пояса Сан-Паулу. Они требовали не только повышения заработной платы, но и восстановления прав профсоюзов. В Чили профсоюзное и вообще левое движение с начала 1980-х годов тоже стало набирать силу. Обе страны начали демократизацию почти одновременно — в конце 1980-х. Переход от военного правления к гражданскому оказался мирным. Политические системы обеих стран постепенно вернулись к положению, примерно соответствующему тому, что было до военных переворотов.
Важно также отметить, что и в Чили, и в Бразилии, и в Аргентине, и в Уругвае именно в условиях демократизации политических режимов процесс модернизации пошел, если можно так сказать, вглубь. Речь идет о постепенном замещении культа грубой силы правом, о замене отношений господства и подчинения, построенных на скрытом принуждении (то есть «на понятиях», если использовать российский сленг), правовым регулированием равных субъектов. Как пишет Т. Е. Ворожейкина, «модернизация социальных отношений, типа человека и, тем более, политической сферы осуществляется уже после демонтажа авторитарных режимов, в ходе процесса политической демократизации. Этот процесс отнюдь не был подготовлен в недрах авторитарных режимов, как это часто полагают сторонники “разумного авторитаризма”, а, напротив, требовал преодоления многообразных проявлений авторитаризма...»[24].
Выше мы говорили об обеспечении авторитарными режимами условий для технологической и экономической модернизации. Но одним из таких условий — и, вероятно, одним из важнейших — является политическая стабильность с учетом всех ее проявлений. Речь идет об устойчивых, гарантированных законодательством и правоприменительной практикой правил игры для бизнеса, сведения к минимуму забастовочных акций и предсказуемости экономической стратегии правительства.
Насколько именно авторитарные правления способствовали такой политической стабилизации — избавлению обществ от внутренних угроз и созданию климата общественного спокойствия? Этот вопрос вовсе не праздный, поскольку многие кандидаты в диктаторы оправдывали установление режима своей личной власти именно необходимостью защиты общества от радикальных групп, от политического хаоса и угрозы гражданской войны. Собственно, и главная альтернатива, предлагаемая подобными политиками, звучала примерно так: или моя диктатура, или хаос.
На самом деле случаев, когда режим чьей-то личной власти совершенно очевидно оказывался преградой на пути политического хаоса, гражданского конфликта, совсем немного. Генерал Сухарто в сентябре 1965 года действительно подавил — если верить большинству индонезийских источников — мятеж группы прокоммунистически настроенных офицеров, перераставший в полномасштабную гражданскую войну. Правда, сразу после этого верные Сухарто войска, выявляя потенциальных сторонников мятежа, учинили бойню, которая по количеству жертв не уступала войне.
Государственному перевороту и установлению авторитарного режима в Турции во главе с генералом Кенаном Эвреном в 1980 году действительно предшествовал период крайней политической нестабильности — вереница затяжных правительственных кризисов. Каждый кабинет (Эджевита, Демиреля, снова Эджевита) существовал менее года. Правительственная чехарда сопровождалась разгулом экстремистских группировок как левого, так и правого толка. Террористические акты, следовавшие один за другим, влекли за собой сотни жертв. В этих условиях военным во главе с К. Эвреном удалось с помощью близких им СМИ склонить часть общества в пользу идеи стабилизации ситуации с помощью правления военных. Нужно также отметить, что инициаторы переворота сочли нужным предупредить лидеров правительственных партий о возможном взятии военными всей полноты власти в случае, если кризис затянется. Изначально оговаривался и примерный срок такого правления — три года.
В этом случае налицо признаки реальной заинтересованности турецких генералов в поиске выходов из кризиса, выразившиеся в согласовании своих позиций с крупнейшими политиками страны. Хотя единого мнения на этот счет в Турции все равно нет. В ходе правления Эврена и его группы деятельность всех политических партий была запрещена, несколько сотен радикальных организаций было разгромлено, около 500 человек казнено, тысячи граждан оказались в заключении. Сторонникам военных все эти меры казались вполне адекватными. Однако турецкий суд в 2014 году рассудил иначе, приговорив К. Эврена и экс-командующего ВВС страны Т. Шахинкая к пожизненному заключению. Суд пришел к выводу, что аресты и казни большого числа невиновных людей стали результатом нарушения военными Конституции и законов Турции. Тут, правда, следует иметь в виду, что сам по себе судебный процесс, равно как и решение суда, был результатом стремления доминирующей исламистской Партии справедливости и развития и ее лидера Р. Эрдогана ослабить роль армии в Турции. Так Эрдоган рассчитывал создать основу для упрочения собственной власти. И все же вопрос об огромных издержках авторитарных методов, поставленный турецким судом (а до него аргентинским, чилийским и бразильским судами), и есть один из ключевых вопросов при оценке оснований для введения авторитарных правлений.
В подавляющем же большинстве случаев ссылки кандидатов в диктаторы на угрозу общественной стабильности со стороны кого угодно (террористов, экстремистов, радикалов, коррумпированных политиков, непрочных коалиций и т. д. и т. п.) как на причину введения режима личной власти, выглядели лишь как прикрытие иных мотивов. Угрозы явно и сознательно преувеличивались, либо формулировались как потенциальные беды, способные стать реальностью при определенных обстоятельствах, либо просто выдумывались.
Так, в Греции в 1967 году офицеры-путчисты объясняли свои действия тем, что ожидаемый фаворит на ближайших выборах, центрист Папандреу, мог пойти на сотрудничество с левыми силами. В этом они видели признаки масштабного «коммунистического заговора». По официальной версии, в этот заговор были вовлечены как чиновники из госаппарата, так и представители СМИ. Впрочем, никаких доказательств этого так и не было представлено. На Филиппинах в 1972 году президент Маркос объяснял введение чрезвычайного положения необходимостью борьбы с коммунистическими группировками. Уже в 1974 году он легализовал компартию Филиппин, но чрезвычайного положения тем не менее не отменил.
Обращаясь еще раз к Южной Корее, можно вспомнить о некоторых событиях, занимающих важное место в истории страны. Они как раз оказались связаны с ситуациями, когда власти доказывали, что сохранение политической стабильности, необходимой для дальнейшего успешного развития экономики, требует массированного применения насилия. И более того — масштабной армейской операции. Речь идет о событиях в городе Кванджу в 1980 году, которые считаются самыми трагическими (и «постыдными», как их называют корейцы) в современной истории республики.
О чем идет речь? В конце 1979 года в Республике Корея на смену авторитарному лидеру генералу Пак Чон Хи, убитому заговорщиками из его ближайшего окружения, пришел новый правитель, генерал Чон Ду Хван. К этому времени и интеллигенция, и значительная часть среднего класса страны уже более или менее открыто выступали за демократизацию общественной жизни. Новый правитель, в принципе, был готов это учитывать, но все же начал свое правление с борьбы с радикалами в студенческом движении. Возможно, он действительно опасался влияния северокорейской агентуры в южнокорейских студенческих городках. В мае 1980 года, спустя полгода после переворота, Чон Ду Хван принял решение о закрытии Университета Чоннам в городе Кванджу. 17 мая 1980 года протестовавшие против закрытия университета студенты сначала провели демонстрацию возле общежитий, а потом двинулись к центру города. К ним присоединились и многие горожане. Направленные в Кванджу войска пытались блокировать шествие и в результате открыли огонь. Погибли десятки демонстрантов. Официальные СМИ Южной Кореи, и в частности телеканал МВС, представили данные события как коммунистический мятеж. Это не соответствовало действительности, так как большинство студентов не принадлежало ни к каким левым организациям и уж точно не ориентировалось на режим в Северной Корее. Спустя три дня протестующие сожгли представительство МВС в Кванджу. К студентам присоединилось еще от 200 до 300 тысяч жителей города, выступавших против диктатуры генерала Чон Ду Хвана. Восставшие захватили полицейские участки. После этого армия блокировала город, а потом заняла его. По разным данным, тогда было убито от 150 до 600 человек и ранено более 3000.
Сегодня в Южной Корее эти события интерпретируются как восстание против авторитарного режима и за восстановление демократии. Однако в 1980 году в условиях почти полного контроля власти над СМИ события в Кванджу были преподнесены как подавление коммунистического мятежа, организованного агентами с севера полуострова. О жертвах и массовой поддержке студентов горожанами почти ничего не сообщалось. Чан Ду Хван обещал стабилизировать ситуацию в стране, создать условия для нового экономического рывка и постепенного восстановления всех демократических институтов. В октябре того же года он провел референдум по новой конституции. Она предусматривала непрямые президентские выборы, семилетний срок президентских полномочий, право президента на роспуск парламента.
Избиратели действительно хотели стабилизации положения в стране. При очень высокой явке проект конституции поддержало около 90% участников референдума, хотя с учетом, по сути, военного положения относиться к этой цифре с полным доверием все же не стоит.
Может показаться парадоксальным, но именно после событий в Кванджу властвующая элита Кореи сочла необходимым начать процесс постепенной демократизации и создания условий для конкурентных выборов и свободы слова и массовой информации. Стало очевидно, что цена, заплаченная за видимость политической стабильности в одном провинциальном городе, оказалась несоразмерно высока. Постепенно в Корее стало общепринятым мнение, что авторитарно-бюрократические методы изжили себя. Естественно, что высокий уровень развития корейской экономики стал важнейшим условием демократического процесса. Как отметил один из российских исследователей-корееведов, «вступив на путь экономической модернизации, Южная Корея добилась внушительных успехов в развитии хозяйства, но, как и многие другие авторитарные государства Азии и Латинской Америки, вплоть до середины 1980-х годов она не претерпела каких-либо серьезных изменений в социальной сфере, не продвинулась в направлении политической демократии. Тем не менее переход на новую ступень социально-экономического развития создал условия и породил предпосылки дальнейшей политической модернизации»[25].
Часть вторая
Постсоветский авторитаризм
Глава 7
Условия и особенности установления конституционных основ постсоветских авторитарных режимов
Во второй части книги речь пойдет об авторитарных режимах, ставших результатом распада тоталитарного режима в СССР. Сегодня все постсоветские авторитарные режимы можно выделить в отдельный подвид. По сравнению с подобными режимами, существовавшими на протяжении XX века, их даже можно считать неким новым социально-правовым явлением, связанным с кризисом и распадом гигантского государства. Они также являют собой яркий пример авторитарного правления нового типа, функционирующего при формально демократических конституциях.
В отличие от авторитарных режимов, установившихся в результате государственных переворотов либо введения военного положения, постсоветские политические режимы явились результатом относительно мирного процесса концентрации власти в руках одного лица и поддерживающей его группы (клиентелы). Государственная бюрократия в этих случаях проявляла полную готовность принять и поддержать авторитарный режим с его новой иерархией и новой символикой, поскольку никакого иного типа правления, кроме тоталитарного и авторитарного, не знала. Следует также отметить, что главами таких режимов в ряде случае становились лица, занимавшие высшие посты в прежней советской или партийной иерархии.
У этих режимов есть общие специфические особенности. Дело в том, что в последние годы своего существования политический режим в СССР пережил поэтапную демократизацию. Она стала одним из факторов суверенизации бывших союзных республик и возникновения в них демократических движений и относительно демократических режимов. Они оказались свободными от контроля союзного центра и в течение примерно 5–7 лет после этого переродились в режимы авторитарные. Демократизация, таким образом, обернулась своей противоположностью.
На начало 2017 года таких режимов на постсоветском пространстве насчитывалось семь: в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Путь от провозглашения независимого государства, представлявшегося молодой демократией, до вполне оформленного авторитарного режима во всех этих странах был ступенчатым. Во всех них на первом этапе их развития были приняты либо конституционные поправки, либо вполне демократические новые конституции, предусматривавшие в отличие от старых конституций союзных республик политический плюрализм, многопартийность, идеологическое многообразие, принцип разделения властей и правовой характер государства. Во всех конституциях была закреплена определенная система сдержек и противовесов. Кроме того, в большинстве конституций имелась норма, запрещавшая избрание на пост президента одного лица более двух раз подряд.
Тем не менее конкретные формы правления (разграничение полномочий между государственными органами), закрепленные в конституциях начала 1990-х годов, сами по себе уже могли служить основанием для определенной дифференциации новых государств. Четыре бывшие союзные республики — Латвия, Литва, Молдова и Эстония — изначально установили в качестве формы правления парламентскую республику (то есть правовой механизм, предполагающий формирование правительства парламентским большинством). В конституциях Армении и Грузии в результате ряда поправок также предусмотрено, что кандидата в премьер-министры выдвигает крупнейшая парламентская фракция. То есть налицо главный признак парламентской республики. Подобная форма правления была установлена в конституции Киргизии 2010 года. Это было сделано, если можно так сказать, «с третьей попытки», поскольку первая Конституция независимой Киргизии предусматривала президентскую республику. В остальных постсоветских государствах были установлены либо президентские, либо (формально) президентско-парламентские формы правления, причем во всех случаях главы государств получали контроль за формированием и деятельностью правительств. Конституционная и политическая практика двух последующих десятилетий показала, что создание юридической основы для контроля президента над исполнительной властью при наделении его еще и функциями арбитра и гаранта прав и свобод достаточно быстро приводит молодое государство к режиму личной власти. Лицо, занимающее высший пост в государстве, получает удобную позицию для фактического давления на такие формально не подчиненные ему органы, как парламент, орган конституционного правосудия, прокуратура и суд. Как отмечает М. А. Краснов, «президенциализм же сам по себе является существенным фактором формирования авторитарных режимов, особенно в условиях неразвитых демократических традиций»[26].
Выстраивание на основе президентской (президентско-парламентской) формы правления полноценных авторитарных режимов происходило, как уже говорилось, постепенно. Первые этапы этого процесса в различных постсоветских государствах существенно различались. В четырех бывших союзных республиках — Азербайджане, Беларуси, России и Казахстане — первые годы действия демократических конституций (имеются в виду и прежние советские конституции, преображенные десятками поправок) еще были связаны с элементами реальной политической конкуренции и относительно свободным функционированием демократических институтов — парламентов, СМИ, политических партий, иных общественных организаций. Для развития авторитарной тенденции требовалось, чтобы пост президента занял человек, реально стремящийся к сосредоточению в своих руках всей полноты власти и воспринимающий демократические институты либо как досадное препятствие (которое должно быть устранено), либо как элемент политического фасада (который должен играть лишь декоративную функцию).
И такие лидеры появились.
В Азербайджане переходный к авторитарному режиму период (с 1991 по 1995 год) был связан с ожесточенной политической борьбой, осложненной военным конфликтом с Арменией из-за Нагорного Карабаха. В действующую еще с советских времен Конституцию 1978 года были внесены десятки поправок, в том числе поправки, вводившие пост президента республики. На первых, все еще безальтернативных президентских выборах победил представитель правящей Коммунистической партии Аяз Ниязи оглы Муталибов. Однако после событий в Москве в августе 1991 года позиции коммунистов серьезно ослабли, а антикоммунистические настроения, напротив, усилились. Уже в мае 1992 года Муталибов был свергнут сторонниками Народного фронта Азербайджана, захватившими здание Верховного совета. В июне были проведены новые президентские выборы, на которых победу одержал лидер Народного фронта Абульфаз Гадиркули оглы Эльчибей. Но и его президентство не было успешным. К июню 1993 года армия Азербайджана потерпела ряд чувствительных поражений в Нагорном Карабахе и вынуждена была оставить обширные территории. Часть вины за эти беды ложилась на нового президента. В конце концов одна из армейских частей, расквартированная в Гяндже, подняла мятеж против руководства республики и двинула танки к Баку. Эльчибею пришлось покинуть столицу. Вместо него в Баку прибыл опытный и весьма популярный политик, бывший член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев, который в качестве первого секретаря ЦК компартии Азербайджана руководил республикой в 1969–1982 годах. В конце августа по итогам референдума Эльчибей был лишен полномочий, а в начале октября прошли третьи за два года очередные президентские выборы. На них с большим преимуществом победил Алиев. Вскоре, примерно с 1994 года, началось формирование политического режима, основанного фактически на единоличной власти президента. К этому времени значительная часть населения Азербайджана устала от частой смены власти, политической неразберихи и дурных вестей с Карабахского фронта. Люди хотели стабильного и сильного правительства, а также экономических реформ в условиях относительного спокойствия. Возвращение к власти старого лидера и его клана многие в стране рассматривали как залог стабилизации.
В 1995 году была принята новая Конституция Азербайджана. Ее концепция (как и концепция Конституции Беларуси) испытала значительное влияние российской Конституции 1993 года. Президент Азербайджана получил статус главы исполнительной власти и главы государства. Конституцией был предусмотрен пост премьер-министра, полностью зависимого от президента, но занимающегося в основном экономическими вопросами (финансовой кредитной политикой, осуществлением экономических программ и др.) и, таким образом, принимающего на себя часть ответственности за текущую политику. Согласно Конституции, для назначения премьер-министра требовалось согласие парламента (Милли Меджлиса), но из той же статьи вытекало, что данная процедура не имеет особого значения, поскольку после трехкратного отклонения парламентом предложенных кандидатур президент мог назначить премьера и без согласия депутатов (российская Конституция 1993 года требовала, чтобы глава государства при этом еще и распускал нижнюю палату парламента). Судей высших судов и генерального прокурора президент также назначал с согласия парламента, но и эта сдержка не играла особой роли при наличии послушного Милли Меджлиса. Сходство с президентско-парламентской республикой было тут чисто внешним, скорее даже мнимым.
Кроме того, президент получил право создавать центральные и местные органы исполнительной власти (статья 122 Конституции Азербайджана), а также назначать всех глав исполнительной власти городов и районов (статья 139).
Используя новые полномочия, Гейдар Алиев постепенно установил контроль над СМИ и обеспечил полное доминирование в Милли Меджлисе пропрезидентской партии «Новый Азербайджан». На парламентских выборах 1995 и 2000 годов она получала подавляющее большинство голосов.
Возможности для легальной оппозиционной деятельности были постепенно сведены к минимуму.
В 2003 году в ходе очередной президентской кампании Алиев был выдвинут в качестве кандидата наряду со своим сыном Ильхамом, но вскоре отказался от участия в кампании в пользу последнего. Таким образом, вопрос о преемнике был решен на основе квозимонархической традиции — перехода власти по наследству в рамках формально республиканской формы правления (как в Сирии и КНДР). В результате Ильхам Алиев продолжил политическую линию своего отца.
В Беларуси после принятых в 1989 году конституционных поправок, расширивших права парламента, был избран Верховный совет — последний представительный орган советской эпохи. В новых политических условиях активизировали свою деятельность различные партии и общественные движения. Обозначились и политические полюса: компартии, принявшей новую программу и говорящей о своем обновлении, противостояли различные националистические и демократические группы. Но, как выяснилось, значительная часть населения Белоруссии готова была проявить интерес и к какой-то третьей силе, учитывающей недостатки двух основных. В начале апреля 1991 года Минск оказался потрясен массовыми выступлениями рабочих ряда заводов, занявших на несколько дней центральную площадь столицы Беларуси. Главной причиной протеста считалось резкое повышение цен на продовольственные товары. Но в значительной мере протест оказался направлен против действующей власти — структур компартии. Их обвиняли в косности и консерватизме, в неспособности проводить реформы и в коррупции. Выяснилось, что массовое протестное движение не было связано ни с одной из действующих политических группировок.
В марте 1994 года была принята новая Конституция Беларуси. Она установила, что президент является главой государства и главой исполнительной власти (статья 95), самостоятельно образующим кабинет министров. Однако назначать премьер-министра, его заместителей и еще шесть ключевых министров президент мог только с согласия Верховного совета. Последний также получил полномочия по назначению судей всех высших судов и генерального прокурора (статья 83).
На первых же президентских выборах в июне 1994 года неожиданную победу одержал бывший председатель совхоза Александр Лукашенко, получивший (во втором туре) около 80% голосов избирателей и опередивший как премьер-министра Вячеслава Кебича, связанного с компартией, так и Зенона Позняка, представлявшего Белорусский народный фронт. Можно предположить, что многие избиратели действительно рассматривали Лукашенко как некую третью силу, способную и восстановить в какой-то форме союзное государство, и сохранить демократию (какое-то время Лукашенко был одним из лидеров фракции «Коммунисты за демократию»).
Новоизбранный президент почти сразу же вступил в конфликт с Верховным советом. Его раздражала зависимость от парламента в вопросах назначения важнейших министров и в законодательном процессе. При этом о явных идеологических расхождениях между сторонами конфликта говорить было трудно. Обе стороны противопоставляли себя «радикальным», «прозападным» демократам из Народного фронта и в образе советского недавнего догорбачевского прошлого находили все больше светлых сторон. И президент, и Верховный совет выражали при этом готовность к назревшим рыночным реформам. Но Лукашенко делал акцент (скорее всего, немного лукавя) на возможность восстановления единого государства с Россией, в то время как Верховный совет представлял себя твердым защитником суверенитета страны. Более важно, впрочем, было то, что депутаты просто в силу своего статуса отстаивали принцип разделения властей и важную роль парламента в выработке политики государства. Напротив, президент вполне определенно стремился к созданию политического режима личной власти, в котором парламенту отводилась сугубо декоративная роль. Избирателям данная цель преподносилась как создание сильной власти, необходимой Беларуси для проведения реформ.
Поставленную самому себе задачу Лукашенко решил с помощью референдума, проведенного в ноябре 1996 года. На всенародное голосование были вынесены поправки в Конституцию, фактически позволявшие установить диктаторскую власть президента. Однако Конституционный суд Беларуси признал такой порядок внесения конституционных поправок не соответствующим Основному закону. Но Лукашенко проигнорировал решение суда. Верховный совет тут же выдвинул против него обвинение в нарушении Конституции и инициировал процедуру отрешения от должности.
Для разрешения спора между президентом и парламентом прибыла представительная делегация из России, где подобный конфликт несколькими годами раньше привел к уличным боям и сотням жертв. Председатели обеих палат российского парламента убеждали белорусских коллег найти компромисс. Им был предложен «нулевой вариант»: президент должен был признать, что результаты референдума носят исключительно консультативный характер, а Верховному совету предлагалось остановить процедуру отрешения от должности. После этого стороны должны были образовать комиссию по выработке поправок к Конституции. В результате тяжелых переговоров Лукашенко и руководство Верховного совета согласились на данный вариант. Однако парламентское большинство проголосовало против него, сочтя компромисс предательством.
Несговорчивость обошлась депутатам дорого. Референдум все равно состоялся и принес успех президенту — он вопреки Конституции получил возможность изменять ее главные нормы. Магические слова «сильная власть», подкрепленные харизмой энергичного лидера, дали нужный эффект. Как и в Азербайджане, немалая часть избирателей поддалась соблазну передать всю полноту власти в чьи-то сильные руки.
Белорусский конфликт ветвей власти, равно как и подобный, хоть и имевший свои особенности конфликт в России, стал яркой иллюстрацией одной из характерных слабостей молодых демократий. Соперничающие политические силы, сосредоточенные в разных ветвях власти, должны были решать достаточно сложные задачи по распределению властных полномочий и в этой ситуации не демонстрировали способности к диалогу и компромиссам. Излишняя категоричность парламентов обходилась дорого парламентаризму как таковому. Президентская власть, контролировавшая силовые структуры, брала верх и навязывала государству тот или иной вариант президенциализма, а по сути, мостила дорогу авторитарному режиму.
Выиграв референдум, Лукашенко сформировал из лояльных депутатов Верховного совета новый двухпалатный парламент. Его верхняя палата оперативно назначила предложенных президентом новых судей Конституционного суда. А те в свою очередь не менее оперативно признали конституционными все действия президента и, соответственно, неконституционными — решения Конституционного суда прежнего состава.
Верхняя палата парламента Беларуси получила право назначать всех судей высших судов и генерального прокурора, но уже по представлению президента. С нижней палатой он должен был согласовывать лишь кандидатуру на пост премьер-министра (а не шести министров, как ранее). Но выражение палатой несогласия могло дорого обойтись ей самой — президент имел право в любом случае назначить того кандидата, которого хотел, распустив при этом палату. Вполне по образцу российской Конституции. Президент также получил право на издание декретов, имеющих силу законов.
С 1997 года глава белорусского государства уже не встречал никаких препятствий в построении режима личной власти. Без проблем подчинив себе крупнейшую государственную телерадиокомпанию НГТРК, он установил плотный политический контроль и над печатными изданиями. У оппонентов Лукашенко почти не осталось каналов для выражения своих мнений. Любая критика президента теперь была связана с серьезными рисками. Широкий резонанс получили случаи бесследных исчезновений ряда политиков и журналистов (В. Гончара, Ю. Захаренко, Д. Завадского), решившихся поставить под сомнение курс авторитарного лидера. Обстоятельства этих исчезновений так и остались до конца не выясненными.
Политическая жизнь в стране оказалась под жестким контролем спецслужб. Нескольким разрешенным политическим партиям была отведена чисто декоративная роль. Сам президент предпочитал выступать с надпартийных позиций, а поддержка большинства депутатов обеих палат была ему в любом случае гарантирована. Протесты отдельных политических групп против авторитарного правления, как правило, не находили массовой поддержки. После всплеска общественной активности в начале 1990-х годов белорусским обществом снова овладела апатия.
Как отмечал Е. Мачкув, «сегодня слабое гражданское общество Беларуси составляют исключительно представители западно-ориентированной интеллигенции, которая сталкивается с большими трудностями при попытках мобилизовать белорусский народ. Не закончившееся формирование нации еще больше способствует тому, что слабые автономные общественные силы составляют в лучшем случае анклавы в находящемся в сильной зависимости от государства обществе»[27].
В Казахстане после стихийных митингов в Алма-Ате в ноябре 1986 года в связи с назначением первым секретарем ЦК КП Казахстана варяга Г. Колбина политическая жизнь развивалась достаточно спокойно. Нурсултан Назарбаев поначалу совмещал позицию первого секретаря ЦК компартии Казахской ССР с должностью президента республики. На эту должность он был избран согласно обновленной Конституции Казахской ССР в 1990 году на сессии республиканского Верховного совета. Позже он отказался от партийного поста и принял участие в первых прямых выборах президента Казахстана. Конкурентов у него не было, выборы были безальтернативными.
Назарбаев в полной мере использовал возможности партийного и государственного аппарата и лояльных СМИ, чтобы укрепить свой авторитет и усилить персональную власть. Но все же определенная часть казахского политического сообщества, в том числе депутаты Верховного совета, избранного в 1990 году на волне демократизации, готова была оппонировать курсу на построение авторитарного государства. Главным предметом полемики парламентской оппозиции с главой государства была стратегия экономических реформ. На самом же деле очевидный ключевой вопрос состоял в возможности ведения в Казахстане реального политического диалога и в существовании условий для политической конкуренции. В этот период в стране активизировались самые разные общественно-политические силы. На фоне экономического кризиса шла структуризация политического спектра.
В этих условиях в 1992 году Верховный совет Казахстана подготовил проект новой конституции страны. Формально президент участвовал в этом процессе, но его, судя по всему, уже сильно раздражало усиление парламента. Противоречия между ветвями власти в Казахстане очень напоминают аналогичную ситуацию в России в 1992–1993 годах, но все же не во всем. В отличие от парламентского большинства российского Съезда народных депутатов Верховный совет Казахстана, в принципе, поддерживал президента, критикуя его лишь по некоторым частным вопросам, и при этом играл самую активную роль в принятии новой конституции. Ее проект был вынесен на обсуждение в конце 1992 года и уже в январе 1993-го принят на сессии Верховного совета. Новая Конституция Казахстана предусматривала смешанную форму правления. Президент, обладающий статусом главы государства и главы исполнительной власти, имел полномочия назначать премьер-министра, его заместителей и нескольких ключевых министров с согласия однопалатного Верховного совета. Президент также представлял Верховному совету кандидатуры на должности судей высших судов и генерального прокурора. Кабинет министров был ответствен перед президентом. Конституция также предусматривала пост вице-президента, выполняющего по поручению президента отдельные его функции.
В целом эта схема выглядела вполне сбалансированной, но, вероятно, у президента Назарбаева было на этот счет свое мнение, которое он обозначил далеко не сразу. Полномочия Верховного совета истекали в 1995 году, однако вскоре после принятия новой Конституции политическая ситуация в стране изменилась. Сначала один из районных представительных органов — Советов (Алатаусский) объявил в ноябре о самороспуске. Потом его примеру последовали представительные органы других районов Казахстана. Депутаты этих органов слагали полномочия и призывали к самороспуску Верховный совет. В этой ситуации вполне можно усмотреть влияние событий в России в сентябре — октябре 1993 года, когда конфликт между ветвями власти закончился бойней в центре столицы, прекращением действия Конституции и роспуском всех представительных органов власти в регионах. Применительно к Казахстану трудно было представить, что массовая акция самороспуска была самостоятельной и не являлась частью стратегии президента страны.
В декабре 1993 года 200 из 360 депутатов Верховного совета Казахстана сложили свои полномочия, а перед этим парламент принял закон о временном делегировании ряда наиболее важных полномочий президенту. Главным из этих полномочий было право издавать указы, имеющие силу закона.
В марте 1994 года был избран новый состав Верховного совета Казахстана. Как и в предшествующем созыве, в нем был представлен достаточно широкий спектр политических сил, в том числе и фракция «Прогресс», оппонирующая по некоторым вопросам президенту. Например, по вопросу об отношениях с Международным валютным фондом. Ряд позиций данной фракции получил поддержку большинства депутатов, когда в мае 1994 года парламент принял заявление о недоверии социально-экономической политике правительства. Спустя несколько месяцев он потребовал отставки правительства.
Реакция президента не заставила себя долго ждать. В марте 1995 года от одного из кандидатов в депутаты, не прошедших в парламент, поступила жалоба в Конституционный суд республики, в которой указывалось на то, что деятельность Избирательной комиссии Казахстана в ходе выборов и при подсчете голосов противоречила ряду положений Конституции страны. Рассмотрев материалы дела, Конституционный суд полностью поддержал позицию заявителя. Сразу после этого в Конституционный суд с официальным запросом обратился президент. Его интересовало, означает ли данное судебное решение, что: 1) результаты выборов в Верховный совет признаются недействительными; 2) полномочия депутатов прекращаются и 3) закон о временном делегировании президенту полномочий парламента продолжает действовать. На все указанные вопросы Конституционный суд ответил положительно, после чего Верховный совет был распущен.
14 марта 1995 года группа из 130 депутатов во главе с известным казахским писателем Олжасом Сулейменовым обратилась к своим избирателям и парламентам мира с посланием. В послании говорилось, что предусмотренных Конституцией правовых оснований для роспуска парламента у президента не было и что решение Конституционного суда носило исключительно политический, а не правовой характер. Депутаты заявляли также о том, что действия президента и Конституционного суда являлись совместной политической акцией, целью которой было перераспределение полномочий в пользу главы государства[28].
Но оппоненты президента Назарбаева оказались бессильны. Спустя месяц в Казахстане прошел референдум, результатом которого стало продление полномочий главы государства без выборов до 2000 года. Получив общенародную поддержку, президент не стал дожидаться избрания нового парламента и предложил для обсуждения проект новой конституции, которая была принята на еще одном референдуме, прошедшем в августе 1995 года. А в те несколько месяцев, когда в стране не было парламента, президент издавал указы, имевшие силу законов.
А. Медушевский назвал произошедшее «мягким конституционным переворотом», отметив, что «эволюция конституционного законодательства в направлении авторитаризма шла не в последнюю очередь за счет активного использования указного права»[29]. Разделяя эту оценку казахских событий 1995 года, другой исследователь, А. Куртов, охарактеризовал их следующим образом: «Политический режим, столь усердно конструируемый долгие годы, сумел адаптироваться к новой системе координат, свойственных обществу переходного типа, и обрел определенную устойчивость. Этот режим сумел достаточно безболезненно для себя инкорпорировать отдельные элементы, присущие демократической форме правления, переработать и видоизменить их, приспособив для потребностей авторитарной по своей сути системы власти одного человека — Президента государства»[30]. Таким образом, была решена «коренная проблема» власти на Востоке — утверждена незыблемость положения центральной фигуры на политическом Олимпе.
В 1996 году был проведен очередной референдум, в результате которого в 13 статей недавно принятой Конституции были внесены 19 поправок. В частности, Конституционный суд, столь активно содействовавший президенту в разрешении кризиса в его пользу, был заменен Конституционным советом, а срок полномочий президента был продлен до семи лет. Примечательно, что лидер Казахстана пользовался институтом референдума столь же активно, как и десятилетием раньше диктатор Маркос на Филиппинах.
Формально Конституцией Казахстана 1995 года с учетом всех поправок была введена «полупрезидентская» форма правления, которая, однако, обеспечивала полный контроль президента над исполнительной властью. Парламент стал двухпалатным. Глава государства назначал премьер-министра с согласия нижней палаты парламента (Мажилиса), но при этом Конституция не предусматривала никаких правовых последствий в случае несогласия палаты с кандидатурой, предложенной президентом. Зато президент получил право роспуска обеих палат парламента без перечня конкретных оснований для этого решения.
После этого президент Назарбаев уже не встречал какого бы то ни было сопротивления в процессе выстраивания авторитарного режима. Демократические институты, формально установленные Конституцией, выполняли в основном декоративную роль. В том числе это относилось к политическим партиям. Когда какая-то партия пыталась выйти за рамки этой роли, она под тем или иным предлогом устранялась с политической сцены. Подобная судьба постигла, например, Республиканскую народную партию, Объединенную демократическую партию и Коммунистическую партию Казахстана.
До того как в 2010 году Назарбаев получил официальный титул «Первого Президента Республика Казахстан — Лидера Нации», он еще дважды, в 1999 и 2005 годах, переизбирался на пост президента...
Формированию авторитарного режима в Таджикистане предшествовали примерно пять лет тягостной гражданской смуты. В том числе почти целый год полноценной жестокой гражданской войны. Как известно, в условиях политического хаоса общество особенно остро ощущает нужду в общественном спокойствии и стабильной власти. Таджикистан, вероятно, может служить иллюстрацией этой истины, хотя путь к авторитарному режиму в этой стране тоже состоял из нескольких этапов.
Важнейшими факторами острого общенационального конфликта в Таджикистане следует считать накопившиеся противоречия между региональными кланами (ленинабадским, кулябским, памирским, бадахшанским, чиссарским и др.), а также сильное влияние радикальных исламистов.
Осенью 1990 года был учрежден пост президента Таджикской ССР, избрание которого по союзному образцу было возложено на Верховный совет. Первым президентом стал глава республиканской компартии Кахар Макхамов. Но уже меньше чем через год он растерял все свое влияние и был смещен. В это же время в Конституцию Таджикской ССР внесли очередную порцию поправок, в том числе поправку о прямых выборах президента. На этих выборах также победил представитель старой партийной номенклатуры Рахмон Набиев, продержавшийся на своем посту менее года.
Политическая обстановка в республике была крайне накалена. Представители ряда регионов страны и лидеры оппозиционных партий (в частности, Демократической и Партии исламского возрождения) считали, что их интересы при формировании власти не учтены. Поэтому второй президент также был вынужден уйти в отставку, а в стране начались столкновения между группировками, представлявшими различные кланы. Вскоре столкновения переросли в полномасштабную гражданскую войну. В результате одна из группировок, связанная с кулябским кланом и поддержанная частями регулярной армии Узбекистана, постепенно взяла верх. В ноябре на заседании Верховного совета, проходившем в Худжанде, представитель этого клана Эмомали Рахмонов был избран председателем парламента (фактически главой государства). В декабре 1992 года его группировка взяла под контроль Душанбе. Правда, это была еще не полная победа, и контроль над всей территорией страны не был установлен.
В 1994 году одновременно состоялись президентские выборы и референдум по принятию новой Конституции. Конституция была принята, и Рахмонов стал президентом. В этой новой Конституции, так же как и в казахской Конституции, можно было найти немало заимствований из Конституции России 1993 года. Парламент (согласно статье 55) получил право утверждать указ президента о назначении и освобождении от должности премьер-министра. Но о последствиях неутверждения такого указа не говорилось ничего. Парламент также получил право назначать по представлению президента судей высших судов и генерального прокурора. Первоначально Конституция содержала и запрет на избрание одного и того же лица на пост президента более двух раз подряд.
Но общий тренд в развитии общественно-политической жизни страны не был еще вполне ясен. Сохранялись варианты. После тяжелого и долгого переговорного процесса в 1994–1997 годах сторонам конфликта удалось выработать компромисс. В политической жизни еще какое-то время присутствовали два субъекта — президент и парламент. И ни один из них еще не обладал монополией на власть. Наибольшие споры вызывала статья Конституции о светском характере государства. Рахмонов и его клан защищали эту норму, а оппозиция требовала ее отмены, хотя и не ставила при этом вопрос о создании религиозного государства.
Однако в течение следующего десятилетия ситуация изменилась. Из правительства и парламента постепенно были удалены почти все представители оппозиции. Договоренности, достигнутые в 1997 году, фактически перестали действовать. Условия для ведения любой оппозиционной деятельности оказались предельно затруднены. Группировка Рахмонова постепенно установила контроль над крупнейшими СМИ.
Под монополизацию власти одной группировкой была подведена и конституционная база. В 1999 году парламент страны стал двухпалатным, и его роль была ослаблена примерно по той же схеме, что и в Беларуси. Верхняя палата, к которой перешла часть полномочий, стала формироваться на смешанной назначаемо-представительной основе. Срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, и в конце 1999 года Рахмонов был избран президентом уже на семилетний срок.
В 2003 году был проведен очередной референдум, по итогам которого была «уточнена» норма о запрете на занятие президентского поста более двух сроков подряд. Теперь, согласно Конституции, она вступала в силу только по истечении текущего срока полномочий президента.
Таким образом, в 2006 году Рахмонов получил право в третий раз избираться на президентский пост и воспользовался этой возможностью. К этому времени его режим уже приобрел все основные признаки авторитарного. Конституционная основа служила для этого важным условием. В частности, президент получил право назначать одну четвертую часть членов верхней палаты парламента (Маджлисси милли), а также назначать и освобождать от должностей руководителей областей, городов и регионов. Нужно отметить, что все эти лица одновременно являлись главами местных органов власти (хукуматов) и местных представительных органов, которым Конституцией было предоставлено право избирать три четверти членов верхней палаты. Президент же назначал премьер-министра и других членов правительства. Парламент на совместном заседании палат лишь утверждал указы об этих назначениях (статья 55). Как и прежде, последствия отказа палаты утвердить президентский указ Конституцией никак не были оговорены. Никто не знал, что будет, если нижняя палата однажды его не утвердит. Но поскольку начиная с конца 1990-х годов президентом и его партией был установлен полный контроль над парламентом, данный вопрос остается пока сугубой абстракцией.
В последующие годы правящая группа во главе с Рахмоном, изменившим свою фамилию в связи с отказом от закона, предусматривавшего существенную роль русского языка, полностью устранила с политической арены оппонентов из Партии исламского возрождения Таджикистана и в 2015 году просто запретила эту партию. Был еще больше ужесточен контроль над средствами информации и закрыты издания «Нигох» и «Таджньюс».
В Туркменистане должность президента республики появилась в Конституции Туркменской ССР также в октябре 1990 года. Любопытно, что в отличие от других советских республик Средней Азии в Туркменской ССР выборы президента были прямыми. Президентом стал первый секретарь ЦК компартии республики Сапармурад Ниязов — единственный кандидат, получивший, согласно данным Центральной избирательной комиссии, более 98% голосов. Спустя год, в октябре 1991-го, в стране прошел референдум о независимости Республики Туркменистан.
Новая Конституция была принята раньше, чем в других государствах — бывших республиках Союза ССР, — в мае 1992 года. Она включила в себя все важнейшие демократические положения, которые можно встретить и в других постсоветских конституциях. Следует отметить лишь, что с теоретической точки зрения в этой Конституции была наиболее последовательно реализована конструкция президентской республики. В ней вообще не была предусмотрена должность премьер-министра, поскольку президент одновременно является и главой государства, и главой исполнительной власти, осуществляя непосредственное руководство кабинетом министров. Поэтому согласованию с парламентом (меджлисом) Туркменистана подлежат только кандидатуры на должности министра внутренних дел, министра адалат (юстиции), а также председателя Верховного суда и генерального прокурора. Но даже при таком разграничении полномочий Конституция Туркменистана, как в Казахстане и Узбекистане, играла и играет в основном декоративную роль.
Сапармурад Ниязов достаточно быстро выстроил режим личной власти, полностью подчинив своим личным нуждам государственный аппарат и устранив не только всех возможных конкурентов, но и любые намеки на конкуренцию. В июне 1992 года он снова, будучи единственным кандидатом, победил на президентских выборах, получив, по официальным данным, уже более 99% голосов избирателей. В январе 1994 года состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о продлении срока президентских полномочий Ниязова до 2002 года. Официальные результаты снова показали, что за продление этого срока выступают около 99% избирателей.
Но до выборов дело не дошло. В 1999 году предусмотренный Конституцией Туркменистана высший представительный орган Халк маслахаты (работающий на непостоянной основе) объявил Ниязова пожизненным президентом республики, в связи с чем отменил конституционную норму, запрещающую занимать президентский пост более двух сроков подряд.
В годы правления Ниязова в стране сформировался политический режим, который по ряду признаков мог бы быть охарактеризован как тоталитарный, или, по классификации X. Линца, султанистский. Он в полной мере воплотил в себе черты восточной деспотии: абсолютную власть верховного правителя, культ его личности, близкий к обожествлению, жесткий контроль за всеми проявлениями общественной жизни, влиятельный и всепроникающий бюрократический аппарат. Туркменистан долгое время оставался единственным государством на постсоветском пространстве, сохранившим однопартийную систему. Две дополнительные декоративные партии были созданы только после принятия закона о политических партиях в 2012 году. Но значение доминирующей Демократической партии Туркменистана и ее аппарата было невелико. Ниязов установил режим абсолютной личной власти, в котором правящая партия была лишь одним из инструментов.
Отличительной особенностью Туркменистана является то, что в этой стране с самого начала независимости была установлена государственная идеология, важнейшим источником которой стал труд вождя «Рухнама». Суть этой идеологии — обоснование безусловной неограниченной власти вождя, а также патриархальных ценностей.
После смерти Ниязова в 2006 году изучение «Рухнамы» в качестве обязательного предмета в школах продолжалось еще семь лет. Ее изучение и соответствующий экзамен при поступлении в университеты Туркмении были отменены только в 2014 году.
В период президентства Гурбангулы Бердымухамедова в Конституцию были внесены поправки и сам политический режим был несколько скорректирован. В частности, было решено отказаться от конструкции Халк маслахаты, состоявшего более чем из двух тысяч депутатов и игравшего роль, подобную той, что играли съезды народных депутатов в последние годы Союза ССР. Был, как уже говорилось, принят и закон о политических партиях и увеличено (с 65 до 125 человек) число депутатов меджлиса — постоянно действующего законодательного органа.
Но, как отмечает А. Медушевский, «предложенные реформы... нельзя определить как переход к правовому государству. Их значение состоит на данном этапе в рационализации авторитаризма. Такое решение заставляет вновь заговорить о мнимом конституционализме, который в разных вариантах был неоднократно востребован в государствах региона. Специфика Туркменистана в том, что государственное правление в этой стране продолжает сохранять клановый характер»[31].
Говорить о реакции гражданского общества на установление весьма жесткого политического режима, по ряду признаков сопоставимого с тоталитарным, довольно трудно вследствие недостатка информации. Но известно, что в конце 2002 года в Туркменистане произошла попытка государственного переворота. Заговорщики, по словам одного из их лидеров, экс-министра иностранных дел Бориса Шихмурадова, готовили массовые протестные выступления граждан страны в Ашхабаде, Чарджоу и Ташаузе. Было создано оппозиционное Народно-демократическое движение Туркменистана. Шихмурадов и его сторонники были обвинены в подготовке покушения на жизнь Ниязова и осуждены к пожизненному заключению. Более достоверная информация об их судьбах до сих пор отсутствует.
Лидер Узбекистана Ислам Каримов шел к созданию своего авторитарного режима примерно тем же путем, что и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 1990 году он совмещал пост первого секретаря ЦК компартии Узбекистана с должностью президента республики еще в рамках Конституции Узбекской ССР 1978 года. Затем в декабре 1991 года, уже на прямых выборах, он был избран президентом, причем у него был соперник — Мухаммад Салих из партии «Эрк», получивший 12,3% голосов.
В декабре 1992 года в Узбекистане была принята новая Конституция. Поскольку она разрабатывалась в пору, когда авторитарный режим еще не сформировался, в ее положениях можно найти ряд норм, связывающих состав правительства с результатами выборов. Формально Конституцией была также предусмотрена президентско-парламентская республика, подразумевающая, что президент должен согласовывать кандидатуру премьер-министра с парламентом. Но, согласно ее статье 98, кандидатура премьер-министра Республики Узбекистан могла быть предложена только политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в нижнюю палату парламента (Олий Мажлис), или несколькими политическими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест. После рассмотрения представленной кандидатуры президентом Республики Узбекистан он в десятидневный срок должен был внести ее на рассмотрение и утверждение в обе палаты Олий Мажлиса.
Предусмотрен был Конституцией и вотум недоверия премьер-министру. Но процедура его была крайне сложной: вотум считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из палат. Новая кандидатура премьер-министра для представления в палаты парламента на рассмотрение и утверждение должна была предлагаться президентом после соответствующих консультаций со всеми фракциями политических партий. Правда, в случае двукратного отклонения Олий Мажлисом кандидатуры на должность премьер-министра президент мог сам назначить исполняющего обязанности премьер-министра и распустить обе (!) палаты. Примечательно, что, согласно статье 78 Конституции, основные направления внутренней и внешней политики определяли палаты парламента, а не глава государства.
Впрочем, весь этот конституционный дизайн не имел никакого практического значения. Ислам Каримов почти сразу дал понять, что никакой реальной политической конкуренции не потерпит.
В Верховном совете Узбекистана в эти годы не сформировалось сколь-нибудь серьезных оппозиционных фракций, и Каримову не пришлось принимать каких-то экстраординарных мер, подобных тем, что были изобретены в соседнем Казахстане. Однако в течение всего времени президент Узбекистана постоянно встречал серьезное сопротивление радикальных исламистов. Их структуры изначально были нацелены скорее на вооруженную борьбу, нежели на участие в выборах в парламент. Хотя в любом случае им вряд ли была бы предоставлена возможность легальной политической деятельности. В то же время эти силы были хорошо структурированы уже в начале 1990-х. К ним, в частности, относились такие организации, как Адолат уюшмаси (Общество справедливости), Исламская партия Возрождения, Исламская партия Туркестана, «Ислом Лашкарлари» («Воины Ислама») и др. В середине 1990-х годов они образовали Исламское движение Узбекистана. Все эти организации были запрещены, некоторые из них принимали участие в гражданской войне в Таджикистане на стороне Объединенной таджикской оппозиции.
В 1995 году с помощью общенационального референдума Каримов продлил свои полномочия и в январе 2000 года был избран президентом республики во второй раз.
Ужесточение политического режима сторонники Каримова нередко объясняли необходимостью борьбы с радикальными джихадистами. В мае 2005 года в Андижане произошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся захватом заложников и применением оружия. Эти акции были вызваны недовольством судебным процессом над группой местных предпринимателей, которых обвиняли в участии в радикальных исламских группировках. В итоге в Андижан были переброшены войска, которые открыли огонь по митингующим. Волнения удалось подавить, и их причины Каримов свел исключительно к проискам радикалов и экстремистов.
Хотя, безусловно, в значительной мере недовольство жителей Ферганской долины, как и других регионов, было обусловлено крайне низким уровнем жизни (сравнимым с нищетой) и бесправием.
После этих событий был серьезно ужесточен политический режим и контроль над СМИ. Столь же серьезный надзор осуществлялся за деятельностью любых общественных организаций и тем более политических партий. Вообще, партийная система Узбекистана, как и в соседнем Казахстане, носила и носит декоративный характер. В этой связи трудно говорить о какой бы то ни было реальной политической жизни в стране.
После смерти Каримова в 2016 году и перехода власти к Шавкату Мерзиёеву характер политического режима не изменился.
В первую очередь следует остановиться на вопросе о судьбе норм, запрещавших занимать должность президента более двух раз подряд. Такие нормы были включены в конституции почти всех постсоветских государств, за исключением тех, что избрали для себя в качестве формы правления парламентскую республику. Однако в тех странах, где власть главы государства постепенно приобрела авторитарный характер, данное ограничение либо игнорировалось через изобретение формальных отговорок, либо было вообще отменено.
В Казахстане это ограничение, предусмотренное пунктом 5 статьи 42 Конституции, было предметом толкования Конституционного совета и в конечном счете осталось в тексте, скорее всего, по желанию самого главы государства Нурсултана Назарбаева. Но оно не имело ровно никакого значения для него самого. Как уже говорилось, в 2010 году он получил титул Лидера Нации (Ел Басы) и право избираться президентом столько раз, сколько ему будет угодно.
В Узбекистане в Конституции 1992 года после принятия ее девятой редакции норма о запрете занимать президентскую должность более двух сроков подряд тоже сохранилась. И тоже не сыграла никакой реальной роли, поскольку сама Конституция все это время оставалась лишь декорацией. Авторитарный опыт Узбекистана интересен, пожалуй, лишь тем, что глава государства, выдвинув вопреки Конституции свою кандидатуру в третий раз подряд на президентских выборах 2007 года, не потрудился предложить для этого какого-либо, даже чисто формального обоснования. А контролируемые государством СМИ не решились коснуться этой темы.
В Таджикистане для сохранения и реализации указанной нормы-ограничения имелись, казалось бы, более веские основания, чем у соседних государств. Как отмечалось выше, правящая партия, а точнее, правящий клан и его лидер Рахмонов некоторое время вынуждены были мириться с существованием вполне реальной легальной оппозиции, выражавшей взгляды противников правительственной армии в ходе двухлетней гражданской войны. Но в течение примерно 6–7 лет после ее окончания ситуация изменилась. В июне 2003 года на референдуме было принято решение о том, что конституционная норма, ограничивающая полномочия президента двумя сроками, начинает действовать после прекращения полномочий действующего президента. К этому времени Эмомали Рахмонов (Рахмон) находился у власти уже 11 лет. После референдума он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах еще несколько раз, но уже не испытывая проблем с конкурентами. В 2016 году данная норма-ограничение в результате референдума была вообще устранена из Конституции.
В Туркменистане статья, запрещавшая избираться на пост президента более чем на два срока подряд, была отменена парламентом через семь лет после принятия Конституции. К этому времени авторитарный режим Сапармурата Ниязова уже вполне оформился и по ряду признаков был неотличим от тоталитарного.
Президент Беларуси Александр Лукашенко лично инициировал проведение референдума об отмене конституционного ограничения на свое бесконечное переизбрание через восемь лет после принятия Конституции и через 10 лет после своего прихода к власти. Вопрос, вынесенный на референдум, звучал весьма специфически: «Разрешаете ли вы первому президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в выборах президента республики Беларусь?» Естественно, почти 80% счастливых и благодарных избирателей Беларуси поддержали «батьку» и разрешили ему выдвигаться в третий раз. После чего он, уже без спроса, становился президентом и в четвертый, и в пятый раз.
Конституция Азербайджана 1995 года также содержала норму, ограничивающую пребывание одного лица в президентской должности двумя сроками подряд. Референдум по вопросу об ее отмене был инициирован в 2009 году третьим по счету президентом страны Ильхамом Алиевым, но первым, столкнувшимся с проблемой третьего срока. Проблема была решена по белорусскому сценарию — в результате референдума указанная норма-ограничение была из Конституции исключена.
Обеспечив несменяемость собственной власти, Алиев позаботился и о сохранении власти своего семейного клана — в 2013 году после введения должности первого вице-президента он назначил на эту должность свою супругу Мехрибан Алиеву.
Двадцатипятилетний опыт формирования и функционирования на территории бывшего СССР семи авторитарных режимов позволяет сделать некоторые обобщения.
Важным конституционно-правовым условием формирования авторитарных постсоветских режимов, как правило, служило создание формы правления, обеспечивающей сосредоточение всего объема политической власти в руках одного лица. Внешне эти формы правления могли иметь сходство с президентской республикой (как в Туркмении или Азербайджане) или смешанной президентско-парламентской республикой (как в Узбекистане, Казахстане, Российской Федерации), но фактически они являлись диктатурами (более или менее жесткими) одного лица, опирающимися на ангажированный бюрократический слой. Конституционная основа подобных диктатур могла формироваться не сразу и в некоторых случаях была результатом открытого давления президента на парламент или даже результатом борьбы с ним — как в Российской Федерации, Беларуси и Казахстане. Но во всех случаях целью было создание той или иной формы президенциализма — положения, при котором глава государства становился центральной фигурой в государстве, действующей фактически без контроля и ограничений.
В некоторых странах легитимизация данной формы правления осуществлялась с помощью введения искусственной двухпалатности парламентов. В условиях унитарных государств (Беларусь, Азербайджан, Казахстан и Таджикистан) эта мера выглядела крайне искусственной, но цели своей достигла — парламенты были ослаблены. При этом конституционные нормы, формально устанавливающие взаимное сдерживание властей, на деле либо недоговаривали, недоустанавливали важных правил (например, правовых последствий неутверждения парламентом предложенной президентом кандидатуры), либо предусматривали неадекватные меры конституционной ответственности (досрочный роспуск) палаты парламента.
Конституции, в рамках которых на постсоветском пространстве формировались и развивались авторитарные режимы, содержали, как правило, полный набор всех важнейших демократических прав, свобод и принципов (в том числе таких, как идеологическое многообразие и многопартийность). Речь идет о правах, свободах и принципах, которые не только не признавались, но и напрямую отрицались советскими конституциями. Тем не менее на практике постсоветские авторитарные режимы наглядно представляют собой различные формы возврата к советским порядкам.
Этот возврат подразумевал устранение с политического поля реальных оппонентов лидера и правящей группы. Более того, радикализм некоторых группировок служил для правящих групп удобным оправданием искоренения любой оппозиционной деятельности или сведения ее к более или менее искусной имитации. Имитационные оппозиционные партии стали одним из неотъемлемых элементов постсоветских авторитарных режимов по аналогии с опытом декоративной многопартийности коммунистических режимов в Польше и ГДР или в современном Китае. В результате при этих режимах полной имитацией становилась и деятельность парламентов.
Одним из условий выстраивания любого авторитарного политического режима на основе структур, оставшихся от прежнего тоталитарного государства, стало образование новой правящей группы — достаточно узкого сплоченного слоя бюрократии, кровно заинтересованной в сохранении авторитарного характера режима и порожденной им иерархии. В том числе иерархии в распределении благ. Существование этого бюрократического слоя было также непременным условием для передачи власти новому лидеру после смерти старого в целях обеспечения преемственности авторитарной власти.
Монополия на власть данной правящей группы, как правило, прикрывается каким-либо партийным брендом («Нур Отан» — «Свет Отечества» — в Казахстане, «Новый Азербайджан», «Единая Россия» и пр.) и находит свое отражение в монопольном контроле ее членов над наиболее важными хозяйственными активами — сырьевыми, торгово-промышленными и финансовыми.
Руководствуясь классификацией X. Линца, авторитарные постсоветские политические режимы не так-то просто развести по предлагаемым им категориям. Но среди них, безусловно, выделяется режим в Туркменистане, который достаточно логично считать вполне традиционалистским (или султанистским). Его вождям удалось достигнуть абсолютной имитации политического представительства при отсутствии даже ограниченного плюрализма. Эти вожди владели государством как своей собственностью. Туркменскому режиму присущи все основные черты режима личной власти, при котором политические оппоненты автоматически становились личными врагами главы режима и физически уничтожались. Картина достаточно неприглядная и вполне ясная.
Сложнее обстоит дело с другими постсоветскими «примерами» — режимами, которые обычно характеризуются (правда, с немалым количеством оговорок) всего лишь как популистские, хотя по всем основным признакам должны быть отнесены к жестким авторитарным.
Дополнительной идентифицирующей особенностью этих режимов является их экономическая характеристика: во всех авторитарных постсоветских государствах, включая Россию, контроль над наиболее важными экономическими активами осуществляется исключительно представителями правящих групп — то есть принцип единства власти и собственности действует в отношении обширных секторов национальных экономик. На самом деле это и есть наиболее яркое проявление авторитаризма постсоветского типа. Поначалу все без исключения постсоветские государства строили достаточно амбициозные планы по модернизации национальных экономик и радикальному повышению уровня жизни, но постепенно и планы и амбиции сошли на нет. Определенные успехи в привлечении иностранных инвестиций и развитии ряда отраслей экономики постепенно практически нейтрализованы, а первостепенной задачей стареющих лидеров становится защита собственной власти и status quo.
Глава 8
Особенности принятия действующей Конституции России
Изменения конституционного строя в период президентства Бориса Ельцина
(1994–1999 годы)
Читатели, наверное, заметили, что характеристику постсоветским авторитарным режимам мы до сих пор давали без анализа политического режима в самом большом и в прошлом системообразующем осколке Советского Союза — России. Хотя, конечно, именно этот режим является главным объектом нашего интереса, поскольку именно он и его оформление во многом стали прототипом для всех остальных потенциальных автократий на территории бывшего СССР. Впрочем, и в советское время республики в большинстве случаев копировали российскую законодательную модель и схему деловых обыкновений. Окончательно авторитарный политический режим сформировался в Российской Федерации в первое десятилетие XXI века. Достаточно длительный, многоступенчатый процесс его формирования занял несколько лет и был связан с серьезной трансформацией конституционного законодательства, в результате чего он получил достаточно полное внеконституционное нормативное оформление.
Именно эта конституционная трансформация и должна быть в первую очередь предметом специального анализа. Во избежание повторения подобных ошибок в будущем необходимо очень внимательно проследить, как, какими способами элегантный российский конституционный костюм превращался в грубую и бесформенную авторитарную робу.
Исходным пунктом анализа должна быть сама конституционная реформа 1993 года, поскольку обстоятельства рождения новой российской Конституции в немалой степени обусловили дальнейшую динамику развития политического режима.
Мы не должны забывать, что Конституция России создавалась и принималась в условиях фактического двоевластия и выросла из жесткого противостояния политических группировок, сосредоточенных в различных ветвях государственной власти — в депутатском корпусе и президентской администрации. Формально одной из причин конфликта были разногласия по поводу новой формы правления. Но на эту внешне видимую причину наслоились и другие, связанные с экономическим кризисом, распадом СССР и новым самоопределением Российской Федерации на международной арене. Кризис нашел наихудшую форму своего разрешения — вооруженное противостояние, в результате которого одной из группировок удалось подавить другую.
В ходе противостояния были насильственно распущены все представительные органы власти, приостановлена деятельность Конституционного суда, расстреляно и захвачено здание Верховного совета РСФСР и пролита кровь. В условиях действия чрезвычайного положения в столице президентским указом был назначен конституционный референдум, проведенный по специально установленным и отличавшимся от установленных законом правилам. Именно поэтому среди ученых принято говорить о «родовой травме» российской Конституции, или о «Конституции противостояния».
О чем идет речь? С одной стороны, это либеральная Конституция, сконструированная по моделям лучших демократических конституций Европы второй половины XX века. Она полностью согласована с европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. В качестве главной основы конституционного строя Конституция установила непререкаемые пределы государственного произвола — связанность государства при принятии любых решений неотчуждаемыми и непосредственно действующими правами человека. Ее философской базой являются народовластие, разделение властей, идеологический и политический плюрализм, верховенство права.
И тем не менее действующая Конституция России считается в науке одной из самых неудачных среди всех конституций, принятых в конце 1980-х — начале 1990-х годов на волне демократических революций, прокатившихся по миру. Прежде всего потому, что она состоит из двух практически несовместимых частей, которые блокируют друг друга именно в силу своей несовместимости. Речь идет о европейско-либерально-современных 1-й и 2-й и архаично-авторитарных 3–8-й главах. Сыграл свою роль и экстренный режим подготовки конституционного проекта. Именно ему обязана Конституция значительным набором юридических проблем (пробелы, дефекты, конфликтность, противоречивость, диспозитивность, правовая неопределенность и излишняя рамочность отдельных норм). Эти проблемы a priori предопределили высокую вероятность политического усмотрения при их толковании и реализации.
Конституция установила форму правления, которая строго формально может считаться «смешанной», то есть предполагающей элементы и президентской и парламентской республик. Однако в реальности данное определение, связанное с конституционным опытом настоящих демократий, к российской модели применимо не вполне. Президент — глава государства — избирается в ходе прямых выборов и самостоятельно, независимо от состава нижней палаты парламента выбирает кандидатуру на должность председателя правительства. Палата, правда, должна дать согласие на его назначение. Но это согласие может и не играть особой роли: президент может назначить в конечном счете того, кого захочет, а кроме этого, он вправе в любой момент отправить правительство в отставку. В свою очередь, Государственная Дума тоже теоретически может вынести вотум недоверия правительству, который способен привести к его отставке лишь в случае согласия на это президента. Судей высших судов и генерального прокурора назначает Совет Федерации, выбирая, однако, из тех кандидатур, которые предложит глава государства. При политической самостоятельности верхней палаты данная норма может считаться сдержкой. Но при слабом Совете Федерации прокуратура и высшие суды оказываются полностью зависимыми от главы государства.
Таким образом, данная схема изначально давала президенту значительные преимущества. Мы видели, что в ряде конституций государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, были также реализованы подобные схемы; можно предположить, что российская модель послужила образцом.
Нужно также упомянуть и о торопливой корректировке конституционного проекта, которая произошла в конце октября — начале ноября 1993 года. Следует отметить, что в работе находился проект, одобренный до этого Конституционным совещанием, то есть более или менее представительным собранием. На его заседаниях шли споры, и каждое уточнение обсуждалось. Корректировка же, имевшая место в октябре-ноябре, представляла собой уже совершенно аппаратную процедуру: она велась в закрытом режиме на основе корпоративно-политических интересов и предпочтений победившей группы. Смысл ее в значительной мере состоял в том, чтобы еще больше усилить статус главы государства. Если в июне-июле 1993 года в рамках Конституционного совещания к обсуждению проекта привлекались различные общественные силы, то спустя два месяца, в октябре-ноябре, главную роль в нем играли функционеры президентской администрации. Да, рядом ведущих специалистов были разработаны базовые конституционные положения. Но важнейшая часть текста (о разграничении полномочий между государственными органами) ваялась в недрах аппарата, который руководствовался исключительно сиюминутной расстановкой сил и интересами своего патрона.
В итоге к моменту опубликования для вынесения на референдум текст проекта был уже существенно подработан. Из него исключили норму о необходимости получения президентом согласия Думы при принятии им решения об отставке правительства, установили, что при трехкратном отклонении Думой кандидатур на должность премьера президент не может распустить Думу, но обязательно распускает ее, назначая премьером (а не просто исполняющим обязанности) свою не согласованную с Думой кандидатуру. Норму об «избрании» Совета Федерации заменили на норму о его «формировании», что позволило президенту впоследствии вести с парламентом политическую торговлю о порядке формирования верхней палаты.
Такая конструкция изначально была удобна для установления авторитарного режима. Сам по себе провозглашенный, но не подкрепленный балансом властных прерогатив принцип разделения властей не гарантирует от формирования системы политического моноцентризма. Равно как и не предопределяет с неизбежностью абсолютного доминирования лица, замещающего пост президента. Он лишь делает это возможным при стечении ряда обстоятельств. И такие обстоятельства сложились.
Первый конфликт, связанный с ограничениями, установленными Конституцией, возник уже вскоре после ее принятия. В феврале 1994 года президент и генеральный прокурор Александр Казанник разошлись в правовых оценках постановления Государственной Думы об амнистии участников событий сентября-октября 1993 года. Казанник исполнил данное постановление, но, предвидя негативную реакцию главы государства, написал заявление об отставке. Позже, однако, он передумал и решил остаться в должности, причем получил поддержку Совета Федерации. В этой ситуации президент подписал указ об отставке генерального прокурора, хотя имел право лишь обратиться с представлением к верхней палате. Другим указом был назначен исполняющий обязанности генерального прокурора. Совет Федерации отказался освобождать от должности Казанника и назначать на его место новое лицо (А. Ильюшенко). Конфликт длился больше года. Казанник в итоге все же ушел в отставку, а президент предложил Совету Федерации еще одну кандидатуру — Ю. Скуратова, который и был наконец назначен в полном соответствии с Конституцией.
Спустя четыре года возник схожий конфликт. Президент решил отправить генерального прокурора в отставку, но снова не получил поддержки Совета Федерации. Тогда глава государства издал указ о временном отстранении генерального прокурора от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. И вновь назначил исполняющего обязанности генерального прокурора, не получив санкции палаты парламента. Совет Федерации обратился в Конституционный суд, который принял сторону президента[32].
Целенаправленная корректировка конституционного строя осуществлялась лишь в одном направлении — внеконституционного расширения президентских полномочий. Первый президент России очень быстро вырос из определенных самим себе пределов власти. Ему было тесно на этом правовом поле. Президентские полномочия расширялись в основном с помощью указов. Однако следует отметить в этом процессе и роль Конституционного суда, который толковал Конституцию в основном в пользу главы государства. В данном контексте можно подробнее рассмотреть конфликт, связанный с порядком назначения председателя правительства.
Впервые глава государства отправил правительство в отставку в марте 1998 года. Правительство Черномырдина не было особенно дорого Думе. Но в процессе согласования кандидатуры нового премьера вспыхнул острый конфликт. Президент предложил кандидатуру молодого министра топлива и энергетики Сергея Кириенко. Большинство депутатов выступило против. Президент решил настаивать. Партийные фракции в Думе, дважды отказавшейся дать согласие на назначение Кириенко, давали понять, что ожидают от президента выдвижения новой кандидатуры. Но он и в третий раз выдвинул Кириенко. Очередное голосование против означало роспуск палаты. И Государственная Дума скрепя сердце дала согласие: депутаты не были готовы к роспуску за полтора года до истечения своих полномочий.
Реализация конституционной нормы выглядела как бесцеремонное принуждение — смысл слова «согласие» категорически искажался или вовсе терялся. В связи с этим группа депутатов обратилась в Конституционный суд с просьбой дать толкование Конституции. В запросе предполагалось, что часть 4 статьи 111 подразумевает представление президентом не одной кандидатуры на должность премьера, а разных в случае, если он использует все три попытки выдвижения.
И Конституционный суд в очередной раз встал на сторону президента. Прочитав слово «кандидатур» в единственном числе, он решил, что глава государства вправе предлагать все три раза одну и ту же кандидатуру на должность премьера и «настаивать на ней»[33].
В итоге президент Б. Ельцин сыграл в истории российского конституционализма противоречивую роль. Он, безусловно, полагал себя создателем и защитником демократических институтов. И действительно, такие институты, как независимые СМИ и политические партии, получили развитие именно в годы его президентства (показательно, что все три кампании по выборам в Государственную Думу, состоявшиеся в этот период, заканчивались победами оппозиционных партий). При нем получил закрепление принцип выборности губернаторов. Первый президент буквально видел свою миссию в укоренении в России демократии. Но одновременно некоторые его личные качества — импульсивность, авторитарность — препятствовали доведению реформ до их логического конца. Кроме того, значительная часть российского политического сообщества и бюрократического аппарата, в принципе, всегда была готова поддержать усиление президентской власти. И в конечном счете данный фактор сыграл весьма важную роль в дальнейших изменениях политического режима.
Глава 9
Инволюция конституционного строя России за последние 15 лет
Контрреформы 2000–2015 годов
Для характеристики трансформации конституционного строя России мы используем понятие «инволюция», означающее обратное развитие или переход к прежнему состоянию, поскольку оно наиболее точно передает суть изменений, произошедших в конституционной сфере. Практически сразу с приходом к власти Владимира Путина и его команды началась политика контрреформы, сутью которой было восстановление некоторых институтов, характерных для советского режима. Речь идет о воссоздании доминирующей политической партии, декорирующей неограниченную власть правящей группы и первого лица, об установлении контроля этой группы над средствами массовой информации (прежде всего над федеральными телеканалами) и неформальном введении политической цензуры, о подчинении судов исполнительной власти и т. п. С этой задачей — переформатированием конституционных смыслов, определяющих цели и методы внутренней политики, удалось успешно справиться в течение первой каденции ельцинского преемника.
Уже 13 мая 2000 года был принят указ № 849 «О полномочном Представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»[34], которым фактически были изменены характер федеративных отношений и территориальное деление Российской Федерации. Спустя несколько месяцев был издан указ «О Государственном совете Российской Федерации»[35], в соответствии с которым был создан не предусмотренный Основным законом совещательный орган с открытым перечнем полномочий, состоящий, помимо президента, из руководителей высших исполнительных органов субъектов федерации. К 2002 году был осуществлен переход от рамочного ко всеохватывающему федеральному регулированию огромного перечня вопросов, который подрывал саму идею совместных предметов ведения федерации и ее субъектов и поставил под сомнение федеративное устройство государства в целом. В поправках 2003 года к закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» из компетенции субъектов неожиданно исчез ряд позиций, определенных статьей 72 Конституции. Позже некоторые предметы совместного ведения были просто напрямую перераспределены в пользу федерации[36]. Кроме этого, были предусмотрены внеконституционные формы федерального вмешательства (например, право роспуска президентом региональных представительных органов) при фактическом отказе Конституционного суда от использования для разрешения такого рода конфликтов специально предусмотренного Конституцией способа — споров о компетенции.
Наиболее удобным объектом для начала контрреформы оказался порядок формирования Совета Федерации. Новый закон о таком порядке, принятый в 2000 году, был нацелен на то, чтобы сделать Совет Федерации более управляемым и, в частности, убрать из палаты «первых лиц» регионов. Перевод Совета Федерации на «профессиональную основу» был лишь символическим обозначением, формой, за которой скрывалось радикальное обновление содержания: палата должна была состоять из людей, вполне лояльных главе государства. Новый принцип формирования Совета Федерации поначалу не вызвал особых возражений ни у одной из фракций Государственной Думы. Члены верхней палаты теперь просто назначались региональными законодательными собраниями и губернаторами, что вполне соответствовало Конституции. Все эти представители, не имевшие мандата доверия избирателей, проходили теперь жесткий отбор в администрации президента и, по сути дела, рекомендовались к назначению. При этом значительная часть нового состава палаты рекрутировалась из среды лояльных столичных чиновников и бизнесменов — закон это позволял. Своеволие региональных законодателей подавлялось. В ряде случаев, когда региональные законодательные собрания голосовали за лиц, не устраивавших администрацию президента (так случалось, в частности, в Эвенкии и в Бурятии), на них оказывалось давление и их заставляли переголосовывать.
В итоге через полтора года (и в результате постепенной ротации) Совет Федерации с политической точки зрения уже представлял собой что-то вроде регионального департамента администрации президента.
Серьезным изменениям подверглась избирательная система. Постепенно, в течение 2002–2009 годов, в законодательство о выборах были внесены изменения, обеспечивавшие контроль администрации президента над избирательным процессом — как на федеральном, так и на региональном уровне. Изменения вносились в основном в базовый федеральный закон — «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме» (далее — Закон об основных гарантиях) с корреспондирующими поправками в специальные законы. Инициатором изменений выступила правящая группа (этим весьма общим понятием мы охватываем второго российского президента, от имени которого вносились законопроекты, и его ближайшее окружение). Политически ее представляла фракция «Единой России», получившая с конца 2003 года большинство мест в Государственной Думе. Партия-корпорация, получившая относительное большинство, стремилась стать абсолютно доминирующей.
В 2005 году законодатель отказался от института избирательных блоков. Дело в том, что на региональных выборах избирательные блоки составляли серьезную конкуренцию «Единой России» и несколько раз выигрывали выборы. Одновременно было уменьшено с 25 до 5% допустимое для регистрации число подписей, признанных избирательной комиссией недостоверными.
В июле 2006 года была отменена форма голосования против всех кандидатов. В декабре 2006 года в Закон об основных гарантиях были внесены нормы, отменявшие порог явки избирателей на выборах всех уровней. Реальное значение это имело главным образом для президентских выборов, для которых порог явки сохранялся до этих пор достаточно высоким — 50%. В рамках этого же пакета поправок законодатель обратился к проблеме предвыборной агитации: был введен беспрецедентный запрет на использование телеэфира, в частности предвыборных телевизионных роликов, для критики политических оппонентов.
Отдельно следует сказать об изменениях федерального закона «О политических партиях». В декабре 2004 года в него была введена норма, увеличившая минимальное число членов политической партии, необходимое для ее регистрации, с 10 до 50 тысяч человек. При этом было в пять раз увеличено необходимое для регистрации число членов партии в регионах.
В конце 2004 года были отменены прямые выборы глав субъектов Российской Федерации: предлогом для данной меры стал кровавый террористический акт в Беслане в сентябре 2004-го. Предложение о новом порядке наделения полномочиями глав регионов (фактически о назначении их главой государства при символическом участии региональных парламентов) было внесено президентом и почти без обсуждений одобрено послушным теперь большинством Государственной Думы.
Наконец, в феврале 2009 года была отменена такая форма регистрации политических партий и кандидатов, как избирательный залог.
В эти же годы на федеральных и региональных выборах начали широко использоваться административно-ресурсные избирательные технологии, фактически устранявшие политическую конкуренцию на местах. Стали применяться самые разные противоправные методы — давление на бюджетников, в том числе на членов избирательных комиссий, досрочное и надомное голосование для манипуляций с избирательными бюллетенями, вбросы избирательных бюллетеней, фальсификации результатов голосования и т. д.
Были специально расширены полномочия президента, связанные с контролем над судами. В этих целях был искажен смысл пункта «е» статьи 83 Конституции, согласно которому главе государства дается право представлять Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей высших судов — Верховного, Высшего Арбитражного, Конституционного — и назначать федеральных судей: в декабре 2001 года в закон о статусе судей была внесена поправка, в соответствии с которой Совет Федерации назначает председателей и заместителей председателя Верховного и Высшего Арбитражного судов по безальтернативному представлению президента. Также президент получил право назначать председателей всех судов вплоть до районных[37].
В течение 2000–2003 годов правящей группой был установлен контроль над крупнейшими федеральными телеканалами (строго говоря, над их политическим и новостным контентом) — Первым каналом, «Россией-1», «Россией-24», ТВЦ, НТВ. Постепенно сложились правила, исключавшие какую бы то ни было критику в телеэфире президента и близких ему лиц, а также участие в телепрограммах нежелательных оппонентов власти (система так называемых стоп-листов). Вопреки прямому конституционному запрету важнейшие СМИ оказались подцензурными, а основным смыслом любых аналитических программ стала пропаганда в пользу внутренней и внешней политики, проводимой правящей группой.
Был усилен непосредственный контроль президента (а значит, и его администрации) над исполнительной властью. Норма федерального конституционного закона «О Правительстве» (статья 32), подчинявшая напрямую президенту все силовые ведомства, МИД и Минюст, с учетом президентских указов и отраслевого законодательства была дополнена целым рядом норм, устанавливавших непосредственное подчинение главе государства уже не шести, а 20 органов исполнительной власти (пять министерств, 12 федеральных служб и три федеральных агентства)[38].
Постепенно были сужены полномочия парламента. В первую очередь бюджетные. Вплоть до того, что парламент перестал сам создавать проект государственного бюджета. Теперь он только делегирует своих представителей в специальную комиссию. Его задача была сведена лишь к покорному одобрению спущенного сверху основного финансового документа государства. Дополнительно был принят закон о парламентском расследовании, который полностью нейтрализовал этот важный инструмент системы сдержек и противовесов.
С точки зрения конституционной инволюции весьма показательной является история со Счетной палатой. Как известно, согласно Конституции Счетная палата — это орган финансового контроля, который образуется палатами парламента и действует по их поручениям. То есть фактически она является контрольным парламентским органом. Изначальный смысл конституционной нормы заключался именно в том, что исполнительная власть не должна участвовать в создании Счетной палаты, поскольку деятельность органов управления как раз и является объектом контроля палаты. Однако в результате поправок, внесенных в 2004 и 2006 годах в федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации», президент получил право представлять кандидатуры председателя палаты и всех ее аудиторов. По сути, уже этого было достаточно для того, чтобы палата перестала быть независимой. Но оказалось, что это не все: в 2013 году был принят новый закон, который вообще перевернул конституционную норму с ног на голову. Согласно ему, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации сначала представляют кандидатов в аудиторы президенту, который может согласиться с ними (и тогда депутаты получают право голосовать за кандидатуру в аудиторы), а может и не согласиться. В последнем случае президент представляет кандидатуру сам. О каком уж тут парламентском контроле над бюджетными расходами может идти речь?!
В конце 2008 года правящая корпорация, используя конституционное большинство в нижней палате, внесла проекты конституционных поправок, предусматривавших увеличение сроков полномочий президента до шести лет и Государственной Думы — до пяти лет. Мало у кого возникли сомнения в том, что главный элемент в этом пакете — удлинение срока президентских полномочий — подарок Владимиру Путину, строившему, вероятно, планы относительно своего следующего президентства.
Это были первые поправки к Конституции 1993 года. В то же время это был первый после 1993 года случай, когда жанр поправок использовался с явной политической целью. Мало кого из экспертов мог удовлетворить предлагаемый правящей группой довод о том, что четырехлетний срок полномочий не дает главе государства достаточно времени для реализации его предвыборных программ. Широкого обсуждения поправок не было. Они представляли собой сугубо групповую, корпоративную инициативу, увязанную с политической конъюнктурой — наличием у этой группы конституционного большинства в Государственной Думе и доминированием «Единой России» в региональных законодательных собраниях. Последние, одобряя поправки, уложились в месяц.
В 2013 году был упразднен Высший Арбитражный суд. Верховный суд стал единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по экономическим спорам. При этом необходимость объединения обосновывалась важностью единообразия судебной практики, а также «обеспечением равенства всех перед законом».
Вряд ли эти предельно общие формулы могли реально объяснить причины слияния высших судов и внесения поправок в Конституцию. Уже не ссылаясь прямо на президента, его сторонники говорили о практике отказов в судебной защите в случае спора о подведомственности дела, а также о разнице в правилах организации судопроизводства в двух судебных системах. Но все подобные доводы вряд ли можно было воспринимать всерьез, поскольку в качестве средства решения проблемы предлагалась именно правка Конституции! Ведь, скажем, практику отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности дела было даже трудно однозначно признать проблемой.
В итоге большинство экспертов пыталось найти ответы на вопрос о причинах данной меры в неюридической плоскости. Судьи высших судов в основном предпочитали отмалчиваться. Можно было предположить, что объединенный высший суд, в принципе, делает судебную систему более управляемой. Но при этом нельзя было сказать, что Высший Арбитражный суд когда-либо принимал решения, вызывавшие недовольство главы государства либо правительства.
Поскольку речь шла все же не об объединении двух судебных систем (арбитражных судов и судов общей юрисдикции), а о слиянии их высших звеньев, вся «реформа» представлялась просто бюрократической процедурой. Однако следует помнить, что она повлекла за собой отставки и новый отбор судей высших судов — вопреки принципу их несменяемости. В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» в целях формирования первоначального состава Верховного суда была создана Специальная квалификационная коллегия по отбору кандидатов. Работа данной коллегии вызвала много вопросов. По сути дела, судьям высших судов в очередной раз была продемонстрирована их абсолютная зависимость от иных ведомств и несамостоятельность судебной власти. На наш взгляд, вся эта процедура была унизительна для судей и связана с нарушением принципа их несменяемости, предусмотренного статьей 121 Конституции.
Как известно, набор конституционных поправок, устранивших Высший Арбитражный суд из судебной системы и из Конституции, был уже практически без особых дискуссий дополнен еще одной президентской инициативой (тут была бы вполне применима старая русская идиома «под сурдинку»). Речь шла о поправках, предоставлявших главе государства дополнительные полномочия по назначению региональных прокуроров, а также по представлению Совету Федерации кандидатур на должности заместителей генерального прокурора. Смысл этих новаций также оставался не вполне проясненным, хотя было понятно, что в целом они ослабляли позиции генерального прокурора, лишая его права назначать целые категории прокуроров и средств воздействия на региональные прокуратуры. В то же время эти поправки, безусловно, должны были усилить персональную лояльность прокуроров главе государства, который теперь получал возможность назначать их непосредственно. Вероятно, это имело определенный политический смысл.
Нельзя, впрочем, сказать, что данная мера вызвала жгучий интерес. Общество в целом и профессиональные сообщества в частности, похоже, были уже приучены к тому, что от них ничего не может зависеть.
Все указанные поправки после получения их из президентской администрации были рассмотрены и приняты палатами Федерального Собрания довольно оперативно. Думается, эта оперативность еще войдет в историю. В частности, Государственная Дума одобрила данные поправки 22 ноября 2013 года, Совет Федерации вынес то же решение спустя пять дней, а еще до наступления нового 2014 года за поправки проголосовало уже надлежащее число законодательных собраний субъектов Российской Федерации.
В данном случае важнее оценить даже не значение скороспелых новаций, но сам контекст этого события. Суть его в том, что, как и в 2008 году, сферой, где оказалось возможным удовлетворять узкогрупповые или корпоративные политические интересы, снова стала сфера конституционного правотворчества. То есть сфера, которая, в принципе, должна оставаться образцом стабильности. Ведь внесение каких бы то ни было изменений в Конституцию должно быть в определенной мере предметом национального согласия, результатом реальных межпартийных соглашений. Правка Конституции — это самое последнее и самое сильное средство для решения любых общепризнанных назревших проблем. Какие крупные и назревшие задачи решались с помощью указанных конституционных поправок в 2013 году? На самом деле никакие, если не считать повышение управляемости судебной системы и дальнейшее расширение президентских полномочий.
Глава 10
Итоги конституционной инволюции
Для постановки точного диагноза необходим дополнительный анализ трансформации отдельных конституционных институтов. Попробуем это сделать, за одним изъятием — выше мы подробно не рассматривали состояние конституционных основ правосудия и деформацию российской судебной системы, поскольку острота существующей проблемы в этой области требует отдельного исследования.
Ошибка конституционной модели, в результате которой институт президента оказался вне пределов системы разделения властей, привела к тому, что этот институт (высшее должностное лицо — единоличный государственный орган с небольшим аппаратом, обеспечивающим его деятельность) очень быстро преобразовался в самостоятельную ветвь власти. Опираясь на изначально немалые конституционные полномочия, эта ветвь многократно укрепила, расширила и конкретизировала их в ущерб всем остальным ветвям власти и окончательно подмяла под себя.
Сегодня Россия пусть и не чисто федеративное, но, безусловно, сложносоставное регионалистское государство. В общем-то, не столь важно, как эту модель называть. В любом случае она и не чисто унитарная. Можно назвать ее «смешанным федерализмом». И именно такая модель, не предполагающая унификации регионов, с четким разграничением полномочий между федерацией и территориями при наличии механизмов разрешения территориальных и национальных споров, достаточно точно конституционно обозначена. В рамках этой модели опасно действовать по правилам моноцентристской схемы власти. Сложносоставное государство не предполагает абсолютного диктата центра. Любое навязанное решение всегда принимается регионами со скрытым раздражением, любой диктат приводит к росту внутрирегионального национализма, питающего национальные элиты.
К сожалению, вопреки этим многократно проверенным историей законам в течение последних 15 лет под разными предлогами (в целях «преодоления противоречий между федеральным и региональным законодательством», в целях создания «единого конституционного пространства» и укрепления вертикали власти) происходило сворачивание российского федерализма. Основными чертами трансформации конституционных принципов государственного устройства России стали:
1) переход федерального законодательства от рамочного ко всеохватывающему и унификация законодательного регулирования;
2) изменение соотношения полномочий по предметам совместного ведения в пользу федерации;
3) сокращение перечня предметов остаточного ведения субъектов и объема их регулирования;
4) создание целого ряда внеконституционных механизмов федерального вмешательства (вплоть до федерального насилия) и внеконституционных государственных органов для его осуществления.
Но руководить регионами напрямую из центра и особенно в «ручном режиме» просто невозможно. Так или иначе, приходится делать ставку на региональные элиты. На поверку эти элиты, проявляющие максимальную внешнюю лояльность к Москве, очень быстро становятся в гораздо большей степени самостоятельными, чем это безопасно для целостности государства. Отсюда возникает парадокс фактической конфедерализации искусственно унитаризованного государства, в котором регионами управляют многочисленные локальные кланы и группы влияния, лишенные официального (конституционного) правового статуса.
Центробежные тенденции в России возникают в двух, казалось бы, взаимоисключающих случаях — когда центр слаб и непрогнозируем или, наоборот, когда центр превышает допустимые пределы бюджетного и административного вмешательства в деятельность регионов. Сегодня эти пределы многократно превышены. Специфическому российскому федерализму нанесен очень тяжелый удар. И не случайно, что именно тогда, когда закончилось строительство российской моноцентрической вертикали, была введена уголовная ответственность за призывы к сепаратизму[39]. За прошедшие четверть века Россия прошла полный цикл — от широкой децентрализации и «парада суверенитетов» до абсолютной централизации — и вновь оказалась перед угрозой очередной децентрализационной волны, грозящей территориальным распадом государства.
Назвать сегодняшнее государственное устройство России федерацией можно лишь с очень большой натяжкой. Символическая государственность регионов не компенсирует реального сужения их конституционных полномочий. Но это и не ассиметричная федерация, тяготеющая к унитаризму. Сегодня наша страна — уникальный пример унитарного регионалистского государства, де-факто тяготеющего к конфедерации.
Изначально конституционная модель системы взаимодействия «государство — общество — граждане» в России была заложена ровно так, как и в других странах с демократическими политическими режимами. Государству в этой системе отводилась роль не сакрального суверена-властителя, а всего лишь аппарата для реализации определенных функций, качество выполнения которых контролируется ответственными личностями (гражданами) и ответственным обществом (гражданским обществом). В Конституции специально предусмотрены гарантии от вмешательства государства в функционирование общественных институтов и установлены жесткие пределы ограничения прав граждан. Более того, права и свободы человека объявлены высшей ценностью, определяющей цели и смысл всей государственной работы (содержание и практику применения законов, деятельность местного самоуправления, законодательной и исполнительной ветвей власти). Закрепленные в не подлежащих исправлению парламентом главах Конституции, эти нормы обладают особой юридической силой и потому непререкаемы.
Но моноцентрическая система власти несовместима с каким бы то ни было внешним контролем. Она не терпит никакой деятельности, не регулируемой государством, и не признает независимости субъектов, находящихся под ее юрисдикцией. Поэтому, переподчинив себе все ветви власти и исказив их конституционный смысл, властный моноцентризм перешел в наступление на независимое гражданское общество и права человека. Была искусственно сконструирована партийная система, состоящая из ограниченного числа согласованных и финансируемых государством партий (так называемая системная оппозиция). Потом настала очередь других независимых общественных объединений. В первую очередь тех, что выполняли различные контрольные функции (борьба с коррупцией, контроль за качеством государственных услуг, общественный контроль за избирательным процессом, правозащита). Их деятельность была существенно ограничена и поставлена в условия на грани выживания. Даже внеконституционная Общественная палата, которая в течение некоторого времени худо-бедно, но все же исполняла функцию посредника между государством и обществом, в своей последней модификации полностью утратила авторитет и превратилась в безвольный властный рупор.
Параллельно шел процесс ограничения конституционных прав и свобод граждан. Сегодня во второй главе Конституции мы не найдем ни одного права и ни одной свободы, которые не подверглись бы существенной законодательной корректировке в сторону их сужения или полной нейтрализации. Еще более впечатляющие результаты на этом поприще были достигнуты внеконституционной судебной и иной правоприменительной практикой. Можно уверенно констатировать, что по отношению к обществу и гражданам со стороны государства возникла одна из самых тяжелых форм правового нигилизма — конституционный нигилизм, который выражается либо в прямом игнорировании Конституции, либо в избирательном отношении к ее установлениям. Их соблюдают, когда это выгодно, и легко обходят в случае коллизии интересов[40]. Более того, конституционный нигилизм перерастает в конституционный цинизм, проявляющийся в наиболее дерзкой форме — сознательном нарушении Конституции и пренебрежении ее ценностями[41].
Права и свободы человека, конституционно значимые принципы и ценности могут быть обеспечены и защищены только правосудием. Для этого суды должны иметь возможность применять Конституцию напрямую, в том числе в спорных случаях, когда другие нормативные акты вступают с ней в противоречие. Но Конституционный суд лишил их такой возможности. Еще в 1998 году он выступил против постановления Пленума Верховного суда[42], разъяснявшего судам общей юрисдикции порядок применения Конституции, и монополизировал свое право на конституционную истину. Но с задачей при этом не справился, поскольку властный моноцентризм постепенно лишал любые механизмы конституционной охраны единственного и главного условия, при котором они могли бы осуществлять эту важнейшую функцию, — их независимости. Все чаще Конституционный суд вместо права стал апеллировать к «политической целесообразности»[43] или к «политической воле»[44], прямо говорить в своих решениях о «политических причинах»[45] и об «учете политических факторов»[46].
Оставшись без должной охраны, Конституция постепенно утрачивала свою важнейшую роль — роль ядра и непререкаемого смыслового фактора российского законодательства. Вопреки части 2 статьи 55 Конституции все больше и больше нормативных актов искажали конституционные нормы и смыслы. Например, при молчаливом согласии Конституционного суда поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в нарушение статьи 29 Конституции введена цензура в виде досудебной блокировки интернет-сайтов по требованию прокурора, основанному на жалобе любого юридического или физического лица. Федеральным законом «О некоммерческих организациях» вопреки части 2 статьи 13 Конституции дискриминирована часть общественных объединений в зависимости от источников финансирования и видов их деятельности. В итоге за 25 лет российская правовая система трансформировалась в параллельную реальность, весьма далекую от Конституции.
Таким образом, мы имеем полномасштабный конституционный кризис (разложение конституционного строя), который выражается:
• в изменении установленной Конституцией формы правления;
• в изменении установленного Конституцией политического режима;
• в изменении установленного Конституцией государственного устройства;
• в утрате Конституцией своего значения как ядра правовой системы, в ее тотальном конфликте с трансформированным законодательством и антиконституционной правоприменительной практикой.
Определить сегодняшнюю форму правления России по каким бы то ни было республиканским критериям невозможно. Утверждать можно лишь одно — эта форма категорически не соответствует Конституции. Ее можно сравнить только с классической абсолютной монархией, дополненной институтом престолопреемства.
На деле в России осталась одна ветвь власти — президентская. Все остальные (исполнительная, законодательная и судебная) являются симулякрами — фальшивыми копиями совершенно иных органов, а их деятельность не имеет никакого отношения к их конституционному предназначению. По сути, они представляют собой псевдореспубликанские органы, задачей которых является камуфляж истинного состояния дел и создание республиканского мифа в монархическом государстве.
Истинное состояние политического режима оценивается просто — по наличию или отсутствию механизмов, обеспечивающих населению реальную возможность участия в принятии государственно-властных решений. То есть речь идет об институтах непосредственной и представительной демократии, о взаимодействии государства с негосударственными элементами политической системы и о согласовании государственных решений с обществом.
Но в условиях личной власти политический режим определяется не столько конституционными установлениями, сколько убеждениями и целеполаганиями политического моносубъекта. Очевидно, что эти убеждения и целеполагания обнаружили свое полное несовпадение с естественной философией Конституции. За прошедшие 15 лет все предусмотренные Конституцией механизмы народовластия были приведены в полную непригодность для их использования по назначению. Они тоже являются симулякрами политического режима, категорически не соответствующего духу и смыслу Конституции. Анализ состояния этого режима позволяет сделать единственно возможный вывод о его авторитарном характере, нуждающемся в постоянной искусственной пропагандистской поддержке.
Глава 11
Авторитарные режимы прошлого и Российский политический режим: сходство и различия
В целом политический режим, сложившийся в России к концу второго десятилетия XXI века, не только воплотил в себе ряд уже хорошо знакомых нам из истории авторитаризма второй половины XX века признаков, но также выявил некоторые весьма специфические черты, связанные с разложением тоталитаризма, его медленным изживанием из общественной жизни со всеми его соблазнами и рецидивами. Достаточно длительный и многоступенчатый процесс формирования российского авторитарного режима явно отличает его от большинства подобных режимов, выраставших из первоначального акта противозаконного устранения предшествовавшей власти либо из отмены действовавшего конституционного порядка. В России после 1993 года политическая жизнь развивалась в формально конституционных рамках, и действие Конституции не прекращалось и не приостанавливалось. Выборы проводились регулярно, и представительные (законодательные) органы внешне вполне исправно функционировали. Но после 2003 года их реальная роль постепенно свелась практически к нулю, поскольку все основные решения принимались в президентской администрации.
Если искать тут какие-то исторические аналогии, то подобным образом политическая жизнь складывалась лишь в Мексике, где политический режим, обеспечивший фактическую монополию на власть одной группировки, сложился в ходе достаточно мирного процесса при формальном сохранении многопартийности и немногих независимых от власти, но маловлиятельных печатных изданий. Правда, в Мексике с середины 1930-х годов президенты могли избираться лишь на один срок, что обеспечивало сменяемость власти.
В то же время аналогии с нынешними политическими режимами в Беларуси и ряде стран Центральной Азии вполне очевидны и не требуют серьезных исторических изысканий. В этих странах процесс ослабления и выхолащивания демократических институтов при персонализации политических режимов также шел постепенно. Как и Российская Федерация, эти государства стали результатом распада Союза ССР и кризиса ряда институтов «советского» однопартийного режима. Но эти институты оказались воспроизводимы в новых условиях и в несколько иных формах.
Средства институционализации российского политического режима имеют довольно много общего с опытом подобных режимов второй половины XX века. Как в Индонезии, Бразилии, Парагвае, на Филиппинах 1960–70-х годов, власть главы государства (и его аппарата) была поставлена в Российской Федерации вне парламентского контроля при формальном сохранении парламента. Обе его палаты, как и парламенты названных государств, были сформированы в основном из лиц, совершенно лояльных главе государства.
Причем эта лояльность носит именно персональный характер, поскольку партийная принадлежность депутатов имеет в данном случае скорее символическое значение. Партийный бренд «Единой России» (как и бренд «Голкар» в Индонезии, Движение за новое общество на Филиппинах и т. п.) в реальности использовался именно как обозначение указанной персональной лояльности.
Так же как в Мексике, Бразилии и Индонезии, в России начала XXI века была создана декоративная партийная система, включающая в себя доминирующую партию, предсказуемо выигрывающую все выборы, и две (три) партии, выполняющие функции ее псевдооппозиционных спойлеров, не пытающиеся ставить под сомнение неограниченную власть главы государства как основу политического режима. До 2012 года создание новых политических партий было предельно затруднено с помощью специального закона, почти дословно воспроизводящего ряд положений соответствующего мексиканского закона о минимальной численности политической партии, об обязательном создании и регистрации ее региональных отделений и т. д. Начиная с 2012 года после соответствующего решения ЕСПЧ порядок создания политических партий был облегчен, и пару лет спустя их стало уже около семи десятков. Тут российский политический режим оказался бы оригинален, если бы регистрация новых партий для участия в выборах по-прежнему не зависела бы от воли президентской администрации и если бы многие из новых партий не оказалась искусственными образованиями, созданными властными структурами исключительно для ослабления немногих реальных партий и для разрыва электорального поля. Поэтому основное политическое меню, сформированное примерно двумя десятилетиями раньше (партия власти — КП РФ — ЛДПР — «Справедливая Россия»), осталось без изменений.
При этом партии — «спарринг-партнеры» (или «партии-сателлиты») не были совершенно марионеточными, как партии в тоталитарных государствах (например, партии, входившие в Единый фронт в Китае, или Демократическая и Христианская партии в ГДР). В пределах достаточно узкого коридора возможностей они могли принимать самостоятельные решения. Подобным образом, например, действовала Партия национального обновления (АРЕНА) в Бразилии, которая представляла собой опору для генерала-диктатора, но вполне самостоятельно определяла свои предвыборные стратегии. Ее единственный оппонент на электоральном поле — Партия демократического действия, созданная отчасти искусственно, не была тем не менее лишена возможности вести борьбу за избирателей и могла даже наращивать свои результаты[47].
Что касается судебной системы, то ее отношения с исполнительной ветвью власти в России развивались в рамках традиции, исключающей, по сути, независимость судебной власти. И хотя такая независимость официально-конституционно провозглашена, на деле судьи осознают себя представителями не обособленной ветви власти, но скорее единой властной корпорации, интересы которой они должны блюсти в первую очередь. Как уже отмечалось, подобные Сухарто, Филиппин под властью Маркоса, Сингапура под властью Ли Куан Ю, ряда других авторитарных государств[48].
При этом все же нужно отметить, что в период, связанный с началом судебной реформы в России, в 1990-е годы прошлого века, суды на какое-то время почувствовали себя реальной и самостоятельной ветвью власти. И, конечно же, этот период ознаменовался принятием целого ряда ярких судебных решений. Но устойчивая традиция судейской независимости не успела сформироваться — в начале 2000-х годов правящая группа создала специальные условия для постепенного возвращения судов под контроль исполнительной власти. К таким условиям, в частности, относился и порядок назначения и переназначения председателей (и заместителей председателей) судов, характер взаимоотношений председателей судов с рядовыми судьями и готовность квалификационных коллегий судей исполнять любые пожелания руководства.
Да, конечно, современное состояние российской судебной системы пока еще не привело к объему массовых репрессий сталинской поры или преследований политических оппонентов в Бразилии, Чили и Аргентине в 1970-е годы. Но точечные репрессии, связанные с давлением на конкретных лиц и через них на определенные социальные группы — это уже зафиксированная современная российская реальность. Но не всегда эти репрессии носят точечный характер. Цель власти — обеспечить полный контроль над экономическими ресурсами — привела к тому, что, по данным уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена), за последние 10 лет за экономические преступления было осуждено около 2,5 миллиона человек, большинство из которых — бизнесмены. «Ни одна социальная группа в России не подвергалась столь массовым преследованиям», — констатировал он[49]. Причем в этих уголовных делах часто нет потерпевших и всего набора элементов состава преступления, подтасованы цифры, факты и критерии оценки имущества.
Как и во всех авторитарных режимах второй половины XX века, в России был установлен жесткий контроль власти — как на федеральном, так и на региональном уровне — над наиболее популярными телеканалами. При этом несколько большей свободой (как в Мексике и Бразилии) все еще пользуются печатные издания. Правда, те из них, что решаются публиковать критику в адрес власти, крайне немногочисленны и находятся в очень уязвимом положении. Речь не идет о том, что им угрожает неминуемая ликвидация. Просто ряд изданий, пользовавшихся популярностью у определенной аудитории, но вызывавших раздражение власти, были поставлены под контроль лиц, близких к власти либо пользующихся ее доверием (например, газеты «Известия», «Коммерсантъ», «Ведомости», интернет-издание «Лента.ру» или даже медиахолдинги, такие как РБК).
Как и в большинстве авторитарных режимов (за исключением режимов в Чили и Сингапуре), в Российской Федерации представители правящей группы фактически контролируют наиболее важные и доходные экономические активы, насильственно изъяв их из частных рук и превратив в государственные компании, образовавшие в итоге гигантский государственный сектор экономики.
Отдельная подтема — роль и положение лидера авторитарного режима. Как уже говорилось, для его безусловного доминирования требуется соблюсти по крайней мере два условия. Во-первых, устранить с политической сцены всех возможных конкурентов и, во-вторых, обеспечить доминирование в медиапространстве. В этом пространстве допускается существование либо твердых соратников, либо удобных подставных. Именно такими приемами пользовались лидеры авторитарных режимов Индонезии, Филиппин, Бразилии, Парагвая и некоторых других государств, где в течение нескольких десятилетий проходили выборы с заранее известным результатом.
Российская ситуация практически идентична. Примерно с 2001 года, после того как был установлен контроль президентской администрации над единственным крупным частным телеканалом (НТВ) и, соответственно, сменено его руководство, президент Владимир Путин занял особое привилегированное положение в эфире российского телевидения. С тех пор репортажи с его участием появлялись в каждом новостном выпуске всех каналов, имеющих новостные блоки, а российские телезрители ежедневно наблюдают вождя не меньше восьми раз в день.
В 2008 году, формально подчиняясь Конституции России, Путин не стал в третий раз подряд выдвигать свою кандидатуру на президентский пост, а провел рокировку президентского и премьерского постов, выдвинув на президентскую должность премьера Дмитрия Медведева. Став президентом, Медведев тем не менее все четыре года действовал под плотным и неусыпным контролем лиц из ближайшего окружения Путина. Он использовал президентские полномочия строго в тех пределах, которые были оговорены с Путиным. Более всего, это походило на президентство под патронажем. Такая ситуация, быстро получившая народное название «тандем», в определенной мере напоминала период «максимато» в Мексике в конце 1920-х — начале 1930-х годов: реальная власть в стране принадлежала диктатору Кальесу, сохранившему после окончания своего президентства влияние и определявшего кандидатуры трех следующих президентов, действия которых он контролировал и направлял.
Впрочем, российская история пошла совсем по другому пути — через четыре года Путин вернулся на президентский пост, но уже на шесть лет, которые обеспечили ему конституционные поправки Дмитрия Медведева. Вернувшись, он продолжил достраивать конструкцию своей безраздельной власти.
За четверть века, прошедшую со времени принятия действующей российской Конституции, политический режим в стране менялся и эволюционировал в авторитарную сторону, время от времени приближаясь к разным авторитарным образцам или, наоборот, удаляясь от них. Таких аналогий можно провести множество. Во многом развитие режима зависит от личности и характера президентов и от их окружения. И он (режим) в России твердой поступью с разной шириной шага неумолимо приближался к открытому авторитаризму, но на пороге четвертого срока Путина застыл на перепутье...
Достаточно самобытным российский режим был в 1994–2000 годах, когда авторитарный стиль руководства первого российского президента Бориса Ельцина проявлял себя в контексте достаточно бурной парламентской жизни, обеспечивавшей живую общественную дискуссию по самым разным вопросам внешней и внутренней политики. В отличие от этого периода политический режим Владимира Путина, выстроенный в течение 2000–2014 годов, имел больше общего с так называемыми популистскими латиноамериканскими авторитарными режимами 1930–60-х годов (при Л. Карденасе и его последователях в Мексике и при X. Пероне в Аргентине). Аналогия была особенно заметна в первое десятилетие XXI века, когда быстрый рост цен на нефть вызвал взрывной рост доходов населения. В этой связи следует вспомнить выдвижение Путиным (и его временным патронатным сменщиком Медведевым) ряда амбициозных проектов, имевших социальное значение. Таких, например, как проект по обеспечению каждой российской семьи отдельной квартирой, сопровождавшийся мерами по внедрению ипотечного кредитования. Или так называемые национальные проекты в области здравоохранения и образования. В одном ряду с ними стоят и президентские указы о повышении зарплаты отдельным категориям бюджетных работников. Но в отличие от Латинской Америки, где велика была роль массовых профсоюзов, российские инициативы были в чистом виде инициативами сверху. Российские профсоюзы не играли в них сколь-нибудь существенной роли. Они фактически продолжали советскую традицию государственных профсоюзов и обеспечивали некоторыми своими акциями символическую поддержку власти.
Параллельно этим процессам, отвлекавшим большинство населения от вопросов о существе власти, в 2003–2011 годах происходило последовательное институциональное оформление трансформирующегося российского политического режима. Прежде всего это делалось с помощью искусственно доминировавшей политической партии, быстро превратившейся в «партию власти» и представлявшей собой, по сути, государственную корпорацию, занявшую подавляющее большинство мест во всех представительных органах власти. Фальсификации и подделка результатов любых голосований стали к этому времени рутинной практикой избирательных комиссий всех уровней. Политический плюрализм был законодательно резко ограничен, а роль бюрократических и силовых структур стала возрастать.
Начало экономической стагнации, обусловленной остановкой в развитии политических институтов и падением цен на нефть, ограничило возможности социального маневрирования правящей группы. К этому времени в стране стали нарастать протестные движения, выдвигавшие как политические, так и сугубо экономические требования. В качестве примера можно назвать движения водителей-дальнобойщиков, фермеров и шахтеров с закрывающихся предприятий. Эти движения еще не были достаточно массовыми, чтобы представлять угрозу власти, но уже показали возможности четкого внутреннего структурирования и проявили склонность к политизации.
Начиная с 2012 года российский политический режим по ряду признаков стал все более напоминать родственные ему авторитарные режимы в Белоруссии и Центральной Азии. К их общим признакам следует отнести всемерное укрепление военно-полицейского аппарата, подведение законодательной базы под дальнейшее ограничение конституционных прав и свобод граждан, повышение активности групп, практикующих экстраофициальное насилие (активисты, пользующиеся скрытой поддержкой государства при применении ими методов запугивания и насилия в отношении представителей оппозиции). Подобные черты были свойственны режимам Сухарто и Маркоса в последние годы их существования.
Примерно к 2013–2014 годам развитие экономики страны полностью утратило динамизм, и, естественно, правящая группа утратила интерес к темам технологической и социально-экономической модернизации. В осложнившихся условиях ее внимание переключилось на сохранение status quo. Но для такого перехода требовалось некое серьезное основание, предлог для отвлечения общественного внимания от смены курса и переключения его на обеспечение незыблемости власти. И такой предлог появился. Им стали события на Украине в конце 2013 — начале 2014 года, за которыми последовало присоединение к России территории полуострова Крым и участие в конфликте на Донбассе. Все это вызвало острую международную реакцию, поскольку присоединение новых территорий произошло с нарушением не только внутреннего российского законодательства, но и целого блока российских международных обязательств.
Получилось так, что присоединение Крыма поставило под угрозу всю европейскую политику после Ялтинской конференции 1945 года и создало опасный прецедент государственного самопровозглашения. Поэтому оно получило жесткую оценку в Генеральной Ассамблее ООН, которая в своей резолюции (№ 68/262) подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и заявила о непризнании законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя.
В этой связи ряд государств, в том числе США и государства — члены Европейского союза, ввели против Российской Федерации санкции экономического характера. В частности, запреты на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, на поставку оборудования для этих секторов, а также на оказание для них финансовых и страховых услуг. Под этим предлогом руководство России поставило вопрос о враждебных действиях и враждебном международном окружении страны.
С этого момента внешнеполитический фактор стал играть, по сути дела, ключевую роль во всех изменениях внутриполитической жизни и во всех трансформациях политического режима. Для консолидации и мобилизации значительной части электората стала использоваться четкая пропагандистская установка на внешние угрозы государству. То есть, по сути, была актуализирована тема «страны — осажденной крепости».
Этот опыт вполне сопоставим с опытом ряда авторитарных лидеров, предпринявших крупные рискованные военные акции с целью приращения территории государств и повышения популярности своих режимов.
Так, в 1974 году лидер «черных полковников» в Греции Д. Иоаннидис попытался присоединить к Греции Кипр, используя военные формирования греческой общины острова. В 1975 году индонезийский диктатор Сухарто ввел войска на территорию Восточного Тимора, принадлежавшего Португалии, и вскоре после оккупации объявил о присоединении данной территории в качестве новой провинции Индонезии. В 1982 году по инициативе главы военной хунты Аргентины Л. Галтиери аргентинские войска заняли Фолклендские (Мальвинские) острова, являвшиеся предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией, но находившиеся под британским контролем. В 1990 году иракский диктатор С. Хуссейн за три дня оккупировал эмират Кувейт, объявив его провинцией Ирака. Во всех случаях нападавшие стороны поначалу не встречали серьезного сопротивления и оперативно объявляли о новом статусе территорий (или — в случае с «энозисом» Кипра — о намерении присоединить территорию, идя навстречу воле ее жителей).
Правда, военно-политические последствия всех этих операций серьезно разнились. Греческий и аргентинский диктаторы вынуждены были отказаться от своих геополитических планов, а затем и от власти после вмешательства в конфликт вооруженных сил соответственно Турции и Великобритании. Иракские войска ушли из Кувейта под давлением сил международной коалиции во главе с США, но сам Хуссейн оставался у власти еще 12 лет.
В отличие от них индонезийский лидер Сухарто не испытал сколь-нибудь серьезного международного давления после оккупации и аннексии Восточного Тимора, и потому его опыт нам особенно интересен. Кроме Австралии, ни одно государство не признало Восточный Тимор частью Индонезии. Генеральная Ассамблея ООН объявила действия Сухарто агрессией, осудила их и потребовала немедленного освобождения захваченной земли. Тем не менее никто не изъявил никакого специального желания восстановить status quo и независимость Тимора. Прежде всего потому, что сама Португалия после революции 1974 года больше не претендовала на свою бывшую колонию и не обладала ресурсами для ее удержания. Сухарто же представил свои действия как вклад в деколонизацию Юго-Восточной Азии. Кроме того, он давал понять Соединенным Штатам, Великобритании и Австралии, что борется с проникновением коммунистического влияния в регион. В итоге его военная операция не повлекла за собой особых издержек для агрессора. Санкций против Индонезии никто не вводил, а ее экономические отношения с крупнейшими партнерами только упрочились. Проблемы начались позже. Поскольку на острове оставалось немало сторонников независимости, они спустя несколько лет начали вялотекущую партизанскую войну. Постепенно эта война стала вызывать все больший резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. В конце концов через четыре года после свержения Сухарто (в 1998 году) независимость Восточного Тимора была провозглашена вновь.
Впрочем, аналогии с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса здесь все же не абсолютны. Несмотря на то что результаты крымского референдума, проведенного весной 2014 года с нарушением всех возможных норм избирательного права, оставляли и оставляют широкое поле для сомнений в отношении точных пропорций сторонников и противников присоединения Крыма к России, в целом, похоже, тогда в Крыму все же доминировали пророссийские настроения. В любом случае операция по присоединению Крыма, в отличие от военной операции в Восточном Тиморе, прошла практически бескровно.
Если в Индонезии тема присоединения Восточного Тимора не играла особой идеологической, ментальной роли, то Крым (и особенно Севастополь) в сознании россиян был сильно мифологизирован, и его утрата после разрушения СССР зияла для многих незаживающей раной. Именно на этом чувстве решили сыграть российские элиты в условиях падения рейтинга режима и его руководителя. Поэтому аннексия Крыма вызвала небывалый взрывной всплеск доходящего до экстаза патриотизма и на несколько лет подняла снизившиеся рейтинги.
Разница ситуаций еще и в том, что после операции в Восточном Тиморе Сухарто тем не менее продолжал пользоваться более или менее выраженной поддержкой имевших различные интересы в этом регионе крупнейших государств — Австралии, США, Франции и Великобритании. Инвестиции этих стран играли существенную роль в экономическом развитии Индонезии. То есть ее международное положение все эти годы было достаточно прочным, причем индонезийский режим в 1970–80-е годы играл важную роль в Движении неприсоединения. Поэтому тема внешней политики не была ключевой в идеологическом оформлении авторитарного режима.
Напротив, Крым играл преувеличенно огромную роль в идеологическом оформлении российского авторитаризма. Даже однозначно жесткая реакция на его аннексию практически всего международного сообщества была использована для нагнетания псевдопатриотической истерии. «После Крыма» в России главным элементом идеологического обоснования существования режима стала идея противостояния условному идеологическому конструкту «западный мир» (включавшему, впрочем, и Австралию с Японией). По сути дела, главной целью противостояния оказалось сохранение военно-политического контроля над отторгнутыми у соседних государств (Грузии и Украины) территориями — помимо Крыма, еще и частью Донбасса, Абхазией и Южной Осетией. На языке официальной пропаганды это стало называется «возвращением России в мировую политику», восстановлением положения, при котором с нашим государством «снова начинают считаться». Хотя на самом деле реальные внешнеполитические потери страны были огромны. Крымская внешнеполитическая стратегия и последовавшее за ней противостояние всему сонму старых и новых врагов стали в итоге главными обоснованиями дальнейшего ужесточения авторитарного правления в России.
Речь, однако, пока не идет о включении каких-либо идеологем в Конституцию. Нам пока еще далеко до тех образцов, которые были выработаны в Египте при Насере или в Индонезии при Сухарто. Норма статьи 13 Основного закона страны, запрещающая установление какой-либо идеологии в качестве государственной, устояла, хотя нет отбоя от желающих провозгласить на конституционном уровне набор неких идеологических принципов.
Фактически, на практике такие принципы уже открыто провозглашаются государственными СМИ. Пока что речь идет не о целостной системе взглядов, а всего лишь о наборе идеологических клише, используемых в рамках пропагандистского жанра. Источниками этих установок становились и выступления главы государства, и отдельные заявления МИДа, и интервью лиц из ближайшего окружения президента.
Из этих установок можно выделить две главные. Первая предполагает, что враждебными государствами — США и их союзниками — проводится политика «сдерживания России». К такому сдерживанию относят антикоррупционные и крымские санкции. В путинской транскрипции санкции — «это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине и даже не в связи с так называемой “крымской весной”... Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше — использовать в своих интересах»[50].
Вторая установка состоит в том, что внутренняя политика рассматривается в контексте внешней. То есть любые нынешние критики политики власти, по сути, являются проводниками влияния враждебных государств. В советскую эпоху их называли «агентами империализма», а теперь словосочетание упростили просто до «иностранных агентов». Ярлык таких агентов, будучи закреплен законодательно, был навешан на любые некоммерческие организации, получающие зарубежные гранты (в том числе гранты ООН и других международных организаций) и на любые иностранные СМИ или СМИ с определенным участием иностранного капитала.
В итоге политический режим, сложившийся в Российской Федерации к началу четвертого срока президентства Путина, обладая рядом черт, присущих другим авторитарным режимам прошлого, серьезно отличается от них по крайней мере двумя особенностями. Во-первых, в качестве своих основных целей он поставил приращение территории и расширение внешнеполитического влияния, отказавшись, по сути, от партнерских отношений с наиболее развитыми в экономическом отношении странами. Во-вторых, руководством так и не было предпринято сколь-нибудь серьезных усилий по оздоровлению и реформированию экономики, к чему, безусловно, стремились все латиноамериканские и восточноазиатские режимы. Вместо этого был многократно увеличен военно-промышленный сектор и законсервирована традиционно доминирующая роль добывающих отраслей. Это значит, что при отсутствии демократических институтов и с учетом снижения цен на энергоносители российскую экономику неминуемо ждет стагнация, а политический режим — либо усиление его охранительной функции, либо крушение под давлением неблагоприятной экономической ситуации.
Резюмируя все сказанное, можно сделать вывод, что в современном мире труднее, нежели раньше, поддерживать искусственный политический комфорт для одной привилегированной группировки во главе с бессменным лидером. Эта группировка должна постоянно маневрировать, жестко контролируя СМИ и избирательную систему. Но такое принудительное удержание общества и его активного слоя в состоянии страха и постоянной почтительной покорности не может продолжаться вечно. Режим личной власти, как показывает практика, неизбежно приходит к кризису, к краху. Такова, с нашей точки зрения, его безальтернативная перспектива.
Однако, прежде чем такой кризис проявится, вполне реально ужесточение реакции как следствие обострения внешнеполитической ситуации и постепенной изоляции страны. Это может означать усиление давления по отношению к любой оппозиции и ликвидацию последних независимых СМИ. Неприятный сценарий, но, увы, вполне реальный. Пару десятилетий назад нечто подобное уже рассматривалось в контексте сопоставления событий в Германии в 1920-е и 1930-е годы и в России после холодной войны. Суть аналогии выражалась формулой «Веймарская Россия». Главный аргумент в пользу подобного развития событий сводился к тому, что «вековая имперская и милитаристская традиция заведомо сильнее новорожденной демократии, интеллектуально незрелой и политически неопытной. Если демократии удавалось пережить первый, второй или третий свой кризис, то пятый или десятый должен был бы добить ее наверняка. И чем глубже, чем [более] укорененной была в стране эта “государственная идея”, тем более подавляющим оказывалось ее превосходство и больше шансов получала она восторжествовать над юной и неискушенной свободой...»[51].
Нужно признать, что автор данной аналогии во многом оказался прав. «Веймарская Россия» — это, конечно, хлесткая метафора. Тот результат, к которому в 1930-е годы пришла Германия в результате эволюции ее политического режима на основе принятой в 1919 году в Веймаре Конституции, остается пока лишь устрашающим предупреждением, предметом мрачного исторического урока. О его актуальности для России начала XXI века говорить пока, вероятно, не вполне корректно. Но не следует и беспечно игнорировать угрозу подобного перерождения исследуемого режима. Особенно если его авторитарный характер становится все более очевиден, а среди его идеологических установок появляются и те, что близки имперскому национализму.
Мы должны учитывать возможность такого сценария, притом что нам представляется совершенно неизбежным возвращение на путь, ведущий к конституционному государству, — вследствие неизбежного кризиса режима личной власти.
Часть третья
Игра в наперстки с демократией
Имитационный характер современного авторитаризма
Глава 12
Гибридный или имитационный?
Дискуссия о современных политических режимах
Остановимся вначале на юридическом и политологическом подходах к исследованию. Известный французский политолог Морис Дюверже утверждал, что любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от расстановки сил в данный момент, и что различные политические режимы могут функционировать в одних и тех же конституционных рамках. Так ли это? С одной стороны, такие примеры есть, и мы сами в современной России являемся тому живыми свидетелями-очевидцами. С другой стороны, Дюверже, автор многочисленных книг по конституционному праву и политическим наукам[52], официально отошел от чисто юридического метода исследования политической организации общества в сторону социологического подхода к политическим институтам и процессам. Во многом он был, по-видимому, прав. Тем не менее его утверждение не дает ответа на вопрос, действительно ли любая конституция позволяет властям произвольно манипулировать политическими режимами. Если любаято почему? Если не любая, то какая и вследствие чего это происходит? А быть может, манипуляции политическими режимами осуществляются вне конституционных рамок? Но тогда нам необходимы четкие признаки подобных явлении в целях их диагностики, прогноза и предотвращения.
Поэтому, используя определение Г. О’Доннелла и Ф. Шмиттера, утверждающих, что политический режим — это вся совокупность явных и неявных моделей, определяющих формы и каналы доступа к важнейшим управленческим позициям[53], мы все же попытаемся проанализировать влияние политических режимов на конституционную действительность.
В своем анализе политических режимов конституционалисты обычно не столь изящны, нежели политологи и чистые теоретики. У них другие задачи, более практического толка. И быть может, в этом анализе даже что-то умышленно опускается. Но при этом конституционалисты отталкиваются от главного — от принадлежности власти и способов ее осуществления. Причем зачастую даже без учета того, что написано в учредительных или высших нормативных документах. Вернее, с учетом, но только лишь для определения состояния их регулирующего воздействия. Мы практики. Мы хорошо понимаем, что бесполезно и невозможно рассматривать политический режим отдельно от всех остальных составляющих явления — формы правления и государственного устройства, поскольку только все эти три характеристики вместе позволяют создать наиболее достоверный портрет конкретного государства. И даже заранее предполагаем, что портрет этот вряд ли идеально впишется в уже существующие модели. Но надо ли при этом признавать теорию ошибочной и менять ее? Вряд ли. Поскольку общие посылки и типологии остаются верными, потому как они и не рассчитаны на детали, которые возникают в повседневной жизни государства и права. Да, наш подход иногда вызывает у нас самих некое подобие комплекса неполноценности, но ненадолго. Мы этот комплекс оставляем за скобками и идем вперед. И для нас вообще не принципиально, как все это называется. Нам важно, откуда исходит регулирующее воздействие (те самые формы и каналы доступа к управленческим решениям) и каким образом формируется государственная воля.
Таким образом, у нас, юристов, другой угол зрения. Мы сравниваем то, что закреплено нормативно, с тем, что происходит на самом деле (от юридического к фактическому состоянию). Мы пытаемся установить, как осуществляется конституционная трансформация, какие механизмы используются для искажения конституционных установлений, и прогнозируем развитие. Или, наоборот, анализируем фактическую принадлежность власти, выявляем симптомы и суть явлений, даем юридический прогноз и анализируем возможные последствия. То есть даем в руки политикам, которым хватает мудрости и мужества принимать во внимание мнение экспертов, инструментарий для понимания и корректировки действительности и ее защиты от негативных последствий. Потому что, как известно, предупрежден — значит вооружен.
Есть еще одна причина, по которой мы это делаем, — каждый ответственный ученый, владеющий профессиональным материалом и навыками его научного осмысления, не имеет права молчать, если в ходе этого анализа получает результаты, которые свидетельствуют об ошибках развития и о возможности кризисного развития ситуации. В противном случае он перестает быть ученым. Именно поэтому мы включили в наше исследование анализ состояния современного конституционного строя России. Ровно так, как было заявлено, — от юридического к фактическому.
То есть в качестве основного предмета лабораторного исследования нами предложен анализ российской конституционной трансформации. Мы выяснили, что за прошедшие с момента принятия действующей Конституции четверть века она далеко отошла от заложенных в ней принципов и смыслов. Настолько далеко, что эти принципы и смыслы в ряде случаев не просто перестали работать из-за искаженного правоприменения, но, по сути, превратились в свою противоположность с помощью подконституционного правового регулирования. Сама же Конституция практически не претерпела изменений. И, к сожалению, этот опыт, со всеми вытекающими из него последствиями, был воспринят (вплоть до калькирования) некоторыми нашими соседями, поскольку они привыкли рассматривать Россию в качестве ориентира для подражания.
Многолетняя системная трансформация конституционного и сопутствующего ему законодательства привела к серьезным искажениям политического режима. В итоге получился некий микс — внешне один, а по содержанию совершенно другой. И однажды эти изменения стали настолько очевидными, что называть такой режим демократическим стало просто невозможно. Всему же неназванному принято придумывать новые названия. Но это непросто — придумать название политическому режиму, в котором с формально-институциональной точки зрения присутствуют и многопартийность, и парламентаризм, и политическая конкуренция, и относительная свобода слова, и многие другие внешние и институциональные признаки, которые принято считать неотъемлемыми чертами демократических режимов. Как в таких условиях отделять зерна от плевел?
Видимо, именно поэтому в начале 2017 года разгорелся спор между известными российскими представителями политической науки. Инициировала его доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман[54]. Позже в дискуссию вступили Григорий Голосов и Александр Морозов, Глеб Павловский[55], Алексей Чеснаков[56] и Элла Панеях[57].
Шульман начала обоснование своей позиции с публично заявленного пожелания венгерского премьер-министра Виктора Олбана построить в Венгрии нелиберальную демократию на российский манер, поскольку либеральная модель себя якобы исчерпала. Это заявление и стало точкой отсчета для рассуждения о современных мутациях политических режимов. А они, как и формы государств, действительно мутировали. По словам Шульман, появление имитационных демократий как гибридных политических режимов не результат порчи демократий неимитационных. Это плод прогресса нравов, который уже не позволяет применять насилие так широко и беспечно, как это было принято еще 50 лет назад. Если «лицемерие — дань, которую порок платит добродетели», то имитация — это налог, который диктатура платит демократии. Звучит красиво. Только вот диктатура несовместима с демократией, потому как при диктатуре демократии быть просто не может, равно как и наоборот.
И все же что-то такое в рассуждениях Шульман есть. Хотя бы то, что появление имитационных демократий не всегда есть процесс порчи демократий настоящих. Для некоторых стран и сегодня еще демократия является формой прогресса. Они демократию провозгласили, но пока находятся в процессе поиска путей ее достижения. А пути эти зачастую бывают весьма тернистыми и извилистыми. С поворотами, возвратами и даже ходьбой по кругу[58]. Четверть века, прошедшая со времени массового крушения тоталитарного социализма в Европе и Азии, для истории вообще не срок. Этот срок значим лишь для отдельной человеческой жизни, а в рамках всемирного процесса он всего лишь мгновение. За это время невозможно полностью изжить все прежние диктаторские стереотипы и представления. Видимо, именно поэтому имитация демократии вместо официального возврата к диктатуре воспринимается как прогресс. И заявление премьер-министра Венгрии о построении нелиберальной демократии — явление того же порядка.
Считается, что гибридный режим — это авторитаризм на новом историческом этапе. Все исследователи, называющие гибридный режим нелиберальной демократией или электоральным авторитаризмом, обращают внимание на одну его обязательную отличительную черту — декоративность демократических институтов. В таких режимах проходят выборы, но власть не меняется. Есть несколько телеканалов, но они говорят одно и то же. Существует оппозиция, которая на самом деле никому не оппонирует. А население гибридным режимам только мешает и создает дополнительные риски заветной мечте — несменяемости власти.
Да, действительно, гибридные политические режимы пока еще являются неустоявшимся предметом исследования. Их природа особенная. И поскольку исторический пессимизм всегда в моде, эту природу следует понимать хотя бы во избежание навязчивых исторических аналогий. Можно ли, например, вопреки устоявшимся стереотипам называть политический режим автократией, диктатурой или тиранией, если в стране есть хотя бы две партии и регулярные выборы? Или это все-таки «гибриды»?
Или, несмотря на любую внешнюю атрибутику, мы все же будем смотреть в корень — на механизм принятия решений? Ведь именно в нем и состоит разница между демократией и не демократией. По крайней мере, юристы, анализируя формы государства, руководствуются именно этим критерием. Когда мы говорим, что главный вопрос всякой конституции, всякой революции и всякого государства — это вопрос о власти, мы имеем в виду как раз механизм принятия решений, который определяется социальной основой власти (широтой круга участников принятия решений в различных формах) и разграничением полномочий между государственными органами (разделением властей и наличием системы сдержек и противовесов). То есть механизм принятия решений не просто «кощеева игла», а основа формы государства. И если под воздействием меняющегося политического режима происходит изменение механизма принятия решений, а следовательно, и конституционной формы правления, то это уже совсем другая история. Собственно, это именно то, что мы фиксируем по отношению к конституционному строю России.
И что нам тогда толку от рассуждений о «частичной (гибридной)», «пустой» или «либеральной» демократии? Эти рассуждения несут в себе очень немного смысла. Демократия как та булгаковская осетрина: она либо свежая, либо тухлая. То есть либо она есть, либо ее нет. Она есть, когда государство доросло до того, чтобы серьезно самоограничить себя в своих желаниях и действиях. И ее нет, когда оно до этого не доросло.
И неважно, каким способом демократию нейтрализовали — подменой конституционных механизмов, созданием институциональных и процессуальных симулякров, внеконституционным ограничением базовых прав и свобод, любыми другими способами. Для анализа важна констатация состояния и выработка способов противодействия (восстановления). А все остальное может и красиво звучит, но особого смысла не имеет. Кроме, пожалуй, failed State (несостоявшегося государства). Этот термин стали применять к самым разным государствам довольно легко, иногда даже вскользь, не слишком задумываясь о его смысле. Но пока еще никто точно не знает, где граница между несостоявшимся государством и управляемой в рискованном и неэффективном ручном режиме страной с гибридным политическим режимом. Если международное сообщество выработает в отношении таких стран хоть какую-то первичную общепринятую дефиницию, это будет важно и нужно.
Что же касается рассуждений политологов о гибридности современных демократий, то от них нам особо не жарко и не холодно. Слова о «благословении гибридности, которая более гибка и адаптивна, чем автократия», о том, что «гибрид, как гусеница, может переползти порог, о который разбиваются автократии в силу того, что он такой мягкий, неопределенный, кольчатый и может имитировать практически любую форму», — чистой воды фигура речи и допущение, не основанное на каких бы то ни было доказательствах. То есть это всего лишь гипотеза, и любой ученый имеет на нее право. Но не более. Нам важнее понимать суть процессов и их перспективу.
Современные авторитарные режимы массово мимикрируют под демократии с помощью имитации демократических институтов и процедур. Это их главная отличительная особенность от исторически изученного авторитаризма. Поэтому говорить, что «имитация — это налог, который диктатура платит демократии», по сути, абсолютно неверно. Это всего лишь институциональное приспособление автократического государства (по Алексею Чеснакову) с персоналистским режимом (по Михаилу Краснову) к условиям выживания.
«В России — автократия. Это факт», — утверждает политолог Алексей Чеснаков. Руководитель программы Фонда Карнеги Андрей Колесников еще более беспощаден в своих оценках. Режим, по его мнению, эволюционировал от попыток авторитарной модернизации к модели русского неоимпериализма и государственного капитализма (70% вклада государства и госкомпаний в ВВП)[59]. И они оба правы. Это полностью подтверждается анализом принадлежности власти и способов ее осуществления в сегодняшней России. С позиции отечественной конституционной действительности весь процесс перехода к такому состоянию уже описан. Именно автократия (самовластие, самодержавие) как форма правления основана на неограниченном и бесконтрольном полновластии одного лица в государстве. Автократия и персоналистский режим не предполагают демократии, в том числе и гибридной. Она при них просто невозможна, поскольку это несопоставимые явления. Любые демократические институты в условиях автократии не могут быть ничем иным, нежели симулякрами (потемкинской деревней). И выборы, и парламент, и партии, и даже такой оксюморон, как организованные государством негосударственные организации.
Да, конечно, гибриды встречаются. Мы наблюдаем, как все реже и реже используются чистые парламентские или президентские модели республик. Они становятся гибридами, потому что так удобнее. Для преодоления этнолингвистического конфликта Бельгия, например, использует семипалатный парламент. Огромную трансформацию в сторону унитаризма или асимметричных федераций претерпел федерализм в его понимании прошлого века. Но это все же формы правления и формы государственного устройства, а не политические режимы. Демократия, повторим, либо есть, либо ее нет.
Автократии на новом историческом этапе никакие не гибридные режимы, а самые что ни на есть настоящие автократии, а значит — не демократии. Термин «гибридный» удобен для красивого наукообразного объяснения происходящего, но он лишь приукрашивает и упрощает восприятие весьма нелицеприятной реальности. Для ученых такой подход неприемлем, поскольку меняет истинную картину исследуемого явления. Так что точнее было бы называть этот и подобные ему режимы имитационными недемократическими.
Суть этих режимов состоит в недемократическом изменении форм и каналов доступа к управленческим позициям, которые всегда определяются целями и задачами политических элит. В условиях демократических или открыто авторитарных режимов эти формы и каналы могут иметь вариации, но в целом они очевидны. При их форматировании демократические режимы руководствуются определенным набором непререкаемых и постоянно развивающихся через общественную (общегосударственную) дискуссию ценностей и смыслов, направленных на максимальное достижение консенсуса в обществе при условии регулярной сменяемости власти. Официальные авторитарные режимы, напротив, максимально сужают простор для такой дискуссии, безальтернативно подменяя при принятии решений взгляды и представления разных членов общества представлениями и взглядами узкого круга лиц. Имитационные недемократические режимы создают специальные условия для поддержания видимости общественной дискуссии, которая на самом деле отсутствует. Решения принимаются узким кругом лиц при искусственно-недостоверном, псевдолегитимном одобрении их институтами-симулякрами и жестко-репрессивно навязываются обществу.
Поскольку институционально такие режимы подпадают под определение демократических, но по своей сути (по целям, задачам и методам власти) ими не являются, нам необходимо их дифференцировать в том числе через понимание того, как они влияют на конституционную действительность, то есть научиться ставить диагноз любому меняющемуся режиму на основе анализа конституционной действительности. И если анализ трансформации конституционной действительности является одним из методов, с помощью которого мы сможем вооружить ученых других специальностей материалом, необходимым для выявления первых признаков превращения демократического режима в имитационный, то нам вряд ли следует упускать такую возможность. Ровно так, как утверждал 250 лет назад французский философ Клод Адриан Гельвеций: «Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания многих фактов»[60]. Применительно к нашему случаю это означает, что при понимании того, к каким последствиями приводят (могут привести) те или иные конституционные трансформации, нам не нужно будет долго наблюдать и фиксировать их, поскольку выявленные закономерности уже будут налицо.
Глава 13
Имитационные политические режимы как новая политико-правовая реальность
Россия вовсе не уникальна в своей конституционной трансформации, приведшей к изменению политического режима. Как уже говорилось, практически все ее элементы хорошо известны и больше всего напоминают Мексику времен Институционно-революционной партии, созданной генералом Плутарко Элиасом Кальесом в 1928 году и правившей в Мексике до 2000 года. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса назвал этот период в истории Мексики «совершенной диктатурой». В основе политической устойчивости мексиканского режима тоже лежала скрупулезная последовательная легитимация авторитарного, по существу, режима через систему формально демократических институтов. Выборы президента страны носили характер плебисцита, а определение кандидатуры преемника входило в так называемые экстраконституционные полномочия действующего президента и осуществлялось им единолично. Через правящую партию исполнительная власть до конца 1980-х годов устойчиво контролировала от трех четвертей до двух третей конгресса, что достигалось рутинной практикой избирательных подлогов. Президентская власть функционировала как автономная и самодостаточная сила, полностью господствовавшая в политике и обществе. Правящая партия концентрировала и монополизировала все административные ресурсы. Остальные политические партии были или маргинализованы, или представляли собой более или менее явные креатуры правящей партии, призванные обеспечивать видимость многопартийности. Федеральная исполнительная власть полностью контролировала губернаторов штатов, несмотря на их формальную выборность. Кстати, и экономическим основанием проекта была импортозамещающая индустриализация, создание национальной промышленности и защита внутреннего рынка от конкуренции иностранного капитала и товаров[61].
В той или иной мере подобным трансформациям подверглись многие из постсоциалистических стран, которые после крушения системы социализма вместе с бывшими республиками СССР вступили, казалось бы, на современный демократический путь развития. Большинство из них присоединились к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поменяли конституции и постепенно начали адаптировать свои правовые системы вместе с правоприменительной практикой к новому состоянию. Но за прошедшие четверть века сильно вперед ушли далеко не все из них, вернее мало кто (в том числе в определенной степени даже те страны, которые были приняты в ЕС).
Американские ученые утверждают, что спустя четверть века распад Советского Союза вообще выглядит как антидемократизационное (то есть противоречащее проходившей демократизации общества) событие. Перед его крушением Михаил Горбачев всего за шесть лет сумел почти полностью освободить СМИ, запустить конкурентные выборы и покончить с политической монополией КПСС. «В пределах нескольких лет национальная переоценка ценностей привела к переосмыслению некоторых из коренных устоев страны: однопартийная диктатура, государственная собственность на экономику; отношения с внешним миром; законность контроля Советского Союза над Восточной и Центральной Европой и контроля Москвы над союзными республиками. Приток новых идей и идеалов породил голод на свободу печати и слова, свободу выборов, на права человека, частную собственность, гражданское общество, независимое от государства. Судя по опросам общественного мнения и, что более важно, судя по тому, как миллионы россиян голосовали в ходе все более свободных выборов с 1989 по 1991 год, это, судя по всему, был один из самых коротких успешных периодов национальной интеллектуальной и нравственной переориентации в современной истории»[62]. Но после того, как Советский Союз распался на 15 независимых государств, эта тенденция прервалась и даже повернула в обратную сторону[63].
Поэтому Екатерина Шульман права — нет ничего актуальнее в современной политической науке, чем изучение политических режимов, возникших в этих странах. Терминов для них имеется множество, что отражает неустоявшийся характер предмета исследования: нелиберальные демократии, имитационные демократии, электоральный авторитаризм, нетираническая автократия.
У этих режимов есть и другие дефиниции, кроме названных Шульман. Например, американский политолог Генри Е. Хейл[64] называет их патроналистскими, английский экономист Эбби Иннес[65] — режимами партийного захвата государств. The Economist Intelligence Unit на основе индекса демократии выделяет среди этих режимов полные демократии, ущербные демократии, гибридные режимы и авторитарные режимы[66].
Михаэл Браттон и Николя Ван де Валь называют такие режимы неопатримониальными[67]. Этот термин, изначально использовавшийся для характеристики политических режимов «стран третьего мира» (Гаити, Филиппины, Кот-д’Ивуар и другие государства Азии, Африки и Латинской Америки), с течением времени начал применяться для характеристики бывших социалистических стран и тех государств, которые вместо обеспечения устойчивости реформирования демократических институтов пошли по пути выстраивания неформальной системы политического патронажа. Считается, что этот термин происходит от концепта патримониального государства М. Вебера, который снова стал актуален для объяснения особенностей политического развития государств на рубеже XX–XXI веков. Патримониальный режим означает особый тип политического господства, которое основано на центральном положении фигуры политического лидера. Классическое веберианское прочтение патримониального государства предполагает отсутствие различий между публичным и частным секторами, поскольку публичные дела являются личным делом «патриарха», так или иначе относятся к его вотчине. Неопатримониальные государства отличаются от патримониальных тем, что неопатримониальные режимы поддерживают фасад модернизации, легитимности, рациональности и профессиональных бюрократических структур[68].
Браттон и Ван де Валь, как и Шульман, в той или иной степени имеют в виду 35 из 80 государств, образовавшихся на политической карте Евразии после распада мировой системы социализма[69]. Еще больше доля таких стран на территории Европы — 22 из 50, то есть почти половина. Согласитесь, что это очень много и более чем достаточно для анализа. Мы будем, как уже договорились, называть такие режимы имитационными, поскольку именно имитация (полная или частичная) привычных и понятых миру демократических институтов является их главной отличительной чертой. Имитационный характер режимов отмечается не только на профессиональном, но и на бытовом уровне самыми разными людьми. Кинорежиссер Андрей Кончаловский свидетельствует: «Сейчас очевидно: имитируется все — и государство, и оппозиция, и все гражданские институты, и все государственные вертикали»[70]. Ту же точку зрения высказывает художник-акционист Петр Павленский: «Россия — это царство-бутафория. Со стороны власти я вижу имитацию, как во время социалистического строя. В СССР была имитация социалистического государства, а сейчас идет имитация демократического строя»[71].
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что имитационные (полностью или частично) политические режимы стали той новой политической реальностью, которую невозможно игнорировать ни в международных отношениях, ни в развитии современных демократизационных процессов в мире. Да, конечно, новый евразийский авторитаризм мягче сегодняшнего китайского режима или, например, режима Саудовской Аравии. Он не так жесток и кровав, как в диктатурах, в том числе в СССР догорбачевского периода или в Чили при Пиночете. Автократии XX века состояли на 80% из насилия, на 20% из пропаганды, а современная, новая автократия на 80% состоит из пропаганды и на 20% из насилия. Это не просто так. Главными опорами режима становятся, грубо говоря, обман и телевизор[72]. Но тенденции динамики среднестатистических уровней состояния защиты политических прав человека в небалтийских постсоветских странах[73] за весь период с 1991 года, зафиксированные Freedom House, свидетельствуют о том, что чистое движение к авторитаризму в них было пусть и не таким значительным, но абсолютно устойчивым. Поэтому нужно понимать, что в любой момент ситуация может стать резко хуже. Модель Туркменистана и Узбекистана, уже давно имеющих жестко репрессивные правительства, вполне может расползтись вширь.
Поэтому для превентивной оценки угрозы такого расползания было бы хорошо понимать, откуда подобные режимы берутся, где их истоки. Названий этих режимов много, равно как и версий их происхождения. Правда, далеко не все из них убедительны. Например, значительная часть иностранных специалистов по России винит во всех антидемократических проблемах ее авторитарного президента Владимира Путина. Но постсоветские политические системы, похожие на сегодняшнюю российскую, на самом деле появились еще тогда, когда за пределами Санкт-Петербурга никто даже не слышал о человеке по фамилии Путин.
Кроме этого, почему-то именно в Евразии вдруг одновременно обнаружилось очень много нелиберальных президентов. Что это — просто печальное совпадение или причина в другом? Ведь даже те президенты, которые изначально считались демократами, впоследствии использовали авторитарные методы правления. Например, Эдуард Шеварднадзе, который принимал активное участие в прекращении холодной войны и в демократических реформах при Горбачеве, диссидент Звиад Гамсахурдия, бывший диссидент президент Армении Левон Тер-Петросян или президент Кыргызстана Аскар Акаев — ученый, который сделал свою карьеру вне аппарата Коммунистической партии и изначально рассматривался как великая демократическая надежда страны. Получается, что лидеры, вышедшие из столь разных слоев элиты, оказались в итоге в одном недемократическом лагере. Почему? Еще одно предположение — во всем виноват экспорт самодержавия (любых других идей или практик) из России на соседние территории. Однако эта позиция опять-таки никак не объясняет, почему некоторые постсоветские страны имеют более высокие, чем в России, уровни авторитаризма. И хотя тенденции к авторитаризму после распада СССР являются общей региональной нормой, все же можно выделить группу стран с более высоким уровнем политической закрытости. Это Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и еще пять среднеазиатских государств, среди которых два (Узбекистан и Туркменистан) вплотную приблизились к тоталитарному порогу режима. В то же время в Украине, Молдове и Грузии уровень открытости значительно выше.
Если это проблема так называемого ресурсного проклятия, то почему в одном авторитарном ряду стоят бедные ресурсами Беларусь и Таджикистан и нефтехимически богатые Россия и Казахстан? Если же причиной является слабое экономическое развитие, то, опять-таки, почему авторитаризм прогрессировал одновременно с постсоветским экономическим ростом? И почему некоторые из беднейших стран региона (Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина) оказались более демократическими?
Еще одна логически ожидаемая часть исследуемого пазла — это коррупция. Почему коррупция так упорно распространена в Евразии? И почему другие, пусть даже несовершенные, но энергично развивающиеся демократии были в состоянии процветать даже в пораженных коррупцией местах (например, в Индии)?
Не найдя достоверных ответов на все эти «почему», Генри Е. Хейл делает вывод, что серебряный юбилей новой Евразии омрачается сочетанием патронализма и президентской формы правления, которые были бы еще более разрушительными для демократического развития, если бы не влияние ЕС и случайные непрезидентские конституции нескольких постсоветских стран. То есть речь идет о неких «метаусловиях», своеобразной матрице, влияющей на демократическое строительство, о которых рассуждают не только американские специалисты, но и российские ученые[74].
Патронализм по Хейлу — это такое «социальное равновесие, в котором люди организуют свою политическую и экономическую деятельность не на основе свободной конкуренции, а на системе личных связей, прежде всего путем персонализированного обмена конкретными поощрениями и наказаниями, без каких-либо принципов или идеологических убеждений. В таких обществах, как правило, превалируют личная дружба и семейные узы, которым сопутствует слабый правопорядок, повсеместная коррупция, низкий социальный капитал, патрон-клиентские отношения и повсеместное кумовство. Собственно, все то, что социологи называют “родовой” или “neopatrimonial” формой господства»[75]. И отчасти это действительно так. Алгоритм действий по принципам «ты — мне, я — тебе» и «хочу казню — хочу милую» для России норма. Похоже, что даже президента США Дональда Трампа в обвинениях контактеров его окружения с российскими адвокатами подвела именно эта российская «норма» поведения. Когда адвокат Наталья Весельницкая, действуя в интересах своего клиента на территории другого государства, пыталась решать вопросы привычными ей методами — через связи и политическое посредничество, которое во всем мире называется политической коррупцией[76].
На самом деле это чисто монархическая традиция[77]. Русский государствовед В. Ивановский говорил, что одним из преимуществ государя является «свобода от подчинения общим законам по правилу princes legibus solutus est, и как следствие отсюда безответственность монарха составляет прерогативу представителей монархической власти не только в государствах абсолютных, но и в конституционных. Это объясняется тем положением, что монарх есть источник всякой власти: что власть всех учреждений, как административных, так и судебных, заимствуется от него и что поэтому в государстве нет таких учреждений, которые были бы компетентны судить государя. Для него существует лишь суд истории и его собственной совести»[78].
В России монархия называлась самодержавием. Не абсолютной монархией, нет. Самодержавие отличалось от абсолютной монархии еще большим уровнем абсолютизма и всевластного произвола при сокращении влияния на него любых внутренних сил, помноженного на величину территории страны и разнообразие населяющих ее народов. Большинство российских дореволюционных историков и представителей государственно-юридической школы (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин) отмечали надклассовый характер российского самодержавия, что означает его несвязанность позициями и мнением любых внутренних сил. В качестве особенности российского самодержавия XIX века Ключевский выделял два параллельных интереса — постройку европейского государственного фасада и самоохрану династии. То есть практически ровно то, что мы наблюдаем сегодня в России и в ряде стран Центральной Азии. Правда, называют явление уже по-другому — политическим персонализмом[79].
Современные конституционные принципы, в том числе принцип сменяемости власти в сочетании с четкой целью эту власть непременно удержать, приводят к когнитивному диссонансу. В итоге, когда консенсус европейского фасада и возможности оставаться у власти не может быть достигнут в существующих правовых условиях, координаты этого фасада ломаются под сиюминутное властное (личное, родовое, корпоративное) желание и создается новая правовая реальность при сохранении ее внешней оболочки. Собственно, это как раз то, что мы называем имитационной конституционной трансформацией. Сосредоточение политической власти в руках института личности, а значит, девальвация парламентаризма, притом что этот институт еще и огражден практически от всяких сдержек и противовесов, неизбежно порождает единственную опору для проведения политики — бюрократию[80]. Хотя... Режимы приходят и уходят, а бюрократия вечна. И именно бюрократия в целях самосохранения начинает прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы убедить народ, что альтернативой единовластию, то есть бесконтрольному единоличному правлению, является лишь смута. Поэтому абсолютно прав профессор Краснов — это не патриархальные взгляды общества востребуют персоналистский режим, а персонализм консервирует патриархальные отношения в обществе и патриархальный взгляд общества на устройство власти[81].
Но в современном мире невозможно быть успешным и конкурентоспособным, действуя в самодержавной системе координат. Потому что цели системы сосредоточены не на развитии, а на удержании власти. И следовательно, она основана не на профессиональной конкурентоспособности, а только на личной преданности или искусственной лояльности, которые обеспечивают достижение цели. Такой подход является безусловным залогом неэффективности деятельности каких-либо институтов и государства в целом. Он приводит к вырождению кадров, снижению уровня жизни, гражданскому протесту и в итоге к неизбежному краху. В таких условиях российская поговорка о том, что привычка — вторая натура, не работает. Люди довольно быстро меняют свои привычки, когда им становится неудобно жить. И тогда стереотипы поведения, даже «впитанные с молоком матери», ломаются, сменяясь на другие. Поэтому говорить о патронализме как о роковой неизбежной причине современных авторитарных режимов можно в пределах одного — максимум двух поколений. Дальше это не работает. Плохой пережиток при современных скоростях и уровне информационного обмена закономерно эволюционно отмирает.
Есть вполне обоснованные сомнения в том, что традиция патронализма в одиночку способна обеспечить существование имитационных политических режимов. Ведь все без исключения страны, в той или иной мере совершившие сегодня поворот к авторитаризму, начинали строится на вполне современных демократических конституционных принципах. Но у всех у них, как уже говорилось, ситуация с возвратом к авторитаризму неодинаковая. Поэтому Генри Е. Хейл уточняет свое предположение о патронализме как об основной причине имитационных режимов выводом о том, что наиболее активное развитие авторитаризма происходит в странах с президентской формой правления, в то время как парламентские республики таких результатов не показывают[82]. Эту же идею выдвигает и профессор Краснов[83].
Парадоксально, но постсоветский президентализм — это продукт эпохи позднего Горбачева, когда лидер СССР сам искусственно создал свое однократно не избираемое президентство в попытке сохранить политический контроль над инициированными им демократическими процессами (по версии Хейла). Хотя есть весьма обоснованные предположения, что причины этого лежали в несколько другой плоскости и носили скорее патроналистский характер[84]. В любом случае тогда на III съезде народных депутатов СССР в марте 1990 года вопрос об учреждении должности президента вызвал не только оживленные прения, но и острую политическую конфронтацию. Ведущие советские юридические авторитеты в течение двух дней уговаривали депутатов согласиться с предложением о включении соответствующих норм в Конституцию, апеллируя при этом к некоему вакууму власти, к необходимости усиления контроля за реализацией законов и укрепления союзного центра. И в итоге с трудом, но уговорили[85].
В результате это простимулировало большинство из 15 советских социалистических республик завести себе своего собственного президента, чтобы торговаться с центром за лучшие условия «бракоразводного процесса» с СССР. После крушения Союза парламентскую модель избрали лишь три бывшие республики СССР — Эстония, Латвия и Литва. Остальные предпочли полупрезидентскую конституционную модель. В 2000 году от полупрезидентской в пользу парламентской конституционной модели отказалась Молдова, озаботившись четко обозначившейся авторитарной тенденцией. В 2010 году после революционных потрясений, закончившихся свержением режима К. Бакиева, к Вестминстерской модели перешел Кыргызстан.
Обе эти «перемены участи» наталкивают на весьма любопытный вывод. Оказывается, серьезные экономические трудности далеко не всегда подразумевают необходимость «жесткой руки» и, как следствие этого, авторитарный режим. Молдавия была беднейшей республикой СССР, на сегодняшний день Молдова — беднейшая из европейских стран. Экономические показатели, ресурсообеспеченность и уровень жизни в Кыргызстане также весьма невысоки. Тем не менее две беднейшие бывшие советские республики в итоге отказались от полупрезидентской конституционной системы и перешли к парламентской модели. По данным Freedom House, в обоих государствах незамедлительно стала наблюдаться постепенная демократизация политического режима. По данным на 2012 год, в Молдове политический режим переходного типа. В Кыргызстане также наблюдается ярко выраженная положительная динамика: если в 2009 году Кыргызская Республика была страной с консолидированным авторитарным режимом, то в 2013 году ее политический режим уже характеризуется как полуконсолидированный авторитаризм[86].
Тем не менее к началу 2000-х годов в большинстве постсоветских государств были напрямую избраны президенты, которые постепенно консолидировали в своих руках власть, в том числе и даже в первую очередь для укрощения парламента с целью создания мощного механизма своего переизбрания или передачи власти физическим или политическим наследникам. Престолопреемство, в свою очередь, привело к тому, что политика стала борьбой внутри сети личных связей, а не между формальными институтами и реальными политическими фигурами, то есть превратилась в имитацию политики.
Стремление к расширению президентских полномочий свойственно отнюдь не только посттоталитарным странам. Поскольку президент получает «мандат на власть» из рук народа, ему становится «тесно в представительской и символической мантии». Он стремится расширить свое влияние на все публично-властные институты и на все сферы публичной жизни. Это явление универсальное. Яркий тому пример — Франция. Почти вся история Пятой республики — это история попыток (часто успешных) расширить пределы президентской власти, прежде всего посредством президентского же толкования конституционных норм[87].
Аналогичные конституционные манипуляции наглядно показаны в докладе о состоянии конституционного строя России. Изначально заложенная в Основном законе страны модель потенциального использования суперпрезидентской формы правления (президент выведен за рамки системы разделения властей, но при этом является органом, определяющим основы внутренней и внешней политики и обладает широким кругом полномочий по отношению ко всем остальным ветвям власти) подтверждает гипотезу Дюверже. В рамках демократической конституции с заложенной в ней потенцией монополизации власти действительно возможно изменить и форму правления, и политический режим. Но этого могло и не произойти, поскольку процесс трансформации зависел исключительно от воли и целеполагания элит.
Профессор М. А. Краснов провел блестящее сравнительное исследование о корреляции между конституционной конструкцией власти и укреплением режима личной власти, приводящей к смене политического режима и имитационным конституционным трансформациям, в 11 постсоветских странах. В этой работе анализируется уровень авторитаризма в бывших республиках СССР, имеющих либо президентскую (Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан), либо полупрезидентскую, или смешанную (Армения, Грузия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Украина), форму правления. В отличие от Латвии, Молдовы и Эстонии, в которых установлена парламентская форма правления, обычно не продуцирующая вождистского стиля властвования[88], поскольку президенциализм[89] сам по себе является существенным фактором формирования авторитарных режимов, особенно в условиях неразвитых демократических традиций.
Итогом исследования был ответ на вопрос, подтверждается ли гипотеза о зависимости политического режима от институционального дизайна. Ответ таков: «Конечно, нельзя утверждать, что конструкция власти, предполагающая активное включение парламента в политическую жизнь, означает, что такой парламент обязательно будет сдерживать стремление президента к авторитарному стилю правления. Тут как раз многое зависит и от лидеров парламентских партий, и от политической культуры общества. Но и сама конституционная модель не должна препятствовать возможности существовать иным, помимо президента, политикам и предоставлять в их руки средства, ограничивающие авторитарные поползновения главы государства». То есть не сама форма правления определяет уровень концентрации власти. Его определяет политическая культура общества в условиях такой конституционной модели, в которой недостаточно жестко сформулированы препятствия для авторитаризма. Уродства — по Краснову — не предопределяются институционально. Институционально для них только создается благоприятная почва[90].
Но даже если конституционная модель несовершенна в плане создания такого блока, бывают ситуации, которые опровергают гипотезу Дюверже и скорее подтверждают позицию Хейла о значении президентализма в странах с традиционно патроналистскими обычаями делового оборота. Это пример Украины, где, в отличие от России, все демократические и антидемократические процессы происходили не на подконституционном, а строго на конституционном поле в рамках борьбы за форму правления. Внеконституционные методы трансформации не применялись. В рамках одной и той же конституции даже при желании элит смена политического режима была невозможна. Демократия и авторитаризм варьировали исключительно вместе с формой правления.
Немного подробнее об этой истории, поскольку в таком контексте ее еще никто не рассматривал. Дело в том, что за 20 лет с момента принятия в июне 1996 года Конституции Украины, изначально смоделированной по форме правления как смешанная президентско-парламентская республика, основные политические конфликты так или иначе возникали именно по вопросу о форме правления, поскольку именно она определяла уровень демократизации страны. В том числе в ходе так называемой оранжевой революции произошел переход от смешанной президентско-парламентской формы к чисто парламентской (это и есть то, что называют Конституцией 2004 года). Тогда Законом Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-IV в Конституцию был внесен достаточно большой список поправок. Помимо увеличения срока полномочий Верховной рады с четырех до пяти лет, значительные изменения коснулись распределения полномочий между президентом и парламентом. Полномочия президента, данные ему Конституцией 1996 года, были существенно ограничены: введено ответственное правительство (назначаемое парламентом); президент был лишен права вето на законы о поправках в Конституцию; в случае досрочного прекращения им своих полномочий исполняющим обязанности президента теперь становился не премьер-министр, а председатель Рады.
То есть речь шла о борьбе против монополизации государственно-властных полномочий в одних руках, столь характерной для большинства постсоветских государств, и наоборот. Неслучайно первое, что сделал Виктор Янукович, придя к власти в 2010 году, — инициировал с помощью подконтрольной ему фракции в Верховной раде запрос в Конституционный суд о легитимности этой редакции Основного закона. И преуспел в этом, поскольку суд сумел найти процедурные нарушения в голосовании за конституционные поправки 2004 года. Таким образом, он вернул конституционную редакцию 1996 года, по которой президентские полномочия были кратно шире, нежели в варианте 2004 года. Это решение и его порядок стали предметом рассмотрения Венецианской комиссии, которая сделала вывод о наличии серьезных недостатков в системе сдержек и противовесов украинской конституционной модели, позволяющей использовать конституционный текст как площадку для политической борьбы[91].
Вопрос о форме правления, о коллегиальности и прозрачности власти вновь со всей остротой возник в ходе противостояния зимой 2013/14 года. 20 февраля в столкновениях в Киеве погибло 77 человек. 21 февраля лидеры оппозиции вынудили президента подписать соглашение «Об урегулировании кризиса в Украине», в котором был обозначен жесткий временной промежуток (48 часов) для восстановления действия Конституции Украины 2004 года. Позже в своем телеинтервью Янукович назвал такое решение государственным переворотом, хотя переворота никакого не было — речь шла о возврате к парламентской республике (подробнее в приложении 1).
Как известно, Украина — страна с очень глубокими патроналистскими корнями. То есть получается, что патроналистская демократия возможна? Похоже, что так, поскольку она существует и в других частях мира, особенно там, где опирается на непрезидентские конституции или имеет сильные международные связи и рычаги влияния. Иными словами, path dependence — эффект колеи, зависимость будущего развития от выбранных ранее стандартов или правил — не является роковой неизбежностью, предопределяющей специфику нового пути, а все апелляции к ней есть не что иное, как оправдание отказа двигаться вперед.
В итоге Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина избежали нового витка авторитаризма. Но, как и Индия, все эти страны, как правило, тяжко обременены грузом коррупции и других проблем, которые трудно искоренить. В меньшей степени, но не свободны от этих проблем и три постсоветские балтийские страны (меньше всех Эстония). Их более низкий уровень постсоветской зависимости обусловлен, во-первых, тем, что они стали частью СССР с уже сложившимися и хорошо отработанными не патроналистскими, а парламентскими традициями, от которых даже в условиях советской формы правления они не отказались до конца. Во-вторых, эти страны находились в составе СССР на 40 лет меньше, чем другие. В-третьих, из всех республик бывшего СССР только этим трем странам было разрешено присоединиться к эксклюзивному клубу Евросоюза, который показал реальную возможность воспрепятствовать восстановлению антидемократических практик, как и в других государствах Центральной и Восточной Европы (включая румынский президентализм). Хотя последние тенденции, в том числе в Венгрии и Польше, показывают, что влияние ЕС не всегда является панацеей.
М. А. Краснов считает Украину исключением из всех постсоветских стран. Тем не менее именно Украина опровергает позицию политолога Григория Голосова, который утверждает, что «демократия выживает не там, где ее любит народ. Как элита, так и массы могут мириться с демократией, относясь к ней без симпатий. Но вот без разумного институционального устройства демократия выжить не может: как и любой механизм, она скоро ломается при наличии конструктивных недостатков»[92]. В случае с Украиной мы являемся живыми свидетелями того, как страна, имеющая в анамнезе все те же проблемы, что и остальные постсоветские государства, сумела за 20 лет построить достаточно эффективное гражданское общество, регулярно уберегающее ее от авторитаризма и от имитации демократии. В этом ее действительная исключительность. И это дает надежду на то, что та же сила будет стоять на страже украинской демократии впредь, подавая пример соседям.
Специфика украинской демократии наводит на мысль, что у имитационных политических режимов есть еще одна основа, столп, на котором покоится все это странное государственно-архитектурное сооружение. Причем похоже, что на причинно-следственных весах эта основа вполне может перевесить все остальные, поскольку патронализм и президентализм — явления институционального порядка, а эта касается людей (в том числе элит) и их восприятия мира. Один из самых влиятельных философов науки XX столетия Карл Поппер писал: «Проблема улучшения демократических институтов — это всегда проблема, стоящая перед личностями, а не перед институтами»[93]. Да, конечно. Но не просто и не только перед личностями. В первую очередь перед личностями, составляющими политический класс или являющимися лидерами общественного мнения.
О чем идет речь? Как уже говорилось, все страны, находящиеся в зоне риска возвратного авторитаризма, конструирующие имитационные политические режимы, — это постсоциалистические страны, которые после крушения системы социализма вместе с бывшими республиками СССР попытались вступить на современный демократический путь развития. Они поменяли свои конституции, наполнив их современным гуманистическим содержанием и демократическими принципами устройства государства. Многие из них присоединились к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и начали адаптировать свои правовые системы к их новому состоянию. Однако одно дело одномоментно вписать все эти сложнейшие политико-правовые ценностные категории в юридические акты, пусть даже самой высокой силы (нормативизировать их[94]), и совсем другое — воспринять эти ценности, пропустить через свое сознание и взять на вооружение в повседневной жизни, доведя такую ситуацию до каждого рядового исполнителя. То есть сформировать специальное правосознание, основанное на ценностях, которые не могли сформироваться в условиях прежней правовой системы[95].
«Действительно, в любом государстве можно сочинить документ под названием “конституция”. Но далеко не везде это будет означать создание конституционного строя, главным отличием которого является институциональное отсутствие полновластия какого-то одного института. Другими словами, конституция — это не только и даже не столько фиксация определенного положения вещей, сколько “клетка”, в которую общество помещает публично властные институты», — пишет профессор Краснов[96]. При этом роль общества вовсе не сводится только к выборам, когда, исполнив свой гражданский долг, избиратель политически засыпает до следующей кампании. В такой ситуации граждане становятся населением, нужным власти только на определенное время для пролонгации своих полномочий. Конструктивное взаимодействие государства и гражданского общества происходит постоянно исходя из посылки, что работодателем государства является именно общество и именно оно вправе оценивать не только качество предоставляемых государством услуг, но и правильность трактовки властью конституционных ценностей в ее повседневной деятельности.
Приоритет прав человека, их неотчуждаемость и пределы ограничения, ценность человеческой жизни, человеческого достоинства и условий развития личности, разделение властей в условиях системы сдержек и противовесов, регулярная сменяемость власти, честные и справедливые выборы, правовое государство, верховенство права как ограничение правом государства, правовые и неправовые законы, правовая определенность и предопределенность, ценность доброй воли в исполнении обязательств и добросовестность любых государственных действий, ценность мира и нерушимости границ — все это[97] представляет собой огромный пласт знаний и опыта реализации сложнейших системных ценностей, выработанных и воспринятых значительной частью человечества.
Тогда той же самой частью человечества было осознано, что одного только экономического и геополитического единства интересов недостаточно — для прочности сообщества народов Европы требуется единая система ценностей. На ней и был основан Евросоюз. И, как оказалось, именно эти ценности принесли процветание и развитие. Но, повторяем, это огромный объем знаний. Абсолютно новых знаний для тех, кто, не пройдя этого пути, взял себе уже готовое и невыстраданное.
Новые государства, формализовав в основных документах все эти ценности и подписав международные обязательства об их выполнении, не успели понять и по-настоящему освоить совершенно непривычный для них новый понятийно-ментальный контент принятого и подписанного. В том числе даже смыслов своих собственных конституций. Чудес, к сожалению, не бывает. Путь познания — один из самых сложных и трудоемких. Процесс познания, происходящий в голове каждого отдельного человека, всегда есть результат диалога из осмысления познаний разных людей и их мнений. И тогда происходит переход количества в качество, этакое массовое прозрение. Путь в любом случае должен быть пройден. Длиннее или короче, труднее или легче, быстрее или медленнее. То есть все сформулировано и подписано, но не понято, а жизнь продолжается. И поэтому некоторые пошли по своему привычному пути так, как знали и умели. Только путь оказался в другую сторону. А чтобы не потерять лицо перед международным сообществом, началось искусственное приспособление формализованных законом и международными обязательствами рамок под свои понятные, обыденные представления о должном и сущем. В этом, собственно, и кроется главная причина конституционных трансформаций и появления имитационных (гибридных «нелиберальных» или псевдодемократических) режимов.
Наверное, с самого начала следовало предполагать возможность подобного развития событий. Действительно, четверть века назад ни массовое профессиональное сообщество, ни наука, ни элиты (по крайней мере, в России) не были в должной мере готовы к повседневным последовательным системным переменам. Этих знаний в стране просто не было или было чрезвычайно мало. Этому не учили в школах и институтах, родители не рассказывали об этом детям, об этом мало писали СМИ.
Вот как характеризует советскую юриспруденцию профессор А. А. Иванов:
«После жестокого Сталинского 30-летия, когда идеалы права бесцеремонно попирались, а юристов постоянно репрессировали, наступил период относительной стабильности, в который стало возможно дискутировать о правовых понятиях, пусть и в рамках марксистско-ленинского учения. Тогда в научных журналах и на различных конференциях прошли целых две (!) дискуссии о системе права, а крупные юристы, пережившие “лихие” годы, начали выпускать монографии, в которых давали свои трактовки фундаментальных правовых категорий.
Конечно, “советизация” юридического образования уже давала о себе знать. Многие ученые перестали следить за развитием правовых взглядов в “капиталистических”, как их тогда называли, странах, да часто и не имели такой возможности, не зная иностранных языков и не имея доступа к иностранным источникам. Поездки за границу были резко ограничены, иностранные журналы и книги свободно выписывать было нельзя, поэтому системных знаний об иностранном праве почти никто не имел. “Железный занавес ” в СССР делал иностранные языки ненужными, лишал стимулов к их изучению.
Вместо знаний из области сравнительного правоведения советская юриспруденция была густо замешана на марксистко-ленинском учении, которое употреблялось к месту и не к месту. Это был своего рода общественный дискурс тех лет, тем более что все остальное считалось пропагандой буржуазных взглядов, в которых никто толком не разбирался. Одни и те же цитаты классиков подвергались разной интерпретации, использовались как доказательство противостоящих друг другу точек зрения и концепций. В этом смысле советская юриспруденция мало чем отличалась от религиозной деятельности. Примерно то же делали и делают толкователи Торы или Корана»[98].
Говорят, что варварство лечится образованием и культурой. Это так. Но 25 лет для искоренения «варварства» в такой большой стране явно мало, особенно в отсутствие нужного количества учителей. Только, пожалуй, сейчас, четверть века спустя, в России подготовлено некоторое, хотя пока еще явно недостаточное количество специалистов, понимающих и умеющих трактовать демократические ценности и смыслы. Но, увы, сегодня эти специалисты мало востребованы сообществом, допущенным к принятию государственно-властных решений, — так называемой политической элитой. Отсюда следует, что дело не только в том, чтобы просто образовать какую-то часть населения. Для проведения, удержания и охраны курса последовательной демократизации нужно понимание и убежденность в нем политических элит. А политические элиты, в отличие от элит настоящих, лучшей, отборной частью общества на самом деле являются далеко не всегда.
Горбачев и Ельцин, осуществившие демократический прорыв в СССР и России, во времена своего политического лидерства не могли претендовать на глубокие и последовательные знания в области демократии. Отсюда их многочисленные срывы и ошибки. Но они нашли в себе силы слушать и слышать специалистов в этой области и допускать их к подготовке решений. Когда у следующего президента специалисты-советники сменились на представителей силового блока, имевших совершенно иные морально-психологические ориентиры и соответствующую этим ориентирам политическую волю, развитие остановилось и повернуло вспять.
Современные исследования выделяют две основные стратегии, которые в отсутствие указанной политической воли оказываются малоуспешными и существуют в большей степени для поддержания демократического фасада. Это стратегия заимствования институтов и стратегия выращивания институтов. Заимствование предполагает перенос на почву постсоветских стран тех норм, правил и механизмов государственного управления, которые успешно зарекомендовали себя в политических и институциональных условиях иных стран и могут быть адаптированы для решения задач экономического роста и развития (параллельно с существующим неопатримониальным «ядром»). Выращивание же основано на том, что новые нормы, правила и механизмы создаются в тех или иных сферах управления сперва на узких участках и в особых экспериментальных условиях и позднее распространяются «вширь» и «вглубь» на более широкие сферы. Хотя теоретически обе эти стратегии выглядят осмысленными и всячески продвигаются международными экспертами в ряде стран, на деле обе они демонстрируют неустранимые изъяны, ставящие под вопрос их релевантность[99].
Успешной работе заимствованных, имплантированных институтов препятствует их выхолащивание, поскольку они созданы для работы в несколько другой системе ценностей. Поэтому, развиваясь ради достижения изначально редуцированных или вовсе иных задач, они, конечно, имеют какой-то результат, но с точки зрения эффективности работы всегда оказываются вне возможности адекватного сравнения с их аналогами из тех правопорядков, откуда они позаимствованы[100].
Надо понимать, что те государства, которые в свое время послужили образцом для постсоциалистических демократических преобразований, тоже далеко не сразу пришли к своему сегодняшнему состоянию. Этому предшествовал длинный, порой многовековой путь, наполненный ошибками, проблемами, спорами, борьбой за каждую проверенную практикой запятую в понимании того или иного политико-правового явления. Более двух столетий назад в Европе весьма противоречиво оценивали принятие французской Декларации прав человека и гражданина. «Политики и историки тщательно взвешивали ее значение и нередко приходили к выводу, что именно она содействовала той анархии, которая водворилась во Франции после взятия Бастилии. Утверждали, что она лишена реального политического содержания и живого понимания деятельности государства. Другие восхваляли ее как откровение со всемирно-историческим значением, как вечную основу государственного строя, как самый драгоценный дар, принесенный Францией человечеству»[101].
Но прошло время, и в итоге были сформированы сменяемые элиты, которые даже при разнице своих политических программ были абсолютно единодушны и последовательны в отстаивании, сохранении и развитии демократических ценностей. Потому что эффективность демократической плюралистической политической структуры, как выяснилось, зависит не только от добросовестной конкуренции, но и в огромной степени от приверженности демократическим ценностям профессиональных элит[102].
Постсоциалистическим странам, быстро ассоциировавшимся с ЕС или вступившим в него, было несколько проще, чем тем, что остались за пределами европейского клуба. Вступившие были накрепко связаны не только своими конституциями и Европейской конвенцией, но и жесткими регулирующими предписаниями Евросоюза, о выполнении которых должны были ежегодно отчитываться. То есть возможность для ретроманевра у них была минимальной. Но элит своих они все же сформировать не успели. Поэтому, например, Венгрия и Польша после поражения социал-демократов пережили попытки восстановления левой политической монополии, фактически «партийного захвата государства». Например, в июне 2017 года в Венгрии приняли закон, аналогичный российскому закону об иностранных агентах. Поэтому в деле российских иностранных агентов («“Экозащита” и остальные против Российской Федерации») ЕСПЧ сразу предложил выступить в качестве третьих лиц Венгерскому Хельсинкскому комитету, Венгерскому союзу гражданских свобод, местному отделению Transparency International, центру журналистских расследований Atlatszo.hu и Институту политики имени Кароя Этвёша, основанному Фондом Сороса, подпадающим под действие этого закона[103].
Еще в одной группе стран (Чехия, Словакия, Румыния, Болгария и Латвия) политические элиты оказались более предприимчивыми и создали «брокерские» партийные системы, в которых государственная политика является побочным продуктом экономической конкуренции. И все же все пять государств показывают высокий уровень партийно-корпоративного захвата государства, в котором государственная власть осуществляется в первую очередь для личной выгоды.
В связи с этим в научный оборот был введен термин «массовые элиты». С. Дж. Коэн определил их как идеологически неангажированные и, следовательно, мотивированные краткосрочным личным корыстным интересом[104]. В Чехии, Румынии, Болгарии, Латвии и, с оговорками, Словакии такие массовые элитные «тусовки» при отсутствии профессиональных демократических элит по-прежнему преобладают. Несмотря на очень разное экономическое наследие каждой из стран и сроки реформ, их сближение с брокерской моделью государства является очевидным. И именно эти массовые элиты становятся (зачастую чисто случайно) участниками политической конкуренции. Это «партии — бизнес-фирмы», а не общественные организации, в которых производимые общественные блага являются сопутствующими по отношению к их реальной цели, а политика вообще «побочный продукт»[105]. Они формулируют политику, чтобы выиграть выборы, а не выигрывают выборы, чтобы формулировать политику.
Подмена партиями смысла политики и предвыборной мотивации тоже является разновидностью имитационного политического режима, поскольку она осуществляется ради выборов, а не выборы — ради проведения политики. Соревновательный элемент состоит в том, что румынский ученый А. Мунджиу называет «низким партикуляризмом» — мотивацией, основанной на доступе к государственным активам[106]. В любом случае в этих странах происходит ограничение прав человека при формировании представительных органов власти, потому что цели кандидатов носят подменный характер. Отсюда наблюдаемое снижение интереса избирателей к выборам и к участию в политической жизни (в Латвии, например, интерес к политике упал до минимального уровня — 10% от числа избирательного корпуса). Неслучайно ни одно из постсоциалистических государств при классификации их политических режимов по индексу демократии не отнесено к полным демократиям. Максимум, на что они могут претендовать, — это на так называемые ущербные демократии (Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония), а часть попала в разряд гибридных режимов (Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Македония, Украина, Черногория)[107].
В свое время Макс Вебер вывел стандарт западной рациональной системы управления, которая так и называется Веберовским стандартом, одним из условий действия которого является политическая конкуренция. Однако применительно к новым странам — членам ЕС политическая конкуренция является хоть и необходимым, но, увы, недостаточным гарантом Веберовского стандарта. Как минимум половина новых членов ЕС характеризуется мощнейшей политической конкуренцией в частных целях. Пока еще остается эффективным чешское правительство. Чехия среди новых стран ЕС вообще наиболее успешна, что во многом обусловлено Пражскими события 1968 года и последовавшим за ними изменением отношения интеллигенции к СССР вкупе с десятилетним президентством профессионального либерального правозащитника Вацлава Гавела. Это позволило сформировать гораздо более широкий слой профессиональной либеральной элиты, что до сих пор сказывается на качестве управления страной. Но и в Чехии, независимо от успехов политики в области благосостояния, образования, энергетики, окружающей среды и др., имеются доказанные возможности для рентоориентированного союза партийной и бизнес-элиты[108].
Отсутствие общечеловеческих и общедемократических ценностей в менталитете политических элит предполагает невозможность серьезного обсуждения вопросов реализации этих ценностей, внесения их в повестку дня внутренней политики государств и, наоборот, отсутствие реакции при принятии конкретных решений, противоречащих международным принципам и правилам. Такое состояние порождает замкнутый круг, цепь действий и решений, нарушающих, например, права и свободы человека, становится деловым обыкновением, судебной практикой, оправданием произвола чиновников, которые, в свою очередь, издают новые ограничивающие права циркуляры и инструкции. В подобной ситуации надежда, увы, только на смену поколений, да и то при условии, что эти поколения будут соответствующим образом подготовлены. Но даже один-единственный представитель политической элиты, владеющий необходимыми знаниями, может «переворачивать миры» так, как это произошло в Украине, когда шестикратный депутат Верховной рады, дважды министр юстиции и член Венецианской комиссии за демократию через право юрист-международник Сергей Головатый стал основателем украинской школы прав человека, написав многотомный учебник и настояв на введении предмета во все образовательные программы страны[109].
Глава 14
Имитационные политические режимы и парламентаризм
(политический режим — парламент — выборы — качество законов)
«После вступления в ЕС систематические попытки отката демократии достигли результата только там, где до сих пор по политическим и экономическим причинам не удалось создать эффективного представительства: в Венгрии», — такой однозначный вывод делает британский политэкономист Эбби Иннес[110]. Все верно. Иначе и быть не могло. Мы здесь уже довольно много рассуждали о парламентской форме правления как о барьере на пути восстановления авторитаризма в постсоциалистических странах. Но даже при смешанной и президентской формах парламент играет огромную роль в любых имитационных конституционных трансформациях, приводящих к смене политического режима. Без парламента такие трансформации осуществить невозможно. И поэтому первой и главной мишенью элит, целью которых является создание механизма несменяемости власти, становится именно парламент и порядок его формирования.
В книге «Правовое пространство России» И. Н. Барциц приводит любопытное высказывание некоего Карлетти — итальянца, посетившего Россию еще во времена царствования Александра III. Этот иностранец писал: «Вообразите себе парламент, куда входит и самоед, одетый в оленью шкуру, и киргиз в своей тюбетейке, и калмык в шелковом или бархатном бешмете, и армянин в своем черном кафтане, и черкес в башлыке из верблюжьей шерсти с набором снарядов на груди, и грузин в архалуке... а затем уже следует великороссиянин, белорус, мингрелец, татарин, молдаванин, перс. Подумайте, какие тут могут быть однородные идеалы и партии (курсив наш. — Е. Л., И. Ш.), когда великоросс будет стоять на своих консервативных началах, малоросс станет увлекаться демократическими стремлениями, финляндец выдвинет свою Конституцию, поляк — республиканские надежды, а монгол станет придерживаться авторитарных преданий прежней власти. Кто сможет привести к согласию все эти разнородные стремления, вероисповедания, идеалы?»[111]
Ответ на этот непростой вопрос у синьора Карлетти был один — к согласию может привести только самодержавие. По мнению Карлетти, представители разных народов не имели какого бы то ни было шанса сами договориться между собой. Парламент должен быть руководим и жестко направляем некой единой централизованной властью. То есть логика Карлетти была примерно такой же, как у современной российской власти. Вряд ли он знал, что такое парламентаризм. Хотя мог и должен был знать — основы теории народного представительства к этому времени были уже разработаны. Такие базовые для понимания специфики парламентаризма произведения, как «Английская Конституция» У. Бэджгота (Walter Bagehot. The English Constitution) и «Комментарии к английским законам» У. Блэкстона (William Blackstone. Commentaries on the Taws of England), уже были опубликованы в то время — первое в 1867 году, второе практически на сто лет раньше, в 1765 году.
Парламентаризм как особая система государственного руководства обществом, которая характеризуется разделением труда, законодательной и исполнительной ветвей власти при привилегированном положении парламента[112], — неотъемлемая ценность, без которой невозможно нормальное функционирование демократического государства. Основой современного парламентаризма являются свободные и справедливые выборы в совокупности с разумным функциональным разграничением полномочий между ветвями власти и при наличии взаимной системы сдержек и противовесов. Но эта ценность несовместима с авторитарным политическим режимом. Как реальный конкурентоспособный инструмент, она представляет угрозу его существованию. Поэтому многие современные авторитарные режимы в первую очередь создают условия для имитации парламентаризма.
Парламентаризм не может существовать без парламента. Сильный, авторитетный и полновластный парламент является его основой. А вот парламент без парламентаризма существовать может[113]. Потому что качество парламентаризма — как высшее свойство настоящего парламента — может быть им утрачено. Слабый или зависимый парламент не может в полной мере реализовывать свои функции таким образом, чтобы обеспечивать полноценное существования системы парламентаризма. Тогда он становится парламентом совершенно другого рода — относительно представительным учреждением, выполняющим законодательные функции, что характерно для официальных авторитарных режимов.
Еще опаснее, когда некий орган, называемый парламентом, на деле становится его полным симулякром при конституционном закреплении принципа разделения властей и других демократических институтах. Демократическим политическим режимам в условиях республиканской формы правления или ограниченной монархии современного типа парламентаризм необходим. Такие страны нацелены на формирование максимально представительных парламентов для учета состояния общества при выработке общеобязательных правил поведения. Потому что бесконфликтное взаимодействие власти и общества, равно как и высокая эффективность правореализации, возможно только в условиях достижения консенсуса при принятии и исполнении общеобязательных правил поведения. В этом случае государству выгодно и несложно брать на себя и реализовывать обязательство самоограничения своей воли волей общества и обеспечения прозрачности своих институтов.
Для решения этой задачи избирательные системы мира прошли долгий путь эволюции, придя к своему сегодняшнему состоянию, обозначенному в европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод как «проводящиеся с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти». На самом деле за этой фразой стоит набор жестких принципов и стандартов, определенных специальными межгосударственными органами[114], направленных на поддержание избирательного законодательства и избирательной практики в состоянии, обеспечивающем обозначенные цели при формировании высших представительных органов власти.
Процесс последовательной демократизации избирательного права в мире и осмысление его новых критериев был долгим и непростым. В разных странах он проходил по-разному. Его сопровождали подъемы и спады, вплоть до некоторого увядания парламентаризма и снижения роли представительных учреждений. Но по мере накопления прогрессивных избирательных практик ситуация стала выравниваться — парламенты, сформированные по новым стандартам, постепенно начали возвращать свои утраченные позиции (Франция, Финляндия, США, Израиль)[115].
Конечно, основой парламентаризма являются не только выборы, и утрата парламентом качеств парламентаризма зависит не только от них. Разграничение полномочий между законодательной и исполнительной властью играет огромную роль в определении места и роли парламента в жизни государства и общества. Но порядок формирования представительных органов (избирательная система как реализация правил, установленных избирательным законодательством) остается одним из важнейших факторов, определяющих значение парламента и эффективность его функционирования. Поэтому реальные цели псевдодемократических режимов, направленные на укрепление исполнительной власти в ущерб представительной, как правило, достигаются именно путем постепенной, длящейся трансформации избирательных законов. Эта перманентная трансформация не так внешне заметна, как явные конституционные поправки, но при этом с ее помощью может быть вполне успешно достигнут искомый результат — лишение парламента качеств парламентаризма, превращение его в послушный придаток исполнительной власти или в симулякр представительного органа.
Поэтому комплексное исследование способов и методов инволюции (обратного от демократического развития) избирательных систем имеет не только важное общетеоретическое правовое и политологическое значение. Оно может дать практикам инструментарий для фиксации проблемы, ее понимания и исправления в случае необходимости. Чтобы, например, суметь ответить, почему «действующая система российского законодательства, регламентирующая формирование и деятельность парламента, не способна в полной мере реализовать принципы парламентаризма»[116] и как эту ситуацию исправить. В данном случае в качестве примера используется российский опыт. Но выводы, сделанные в результате анализа, могут быть использованы для любой другой страны при выявлении признаков возникновения имитационных политических режимов на основе трансформации избирательных систем. Могут быть также использованы и выводы о рисках для законодательства и качества законов, которые наступают в условиях формирования парламента-симулякра.
Избирательное законодательство является сложным системным явлением, совокупностью норм, построенных на принципах, которые обусловлены политическим режимом конкретного государства в условиях определенной формы правления. Как известно, политический режим — это способ организации политической системы, отражающий отношения власти и общества, который характеризует взаимоотношения правящей политической элиты и населения и представляет собой совокупность методов практического осуществления государственной власти. То есть это всего лишь набор технологий, посредством которых достигаются цели власти. Меняются цели — меняются режимы. Меняются режимы — меняется избирательное законодательство.
Поэтому налицо прямая зависимость состояния избирательных систем и избирательного законодательства от действительных целеполаганий групп, определяющих внутреннюю политику государства. Эти целеполагания не всегда могут совпадать с декларированными или даже конституированными целями и задачами. Одним из главных показателей того, каким будет избирательное законодательство или по каким направлениям будет проходить его трансформация, является истинное назначение парламента и его место в системе разделения властей.
В зависимости от политических режимов (способов достижения истинных целей власти) парламенты или те органы, которые условно именуются парламентами, различаются. В демократических политических режимах они имеют неодинаковый, но в любом случае широкий круг полномочий. В недемократических политических режимах представительные органы власти чаще всего марионеточные, симулякры или вообще отсутствуют[117]. Круг их официальных или реальных полномочий сужен. В частности, в персоналистских режимах лидер вынужден постоянно ослаблять представительные институты власти из боязни создать себе сильных конкурентов, способных ограничить его власть[118].
Соответственно, для создания марионеточного органа или парламента-симулякра нет никакого смысла иметь демократическую избирательную систему. Вернее, марионеточный парламент невозможно сформировать с помощью демократических выборов. И наоборот, парламент, отвечающий требованиям парламентаризма, невозможно создать путем несвободных и неконкурентных выборов.
При определении функционального назначения парламентов и, соответственно, основных параметров избирательных систем политический режим первичен по отношению к форме правления. В рамках одной и той же формы правления возможны разные избирательные системы и совершенно разное избирательное законодательство. Ярчайшим тому примером является РСФСР — СССР на разных этапах своей государственности. Так, советская республиканская форма правления в условиях политического режима диктатуры пролетариата (1918–1936) предполагала совершенно определенный состав представительных органов власти. Для формирования такого состава требовалось полное отстранение от участия в выборах всех «эксплуататоров» (лиц, использующих наемный труд), духовенства, офицеров царской армии и членов императорского двора, а также не вполне равное представительство крестьянства по сравнению с рабочими в Советах.
В условиях республики трудящихся (1936–1988) к участию в принятии государственно-властных решений (пассивное избирательное право) допускались только работающие граждане. Поэтому кандидатов в депутаты Советов могли выдвигать исключительно трудовые коллективы. Какие-либо другие законодательные ограничения избирательных прав были отменены. Но при конституционно закрепленном авторитарном режиме[119] руководящей и направляющей роли КПСС высший представительный орган власти — Верховный Совет СССР — мог быть только марионеточным, искусственно сформированным законодательным органом, собиравшимся два раза в год на свои торжественно-парадные заседания для одобрения уже принятых решений (указов Президиума Верховного Совета) или формального бездискуссионного голосования за полностью подготовленные законы. Поэтому реальных выборов, при всей внешней избирательной свободе, в этот период в стране не было. Выдвижение кандидатов происходило по разнарядке сверху по утвержденным нормам представительства (возраст, пол, профессия, образование, национальность, партийность), а само голосование было безальтернативным. Верховный Совет не именовался парламентом. Парламентаризм и разделение властей отрицались как буржуазное учение и были заменены на теорию «Советов — работающих корпораций» и принцип единства власти.
Но как только цели и задачи власти сместились в сторону демократизации политической системы и смены политического режима, ситуация изменилась кардинально. В рамках той же самой формы правления была немедленно проведена реформа избирательной системы (1989), прошли свободные альтернативные выборы и был избран высший представительный орган власти, который только по названию ассоциировался с прежним Верховным Советом, но при этом отвечал основным признакам парламентаризма. Его называли парламентом со стеклянными стенами, поскольку все заседания, дискуссии и голосовании были прозрачными и доступными всему населению страны. Впервые за всю советскую историю они транслировались полностью, без купюр, и люди активно потребляли эту информацию.
То есть задача обеспечения специального представительства, соответствующего определенной социальной базе власти и целям определенного политического режима, всегда решалась с помощью избирательного законодательства или создания специальных избирательных практик.
Если с официальными демократическими или антидемократическими режимами все понятно — там через определенную избирательную систему открыто реализуются заявленные политические цели, то в условиях гибридных, имитационных (подменных) или псевдодемократических режимов все сложнее, поскольку заявленные цели не соответствуют целям фактическим. Поэтому при таких режимах требуется постепенная, кропотливая и тонкая работа по приспособлению под эти цели избирательных систем.
Например, создание парламента-симулякра при внешнем сохранении демократических принципов и целей государства и института выборов обеспечивается формированием строго необходимого большинства персонального состава депутатского корпуса, что, в свою очередь, предполагает максимально полный контроль за избирательной системой и избирательным процессом. Чтобы реализовать такой контроль, нужно определенным образом трансформировать избирательное законодательство, но при этом максимально соблюсти демократические приличия. А это возможно только тогда, когда в распоряжении властной элитной группы имеются неограниченные законодательные полномочия. То есть изначально ставится задача начать трансформацию с последующим формированием зависимого парламента для полного контроля за последовательно продолжающимся процессом.
В России, например, в апреле 2002-го, за год до предстоящих федеральных парламентских выборов, одной из фракций в Государственной Думе третьего созыва было нарушено пакетное соглашение о руководстве комитетами и комиссиями и фактически захвачены все руководящие посты, что обеспечило ей большинство голосов в Совете Думы. Именно это событие является точкой отсчета начала трансформации современной российской избирательной системы.
Анализ трансформации избирательных систем современных имитационных режимов позволяет систематизировать способы, с помощью которых достигаются поставленные политические цели. Трансформация обычно происходит по двум основным направлениям. Это, во-первых, изменение правил организации и проведения выборов и, во-вторых, ограничение способов защиты избирательных прав.
Изменение правил организации и проведения выборов включает в себя следующие меры:
• прямое изменение законодательства с использованием зависимого парламента;
• блокирование любых общественных и законодательных инициатив, направленных на модернизацию и усовершенствование избирательной системы;
• подмена правовых норм квазинормативными актами (инструкциями, методическими рекомендациями и др.) путем придания этим актам обязательного характера;
• основанное на использовании административного ресурса произвольное правоприменение, не связанное с изменениями в нормативно-правовой базе, но создающее систему деловых обыкновений (обычное право);
• судебное толкование практики применения избирательного законодательства и создание прецедентов.
Ограничение способов защиты избирательных прав обычно осуществляется через:
• административногое давление на суд при рассмотрении избирательных споров;
• изменение смысла и содержания деятельности избирательных комиссий, выведение их из системы органов контроля и защиты избирательных прав и превращение де-факто в разновидность органов исполнительной власти;
• сокращение оснований для применения ответственности за нарушения избирательного законодательства;
• толкование избирательного законодательства органами конституционного контроля в ущерб избирательным правам.
Совокупность всех этих способов приводит к фактическому созданию совсем иной избирательной системы, альтернативной конституционно-установленным принципам народовластия в условиях политического плюрализма, свободного входа на политический рынок и подотчетности представительной власти обществу. С ее помощью формируется парламент той модификации, которая необходима для реализации властных задач.
Систематизация способов трансформации избирательных систем крайне важна для понимания происходящих процессов, поскольку в случае возникновения необходимости возвратить избирательные системы к своему изначально конституционному состоянию исполнители будут иметь готовый план действий по нейтрализации последствий трансформации.
Интересен также опыт анализа поправок, вносимых в трансформируемое избирательное законодательство. Как правило, эти поправки не вносятся одномоментно, а представляют собой хаотичный на первый взгляд комплекс многочисленных мелких разновременных изменений, трудно поддающихся дифференциации. Однако приведение их в определенную систему позволяет увидеть внутреннюю логику и цели преобразования.
Например, все поправки, внесенные в российское избирательное законодательство с 2002 по 2017 год можно разделить на несколько групп:
1) поправки, ограничивающие свободный и равный доступ к выборам;
2) поправки, ограничивающие равенство субъектов избирательного процесса;
3) поправки, направленные на интеграцию избирательных комиссий в систему исполнительных органов власти;
4) поправки, нейтрализующие возможности общественного контроля на выборах;
5) поправки, трансформирующие избирательную формулу распределения мандатов.
Такая классификация, выведенная на основе таблиц конкретных поправок, позволяет не только быстро и эффективно проводить антитрансформацию, но и фиксировать скрытое изменение политических режимов. Если налицо наличие подобных групп поправок, следует ставить вопрос о попытках трансформации политического режима в стране, поскольку такие поправки ведут к созданию парламента совершенно иного типа.
За последние 15 лет в России наблюдается стойкое последовательное снижение явки избирателей, неуклонное падение рейтинга парламента при одновременной активизации его деятельности, увеличении числа законов и резком снижении их качества. И если некая связь между выборами и парламентом предполагалась изначально, то зависимость электоральной активности и качества законов от состояния избирательной системы на первый взгляд не столь очевидна. Связаны ли эти явления между собой? Если установлено, что целевая трансформация избирательного законодательства приводит к созданию парламента определенного типа, можно ли сказать, что такая трансформация может повлечь за собой падение его авторитета и снижение качества законов? Попробуем разобраться.
До этого мы доказывали, что порядком выборов определяется уровень самостоятельности (или степень зависимости) парламента. Но это всего лишь общая характеристика его фактического статуса. В ходе выборов определяются и другие параметры, влияющие на эффективность деятельности законодательного органа — его представительный характер и персональный состав. И пока еще роль личности в истории никем не опровергнута, оба эти параметра играют крайне важную роль — от представительного и персонального состава парламента зависит качество законов как главной производимой парламентом «продукции».
Представительный состав парламента. Теория народного представительства за четыре сотни лет своего существования приобрела характер аксиомы. Невозможно переоценить роль и значение действительно представительного парламента в формулировании и принятии общеобязательных правил поведения. Представительный характер — непреложное общепризнанное требование к составу высшего законодательного органа власти, потому что только реально представительный орган является таким зеркалом общества, которое позволяет достичь договоренности не только о существе правила, но и о судьбе его исполнения.
Ненадлежаще сформированный парламент — это кривое зеркало. Парламент, решения которого в силу особенностей его формирования не обеспечивают учета всей палитры общественного мнения и интересов различных слоев общества, утрачивает представительный характер, а его деятельность теряет смысл. Если общество не в состоянии влиять на деятельность парламента, он перестает эффективно работать и выполнять свою функцию. Поддержка населением парламента обусловлена уровнем осмысления и реализации общественного запроса в его решениях. Не вполне представительный парламент не в состоянии такой запрос полноценно осмыслить и сформулировать.
Искусственное представительство (выборы Верховного Совета СССР образца 1936–1988 годов по разнарядке сверху) или искусственно-диспропорциональное представительство (пример российской Государственной Думы шестого созыва, когда одна партия, набравшая 49% голосов на выборах, получила почти 53% депутатских мандатов) не решают задачи представления интересов населения. Наоборот, искусственное представительство снижает доверие к парламенту и негативно сказывается на качестве законов.
Персональный состав парламента. Что касается персонального состава парламента, то его состояние в России довольно точно охарактеризовал председатель Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Володин, в прошлом заместитель руководителя администрации президента и соавтор значительной части избирательных реформ последнего десятилетия: «После того как партии сформировались, стали конкурировать партийные бренды, а не личности. Наполнение партийных списков авторитетными людьми уже стало вторичным. Это плохо очень, потому что качество представительства в Думе стало снижаться»[120].
Все верно. Правда, Володин слегка слукавил — количество партий, допущенных к выборам в течение 10 лет было строго и необоснованно ограничено государством. Отстранение от предвыборной борьбы реальных оппозиционных политических сил как раз и являлось одним из важнейших элементов трансформации избирательного законодательства. Естественно, что в отсутствие политической конкуренции оставшиеся в политическом поле партии перестало заботить качество персонального отбора кандидатов. В итоге шестая Государственная Дума стала парламентом с одним из самых низких рейтингов и самым печальным законодательным итогом своей работы.
Персональный состав парламента вообще нельзя недооценивать. Депутаты, избранные не по принципу «лучший из лучших», не участвовавшие в жесткой конкурентной борьбе, а получившие свои мандаты путем искусственного отбора, имеют недостаточные мотивации для принятия высококачественных парламентских решений. Для них при голосовании за законопроект определяющим, скорее всего, будет не поиск единственной точной формулы принимаемого правила, а мнение тех, с чьей помощью они получили депутатское место. Это простой человеческий фактор. Именно на него опираются авторы избирательных трансформаций, производимых во имя достижения определенных политических целей. Но этот же фактор, возвращаясь бумерангом, наносит удар по престижу и качеству работы парламента.
Снижение качества законов. Как уже говорилось, не вполне представительный парламент не в состоянии полноценно осмыслить и сформулировать в своих решениях общественный запрос. Парламент, в котором нет дискуссии в силу отсутствия политической конкуренции, рискует принимать не до конца продуманные и непроработанные решения. Наличие в одном парламенте всех трех факторов одновременно является огромным риском и причиной тотального снижения качества законов.
Парламент, в котором одна из фракций численно превалирует над всеми другими, будет естественным образом стремиться к сокращению парламентских процедур и упрощению стадий законодательного процесса. Хотя именно законодательные процедуры являются специально выработанным человечеством дополнительным фильтром, гарантирующим принимаемые законы от ошибок, дефектов и коллизий. В том числе даже скорость прохождения законопроекта влияет на его качество — чем дольше законодательная процедура, чем активнее его общественное обсуждение, чем больше откликов и замечаний он получает от будущих субъектов правоотношений, тем выше качество итогового документа, выходящего из парламентских стен.
При искусственно сформированном большинстве в парламенте крайне маловероятна какая-либо дискуссия. Фракции, имеющей большинство, для принятия решений не нужен никто — она легко может заблокировать любые инициативы и возражения. Но нельзя забывать, что власть, формулирующая цели и задачи государства сама себе в своем узком кругу, сильно рискует. В условиях функционирования карманного парламента риск расхождения целей власти с интересами общества очень высок. А это, в свою очередь, с высокой степенью вероятности предполагает уязвимость и неисполнимость ее решений.
Соотношение количества и качества законов. Показательна сравнительная характеристика результатов деятельности российского парламента до и после трансформации избирательного законодательства. С момента начала работы парламента, сформированного по новым правилам, резко возросла его законодательная активность. За первые четыре года среднее число ежегодно принимаемых законов увеличилось с 202 до 396. Позже, к 2015 году, это число перевалило за 450.
Получается, что парламент работает со скоростью пулемета. Но в этом ли состоит эффективность его деятельности? Можно ли вообще количественно оценивать работу законодательного органа? Думается, что нет. Множественность и нестабильность правового регулирования не просто вредны — они чрезвычайно опасны для государства.
Общеизвестно, что в правотворчестве следует исходить из принципа регулирования только тех вопросов, которые граждане и организации не могут решить самостоятельно и которые затрагивают их общие интересы. Неоправданное множественное правовое регулирование не только ведет к ограничению свободы личности, но и вызывает инфляцию законодательства, способную вообще парализовать регулирующую функцию права. Стабильность правового регулирования достигается лишь при максимальной продуманности и обоснованности закона. Но такой подход доступен только высокопрофессиональному и ответственному парламенту. Поспешный и поверхностный подход, неадекватное отражение действительности приводят к многочисленным поправкам и исправлениям в законодательстве. Сиюминутное правовое регулирование и практика «латания дыр» тоже не повышают качества законодательства. Поэтому парламенты-симулякры не способны на самостоятельную аналитическую деятельность. Они либо штампуют в режиме одобрения спущенные сверху законопроекты, либо действуют импульсивно, принимая законы и поправки к ним ad hoc (по случаю), не заботясь о системных связях и адекватности этих поправок.
Кроме того, принятый наспех, не прошедший общественной экспертизы и не обсужденный должным образом в парламенте законопроект, как правило, содержит пробелы и дефекты. Эти недостатки нужно будет восполнять в подзаконных актах, принимать для исполнителей множество дополнительных разъяснений и инструкций. Не говоря уж о том, что придется долго и трудно корректировать ситуацию исправлением ошибок в ходе правоприменительной практики. В итоге — неразбериха в законодательстве, снижение исполнительской дисциплины, перегруженность и разрастание ведомств и органов контроля. Дорого, неудобно, трудноисполнимо и, главное, крайне неэффективно.
Можно выявить еще ряд зависимостей между составом парламента и качеством законов. Например, это качество зависит от ответственности и целеполагания парламентариев. Или от привлечения к законотворческой деятельности специалистов, что, в свою очередь, обусловлено профессиональным уровнем депутатского корпуса. Все эти зависимости могут и должны быть исследованы.
Но главное, как представляется, выявлено. В теории организации зависимостью считается связь между переменными входа и выхода. Зависимости бывают объективными и субъективными. Объективные зависимости формируются помимо сознания и воли людей. Субъективные — формируются людьми для реализации их целей. Все верно. В нашем случае связь между входом и выходом налицо. Получается, что субъективная зависимость, возникшая в результате трансформации избирательного законодательства для реализации конкретной политической цели — формирования искусственного парламента, повлекла за собой другие объективные зависимости:
• в ходе несвободных и неконкурентных выборов был сформирован слабый и недостаточно профессиональный парламент, неспособный отстаивать интересы избирателей перед исполнительной властью;
• являясь продукцией слабого и непрофессионального парламента, законы не могут претендовать на высокое качество, поэтому оно резко снизилось;
• парламент, принимающий низкокачественные законы, не отвечающие интересам населения, утратил доверие и поддержку общества, а невозможность повлиять на результаты выборов привела к снижению интереса к ним избирателей.
Естественно, изначально такие цели инициаторами трансформации избирательного законодательства не ставились. У них была одна задача — послушный и зависимый парламент. Но эти последствия могли и должны были быть просчитаны, потому что они объективны и закономерны. Количество избирательных трансформаций привело не только к качественному изменению избирательной системы, но и к серьезной деформации всей политической системы через изменение места парламента в системе государственных органов и в конечном счете к трансформации политического режима.
Самое же неприятное состоит в том, что длящееся искажение избирательного законодательства с последовательным формированием все более слабого парламента (с точки зрения полномочий и какократического персонального отбора) порождает замкнутый круг — работа депутатов одного созыва, допустивших непрофессиональную трансформацию избирательного законодательства, влечет за собой еще более непрофессиональный состав следующего парламента и т. д. В итоге накапливающийся эффект отрицательного отбора приводит к труднообратимым и сложноисправляемым последствиям.
Искусственно созданный для целей имитационного политического режима парламент-симулякр — одна из его важнейших основ. Без такого парламента невозможно осуществить конституционную трансформацию путем введения в нормы материального права деталей и оговорок, учреждения механизмов и процедур, блокирующих реализацию конституционных принципов.
Такой парламент может называться парламентом лишь условно, поскольку он не выполняет своей главной функции — функции народного представительства, которая обеспечивает консенсус между государством и обществом. Доверие населения к парламенту-симулякру, как правило, низкое.
При отсутствии такого парламента имитационный режим теряет свою легитимность и проявляет скрытый авторитарный характер. Поэтому создание парламента-симулякра является первостепенной задачей режима.
Однажды созданный для целей имитационного политического режима, парламент-симулякр изготавливает законодательный продукт, который, в свою очередь, создает систему перманентного воспроизводства режима, придает последнему видимость законности его самого и всех его действий.
Парламент-симулякр полностью развязывает режиму руки, легитимизируя концентрацию государственно-властных полномочий у исполнительной власти в ущерб всем остальным ветвям, и сводит на нет действие принципа разделения властей и системы сдержек и противовесов.
Избирательные системы, создаваемые парламентами-симулякрами для целей имитационного режима, не отвечают международным стандартам, в соответствии с которыми проводимые выборы считаются свободными и справедливыми.
Не пройдя должного представительного обсуждения, законы, принимаемые парламентом-симулякром, отличаются низким качеством и зачастую носят неправовой характер.
Законодательная деятельность парламента-симулякра опасна для системы законодательства в целом, поскольку в силу своего непрофессионализма он не способен соблюдать ее принципы и приоритеты, подменяет предмет закона и создает опасное избыточное правовое регулирование.
Даже парламент, раз за разом формирующийся в ходе пусть свободных и справедливых выборов, но в условиях подменной политической конкуренции, рано или поздно становится неумышленным симулякром. Качество его персонального состава снижается вместе с уровнем доверием населения к политикам и политике, и он не способен производить законодательной продукции, адекватной запросам общества.
Анализ качества деятельности парламента и доверия к нему населения в высокой степени предполагает наличие серьезных проблем в политической системе общества или скрытого изменения действующего политического режима.
Все это еще раз подтверждает выводы Эбби Иннес о том, что любые попытки отката демократии достигают результата только там, где не удалось создать эффективного представительства, или там, где это псевдопредставительство создано искусственно. Английский юрист К. Аллен писал: «Законодательная деятельность — это характерный правотворческий инструмент современных обществ, выражающий отношение между личностью и государством. Он, однако, не является отношением, принимающим форму приказа от вышестоящего к подчиненному. Он представляет собой процесс действия и взаимодействия между конституционно организованной инициативой и социальными силами»[121]. Следовательно, законодательство представляет собой результат взаимодействия различных социальных сил на конституционной основе. Если орган, ответственный за процесс законодательствования, не сформирован должным образом, то нормальный процесс такого взаимодействия невозможен, а законотворческий результат не будет адекватным и достоверным.
Глава 15
Имитационные политические режимы, права человека, верховенство права и правовое государство, правовые и неправовые законы
Все эти три важнейшие демократические ценности — права человека, верховенство права, правовое государство — и вытекающие из них критерии правовых и неправовых законов настолько тесно связаны друг с другом, что говорить о них имеет смысл только вместе. Вернее, даже так: все основные современные правовые ценности проистекают из одной — из безусловного приоритета прав и свобод человека и необходимости их защиты. Из осознания того, что эти права принадлежат человеку от рождения, носят естественный, неотъемлемый неотчуждаемый характер и не могут устанавливаться государством. Ни государство, ни народ даже на общенациональном референдуме не могут отобрать у человека какое-либо из его естественных прав. Существование прав и свобод признается государством априори. И именно государство гарантирует, соблюдает и защищает их. Потому что главное, что страна, стремящаяся стать сильной и самодостаточной, может противопоставить культу личности вождя, — это культ личности гражданина, каждого отдельно взятого человека. И это не философский треп, а очень конкретная и непростая задача[122].
Как известно, Конституция России (статья 2) тоже рассматривает человека, его права и свободы в качестве высшей ценности. Тем самым она на высшем юридическом уровне устанавливает такую систему взаимоотношений государства и личности, в которой личность выдвинута на передний план. Уважение к личности и ее защита являются неотъемлемым атрибутом конституционного государства. «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства», — указывается в статье 2. То есть, по Конституции, человек, личность — это единственная высшая ценность. Остальные общественные ценности такой конституционной оценки не получили. Они располагаются по отношению к ней на более низкой ступени и не могут ей противоречить.
Но! Не так давно в России официально объявлено о том, что права человека являются опасным инструментом Запада, используемым для дестабилизации российского общества. Пункт 45 Указа Президента РФ от 30 ноября 2016 года № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» гласит: «Россия, приверженная универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение прав и свобод человека, видит свои задачи в том, чтобы противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств, в том числе в целях их дестабилизации и смены законных правительств»[123].
Следом за главой государства толкованием и публичным обоснованием новой правозащитной идеологии занялся председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. В одном из своих установочных эссе, коими он регулярно (не реже трех-четырех раз в год) потчует политические элиты и юридическую общественность и которые по статусу обязана публиковать «Российская газета», Зорькин подробно развил президентскую мысль. В лекции, представленной им на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге 19 мая 2016 года, он сообщил, что «защита прав человека не должна подрывать нравственные устои общества и разрушать его религиозную идентичность. Обеспечение прав граждан не должно создавать угрозу государственному суверенитету. Наконец, защита достоинства человека не должна вести к отказу от тех моральных универсалий, на которых сформировалось когда-то человечество и которые до сих пор позволяли ему сохранять себя от саморазрушения»[124].
Основное сообщение, которое Зорькин пытался донести до аудитории, состояло в том, что права человека — это идея, таящая в себе угрозу, от которой в современной ситуации, когда «авторитет права утрачен», гораздо больше опасности, чем пользы. Неслучайно семантическое поле, в рамках которого характеризуются права человека, состоит исключительно из негативных по звучанию слов, таких как «нарушение», «слом», «шок», «ломка», «обрушение», «угроза», «катастрофа», «самоубийство», «похороны» и т. п. В качестве альтернативы правам человека и праву, «которое не является подлинным в целом», Зорькин предлагает традицию и нравственность. Впрочем, еще за 12 лет до этого генеральный прокурор России Владимир Устинов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» сообщил своим слушателям, что «для прокуратуры в ее деятельности основной задачей, а отсюда, выходит, и угрозой — являются права человека»[125].
6 июня 2017 года в «Российской газете» было опубликовано еще одно выступление Зорькина[126]. Длинное, витиеватое, наполненное цитатами из русской поэзии, философских и религиозных текстов. В нем он подвергает критике другой основной принцип европейской правовой культуры, который, по его мнению, позволил создать действующую сейчас демократическую систему, — отделение права от морали и религии. В его выступлении права человека характеризуются как производное «голого рационализма», не связанного какими-либо этическими рамками», который «стихиен и слеп» и «таит в себе опасность апокалиптического сна». Вокабуляр, используемый Зорькиным для репрезентации прав человека, еще более мрачен, чем в предыдущем выступлении: «опасность», «угрозы», «чудовище разума», «катастрофа», «хаос», «страх». «Когда рассудок эмансипируется от эмоционально-нравственной составляющей разума... — добавляет Зорькин, — он становится разрушительным»[127].
Вряд ли мы найдем в каком-либо медицинском психиатрическом справочнике заболевание под названием «эмансипация рассудка», но, исходя из смыслового значения слова «эмансипация» как отказа от разного рода зависимостей и прекращения действия ограничений, можно сделать вывод, что выработанная за столетия цивилизованным миром и формализованная им в непререкаемое правило международная гуманитарная концепция перестала устраивать Россию (или как минимум лично председателя ее Конституционного суда).
Текст указа президента и риторика профессора Зорькина являются абсолютным показателем уровня осознания общечеловеческих ценностей политическими элитами России. Похоже, что именно их рассудок находится в процессе перманентного освобождения от зависимости (эмансипации) от важнейших основ конституционного строя и от действия ратифицированных нашей страной международных обязательств.
В отношении Зорькина, как человека, который в течение семи лет был представителем России в Европейской (Венецианской) комиссии за демократию через право и неоднократно председательствовал на ее заседаниях, это особенно удивительно[128]. Он и его заместитель Сергей Маврин покинули состав комиссии только тогда, когда по следам многочисленных публичных протестов 2011 года в мае 2013-го в России началась массированная законодательная атака на права и свободы человека. Покидая это высочайшее юридическое экспертное учреждение, председатель Конституционного суда России прокомментировал это так: «Наше присутствие в комиссии было важно, когда в Европе шли эшелонированные реформы. Сейчас этот этап завершен, а нагрузка на Конституционный суд в связи с ростом количества дел, наоборот, возросла. И все чаще возникает коллизия, когда приходится высказываться (читай: оправдываться. — Е. Л., И. Ш.) в комиссии о содержании правовых норм, которые затем попадают на рассмотрение в Конституционный суд, а это законом запрещено»[129]. С тех пор инволюция (отрицательное развитие) позиции страны в отношении прав и свобод человека перманентно нарастает.
Чрезвычайно любопытно предлагаемое В. Д. Зорькиным новое «издание» концепции естественных прав. Оно включает в себя три элемента:
1) признание каких-либо интересов правами человека должно осуществляться только и исключительно «с учетом значимости национальных и региональных особенностей», то есть отрицается универсальный характер прав и свобод;
2) формирование каталога прав человека невозможно без признания его естественных обязанностей (Зорькин даже формирует такой список естественных обязанностей, среди которых обязанность поддерживать и сохранять суверенитет страны и ее целостность);
3) правами человека следует признавать только те права, которые являются «постоянными ценностями, неприкосновенными для всех». То есть ежели на какой-то отдельной территории по тем или иным причинам то или иное право систематически нарушается, такое право не может претендовать на признание и обязанности его охранять у государства не существует.
Получается, что, следуя Зорькину, любой исламский террорист имеет право сказать, что он отрицает право на жизнь большей части людей земного шара, исходя из своих национальных особенностей и ценностей.
Институтом, который способен определить, что считать постоянными ценностями, Зорькин называет Конституционный суд России, который, по его мнению, единственный имеет право на «легитимную интерпретацию смыслов» Конституции. При этом демократические механизмы легитимации права им отвергаются, поскольку «большинство часто бывает незрячим» и к тому же «оставляет открытым вопрос об этических основах права». То есть люди невежественны и слепы, им нельзя доверить решение такого важного вопроса, как оценка реализации их собственных прав и свобод, и этот вопрос должен быть передан узкому кругу лиц, который предложит и действовать незрячему малообразованному обществу по принципу «принято — извольте исполнять».
Вот, собственно, результат, к которому Россия пришла за четверть века своей конституционной трансформации в области прав человека. Налицо ситуация смены приоритетов на весьма далекие от конституционно провозглашенной высшей ценности — человека, его прав и свобод. В указе президента об этом четко и прямо сказано: использованию правозащитных концепций необходимо противодействовать, поскольку они используются в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств, в том числе в целях их дестабилизации и смены законных правительств.
То есть именно правозащитники являются угрозой для ясно выраженной цели современного российского государства — максимальной концентрации власти и создания условий для ее несменяемости. И это понятно, потому что, как бы ни искажали официальные российские социологи реальную ситуацию, в действительности мы являемся свидетелями процесса постепенной поступательной трансформации российского гражданского сознании. В России не только кардинально меняется общественный запрос к государству, но и взгляд населения на природу, назначение и место государства в обществе[130]. Это осознание совершенствуется и структурируется ежедневно, а порой и ежечасно, в зависимости от происходящих событий, а запрос к власти становится все более внятным и комплексным, хотя официальная пропаганда это тщательно скрывает и отчаянно процессу противостоит.
Естественно, что официальная смена приоритетов российской власти находит своих поклонников и последователей. Таких, например, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан, предложивший построить в Венгрии нелиберальную демократию на российский манер. Поэтому можно смело утверждать, что, как только официальный разговор о защите прав человека как высшей ценности начинает подменяться какими угодно рассуждениями (о подрыве нравственных устоев общества, о разрушении религиозной идентичности, о «моральных универсалиях», о государственном суверенитете или о суверенной демократии, о традициях и нравственности, о национальных и региональных особенностях), мы можем ставить явлению диагноз смены политического режима. Потому что не суверенитет и не традиции, а именно Человек как высшая ценность сам по себе и есть тот единственный моральный универсалий, основа всех нравственных устоев общества независимо от его религиозной, национальной и региональной идентичности.
Все остальное от лукавого. Поскольку цель власти, несовместимая с концепцией прав человека, действительно лукавство. Для государства, которое главной своей задачей определяет несменяемость власти и концентрацию государственно-властных полномочий в руках узкого круга лиц, конституционно провозглашенное требование соблюдения и защиты этих прав на деле становится «чудовищем разума», «катастрофой», «хаосом», «опасностью», «угрозой», «страхом», «шоком», «ломкой», «обрушением», «сломом», «самоубийством» и «похоронами». Потому что верховенство права и права человека, даже если они существуют в редуцированной форме, ставят вопрос о легитимности власти через юридические механизмы. И при всех существующих в России ограничениях официальное закрепление прав человека позволяет населению хотя бы изредка находить лазейки для воздействия на власть (пусть точечного и спорадического). А власти приходится объясняться и оправдываться. Поэтому попытки заместить право нравственностью и религией, представляя их как некую самобытную черту, отличающую Россию от Запада, на самом деле направлены вовсе не на возвышение реальной морали, а всего лишь на смену типа легитимности, когда под нравственностью предлагается понимать не доверие и уважение, а безусловную преданность власти независимо от содержания и качества последней[131].
Кстати, к вопросу о «самобытной черте» России. Англичане уже давно не употребляют слово «право» в чистом виде. У них в юридическом дискурсе оно называется law and morality (право и мораль). И для общества эта мораль ясна и понятна, потому что это уже не просто мораль, а превалирующее общественное мировоззрение, основой которого является ценность прав и свобод человека[132]. В России как раз все наоборот. Официально эта ценность также поставлена во главу всех моральных норм, но режиму, не являющемуся в действительности демократическим, а лишь пытающимся себя таковым представить, это очень мешает. Поэтому предпринимаются попытки подменить мораль этикой и нравственностью, границы которых всегда неопределенны и подвижны. Это очень удобно, поскольку постановка вопроса об этичности или неэтичности прав и свобод уводит дискуссию об обязанностях государства перед своими гражданами из четкой и ясной юридической сферы с прописанными механизмами ответственности в другую сферу. Такая подмена позволяет власти лишать юридической силы те права, которые им неудобны, просто объявив их неэтичными.
Если же подмена осуществляется под официальным лозунгом приверженности универсальным демократическим ценностям, «включая обеспечение прав и свобод человека», как это сделано в указе президента, а вслед за тем, в том же предложении, говорится о необходимости «противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств», то речь идет уже не просто о смене политического режима, а о его явном имитационном характере. Отсюда возникают громкие научно-политические скандалы, когда руководители высших национальных судов публично заявляют о недопустимости вмешательства международного правосудия в национальную юрисдикцию и правопонимание (дело Константина Маркина против России)[133]. Или депутаты инициируют парламентские дискуссии о соотношении национальной конституции и международного права[134]. Или органы конституционного правосудия наделяются правом решать вопрос о возможности исполнения решений международных судов. Все это яркие признаки имитационного режима.
Защита прав человека выгодна имитационным режимам только тогда, когда под ее предлогом осуществляются те или иные административные действия или принимаются государственно-властные решения, на самом деле ограничивающие права и свободы. То есть без изменения конституции происходит некорректная конституционная трансформация. Хотя общеизвестно, что «ограничение прав человека не должно приводить к их умалению»[135]. Ограничение права может касаться лишь меры свободы, предоставляемой в распоряжение того или иного субъекта права, а умаление права означает посягательство на саму свободу как таковую.
Но российская конституционная формула о пределах ограничения прав и свобод исключительно в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обороны страны и безопасности государства (часть 3 статьи 55) была неоднократно недобросовестно интерпретирована парламентом-симулякром не просто для ограничения, но именно для умаления свободы слова, свободы собраний, свободы объединения и использована в целях снижения политической конкуренции и создания дополнительных гарантий несменяемости власти[136].
За доказательствами имитационного характера защиты прав и свобод человека в России как главной черты ее политического режима далеко ходить не надо. Цифры — упрямая вещь. И они свидетельствуют о том, что на протяжении 2002–2012 годов Российская Федерация занимала твердое первое место не только по количеству ежегодных обращений граждан России в Страсбург, но и по количеству дел, находящихся на рассмотрении в Европейском суде. Только с 2012 года Россия уступила пальму первенства Украине (20% жалоб). Сегодня она на втором месте — чуть меньше 14% жалоб. Хотя снижение обусловлено не столько сокращением нарушений, сколько тем, что Министерство юстиции предприняло поистине отчаянные меры, направленные на улучшение печальной статистики, которые заключаются в попытках урегулирования конфликта до рассмотрения дела в суде, что влечет за собой отзыв жалобы. В 2016 году ЕСПЧ рассмотрел 228 жалоб против России, а на очереди осталось еще 7,8 тысячи. Все эти годы лидирующая пятерка «стран-нарушителей» (Россия, Украина, Турция, Италия, Венгрия) с небольшой перестановкой мест внутри нее не меняется. Она вместе еще с пятью другими странами (Молдавия, Сербия, Румыния, Хорватия, Черногория) обеспечивает Европейский суд работой на 87%. А еще 37 стран, в которые входят такие гиганты, как Германия, Франция, Испания, не дотягивают все вместе до 13% от общего количества дел, находящихся на рассмотрении в Страсбурге[137]. Такая статистика говорит сама за себя. Это наглядный портрет уровня освоения азов общечеловеческих ценностей политическими элитами этих стран и их мировоззрения.
В России эту малоприглядную картину все время пытаются подретушировать, чтобы показатели страны выглядели не столь печально. Например, утверждается, что с 1959 по 2016 год ЕСПЧ вынес 1948 постановлений по заявлениям, относящимся к России. «По этому показателю РФ опередили лишь Турция (3 тысячи 270 постановлений) и Италия (2 тысячи 351 постановление)»[138]. Но при этом почему-то умалчивается о том, что Италия и Турция находятся под юрисдикцией суда с самого его основания (с 1959 года), а Россия — только с 1998 года. И если результаты пересчитать корректно, то получится, что в среднем в год суд выносил 58 решений по Турции, 41 решение по Италии и 108 (то есть в два раза больше) решений по России[139]. При этом в 94,6% (1834 из 1948) решений суд нашел хотя бы одно нарушение Конвенции, что хорошо иллюстрируют уровень реальной защиты прав и свобод человека.
Ситуация с имитацией защиты прав и свобод дошла до того, что экс-посол Германии в России, председатель Германо-Российского форума Эрнст-Йорг фон Штудниц предложил создать при Совете Европы, основной сферой деятельности которого является наблюдение за правами человека, организацию, которая будет собирать доказательства нарушения прав человека в России по аналогии со структурой, которая была в ФРГ во времена ГДР. «Если люди будут знать, что их неправовые действия фиксируются и когда-то, возможно, будут им предъявлены, они, вероятно, будут действовать менее жестоко и беспощадно», — считает он. В то же время фон Штудниц допускает, что Россия сделает «все возможное в Страсбурге, лишь бы воспрепятствовать этому»[140]. Потому что публичное международное раскрытие истинных целей российской власти вовсе не входит в ее планы.
Верховенство права. Эмпирическим путем неопровержимо доказано, что те государства, которые восприняли доктрину прав и свобод человека и организовали свою жизнь на ее основе, оказались успешнее других. При этом на практике действительное соблюдение прав человека невозможно без реализации еще двух важнейших принципов — верховенства права и правового государства. Верховенство права — неотъемлемая часть любого демократического общества, для которого человек является высшей ценностью, поскольку само это понятие предполагает уважение достоинства любого человека со стороны государства, соблюдение, рационально и на основе права, принципа равенства, а также наличие у каждого реальной возможности обжаловать любые решения в независимых и беспристрастных судах в условиях справедливого судебного разбирательства, если эти решения являются незаконными.
И хотя принципы верховенства права и соблюдения прав человека необязательно являются синонимами, требование соблюдения прав человека неизбежно предполагает реализацию принципа верховенства права. Потому что именно право говорит и действует языком и средствами равенства. В этом смысле право — математика свободы[141]. С позиции ЕСПЧ, верховенство права заложено практически в любой статье Конвенции, потому что верховенство права — это вопрос о существовании реального механизма защиты прав и свобод, условие их реализации через прозрачную и справедливую процедуру принятия судебных решений. Именно поэтому верховенство права является основополагающим общеевропейским стандартом для государств в целом и для их судебной системы в особенности. Для оценки выполнения этого стандарта сформулированы четкие критерии — контрольный список вопросов, по ответам на которые можно посчитать уровень верховенства права в каждой стране[142].
Как известно, современный перечень основных прав и свобод содержит большую группу прав, обеспечивающих справедливую и прозрачную процедуру выявления и устранения нарушений всех остальных прав. В числе таких прав-гарантий:
1) право на доступ к правосудию;
2) право на компетентного судью;
3) право на то, чтобы быть заслушанным;
4) неприемлемость повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и тоже преступление (ne bis in idem);
5) правовой принцип, согласно которому меры, связанные с обременением, не должны иметь обратного действия (обратная сила закона);
6) право на эффективное средство правовой защиты;
7) презумпция невиновности;
8) право на справедливое судебное разбирательство.
Безусловно, и другие права тоже могут иметь отношение к понятию верховенства права, например право на выражение мнения, обеспечивающее гражданам возможность критиковать власть, равно как и запрет на пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание (статья 3 Конвенции), поскольку они напрямую связаны с понятием справедливого судебного разбирательства[143].
Кроме Конвенции, эта же группа прав в той или иной форме включена в конституции практически всех евразийских стран (в российской Конституции это, например, статьи 46–50, 54). Эти права неприкосновенны, то есть не могут быть ограничены (часть 3 статьи 56), и имеют для своих правовых систем особое значение. Они являются смысловым приоритетом, исходным правовым началом системы права и правоприменительной практики. Иными словами, носят общеправовой характер и выступают как общеобязательный правовой стандарт — требование к правовому качеству официальных нормативных актов, к организации и деятельности всех ветвей государственной власти и должностных лиц[144].
Суть понятия «верховенство права» была сформулирована одним из отцов-основателей современной британской школы конституционного права английским юристом Альбертом Вэнн Дайси (1835–1922) в его классической работе «Основы государственного права Англии»[145] и развита еще одним великим британским юристом, лордом Бингхэмом, который предложил для этого принципа восемь непреложных правил[146]. Официальное определение было дано бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном: «“Верховенство права” [...] относится к принципу управления, в котором все люди, учреждения и органы, публичные и частные, в том числе и само государство, подотчетны на основании законов, которые принимаются публично, исполняются на равной основе, рассматриваются в рамках независимого судопроизводства и соответствуют международным нормам и стандартам в сфере прав человека»[147].
То есть верховенство права направлено в первую очередь на правосудие. Но когда цель соблюдения принципа прав человека носит для государства имитационный характер, эта имитация на практике осуществляется как раз через имитацию правосудия, поскольку особой спецификой государства, живущего в условиях авторитарного патроналистского режима, в его отношениях с человеком является непрозрачная система индивидуальных поощрений и наказаний, не основанная на праве, но часто осуществляемая судом. Такое государство присваивает себе право нарушать и трансформировать закон по своему усмотрению под сиюминутные волюнтаристские надобности и вопреки любым стандартам и смысловым требованиям. И наоборот, в таком государстве от человека, не связанного с властью или противостоящего ей, требуется неукоснительное соблюдение любых законов, правил и инструкций независимо от их содержания и качества, любое их нарушение безжалостно карается.
Легализация произвола через решения судов требует создания для них специальных правовых условий, при которых они попадают в прямую зависимость от исполнительной власти и судейского начальства, назначаемого особым образом. В результате возможность суда осуществлять в полном объеме функцию правосудия парализуется. Собственно, именно на это и была направлена вся «судебная реформа» России последнего двадцатилетия, в результате которой профессиональный судейский корпус всех уровней был в значительной степени «зачищен» от тех судей, что были не согласны с новой ролью и назначением суда[148].
«Настроение в российском судейском корпусе критическое, — говорит о современном состоянии российской судебной системы судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, — оно характеризуется прежде всего страхом. Страхом потерять свою должность. И хотя судейский корпус состоит из не самых больших юридических авторитетов, но даже те, кто пришел из профессионального интереса, должны учитывать конъюнктуру. Они понимают, что если, служа профессиональному интересу, будут соответствовать тому, что является целями правосудия, то очень скоро могут стать белой вороной и их уберут»[149].
Примеров судебной расправы или судебной неприкасаемости на значительной части постсоветского пространства не счесть. Суды, поставленные в специфические административные условия, в ряде случаев просто «под копирку» переносят тексты обвинительных заключений в свои приговоры. Именно поэтому следствие и уголовное судопроизводство в России создают целый комплекс системных нарушений прав человека. Львиная доля обращений в ЕСПЧ касается нарушений статей 5 и 6 Конвенции (нарушение права на свободу и личную неприкосновенность и права на справедливое судебное разбирательство). Тревожные цифры в российской статистической строке дают также дела о нарушениях защиты права собственности (статья 1 Протокола № 1 к Конвенции). Решений в отношении России по этим нарушениям примерно в три раза больше, чем во всех остальных лидирующих странах-нарушительницах (Румыния, Украина и Турция)[150].
Для чистоты анализа следует добавить один немаловажный момент. Конечно, трансформация конституционных принципов верховенства права лежит не только в плоскости определенного целеполагания власти. При наличии данных целей и соответствующей им кадровой политики эта трансформация во многом основывается на профессиональном правосознании практических юристов и на качестве юридического образования. Российские юристы действительно иначе, нежели их европейские и американские коллеги, понимают право. Это обусловлено тем, что в России начиная с последних десятилетий XIX века и до 20-х годов XX века активно разрабатывалась позитивная теория права в ее юридическом, социологическом и психологическом вариантах. Е. В. Васьковский, М. Н. Гернет, С. К. Готель, Д. Д. Гримм, Д. А. Дриль, А. А. Жижиленко, М. Н. Капустин, М. М. Ковалевский, Н. М. Коркунов, С. А. Муромцев, Н. А. Неклюдов, Н. И. Палиенко, С. В. Нахман, Л. И. Петражицкий, А. А. Пионтковский, С. В. Познышев, П. А. Сорокин, И. Я. Фойницкий, Г. Ф. Шершеневич — вот далеко не полный перечень российских ученых, которые внесли заметный вклад в ее развитие. Тогда это были новые идеи, имевшие западноевропейские корни, а правовой позитивизм был мировым трендом.
За прошедшие полтора века взгляды на государство и право в мире сильно изменились в пользу естественно-правового подхода, где, помимо права, создаваемого государством, существует еще «естественное право», имеющее большую силу, чем право позитивное. В отличие от позитивного естественное право включает в себя представления о справедливости и общем благе и социальные институты, защищающие свободные обмены и позволяющие пресекать агрессивное насилие. И хотя оба эти принципиально разных подхода существуют в мире до сих пор, в современных международных и внутригосударственных правовых документах компромисс между ними выражен в виде требования соответствия норм позитивного права общепризнанным естественным и неотчуждаемым правам и свободам человека.
В России и большинстве постсоветских стран, наоборот, произошла консервация позитивистских взглядов на право. Потому что авторитарной советской власти позитивный подход к праву был выгоден и советские ученые, отвергая враждебные «буржуазные» исследования, продолжали изучать постулаты позитивистской теории права[151]. Вместо знаний из области сравнительного правоведения, советская юриспруденция была густо замешана на марксистко-ленинском учении, которое употреблялось к месту и не к месту. И дело даже не в обязательных ссылках на материалы последних съездов и пленумов Коммунистической партии, которыми приходилось открывать почти каждую научную работу по праву, поскольку иначе их попросту могла не пропустить цензура. Эти ссылки обычно никто не читал, сразу переходя к изучению правовой материи, особенно в последние годы СССР. Поскольку многие ученые были членами КПСС, им приходилось «органически вплетать» положения марксизма-ленинизма в саму сущность правовых исследований. Кто-то делал это по убеждениям, а кто-то потому, что так делали другие[152].
В итоге единственным научным содержанием права стало изучение законов без учета их смысловой иерархии, а юриспруденцию подменили легистикой. По наследству от СССР традиции юридического позитивизма образца столетней давности перешли к современной России как господствующее направление в науке. И не только в России, но и на всем пространстве бывшего СССР, поскольку стандарты юридического образования в стране были единые. После распада Союза к власти и на руководящие посты в науке пришли все те же специалисты-юристы советского позитивистского образца. И это поколение еще не сменилось, поэтому позитивистское направление, к сожалению, по-прежнему пока господствующее.
К счастью, позитивистские взгляды на право перестали быть единственно возможными. В современной российской науке появилось и развивается много интересных направлений. Например, либертатно-юридическая теория философии права академика Нерсесянца и его учеников (В. В. Лапаевой, Н. В. Варламовой, Е. А. Зорченко и др.), теория правового регулирования академика Тихомирова, институциональная теория права профессора Четвернина, которые позволяют исследовать право не только как официальные тексты, но и как реально действующие нормы — как феномен социальной жизни и порядок социальных коммуникаций[153]. То есть существует и развивается школа, которая втягивает в свою орбиту все большее количество специалистов, чье правопонимание адекватно современным правовым ценностям, отечественным конституционным смыслам и международным обязательствам страны.
Хотя в целом массовая российская наука и школа, готовящие специалистов для судебной и правоохранительной системы, такими сложными категориями не оперируют. Они не рассматривают право как сложную социально-политическую науку с огромным количеством неотъемлемых друг от друга тонких внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей. На вопрос, что такое право, большинство из этих специалистов ответит, что право есть совокупность санкционированных государством правил поведения, нарушение или неисполнение которых влечет за собой применение юридической ответственности. И практически никто не уточнит, что есть еще целый набор требований к содержанию и форме этих правил, к тому, как они формулируются, каким образом принимаются и — главное — как работают.
Присоединение России в 1998 году к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод одномоментно внесло в официальную юридическую лексику огромное количество новых, несвойственных ей раньше понятий. Таких, например, как жертва нарушения прав и свобод, свободные и справедливые выборы, приоритет ценностей и многие другие. Для практикующих юристов (включая преподавателей правовых дисциплин) даже выучить всю эту новую терминологию было весьма непросто. Не говоря уж о том, чтобы в полной мере осознать ее сущность — овладеть всем багажом знаний, мыслей, гипотез и их обоснований, который на протяжении длительного времени нарабатывался учеными разных стран для создания единого приемлемого межконтинентального правового режима. К тому же одновременно с началом процесса имплементации европейского права в России проводилась масштабная правовая реформа. Объем новых материальных и процессуальных правовых норм был так огромен, что юристам было не до высоких смыслов и изысканий европейских ученых.
Термин «верховенство права» оказался одним из самых сложных для российского восприятия. Его попытались перевести на русский язык дословно и... получилось «верховенство закона». Потому что словосочетание rule of law, которым в английском языке обозначается верховенство права, при не слишком качественном переводе переводится на русский и как верховенство права, и как верховенство закона. Но в английском law означает скорее не форму и не текст нормативного правового акта, принятого парламентом, а некое особое правовое предписание, отличающееся высшим смыслом, что не совсем соответствует русскому слову «закон» с формальной точки зрения. Слово law не вполне аутентично слову «право» в его российском понимании, и переводить его как «право» можно только для обозначения структурных единиц правовой системы. «Право» — это right.
В итоге английское rule of law и его русский перевод — это совершенно разные философские понятия. Потому что верховенство права, помимо строгого соблюдения закона, юридической силы и иерархии нормативных актов, в первую очередь означает верховенство смыслов и ценностей, а в России трактуется как верховенство буквы закона (легизм). В докладе Венецианской комиссии «О верховенстве права» разнице между понятиями «верховенство права» и «верховенство закона» уделено специальное внимание. «В недавнем прошлом, — говорится в докладе, — суть верховенства права в некоторых странах была искажена до того, что она стала равнозначной таким понятиям, как “верховенство закона” (“rule by law”), или “управление на основе законодательства” (“rule by the law”), или даже “закон на основе норм” (“law by rules”). Такие формы толкования позволяют оправдать авторитарные действия правительств и не отражают истинного значения понятия “верховенства права”»[154].
В бывших социалистических странах, которые вместе с СССР жили в условиях теории и практики «социалистической законности», как и в России, понятие «верховенство права» приживается трудно. Классический марксистский подход основывался на идее отмирания государства и, следовательно, законов, от него исходящих. Хорошо известно, что на самом деле практика в рамках советской системы привела к гипертрофированному развитию самого государства. Так, в Конституции СССР 1936 года (статья 113) прямо говорилось, что «высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР, возлагается на Прокурора СССР». То есть конституционно было закреплено не верховенство права (rule of law), а гораздо более узкое понятие, основанное на позитивистском подходе. Это исключало возможность выхода за пределы верховенства закона (rule by law) или управления на основе законодательства (rule by the law). Теория социалистической законности, применяемая на практике многими постсоветскими странами, по-прежнему серьезно препятствует внедрению принципа верховенства права, потому что право в первую очередь воспринимается как инструмент власти, нежели как ценность, которую необходимо уважать.
Иными словами, в отношении новых демократий такие ценности, как верховенство права и правовое государство, до конца пока еще не осмыслены и не усвоены. Потребуется время, чтобы они смогли по-настоящему закрепиться и стать частью повседневной практики или, по выражению Валерия Зорькина, войти в «правовое сознание». Хотя выступления того же Зорькина после его ухода из Венецианской комиссии свидетельствуют скорее не о входе, а о выходе этих концепций из правового сознания российских политических элит[155]. И в этом корни проблемы отсутствия юридического взаимопонимания России с Западом. Потому что с ним надо говорить на единственно понятном ему языке — на языке права, а не пугать своей доморощенной самобытностью. Наши постоянно декларируемые претензии на равноправный диалог должны быть подкреплены реальными шагами в сторону права внутри страны. Тут не помогут никакие рассуждения о суверенности нашей «демократии» и самобытности нашего «права». Чтобы преодолеть нынешнюю западную «монополию на демократический дискурс» и не подменять предмет разговора идеологемами, прикрывающими авторитарную суть своей позиции, нужно выстраивать человекоцентристскую теоретическую платформу, опираясь на свои собственные, выросшие на осознании многовекового опыта бесправия достижения в сфере борьбы за право[156].
Пока же Россия находится на 89-м месте (из 113 стран) в мировом рейтинге верховенства права. Индекс верховенства права, на основе которого составляется рейтинг, объединяет восемь ключевых показателей. Среди них — ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие. И хотя в 2017 году России удалось подняться на три ступени, обойти такие страны бывшего СССР, как Грузия (38-е место), Украина (77-е место), Белоруссия (65-е место), Киргизия (82-е место), Казахстан (64-е место), она не смогла. Позади России из бывших советских республик остался только Узбекистан, занявший 92-е место. Также, согласно региональному рейтингу, среди 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии Россия занимает 11-е место, обойдя лишь Узбекистан и Турцию. Лидером регионального рейтинга стала Грузия. Хуже, чем в России, ситуация с верховенством права обстоит в Гватемале, Нигерии, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве, Египте. Замыкает рейтинг Венесуэла (113-е место)[157].
Правовое государство. Альберт Вэнн Дайси рассматривал верховенство права не только как принцип правосудия, но и как ограничение неограниченной власти государства в отношении индивидуума. Лорд Бингхэм усилил концепцию Дайси обязанностью государств соблюдать международные договорные обязательства. То есть несмотря на то, что принцип верховенства права зародился в залах суда и касался главным образом судебных гарантий реализации прав и свобод человека, с точки зрения ограничения произвола государства в сфере защиты прав человека он тесно смыкается со своей континентальной разновидностью — концепцией правового государства (Rechtsstaat).
Концепция правового государства по определению в большей степени сосредоточена именно на природе государства и возникла благодаря письменным конституциям[158]. Основным теоретиком этого понятия был немецкий юрист лорд Роберт фон Моль (Robert von Mohl)[159]. Концепция возникла как противопоставление абсолютистскому государству, в котором исполнительная власть имеет неограниченные полномочия. Защита от абсолютизма должна была быть обеспечена благодаря роли и значению законодательной власти, а не только благодаря судам. Таким образом, в триедином взаимодополняющем сочетании приоритета прав человека, верховенства права и правового государства все составляющие демократического государства закольцовываются в единую систему. В. С. Нерсесянц определял правовое государство как «правовую форму организации и деятельности публично-политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права, носителями прав и свобод человека и гражданина». То есть речь идет о власти, ограниченной правом как обязательным предписанием и правом как смысловой категорией, организующей свою деятельность в соответствии с принципом верховенства права и действующей под контролем свободного гражданского общества.
Термин «верховенство права», конституированный в России в качестве одной из основ конституционного строя (статья 1 Конституции), внес еще большую путаницу в российские юридические головы и в отечественную трактовку принципа верховенства права. Российские авторы вновь пошли по простейшему пути поверхностного перевода, но при этом не учли, что англоязычные правовые философы используют слово state («государство») в основном только тогда, когда речь идет о международном праве и международных договорах. А в рассуждениях о внутренней правовой системе используется термин government, обычно переводимый на русский как «правительство». То есть имеется в виду не государство вообще, а действующая власть. И переводиться этот термин должен именно как «правовая власть» или «власть, ограниченная правом». Отсюда возникает непонимание при переводах, искажающее различие между доктриной российского правового государства и немецкого кантовского Rechtsstaat из Конституции Германии, с одной стороны, и англо-американской доктрины верховенства права — с другой.
То, что право для выполнения своих регулятивных и охранительных функций опирается на авторитет и силу государства, не подлежит сомнению. Но воля государства ограничена, поскольку при принятии и применении законов оно в лице его органов обязано действовать не по субъективному усмотрению, а в соответствии с объективными требованиями права. Это, собственно, и называется правовым государством. Ничего сложного. Но в итоге в России за четверть века так и «не сложилось того единства, которое позволило бы говорить о наличии в массовой российской юридической науке общепризнанной доктрины правового государства»[160].
Не сложилось и не могло сложиться. Потому что все определения российских учебников, во многих из которых государство по-прежнему является «политической формой организации общества, которая распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население, располагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех веления и обладает суверенитетом», устарели. Они неверны по отношению к любому современному государству и вдвойне неверны для характеристики правового государства. А потому эти определения не могут рассматриваться как пригодные для объяснения природы правового государства. Правовое государство может быть определено не само по себе, а только через его взаимоотношения с гражданским обществом, без которого оно не может существовать. Так же как и гражданское общество не может нормально развиться, если государство не является правовым.
То есть одни трактовки устарели, других не сложилось, а о третьих так и не договорились. А ведь это не просто определения — это совершенно иная политико-юридическая модель взаимоотношений государства и общества, на которой основывается правовое сознание и правовое поведение. Получается, что Россия живет в другом правовом измерении, нежели большинство современных государств. Потому что о какой «ограниченной правом власти» или об «ограниченном правом правительстве» может идти речь? Смысл любого авторитарного режима как раз в том, чтобы максимально монополизировать власть и ликвидировать любые барьеры, связывающие руки этой власти. Тем более если весь силовой блок правительства плюс МИД формируется президентом и подчиняется исключительно президенту. В докладе о состоянии конституционного строя в России мы говорили о том, что на сегодняшний день ученые насчитывают от 300 до 700 дополнительных, внеконституционных — явных и скрытых — президентских полномочий (учитывая в том числе те, которые реализуются через официальные полномочия подчиненных президенту или зависимых от него лиц). Какая ж тут власть, ограниченная правом?
Да, конечно, стране, находящейся на переломе своей истории, необходимо сильное государство. Но это должно быть не бюрократически-авторитарное государство, осуществляющее руководство обществом в приказном режиме, а правовое демократическое государство с эффективно функционирующей системой разделения властей. То есть с самостоятельным парламентом, который ищет правовые решения путем справедливого согласования различных социальных интересов, с исполнительной властью, действующей строго в рамках правового законодательства, и с независимым судом, который никто не может использовать в качестве орудия борьбы с политическими и экономическими конкурентами. А еще с реальной (то есть способной прийти к власти) политической оппозицией. Президент Путин не раз говорил, что в стране нет элементарной управляемости, имея в виду ситуацию, когда власть управляет обществом. Однако подобная приказная управляемость принципиально отличается от правовой, при которой в конечном счете общество управляет властью, формируя ее с учетом своих потребностей и воздействуя на проводимую ею политику. Но то, что имеем мы, вовсе не сильное государство, а всего лишь сильная бюрократия, которая использует свою силу в узкокорыстных целях[161].
Это означает, что вновь происходит имитация. Правовое государство подменяется жесткой бюрократической вертикалью, деятельность которой легитимирована парламентом-симулякром. Чтобы придать этой системе хоть какую-то демократическую видимость, проводятся специальные наукообразные изыскания и выдвигаются странные версии о существовании в одной отдельно взятой стране особого вида демократии, называемой «суверенной»[162]. При этом весьма расплывчатым, спорным и малопонятным населению термином «суверенитет» подменяется несменяемость власти и ее неумеренная концентрация вокруг института-личности. Суверенитет приравнивается к конкурентоспособности и называется ее политическим синонимом. Хотя настоящая конкурентоспособность — это совсем не политическая категория. По-настоящему конкурировать может только богатая процветающая страна, способная предъявить миру институты и технологии (технические, гуманитарные, социальные и др.), на которые можно равняться, а граждане этой страны производят нужный и востребованный миром продукт и востребованы в глобальном обществе.
Таким государство сможет быть только тогда, когда примет на повседневное вооружение минимум девять правил, которые станут его безусловной осознанной целью:
1) ограничение государственной власти правами и свободами человека и гражданина (власть признает неотчуждаемые права граждан);
2) верховенство права (правового закона) во всех сферах общественной жизни;
3) конституционно-правовая регламентация принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную;
4) наличие развитого гражданского общества;
5) правовая форма взаимоотношений (взаимные права и обязанности, взаимная ответственность) государства и гражданина;
6) соответствие законов принципам права и верховенство закона в системе нормативных правовых актов;
7) соответствие норм внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам международного права;
8) прямое действие конституции;
9) возвышение суда.
А пока суверенность российской «демократии» заключается только в ее независимости от международных демократических стандартов[163].
Как уже говорилось, особенности перевода терминов «верховенство права» и «правовое государство» на русский язык сыграли с российским юридическим правосознанием злую шутку[164]. Верховенство права незаметно трансформировалось в верховенство закона, которое совсем не одно и то же, что верховенство права. Потому что закон может иметь как правовое, так и неправовое содержание. Выявление и нейтрализация таких законов составляет одну из важнейших гарантий реализации принципов верховенства права и правового государства. Именно поэтому Конституция России (часть 2 статьи 55) запрещает издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. На самом деле эта не слишком ясно изложенная и, к сожалению, плохо работающая норма несет ту же смысловую нагрузку, что и норма статьи 19 Конституции ФРГ о том, что законом нельзя затрагивать существо содержания основного права. Закон, затрагивающий и искажающей существо содержания (то есть сущность) права, перестает быть правовым законом[165]. То есть в России существует прямой конституционный запрет на принятие антиправового (правонарушающего) закона[166].
Все это звучит красиво, но, увы, малопонятно для российских юридических мозгов. В первую очередь потому, что многие поколения отечественных юристов и юристов стран — бывших республик СССР (за исключением тех, кто читал книгу В. С. Нерсесянца «Право и закон» и другие его работы) вообще никогда ничего не слышали о какой-либо разнице между правом и законом. В чем оно? И есть ли оно вообще? До сих пор в подавляющем большинстве[167] российских (постсоветских) учебников и научных работ по теории права не только не приводится таких сущностных различий, но они прямо отрицаются. В этих учебниках закон всего лишь источник, высшая форма внешнего выражения права, а значит, он не может быть неправовым. Например, самарские специалисты (доктора и кандидаты наук) и сейчас заявляют, что категория «правозаконность» не привносит ничего нового ни в содержание права, ни в содержание законности. «Если этот термин переводить на формальный язык, то он будет означать законность, основанную на праве», а это, с их точки зрения, нонсенс[168]. Так что же такое неправовой закон?
Свои рассуждения о соотношении права и закона судья Конституционного суда в отставке Г. А. Жилин начал с совершенно точной посылки: «...исхожу из различия права как объективного регулятора общественных отношений и закона как формы выражения права; законы не всегда адекватно выражают право, в связи с чем от правовых необходимо отличать неправовые законы, которые законодателем не должны приниматься, а судами — применяться. Такая посылка непосредственно вытекает из положений действующей Конституции, провозглашающей Российскую Федерацию демократическим правовым государством, правовая система которого ориентирована на понимании права как общеобязательной формы равенства, свободы и справедливости, где критерием выступает сам человек, его права и свободы, которые и должны определять смысл, содержание и применение законов, а также деятельность всех органов государственной власти, в том числе и суда»[169].
Итак, мы вернулись к тому, с чего начиналась эта глава, — к Человеку как высшей ценности государства и к праву как главному способу обеспечения существования этой ценности. Это означает, что никакой акт, формализованный любым государственным органом, не может иметь юридической силы, если в нем содержится правило, искажающее или нарушающее основные права и свободы человека. То есть соотношение верховенства права и правовой законности — это, по сути, вопрос о существовании реального механизма защиты прав и свобод, условие их реализации через прозрачную и справедливую процедуру принятия судебных решений.
Закон является правовым не потому, что он закон и за ним стоит власть, а потому, что он обладает определенным содержанием. Неправовые законы — это принятые общеобязательные установления, которые не соответствуют принципам права[170]. Но их общеобязательность ставится под сомнение. Не всякий закон должен обладать общеобязательной силой, а только правовой закон. Общеобязательность закона обусловливается не его властным характером, а его правовой природой и правовым содержанием. Чтобы претендовать на общеобязательность, закону надлежит иметь необходимые правовые качества, быть выражением свободы, равенства и справедливости[171]. Критерием, определяющим правовой (или неправовой) характер закона, служит сущность права. И когда при переводе с одного языка на другой верховенство права вдруг становится верховенством закона, право исчезает вместе с его ценностным смыслом. Остается только закон, к которому не предъявляется никаких смысловых требований, а значит, это допускает любой произвол законодателя и напрямую зависит от роли и положения парламента в системе государственных органов.
Смысл проведения различия (различения) между правом и законом обусловлен, во-первых, необходимостью разграничения и противопоставления права и произвола и, во-вторых, необходимостью установить соответствие закона объективным требованиям права. В результате должны быть выработаны критерии правовых законов и, соответственно, проведена жесткая грань между ними и неправовыми законами.
То есть речь идет о создании многоуровневого механизма контроля за содержанием законов и их соответствием исходным человеческим ценностям и правам человека. С помощью такого механизма законопроект, признанный неправовым, не может быть принят, а если принят, то не может быть подписан. Если он все же принят и подписан, то должен быть отменен. Если он не отменен, то не может применяться в судебной и правоохранительной практике, в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. На каком, спросите вы, основании? А всего лишь на том, что «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (статья 18 Конституции России).
На самом деле проблема различения права и закона — это проблема отказа от тоталитарных представлений о сущности права и, в частности, от приоритета государства над правом. Навык же практической дифференциации правовых и неправовых законов — это не просто теоретическая проблема. Это как раз в большей степени проблема политической практики, вопрос правосознания и целеполагания политических элит, профессионализма и профпригодности юридического сообщества. То есть все это о том, что на самом деле и составляет основу политического режима, — о знаниях, ценностях, целеполаганиях.
Поэтому наличие в системе национального законодательства значительного числа неправовых законов при одновременном наличии жесткого конституционного требования правовой законности — яркий признак имитационных режимов. Именно имитационных, поскольку официальные недемократические режимы открыто отрицают принцип верховенства права и декларируют принцип верховенства закона без учета его содержания. Этот принцип напрямую закрепляется в конституциях и означает неограничение государства правом и превалирование первого над вторым.
Имитационные режимы в силу своих конституционных требований и международных обязательств, но при наличии конфликта властного интереса с правами человека вынуждены мимикрировать под соблюдение демократических стандартов, и поэтому им приходится обзаводиться парламентами-симулякрами. Парламенту-симулякру, по сути, абсолютно безразлично содержание принимаемых им правовых актов. У него другая задача — имитировать выполнение представительской и законодательной функции с целью легитимации несменяемой авторитарной власти. Законы таким парламентом нередко принимаются наспех или ad hoc (под обстоятельства), без должного обсуждения и в ненадлежащей процедуре, которую парламент-симулякр сам себе устанавливает.
В процессе правоприменения трактовки неправовых законов приобретают еще более причудливое неправовое содержание. Например, суды отказывают гражданам в их праве на обжалование нарушений на избирательных участках, правоохранительные органы привлекают к ответственности за нарушение правил проведения публичных мероприятий при соблюдении всех конституционных требований к их содержанию, органы исполнительной власти вносят в реестр иностранных агентов организации, по определению не ведущие политической деятельности (птичьи заповедники, общины коренных малочисленных народов Севера). Подобных примеров можно привести десятки тысяч. И все они базируются на неправовых законах, в которых искажается существо права.
То есть имитационный парламент создает имитационную законотворческую процедуру, а потом, прикрываясь этой процедурой, осуществляет псевдоправовую внеконституционную трансформацию регулирования общественных отношений, внедряя, по существу, тот же самый принцип неправовой законности, основанный на неограничении государства правом и превалировании первого над вторым. С помощью этих неправовых законов правоохранительные органы и суды имитируют правоохранительную деятельность и правосудие. Просто потому, что в соответствии с Конституцией суд независим и подчиняется только закону. Есть неправовой закон — есть неправый суд. Одна имитация (парламентская) порождает другую (правоохранительную), правоохранительная — судебную и т. д. Потому что имитация одного из элементов системы влечет за собой необходимость имитации всех остальных. Иначе система сломается. Так возникает системная имитационная спираль, которая закручивается все туже и туже без учета законов сопротивления материалов. Итог с точки зрения сопромата общеизвестен и вполне может быть применим к системе взаимоотношений государства и общества.
На самом деле настоящий принцип законности в условиях верховенства права и правового государства состоит в прозрачном, подотчетном обществу и демократичном порядке принятия законодательства при соблюдении двух важнейших условий — правовой определенности нормативного регулирования и запрета на произвол (имеется в виду исполнимость закона и невозможность искажения в нем сущности прав и свобод)[172].
Мы уже говорили о двух лидирующих группах нарушений Россией положений европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это права на свободу и личную неприкосновенность и права на справедливое судебное разбирательство. Третьей по численности группой являются нарушения статьи 6 Конвенции по делам, связанным с нарушением принципа правовой определенности. И хотя сам этот принцип в явном виде в тексте статьи 6 не содержится, он является неотъемлемым элементом справедливого судебного разбирательства в прецедентной практике ЕСПЧ.
На первый взгляд может показаться, что для законодательной деятельности требование правовой определенности носит скорее технико-юридический характер и является естественным законотворческим риском[173]. Ведь речь идет «всего лишь» о формулировках и терминах, которые суть творение рук человеческих, а людям свойственно ошибаться. На самом деле это не совсем так. Требование определенности вытекает из самой природы правовой нормы как равной меры свободы для всех субъектов и образует один из основополагающих аспектов принципа верховенства права, является его необходимым следствием и условием реализации. То есть речь действительно идет о формулировках. Но цель требования определенности гораздо серьезней и глубже, нежели просто совершенство текстов. Она в том, чтобы право точно фиксировало требования, предъявляемые к поведению людей, рамки их возможного, должного или запрещенного поведения и подробно расписывало возможные (требуемые) варианты правомерных поступков. Юридическая определенность — один из наиболее важных общих принципов защиты прав человека, признанных ЕСПЧ. Это широкая концепция, стержнем которой является предопределенность и предсказуемость условий деятельности и ее правовых последствий для субъектов правоотношений, которой корреспондирует ответственность государства за несоблюдение взятых на себя обязательств или обещаний по отношению к отдельным лицам (понятие «законных ожиданий», основанных на стабильности правового регулирования).
Эта ответственность воплощена в доктрине «ничтожность вследствие неопределенности» (void for vagueness), согласно которой неопределенность нормативного акта влечет его ничтожность как нарушающего требование о «надлежащей правовой процедуре» (due process clause). И не только неопределенность. В отсутствие закона, где были бы ясно и недвусмысленно сформулированы понятные простому гражданину требования, на основании которых можно было бы предвидеть последствия совершения или несовершения действий, данная доктрина полагает, что отсутствует надлежащая правовая процедура.
Но имитационным режимам правовая определенность противопоказана. Имитационные режимы просто не могут существовать без неправовых законов. Государство манипулирует обществом путем подкручивания или, наоборот, раскручивания властных гаек, регулирующих уровень доступности прав и свобод. А сила закручивания гаек «измеряется таким состоянием законодательства, которое позволяет совершить посадки кого угодно в любой момент, то есть произвольно»[174].
Поэтому в Законе № 65-ФЗ (о митингах), например, отсутствует критерий массовости, его положения в совокупности с действующим законодательством приводят к смешению понятий «организация массовых беспорядков» и «организация публичных мероприятий», «организатор публичного мероприятия» и «организатор преступления». А как иначе? Иначе нельзя будет безнаказанно и произвольно казнить и миловать, расправляться с неугодными и выбивать лидеров оппозиции из политической борьбы. В Законе № 121-ФЗ (об НКО — иностранных агентах) нет четкого определения ключевого понятия «политическая деятельность» и ее составляющих — «политической акции» и «решений, направленных на изменение проводимой государственной политики».
В Законе № 135-ФЗ (о благотворительной деятельности) отсутствует определение понятия «пропаганда». Потому что гражданское общество с его вечными попытками контролировать государство крайне опасно и нежелательно. А в условиях правовой неопределенности даже заповеднику птиц, борющемуся с местной властью за сохранение среды обитания пернатых можно «пришить» вмешательство в экологическую политику государства и антигосударственную пропаганду. В Законе № 139-ФЗ (об ограничениях в Интернете) не раскрыто понятие «порнографическое изображение» и «места, доступные для детей». Это очень удобно, поскольку позволяет, например, устранить своего экономического конкурента путем подметных писем и подставной экспертизы, обвинив его в том, что его компьютер находился в месте, доступном для его ребенка. И так далее и тому подобное без конца и края.
Значительную роль в имитации существования нормальной правовой системы в России играет орган, который по определению должен быть самым жестким непреодолимым барьером на ее пути, — Конституционный суд. Он внес значительный вклад в процесс имплементации Европейской конвенции в российскую правовую систему, но, когда в ходе рассмотрения конкретных кейсов дело доходило до целеполагающих интересов власти, он вел себя не вполне последовательно и недостаточно принципиально, вплоть до имитации своей же собственной деятельности. Да, он обогатил правовой арсенал российских юристов представлениями о принципе правовой определенности (в части стабильности условий ведения предпринимательской деятельности), принципе публичной достоверности правовых норм, принципе справедливости, принципе равенства, принципе гуманизма, принципе состязательности, запрете поворота к худшему, недопустимости незаконного и неразумного ограничения прав и свобод и принципе соразмерности ограничений[175]. Но тот же Суд регулярно одну за одной сдавал позиции, когда это, например, касалась расширения внеконституционных полномочий президента[176], или порядка выборов губернаторов[177], или проверки на соответствие Конституции порядка принятия в состав России новых субъектов федерации[178]. То есть тех основополагающих вопросов, при действительно конституционном решении которых не произошло бы монополизации власти, искажения правовых ценностей и трансформации политического режима[179].
Именно благодаря широкой трактовке Конституционным судом функции обеспечения президентом «согласованного функционирования» государственных органов были искусственно выведены:
• обязанность президента принимать необходимые меры по соблюдению палатами Федерального Собрания предусмотренного Конституцией РФ срока направления принятого федерального закона главе государства[180];
• право издания президентом указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения[181];
• право вынесения предупреждения в адрес законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ[182];
• право роспуска Государственной Думы как средства удержания самого президента и Думы от необоснованных конфликтов[183] и многое-многое другое.
Эту главу об имитационных режимах и о праве, о том, во что методы политической имитации превращают правовые системы государств, можно закончить рассуждением о современном состоянии права в России одного из самых тонких и честных российских юристов — судьи Конституционного суда в отставке профессора Тамары Георгиевны Морщаковой.
«Право, — говорит она, — либо есть, либо права нет. Все переходные моменты, какое-то среднее право или среднее арифметическое между правом и неправом — это уже не право. Как та самая осетрина единственной степени свежести. Юридическое сообщество существует сейчас внутри пространства, наполненного не вполне разумными законами, мягко выражаясь, не содержащими никаких элементов права. Потому что понятие права всегда связано с определенными ценностями.
В чем ценности эти должны состоять? Главная ценность права состоит в том, что оно защищает человека. У нас опять начинаются советские разговоры на тему того, что выше: интерес личности или интерес общественный. Нет общественного интереса. Общественный интерес возникает только там, где отдельные личности понимают, что только общими усилиями они могут обеспечить интерес каждого. Если общественный интерес, который провозглашается, не служит интересу каждого, это никакой не общественный интерес. Это интерес какой-то корпорации.
...Наука мимикрирует, потому что она начинает защищать интересы власти, ей нужно оправдывать властные решения. Юридическая наука это делала всегда. В советское время крупнейший известный советский ученый в области уголовного право провозгласил нечто, потрясшее тогда советскую аудиторию. Он сказал: “Наука начинается там, где она может сказать законодателю ‘нет’”. Может ли наука сейчас сказать законодателю “нет”? Практически не может. Она пытается иногда, но то, что она говорит, не доносится до слуха тех, кто действительно может решить этот вопрос. То есть она становится малоэффективной. Юриспруденция становится малоэффективной, и это кризис, кризис юриспруденции, кризис права вообще»[184].
Пусть так. Пусть даже в современных российских условиях наука малоэффективна. Но это все же лучше, чем если бы ее не было вовсе. Для чего все это пишется? Для того, чтобы негативный опыт одной отдельно взятой страны можно было осмыслить как превентивную меру для других и на будущее. Имитационная спираль беспощадна. Чтобы не попасть в нее, нужно ставить диагноз явлению на самом первом витке, не допуская проникновения во все части государственного организма.
Часть четвертая
Некоторые специфические особенности имитационных авторитарных режимов
Глава 16
Имитационные политические режимы и гибридные войны
Устав от войн, их последствий и огромного количества жертв, осознав гибельность войны и агрессии для планеты Земля, международное сообщество в течение XX века далеко продвинулось по пути запрещения применения силы для достижения политических целей и разрешения с ее помощью межгосударственных споров. До середины 20-х годов прошлого века война считалась законным методом осуществления государственной власти. Но после окончания Первой мировой войны законность этого метода стала подвергаться сомнению. Статут Лиги Наций запретил ее членам обращаться к войне в течение трехмесячного срока после провала переговоров по нахождению мирного решения спора. Он также предусматривал возможность применения санкций в отношении тех членов Лиги, которые пытались вступить в войну в нарушение ее постановлений. Например, в 1939 году Советский Союз был исключен из Лиги Наций за необоснованное применение вооруженной силы против Финляндии.
К концу XX века значительная часть человечества выработала новые нормы общежития и постепенно начала менять человеческую психологию, которая стала учитывать интересы и нужды других людей. Лидеры сверхдержав проделали большую работу в целях прекращения не только войн, но и гонки вооружений для завершения холодной войны. Люди и государства добились спада насилия, в результате чего наступил период так называемого долгого мира, без глобальных военных конфликтов. Мирная жизнь стала не просто моральной ценностью. Мир был осмыслен и официально признан в качестве важнейшей демократической ценности как условия реализации принципа приоритета Человека, защиты его основных прав и свобод. Декларация о принципах международного права 1970 года определила конкретные действия, которые запрещены в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Устава ООН[185]. Это:
1) агрессивные войны;
2) угроза силой или применение силы с целью нарушения существующих международных границ другого государства (включая демаркационные линии) или в качестве средства разрешения международных споров, в том числе территориальных;
3) репрессалии с использованием силы;
4) использование силы с целью лишить народы их права на самоопределение и независимость;
5) организация, поощрение организации иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого государства;
6) организация, подстрекательство, помощь или участие во внутреннем конфликте или террористических актах на территории другого государства.
Несколько лет спустя этот перечень запрещенных действий, признающихся агрессий, был расширен и дополнен[186]. Условием соблюдения запрета на военную агрессию стал принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН. Этот принцип состоит в том, что каждое государство обязано добросовестно выполнять свои обязательства в соответствии с международными соглашениями, имеющими, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, приоритет перед национальным законодательством: «В том случае, когда обязательства, вытекающие из международных соглашений, противоречат отдельным обязательствам государств-членов, преимущественную силу имеют обязательства по Уставу ООН».
Казалось бы, все ясно и просто. Была бы добрая воля к миру и добросовестность в исполнении принятых на себя обязательств. Поэтому многих удивил прошедший в 2016 году под эгидой Нобелевского комитета мира симпозиум, в рамках которого состоялась жесткая дискуссия между профессором Гарвардского университета психологом Стивеном Пинкером, написавшим мировой бестселлер «The Better Angels of Our Nature. The Decline of Violence in History and Its Causes» («Добрые ангелы нашей природы. Уменьшение насилия в истории и его причины»)[187], и экономистом Нассимом Николасом Талебом, изучающим влияние случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику. В этой дискуссии Талеб опровергал теорию Пинкера о спаде насилия и математически доказывал возможность новой большой войны[188]. Откуда война? Ведь люди договорились о мире.
Оказывается, не все так просто. Одного осмысления ценности мира и добросовестного соблюдения международных соглашений недостаточно. Отдельные авторитарные режимы по-прежнему считают войну вполне эффективным способом политической коммуникации. И вот уже Северная Корея публично рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам[189], а в международном научном и политическом обороте стал активно использоваться термин гибридная война.
Мы вернемся к этому термину несколько позже, а пока проанализируем еще одну историю российской конституционной трансформации, которая не вошла в доклад «О состоянии конституционного строя России», поскольку случилась позже его написания, а значит, есть смысл рассмотреть ее подробно. Ведь результаты именно этой истории и стали причиной возросшего беспокойства в мире по поводу возможности возникновения новых глобальных военных конфликтов в новом юридическом облачении псевдоконвенционной войны[190]. А опасность ее в том, что схема, изобретенная Российским государством, как членом Совета Безопасности ООН, для имитации соблюдения своих международных обязательств по поддержанию мира и мирного сотрудничества, легко может быть взята на вооружение любым трансформирующимся политическим режимом для обоснования своей агрессивной политики и нарушения международных договоренностей.
30 сентября 2015 года на официальном сайте Кремля появилась информация об обращении президента Российской Федерации к Федеральному Собранию по вопросу об использовании вооруженных сил за пределами России и о том, что Совет Федерации в закрытом заседании такое использование санкционировал. С этого момента начались бомбардировки Сирии российской авиацией. В силу ограниченности и неоднозначности информации решение Совета Федерации вызвало бурную реакцию значительной части общества. Ведь в результате него Россия вступила в войну вне своих пределов. Поэтому желание граждан понимать истинные причины, условия, перспективы и последствия подобных действий государства, подвергающих риску жизни военнослужащих и потенциально ограничивающих права и свободы всех остальных, выглядело вполне естественным. На повестку дня встал вопрос о праве граждан на участие в решениях об условиях войны и мира как гарантии их прав и свобод, о правилах и процедурах принятия таких решений. Стало понятно, что есть необходимость провести правовую экспертизу создавшейся правовой ситуации[191].
В ходе экспертизы выяснилось, что этой истории недостаточно дать простую юридическую оценку путем сравнения действий ее фигурантов с положениями закона на предмет их легитимности. Более того, исследуемая правовая ситуация оказалась далеко не уникальной. Она стала всего лишь еще одним вполне закономерным звеном в цепи сотен подобных событий, произошедших в сфере конституционно-правового регулирования России за последние 20 лет.
Конституционная формула. Как известно, часть 1 пункта «г» статьи 102 Конституции России устанавливает правило, в соответствии с которым решение вопроса об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами ее территории относится к исключительному ведению Совета Федерации. Что это означает?
Чтобы ответить на этот вопрос, придется совершить небольшой экскурс в теорию конституционного права, поскольку в последнее время возникло много путаницы вокруг процесса реализации конституционных норм в нашей стране. Отчего-то (боимся, что умышленно) упорно навязывается представление о том, что прямое действие Основного закона (часть 1 статьи 15 Конституции) — это всего лишь красивый оборот речи, не имеющий ничего общего с реальностью. Например, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский публично заявил, что, хотя в Конституции и написано, что она закон прямого действия, по факту, конечно, она таковой не является и являться не может. «Это такой демократический романтизм, — сказал Барщевский. — Не бывает, чтобы Конституция была законом прямого действия, никогда и нигде... Под каждой нормой Конституции есть законы, определяющие порядок реализации идеи, заложенной в Конституции»[192]. Прав ли он? Отчасти прав, но все же не совсем прав и уж совсем не прав в рассматриваемой ситуации.
Действительно, нормы Конституции различаются по степени своей конкретности. Одни из них формулируют только основные положения и принципы (все, что, например, касается правосудия) или закрепляют права и свободы с пределами их ограничения. И поскольку в процессе реализации этих норм может возникать бесчисленное разнообразие вариантов поведения, требуется один или даже несколько законов (других актов), устанавливающих порядок и процедуры их применения. Но значительная часть конституционных норм содержит вполне конкретные предписания (например, ограничения, связанные с депутатским статусом). Для таких норм необходимы лишь небольшие процедурные уточнения.
В процессе конкретизации конституционных норм (большинства из них) применяется так называемый общедозволительный, или диспозитивный, метод правового регулирования, основанный на принципе «разрешено все, что не запрещено законом»[193]. При этом государство не вполне свободно в своей конкретизирующей деятельности. Потому что, во-первых, практически в любой конституционной норме заложены «тонкие материи» — понятия и значения, которые не могут трактоваться произвольно в зависимости от сиюминутных прихотей чиновников и депутатов парламента. Например, термин «собираться мирно и без оружия» (статья 31) не может быть сведен к значению одиночного незаявляемого пикета, потому что глагол «собираться» в любом случае подразумевает сосредоточение группы людей в одном месте[194]. Во-вторых, Конституция, как правило, устанавливает внутренние и внешние пределы ограничения прав и свобод, которые не могут быть расширены и истолкованы произвольно. Для той же статьи 31 Конституции (о праве граждан собираться мирно и без оружия) внешним ограничением является запрет на нарушение в ходе реализации своего права прав других лиц (часть 3 статьи 17), а внутренним (имманентным) ограничением — мирный характер публичного мероприятия и отсутствие у его участников оружия. То есть любые другие ограничения, выходящие за эти пределы, являются нарушающими само существо основного права. В-третьих, государство, по Конституции, жестко связано содержанием ее статьи 18 о том, что смысл, содержание и применение законов определяются непосредственно действующими правами и свободами человека.
Среди конституционных норм есть и такие, что сформулированы предельно конкретно (например, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства» или «если международным договором установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора»), и эти нормы действуют напрямую без какой-либо расшифровки. Поэтому любые попытки их конкретизации, за исключением усиления запрета или установления ответственности за его неисполнение, должны восприниматься только и исключительно как искажение конституционного смысла.
Кроме этого, в конституции любой страны присутствует еще одна разновидность норм — так называемые статутные нормы, устанавливающие компетенцию государственных органов (включая разграничение полномочий между государством в целом и его частями), по отношению к которым правила диспозитивности применяться не могут. В случае со «статутными» нормами действует совершенно другой — разрешительный — тип (метод) правового регулирования, основанный на диаметрально противоположном правовом принципе — разрешено только то, что разрешено, и ничего другого[195]. То есть никакого разнообразия действий и никаких иных вариантов поведения, кроме установленных законом, не существует. Поэтому там, где речь идет о статусе государственно-властных субъектов, перечень их полномочий носит закрытый характер, не может быть изменен, дополнен, расширен или ограничен. Для них Конституция является своего рода стоп-сигналом — больше или иначе, чем то, что в ней записано, делать нельзя[196].
Из этого следует, что, поскольку норма части 1 пункта «г» статьи 102 Конституции является нормой «статутной», никто иной, кроме Совета Федерации, ни в каких целях и ни при каких условиях не может принять решение о возможности использования российского воинского контингента за пределами страны. Такое правило было установлено специально, учитывая советский опыт «оказания международной военной помощи» и исходя из преамбулы Конституции, где в качестве конституционных целей государства утверждаются права и свободы человека, гражданский мир и согласие. То есть Основной закон изначально не предполагал возможности каких-либо военных операций за пределами России, кроме действий по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности на основе международных договоров (конвенционные войны). А исключительное полномочие Совета Федерации является специальным ограничителем власти президента как верховного главнокомандующего в системе сдержек и противовесов между ветвями власти, в которой палата парламента должна выступать барьером от необоснованного использования российской армии для внешнего вмешательства.
Трансформация конституционного регулирования. Для реализации этого конституционного правила был создан специальный правовой механизм, предусмотренный Федеральным законом «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» от 23 июня 1995 года № 93-ФЗ (далее — Закон о миротворцах). В нем (статья 2) было максимально полно раскрыто понятие миротворческой деятельности, определена процедура принятия решения и жестко закрытым способом зафиксированы случаи, на которые этот закон не распространяется. В нем (статья 5) сказано: «Действие настоящего Федерального закона не распространяется на порядок использования Вооруженных Сил Российской Федерации при осуществлении неотъемлемого права Российской Федерации на индивидуальную или коллективную самооборону для отражения вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН». То есть сразу же сформулированы и иные основания применения армии. Таким образом был создан полный набор правовых инструментов для защиты существа конституционной нормы.
Однако в 2006 году в Федеральном законе «О противодействии терроризму» появилась норма (часть 3 статьи 10) о так называемом оперативном внешнем использовании вооруженных сил. В этой норме центр принятия решения изменился: «...решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности принимается Президентом Российской Федерации на основании соответствующего Постановления Совета Федерации». Казалось бы, что такого? Небольшая перестановка слов и иная расстановка акцентов. Но дьявол всегда кроется деталях, которые могут почти незаметно исказить смысл конституционной нормы, просто добавив новые, отличные от конституционных основания и скорректировав процедуры.
Тем не менее еще несколько лет Россия продолжала посылать вооруженный контингент за свои пределы только по Закону о миротворцах. И всякий раз президент по полной процедуре вносил предложение в Совет Федерации, а само решение принимала палата парламента. Даже когда надо было увеличить число российских «голубых касок» в Боснии и Герцеговине всего лишь на 100 человек. Так происходило вплоть до лета 2008 года, когда спустя несколько дней после несанкционированного введения войск на территорию Южной Осетии спикер Совета Федерации Сергей Миронов вдруг заявил, что палата не будет собираться на экстренное заседание, чтобы дать согласие на введение российского контингента в Грузию. «В Южной Осетии, — по версии Миронова, — действует не воинский контингент. Мы увеличиваем миротворческий контингент, а это не требует одобрения палаты. Этого не требует Конституция»[197]. В итоге разразившийся в СМИ скандал заставил-таки президента и Совет Федерации соблюсти конституционные приличия. Правда, задним числом. 25 августа (через 17 дней после ввода войск) первый соблаговолил обратиться, а второй — «дать согласие на использование дополнительных миротворческих сил Вооруженных Сил Российской Федерации для поддержания мира и безопасности в зоне грузино-осетинского конфликта с 8 августа 2008 года»[198]. Обратите внимание — закавыченный текст и есть, собственно, вся содержательная часть документа, принятого без какого-то ни было дополнительного обоснования, уточнения и обсуждения. Так Совет Федерации создал прецедент, сведя свое исключительное конституционное полномочие к соблюдению формального одобрения решения, принятого иным государственно-властным субъектом.
Любопытно, что ровно в тот же день, 25 августа 2008 года, тот же Совет Федерации принял другое постановление (№ 299-СФ) — «Об использовании воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации в операции Европейского союза в поддержку присутствия ООН в Республике Чад и Центральноафриканской Республике». Тексты этих двух таких вроде бы похожих по смыслу документов разнятся кардинально. Во втором со ссылкой на Закон о миротворцах были досконально соблюдены все предусмотренные законом требования:
«1. Дать согласие на использование воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации численностью до 200 военнослужащих (с четырьмя транспортными вертолетами Ми-8МТ со штатным вооружением, боеприпасами, военной техникой и другими необходимыми средствами) в операции Европейского союза в поддержку присутствия ООН в Республике Чад и Центральноафриканской Республике на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1778 от 25 сентября 2007 года и обращения Генерального секретаря Совета Европейского союза, Высокого представителя по общей внешней политике и политике в области безопасности Европейского союза при условии направления военного персонала и финансирования указанного воинского формирования в соответствии со статьями 8, 14 и 15 Федерального закона от 23 июня 1995 года № 93-ФЗ гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
2. Срок участия воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации в операции Европейского союза в поддержку присутствия ООН в Республике Чад и Центральноафриканской Республике устанавливается до 12 месяцев. Отзыв воинского формирования будет производиться в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Спустя год — 10 августа 2009 года — президент Медведев встретился в Сочи с руководителями политических партий, представленных в Государственной Думе, и предложил им принять документ, касающийся порядка применения Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами России. «Считаю, что эти вопросы должны иметь абсолютно точную, четкую регламентацию», — сказал он[199].
Поэтому в 2009 году в Федеральный закон «Об обороне» были внесены изменения, аналогичные норме закона «О противодействии терроризму» в части «оперативного» использования вооруженных сил за пределами страны (пункт 2.1 статьи 10 и статья 10.1). Звучит это так: «В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности формирования Вооруженных Сил Российской Федерации могут оперативно использоваться за пределами территории Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом». Тем самым предусмотрена возможность использования армии вовне без санкции ООН и вне пределов действующих международных обязательств Росси. То есть теперь все можно без ограничений. Главное — сформулировать некие интересы России и необходимость их защиты. Собственно, с этого времени такая формула и стала использоваться в любых военных экспансиях.
Вскоре подоспел еще один акт — постановление Совета Федерации «Об оперативном использовании формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации». В том постановлении палата парламента, изначально наделенная правом-обязанностью ограничителя неконтролируемого использования армии вне территории России, в одностороннем порядке отказалась от исполнения конституционного предписания по принятию решения об использовании вооруженных сил за пределами территории России и передала его президенту[200]. Причем именно в такой формулировке: «...предоставить Президенту Российской Федерации возможность принимать решения». Обратите внимание — Конституцию меняет даже не закон, а всего лишь постановление палаты парламента! Чтобы никто не заметил. В результате конституционная формула об исключительном праве Совета Федерации чудесным образом официально трансформировалась в формальное одобрение решения, принятого другим властным субъектом.
Но Конституцию нельзя менять подзаконным актом простым большинством голосов от присутствующих на заседании палаты. Совет Федерации не имел никакого права принимать подобное постановление и таким образом перераспределять государственно-властные полномочия. Это даже не пример неправового закона, который принимается вроде бы в правильной процедуре, но при этом противоречит принципам права. Это вообще незаконное действие.
Вопрос же об обжаловании постановления как-то сам собой не возник, видимо в силу его незаметности. Да и кто знает, какая судьба была бы у такого обжалования. Ведь похожая проблема уже однажды возникала, правда в ситуации с использованием вооруженных сил внутри страны, когда группа депутатов Государственной Думы обратилась в Конституционный суд с запросом о конституционности так называемых чеченских указов президента Б. Н. Ельцина. Тогда с большим трудом, с перевесом всего в один голос и при наличии восьми особых мнений судей Конституционный суд признал эти указы соответствующими Конституции, расширив, таким образом, закрытый конституционный перечень полномочий главы государства. И именно тогда одним из судей (В. О. Лучиным) был поставлен вопрос о возможности существования скрытых полномочий президента[201].
Вернемся к постановлению Совета Федерации, принятому им в ответ на обращение президента 30 сентября 2015 года (№ 335-СФ), поскольку даже в изменившихся конституционных условиях оно представляет особый интерес для правового анализа. По имеющейся информации, в обращении президента не были указаны ни срок, ни регион использования вооруженных сил, а в качестве цели была предложена неопределенная формулировка «на основе общепризнанных принципов и норм международного права». Ответ Совета Федерации был аутентичен обращению: «Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных норм и принципов международного права». И всё.
Цели и основания использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории России достаточно четко сформулированы в трех законах и в одном документе ООН (приложение 2). Но основания, по которым верховный главнокомандующий решил ввести российский военный контингент в Сирию, не подпадают ни под одно из предусмотренных законодательством. Опубликованное задним числом обращение президента Сирии Башара Асада об оказании помощи, не может рассматриваться в качестве такового, потому что общеизвестно, что гражданская война в Сирии идет уже давно и никакого нового вооруженного нападения на эту страну не было. Равно как не может рассматриваться обращение президента Асада в качестве «двустороннего международного договора» о сотрудничестве в области противодействия терроризму. Такой договор мог бы легализовать использование вооруженных сил по основанию «пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации» (статья 4 закона «О противодействии терроризму»), но его не было.
То есть буквально «за уши» пытались притянуть ситуацию хоть к какой-нибудь формулировке, в данном случае к формулировке закона «Об обороне». А она все равно никак не притягивалась, подводя нас к однозначному выводу о необоснованном использовании вооруженных сил за пределами России.
Даже весьма сомнительное Постановление Совета Федерации от 1 марта 2014 года № 48-СФ «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины»[202] звучит намного корректнее. В нем сказано:
«Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации и исходя из интересов безопасности жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников и личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым), в соответствии с пунктом “г” части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».
То есть пусть расплывчато и неполно, но здесь все же хоть как-то обозначены причины использования вооруженных сил, территория их действия и условия, при наступлении которых такое использование закончится.
Нарушение процедуры. Как бы ни менялась конституционная формула, как бы ни трансформировались основания, единственной процедурой рассмотрения Советом Федерации вопроса об использовании вооруженных сил за пределами России была и осталась процедура, установленная Законом о миротворцах. Все попытки свести вопрос к тому, что эта процедура относится только к случаям выполнения Россией своих международных обязательств и не распространяется на другие ситуации, — от лукавого. Другой процедуры нет, а значит, она, как единственно установленная, должна автоматически распространяться и на все иные случаи (по иным основаниям) использования вооруженного контингента за пределами страны, поскольку Конституция не проводит между такими основаниями различия.
В частности, в Законе о миротворцах сказано (статья 7), что предложение президента должно включать сведения о районе действий воинских формирований, об их задачах, общей численности, о типе и составе вооружений, подчиненности, сроке пребывания или порядке его продления, порядке замены и об условиях вывода, а также об устанавливаемых в соответствии с федеральными законами дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим воинских формирований и членам их семей.
То есть запрос президента к Совету Федерации в обязательном порядке должен иметь не абстрактную отсылку к «общепризнанным принципам и нормам международного права», а четкий перечень сведений. Равно как и положительное решение Совета Федерации по предложению президента должно содержать те же сведения в полном объеме. Причем такая процедура подтверждена Определением Конституционного суда Российской Федерации[203].
Регламент Совета Федерации (пункт 3 статьи 45) требует, чтобы материалы по вопросу использования вооруженных сил за пределами территории России предоставлялись членам палаты до начала заседания. Однако СМИ утверждают, что 30 сентября 2015 года многие члены палаты узнали о проекте повестки дня только во время вступительного слова ее председателя В. И. Матвиенко. Не обнаружено никаких материалов по рассматриваемому вопросу и на сайте Совета Федерации.
В Регламенте (пункт 2 статьи 160) также говорится, что после получения Советом Федерации предложения президента председатель Совета Федерации незамедлительно отправляет его для дачи заключения в комитеты по обороне и безопасности и по международным делам. При созыве же внеочередного заседания Совета Федерации комитеты обязаны представлять свои заключения не позднее, чем за 24 часа до его начала (пункт 3 статьи 43). Но 30 сентября 2015 года заседания комитетов начались всего за час до заседания палаты, а это означает минимальную вероятность серьезного анализа выносимого на обсуждение вопроса.
Таким образом, анализируя порядок обращения президента и принятия Советом Федерации решения об использовании вооруженных сил за пределами России, мы видим последовательную конституционную трансформацию, осуществленную путем манипулирования процедурами в пользу внеконституционного перераспределения полномочий между ветвями власти. В описанной ситуации особенно наглядно продемонстрировано закручивание имитационной спирали, когда парламент-симулякр (в данном случае уже не Государственная Дума, а Совет Федерации) по собственной инициативе открыто имитирует парламентскую деятельность, отказываясь выполнять прямо предписанные ему Конституцией функции, а президент с помощью парламента-симулякра имитирует под конвенционную войну внешнее военное вмешательство для достижения своих политических целей. В результате такой имитации Россия смогла развязать серию войн и попала в крайне тяжелую международно-правовую и экономическую ситуацию.
Но, пожалуй, пора вернуться к самому термину «гибридная война». Звучит красиво и интригующе, особенно в сочетании с «гибридным режимом». Казалось бы, сами названия так элегантно свидетельствуют об их закономерной взаимосвязи. На самом деле это не совсем так. Мы уже в целом разобрались с термином «гибридный режим» и удостоверились, что сам он не вполне корректен по своей сущности. Режимы бывают демократическими и антидемократическими. Степень демократизма и антидемократизма вариативна. Демократии бывают устойчивыми и неполными (так называемыми ущербными), поскольку они только осваивают свой путь демократического развития. А недемократические режимы бывают явными и имитационными. Примерно так же и с войнами. Поэтому все же не «гибридные режимы — гибридные войны», а имитационные антидемократические режимы и гибридные войны. Хотя имитационный характер тоже этим войнам свойствен.
Как известно, гибридная война (англ. hybrid warfare) — это вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника. Такие войны известны с глубокой древности, хотя их технологии были другими. Например, старший аналитик Института безопасности Евросоюза Нису Попеску относит к методам гибридных войн в древности отравление колодцев и подкуп обороняющихся с тем, чтобы они открыли ворота крепости[204]. Троянский конь — это, пожалуй, один из самых ярких в истории примеров гибридной войны. На самом деле подавляющее большинство войн носят асимметричный характер, сочетающий в себе открытые и скрытые военные действия.
И все же, не вдаваясь в спор о военных терминах и определениях, понятных лишь специалистам, можно сказать, что «гибридная война» — это новое понятие. Сам термин впервые появился в британских и американских военных документах только в начале XXI века, а потом уже под него были подведены все подобные войны в истории[205]. Мало того, этот термин эволюционирует — в Европе сегодня обсуждают нечто именуемое «мультивекторной гибридной войной». Гибридная война, словно монстр Франкенштейна, преследует аналитиков, специализирующихся на России[206]. Депутаты Верховной рады Украины даже подумывают о том, чтобы ввести термин «гибридная война» в официальный законодательный лексикон вместе с термином «гибридное военное положение», поскольку ввести военное положение в условиях необъявленной войны нельзя, а термин «антитеррористическая операция» для сложившейся ситуации не подходит. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что законодательство о военном положении, сформированное на основе представлений XX века о классической войне, устарело, и сегодня необходимо определить новый правовой формат, который будет учитывать «особенности гибридных агрессий»[207].
Однако главная новизна этого термина в том, что в ходе войн стало использоваться так называемое правдоподобное отрицание (plausible denial) — поведение, при котором нападающая сторона осуществляет стратегическую координацию указанных действий, сохраняя при этом возможность правдоподобного отрицания своей вовлеченности в конфликт или подводя этот конфликт под далекую от реальности, но правдоподобную основу (имитация легитимности). То есть речь идет уже не просто о военной тактической хитрости, а о секретной политической операции, которая отличается от открытых военных действий государства именно возможностью ее правдоподобного отрицания. Современные гибридные войны — это коррупционные[208] или политические войны в новых международно-правовых условиях. И можно попробовать провести уверенную параллель между такими войнами и имитационными недемократическими режимами, обнаружив в них причинно-следственную связь.
Как уже говорилось, до Первой мировой войны военная агрессия считалась законным методом осуществления государственной власти. Выработка международно-право-вых подходов к предотвращению войн и сохранению мира началась именно после ее окончания и мощно активизировалась в второй половине XX века, достигнув своего апогея к середине 1970-х годов. Во многом этому способствовала длившаяся почти 20 лет вьетнамская война, которая была войной гибридной. Сама по себе гражданская война во Вьетнаме вряд ли бы вылилась в такое длительное и кровопролитное противостояние, если бы противоборствующие стороны не были поддержаны двумя жестко конкурировавшими на тот момент сверхдержавами — СССР и США.
Война во Вьетнаме оказала огромное влияние на мировоззрение американцев и породила мощное пацифистское движение молодежи. Его кульминацией стал так называемый поход на Пентагон, когда в октябре 1967 года в Вашингтон съехалось до 100 тысяч человек, протестующих против войны. Массовые протесты прошли и во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 года. В результате возник так называемый вьетнамский синдром (the Vietnam Syndrome) — массовый отказ американцев выступать в поддержку участия США в длительных военных кампаниях, не имеющих четких военных и политических целей и сопровождающихся значительными потерями среди американских военнослужащих.
Конкретным выражением «вьетнамского синдрома» стали антиинтервенционистские настроения, когда возросшее стремление американского народа к неучастию своей страны в военных действиях за рубежом нередко стало сопровождаться требованием вообще исключить войну из арсенала средств национальной политики как метода решения внешнеполитических кризисов. Отчасти именно благодаря распространению этих настроений по всему миру и появились документы ООН, определившие конкретные действия, которые запрещены в соответствии с Уставом организации и под которыми подписались все страны-члены.
Закрепленный в Уставе ООН запрет на вмешательство во внутренние дела государств без санкции международных организаций стал неотъемлемой частью мирных международных договоров. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сочла необходимым выделить его в качестве самостоятельного принципа, которым должны руководствоваться страны-участницы. В связи с этим Заключительный акт СБСЕ 1975 года содержит наиболее полную формулировку принципа территориальной целостности государств: «Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства-участники будут, равным образом, воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной оккупации или других, прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной»[209].
За прошедшие с этого времени годы международные принципы сотрудничества во имя мира были многократно расширены и уточнены. Их содержание стало сердцевиной других международных договоров. В том числе Меморандума о поддержании мира и стабильности в СНГ 1995 года[210], который определил систему безопасности стран на территории бывшего СССР. Этот Меморандум, в частности, гласит, что члены Содружества обязуются не поддерживать на территории друг друга сепаратистские движения, а также сепаратистские режимы, если таковые возникнут; не устанавливать с ними политических, экономических и других связей; не допускать использования ими территорий и коммуникаций государств — участников СНГ; не оказывать им экономической, финансовой, военной и другой помощи.
Таким образом, к моменту принятия первых внеконвенционных решений об использовании вооруженных контингентов за пределами страны без санкции ООН (Грузия, Украина) Россия была связана огромным количеством многосторонних и двусторонних международных обязательств, нарушение которых грозило ей большими внешнеполитическими неприятностями, ударом по имиджу страны и ее руководства. К тому же и международное сообщество в отличие от времен холодной войны в смысловом и теоретическом плане было гораздо лучше подготовлено к реакциям на нарушение какой-либо из стран своих международных договоренностей.
Современная гибридная война есть продолжение холодной войны в новых международно-правовых условиях. Сама по себе холодная война уже в силу своего названия имела гибридный характер. Борьба происходила за раздел сфер политического и экономического влияния в мире (в том числе за число сторонников при голосовании в ООН). Стороны в этой борьбе не вступали в «горячий» военный конфликт и в прямом смысле не присваивали чужих территорий. Они противостояли друг другу путем военной или экономической, кадровой поддержки тех или иных политических режимов и наращивали вооружение, изматывая экономики друг друга. Зачастую это противостояние порождало новые авторитарные режимы, о чем уже говорилось в первом разделе этой книги. В начале 60-х годов прошлого века политика многих правительств оценивалась в контексте противостояния двух военно-политических блоков, ассоциируемых с СССР и США. На волне борьбы с левыми организациями в Греции, Бразилии, Аргентине, Индонезии, Чили, на Филиппинах к власти пришли военные диктатуры и установились авторитарные режимы. Большинство из этих переворотов поддерживались одной из противостоящих в холодной войне сторон.
Остановленное международно-правовыми процессами и распадом СССР, это противостояние, его стратегии и тактики остались в головах постсоветского генералитета и пришедших к власти политических элит. Более того, распад СССР стал трактоваться ими как поражение в холодной войне, а внешняя политика Горбачева и Ельцина — как предательство национальных интересов. Поэтому в совершенно новых внешнеполитических условиях они продолжают руководствоваться советским принципом «мирного сосуществования», который, за редкими исключениями, отрицается современной наукой международного права. Отрицается потому, что, во-первых, его юридическое содержание носит неопределенный характер, а во-вторых, в советской трактовке «мирного сосуществования» делается упор не на сотрудничество во имя мира, а на борьбу между государствами двух систем. Содержательные смыслы сосуществования и сотрудничества совершенно разные. Именно сотрудничество, а не просто «сосуществование» является главным содержанием современной ценности мира, и именно по степени сотрудничества измеряется уровень этой ценности.
Вспоминая булгаковского профессора Преображенского, можно сказать, что война, как и разруха, — в головах. Причины войн могут быть самыми разными. Но основой войн нового поколения является непонимание и неосвоение политическими элитами ценностей мира и принципа мирного сотрудничества в их современной международной трактовке. Другой вопрос, что в практику гибридных войн была привнесена крайне опасная, встревожившая все мировое сообщество новелла — одному из государств в результате такой войны удалось методом правдоподобного отрицания, апеллирующего к имитированным демократическим и правовым процедурам[211], напрямую присоединить (аннексировать) часть другого государства. Так что имитационный политический режим и гибридная война — явления взаимосвязанные и взаимозависимые.
Специалисты в области войн считают, что основные положения концепции гибридной войны нового поколения основаны на советских наработках в области теории рефлексивного управления и состоят из пяти основных элементов: «1) политического давления — через агентов влияния, пропаганду, информационные операции и компрометирование местных властей; 2) опосредованного влияния — через организацию кибератак, нарушения работы транспортной инфраструктуры, подготовку и вооружение повстанцев; 3) военной интервенции — через демонстративное выдвижение своих войск к границам, организацию добровольческих общевойсковых формирований, объединение усилий повстанческих группировок с частями российской армии; 4) принудительного сдерживания — через агрессивное патрулирование воздушных границ, переброску систем тактического ядерного оружия, маневры войсками в масштабах театра военных действий или континента; 5) договорных манипуляций — через жонглирование договоренностями о прекращении огня, внесение раздора в лагерь западных стран с помощью экономических рычагов»[212]. Все эти позиции сформулированы в наделавшей много шума статье начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова, который считает, что «в XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись — идут не по привычному нам шаблону»[213]. То есть, по сути, все та же холодная война.
Поэтому, как говорится, «что умеем, то и применяем». Когда те самые, не овладевшие современным багажом знаний, учившиеся по устаревшим советским учебникам элиты оказались в тупиковой внутриполитической ситуации, они не изобрели ничего лучшего, нежели попробовать решить эту ситуацию через войну. Но открытая война в силу международных обязательств была невозможна. Поэтому пришлось имитировать соблюдение этих обязательств, прикрываясь «политической ложью, которая стала нормой общественно-политической жизни России и основным инструментом реализации политических интересов субъектами власти»[214].
Неслучайно занимающиеся российскими политическими элитами ученые характеризуют их состояние как лиминальное — «пороговое», или переходное между двумя стадиями развития, как группу с неопределенными политическими ценностями, что в конечном счете определяет пограничное состояние всего российского политического пространства и политического режима, который существует в условиях отсутствия нормативно-ценностной системы регуляции политических отношений и практик. «Замкнувшись на самой себе, своих целях и интересах, политическая элита “застыла” в своем пограничном состоянии, определяя лиминальный (пограничный) характер института власти в России с уклоном в сторону архаизации политических отношений, механизмов и практик»[215].
Например, второй секретарь постоянного представителя России при ООН Станислав Алексаев переадресовал все украинские обвинения в том, что Россия участвует в военном конфликте на Донбассе, назад, заявив, что гибридную войну ведет именно Украина. И добавил, что главной целью всех гибридных войн является смена политических режимов[216]. И такая ложь могла бы отчасти сработать, если бы в конкретной ситуации с Украиной этой лжи не помешало трагическое стечение обстоятельств. «Использование украинской армией тяжелого вооружения на территории повстанцев привело к большому количеству жертв среди гражданского населения. И если бы не трагедия с самолетом МН-17, якобы сбитым сепаратистами Донбасса, международное сообщество, вероятно, концентрировало бы свое внимание на ведении войны Киевом»[217], а не на действиях России, которая провоцировала, координировала и обеспечивала активность ДНР и ЛНР.
Как и в холодной войне XX века, внешне все эти трагические события в Грузии и Украине выглядят как попытка сатисфакции за разрушение СССР, новые имперские амбиции и борьба за сферы военно-политического и экономического влияния. По крайней мере, именно такова была пропагандистская риторика в российских СМИ. В результате сложилось впечатление о новой внешней экспансии и некой внешнеполитической зацикленности российского руководства в ущерб внутренней политике. Однако думается, что причины всей этой неумеренной активности изначально были сугубо внутренними. Причем эти внутренние причины сочетают в себе как внутриполитический, так и внутриэкономический аспект.
В чем же они состоят? На самом деле эти причины очень четко сформулированы самыми разными специалистами, поэтому нам остается их только процитировать. Так, руководитель отдела Европы и главный редактор русской редакции Deutsche Welle Инго Маннтойфель характеризует эти причины следующим образом: «Конфликт на Украине и вокруг нее — это следствие и порождение глубинного развития событий в самой России. Начало третьего президентского периода Путина в 2011–2012 годах ознаменовалось бурными протестами немногочисленного среднего класса в больших городах страны. Правление Путина утрачивало легитимность. На это Кремль ответил разворотом в сторону русско-национальных и православных ценностей. В ходе конфликта на Украине эта антизападная риторика приобрела пугающе патологические черты. Однако с ее помощью Путину удалось поднять свой пошатнувшийся в 2012 году рейтинг до заоблачных 80 процентов»[218].
Его мысль развивают писатель Виктор Ерофеев и аналитик американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман. Ерофеев уверен, что при сложившемся развитии событий на Киевском майдане было необходимо «блокировать европейский вектор развития Украины и ни в коем случае не допустить в ней политических и экономических реформ. И это не столько геополитические великодержавные амбиции, хотя и они тоже присутствуют, но прежде всего страх перед тем, что пример успешного развития Украины на европейском пути окажется слишком притягательным для российского общества»[219]. Майкл Кофман: «Заручившись поддержкой олигархов восточных районов Украины, Россия пыталась мобилизовать общественный протест и повлиять на украинскую внутреннюю политику. Москва хотела запугать украинское правительство и добиться федерализации, что не позволило бы Украине вестернизироваться и привело бы к политическому разделению страны по границам регионов. Россия торопилась и экономила на всем»[220].
Завершает анализ внутриполитической логики действий российской власти известный экономист и социолог профессор Владислав Иноземцев: «Владимир Путин откровенно и четко сказал, что он был инициатором отторжения Крыма от Украины. Его решения были в течение нескольких часов формально институционализированы карманным парламентом. Более того, они были поддержаны подавляющим большинством населения. Это стало исходным пунктом — фактически Россия приняла на себя коллективную ответственность за действия своего первого лица. Очень скоро не только у страны, но даже у “парламента” перестали спрашивать согласия на те или иные шаги — например, на участие войск в войне в Донбассе, результатом которой стали значительные потери среди мирных жителей, причем не только Украины. Чтобы освободиться от международной изоляции, власть начала авантюру в Сирии, которая не обеспечила желанного диалога»[221].
Внутриэкономические причины являются гармоничным продолжением внутриполитических и представляются следующими. «Поскольку Россия — это своего рода “фиктивное государство”, и оно не может предоставить гражданам качественные сервисы, то его сильной стороной являются ритуалы, “оборонительные” войны и символические победы»[222]. А «военное напряжение освобождает как власть, так и народ от дорогостоящей принадлежности к единой человеческой цивилизации. Для власть имущих, отгородившихся от Запада, нахождение за новой занавеской холодной войны (хотя война не такая уж и холодная!) выгодно: она лучше всего скрывает хроническое отставание экономики и провал модернизации. Мобилизация снимает ответственность с власти за все беды. И во всем виноват Запад. А кому не нравится — границы пока что открыты. Пусть туда и стекает протестное движение!»[223]
Мы находимся в состоянии войны со всем миром. Мы для этого ее устроили. Чтобы оправдать авторитарное правление. А не наоборот[224]. То есть это война с целью концентрации власти в условиях активизировавшейся оппозиции и усиливающейся политической конкуренции при снижении экономической конкурентоспособности страны. Нужно было переориентировать электорат на образ врага и консолидировать его вокруг спасителя Отечества. Логика известная: в кольце врагов сильнее дружат с самими собой, а все, что людей не добивает, делает их еще более сильными недобитками[225]. В общем-то, типичное поведение в условиях имитационного политического режима, действия которого направлены на несменяемость власти. Только недальновидное. Забыли сами себе задать вопрос, оправдывает ли имитационная цель применяемые средства. А еще забыли подумать о том, что опасно играть в солдатиков в стране, где каждый взрослый от тридцати сходу и наизусть подхватит главную советскую антивоенную песню «Пусть всегда будет солнце». Нам, конечно, тогда тоже навязывали образ врага. Но при этом растили убежденными пацифистами.
Да, во внутренней политике война дала кратковременный двухлетний эффект. В отличие от политики внешней, которая резко и оглушительно провалилась. Впрочем, и во внутренней политике все больше нарастает призыв: «Против беды, против войны встанем за наших мальчишек». Председатель Объединенного комитета ветеранов ВДВ, ГРУ, Спецназа, Флота и Морской пехоты России Михаил Вистицкий совершенно точно обозначил проблему на своей странице в социальных сетях: «Почему мы все время воюем не на своей земле? Почему нас в Польше, в Финляндии, в Венгрии, в Чехии и Словакии, в Германии, в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Афганистане, в Приднестровье, в Чечне, в Грузии, а теперь и в Украине называют оккупантами? А? Задумайтесь хоть немного! Кто-нибудь из вас был в составе войск, когда местные жители тебе в лицо кричат: “Убирайтесь отсюда, оккупанты!”?»[226] А тем временем в частные хозяйства Калужской области начали рассылать уведомления под грифом «Секретно» о том, что в военное время они должны будут поставлять свою продукцию для государственных нужд[227]. В стране, официально не находящейся в состоянии войны...
Глава 17
Имитационные политические режимы и коррупция
Эту главу можно начать с двух парадоксальных, казалось бы, утверждений, а потом попытаться доказать их право на существование.
Первое утверждение: уравнение коррупции, выведенное классиком антикоррупционных исследований американским экономистом профессором Робертом Клитгаардом: Коррупция = Монополия + Свобода действий — Подотчетность[228] — есть формула авторитарной власти.
Второе утверждение: конституционные трансформации многих стран — бывших республик СССР могут быть охарактеризованы как имеющие заведомо коррупционный характер.
Попробуем разобраться.
Российский ученый-государствовед Станислав Шевердяев в своей работе «Конституционное право и коррупция: введение в проблему» констатирует, что вплоть до последнего времени вопросы противодействия коррупции и проблемы конституционного права изучались изолированно друг от друга. Хотя в последние годы был накоплен огромный массив знаний, позволяющих выявлять глубинные причины коррупционной болезни, которые, как выясняется, во многом обусловлены недостатками государственного строительства[229]. «Несмотря на то, что современные политологические и экономические исследования о проблемах коррупции, — пишет он, — а также общий курс международной антикоррупционной повестки явно указывают на необходимость анализа глубинных причин коррупции, которые могут скрываться в особенностях государственной организации разных стран, конституционно-правовая наука до последнего времени стояла в стороне от этой проблематики».
К сожалению, все обстоит именно так. Не только в России, но и в других странах юристы при проверке своих выводов практически не используют тот огромный багаж знаний, который накоплен за последние полвека в области борьбы с коррупцией. Хотя, похоже, именно антикоррупционный взгляд на многие правовые вопросы является самой лучшей оптикой, позволяющей государствоведению разглядеть неувиденное и понять непознанное. В свою очередь, выводы юристов, сделанные с учетом антикоррупционной теории, тоже могли бы усилить и уточнить ее. Невероятно ценны антикоррупционные знания для процесса познания сути и смыслов современных политических режимов. И особенно режимов имитационных. Примененный в этом процессе инструментарий и угол зрения антикоррупционных исследований можно, пожалуй, сравнить с последним взмахом резца мастера, после которого глыба мрамора превращается в законченное и выпукло-цельное произведение — в «Пиету». Это прекрасно видно на примере анализа современных конституционных трансформаций ряда постсоветских государств.
Коррупция как явление сопровождает развитие человеческой цивилизации с древнейших времен. Изначально латинский термин corruptio (греч. грязь), имел больше десятка значений — от повреждения желудка плохой пищей, расточения состояния, упадка нравов и истощения источника до ущемления свободы, обольщения женщин и др. Это слово касалось самых разных сторон жизни, но всегда имело негативно-разрушительную коннотацию. Позже в римском праве образовался самостоятельный термин, который предполагал участие в противоправной деятельности нескольких лиц с целью нарушения нормального хода судебного процесса либо процесса управления делами общества, а также с целью подкупа судьи (претора)[230]. То есть понятие коррупции как грязи стало ассоциироваться именно с государством. Таким оно дошло до наших дней. Но вопрос, является ли феномен коррупции онтологически присущим всякой публичной власти, продолжает будоражить ученые умы. Действительно ли «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно»? Верна ли эта максима английского историка лорда Дж. Актона?
Безусловно одно — в коррупционном взаимодействии стороной всегда должен быть некто располагающий публичным статусом и возможностями распоряжаться вверенной ему властью. Причем возможности этого статуса используются им не по прямому назначению, не в связи с достижением задач, ради которых данная публичная позиция была создана, а в соответствии с собственными интересами или личными представлениями[231]. То есть все-таки именно власть (властное полномочие) является основой и лучшей питательной средой для коррупции. Но не только государственная власть и не всякая государственная власть.
Поэтому из всех определений коррупции наиболее точным является то, в соответствии с которым коррупцией признается злоупотребление возложенными на должностное лицо полномочиями с целью личного обогащения[232]. Это определение, используемое международной организацией Transparency International, шире и точнее, нежели определение ООН[233], в котором речь идет о злоупотреблении только государственной властью. Ограничение понимания коррупции исключительно государством выводит за рамки антикоррупционной дискуссии проблемы коррупции в органах местного самоуправления, в общественных организациях и в коммерческих структурах. Понимая это, здесь мы все же будем говорить о коррупции, связанной именно с властью, поскольку трансформация политических режимов происходит при ее непосредственном целеполагании и участии.
Анализируя условия возникновения коррупционных отношений, американский экономист Роберт Клитгаард вывел так называемое уравнение коррупции. Это то самое уравнение, которое мы приводили в начале этой главы: Коррупция = Монополия + Свобода действий — Подотчетность. Данная формула означает, что коррупция всегда возникает при сочетании следующих условий:
1) решение, которое хотел бы «купить» коррупционер для своей выгоды, принимается только одним субъектом (монополия);
2) границы полномочий субъекта-монополиста размыты (не вполне определенны), отсутствуют критерии и четкая процедура вынесения решения (свобода действий);
3) не предусматривается действенных инструментов контроля за качеством выносимых решений (подотчетность).
Соответственно, это уравнение является и уравнением антикоррупции. То есть если власть является регулярно сменяемой (отсутствие монополии), если установлен четкий и закрытый перечень полномочий, минимизированы условия для административного усмотрения (правовая определенность), созданы жесткие регламенты и процедуры деятельности органов власти и должностных лиц (отсутствие свободы) и учреждены механизмы внешнего контроля со стороны других (специальных и/или руководящих) органов, СМИ и институтов гражданского общества (подотчетность), то пространство для коррупционного поведения сужается или исчезает совсем[234].
Переведенное на юридический язык уравнение антикоррупции будет выглядеть примерно так: Регулярная сменяемость власти + Власть, ограниченная правом + Система сдержек и противовесов. Некоторые ученые включают в содержание этого уравнения принципы разделения властей, народовластия и верховенства права[235].
Получается, что совокупность антикоррупционных требований составляет формулу демократического правового государства, функционирующего в условиях приоритета прав человека и соблюдения принципа верховенства права. И наоборот, «коррупционное» уравнение Клитгаарда в том же юридическом переводе составляет формулу авторитарного политического режима: Монополия и несменяемость власти + Концентрация и размытость полномочии при отсутствии процедур + Отсутствие сдержек и противовесов, подавление оппозиции, уничтожение независимых СМИ и контрольных институтов гражданского общества. Отсюда предварительный вывод — коррупция онтологически в меньшей степени присуща демократической власти, потому что политические институты последней сами по себе более эффективны. Да и по своей мотивации такая власть отрицательно-коррупционна, и в ее конструкции присутствует институциональный потенциал для сужения пространства коррупционного поведения. Демократия обеспечивает существование сильного гражданского общества, которое в свою очередь обеспечивает заслон коррупционному поведению. А авторитарной власти коррупция присуща онтологически. Эта власть изначально коррупционно патогенна, и ее институциональная конструкция идеально предназначена для реализации и воспроизводства коррупционных практик.
Поэтому вполне закономерно, что развитие представлений о коррупции и способах борьбы с ней по времени и по смыслу непосредственно связано с идеями о надлежащем порядке управления общими делами, чему коррупция всегда препятствует. И чем большее внимание уделяется справедливому демократическому устройству государства и общества, тем больше требований предъявляется к освобождению этого устройства от коррупционных практик и тем больше сужается пространство для коррупционного поведения. Если раньше коррупция традиционно связывалась лишь с индивидуальными противоправными актами отдельно взятых морально неустойчивых коррупционеров, то современные исследования убедительно показывают, что в основе коррупции лежат не просто корыстные мотивы плохо воспитанных семьей и школой злоумышленников, а негодное устройство системы взаимодействия по поводу власти и собственности, которая не только не препятствует, но и прямо способствует развитию коррупции.
Нe менее закономерно и то, что начало научного исследования коррупции как явления совпадает по времени со сменой абсолютных монархий на демократические формы правления государств (ограниченные монархии или республики). До этого в феодальной абсолютистской Европе многие действия, которые сегодня относятся к коррупционным, считались совершенно нормальной практикой ведения дел. И иначе быть не могло. В абсолютистских государствах различий между публичными и частными интересами носителей власти не существовало. Государства были личным уделом и наследуемой собственностью монарших фамилий, а значит, постановка вопроса об использовании публичного статуса для частной выгоды была по меньшей мере лишена смысла. Этот смысл появился только тогда, когда государство стало рассматриваться как оплачиваемая налогоплательщиками услуга, качество которой они вправе оценивать. То есть с высоты сегодняшних представлений и знаний вся абсолютная монархическая власть была по своей природе политически коррупционной. И наверное, самым коррупционным в силу своих особенностей было российское самодержавие. Но современники его таковым не считали. Идея о необходимости познания феномена коррупции и борьбы с ним стала востребована только тогда, когда в общественном сознании была проведена жесткая разделительная черта между публичными и частными интересами представителей власти и изменились критерии оценки их деятельности.
В постиндустриальном мире большинство людей стали воспринимать институт государства не как некую данную им свыше сакральную сущность, а как добровольную политическую ассоциацию, основанную на договоре. В силу этого договора люди передают часть своей свободы и власти государству. В договорном государстве источником власти являются только его граждане. И именно они определяют границы участия государства в регулировании общественных отношений и пределы полномочий публичной власти по принципу «мы ваши работодатели». Именно граждане наделяют государственные органы необходимыми для этого правами и обязанностями, контролируя качество государственных услуг. Коррупция же, наоборот, исходит из позитивистского принципа «принято — извольте исполнять». Поэтому любая внеконституционная поправка текущего законодательства в условиях действия этого принципа разрушает правила функционирования договорного государства. Именно поэтому государственная коррупция стала восприниматься людьми как проявление социальной несправедливости и угроза не только государству, но и лично каждому из граждан.
Возникшая в середине XX века международная антикоррупционная повестка ознаменовала собой период массового осознания новой роли и значения государства. 1 октября 1996 года, когда на ежегодном собрании Всемирного банка его президент Джеймс Вулфенсон открыто назвал коррупцию «раковой опухолью» и барьером на пути развития, эта повестка достигла своего пика и обозначила начало современного этапа развития транснациональной антикоррупционной мысли. Именно с середины 90-х годов прошлого века, после окончания холодной войны и прекращения финансирования коррупционных режимов для образования блоков коррупция и борьба с ней стали восприниматься как мировая, общая для всех государств проблема, требующая пристального внимания и всесторонних исследований[236].
Да, конечно, массовая трансформация общественного сознания, приведшая к постановке вопроса о необходимости объединения усилий разных стран для противодействия коррупции, произошла только тогда, когда в мире резко уменьшилось число абсолютистских государств. Но изменение формы правления вовсе не означает автоматического перехода к демократическому политическому режиму. Республика и ограниченная монархия, безусловно, предоставляют больше возможностей для его установления. Но так, увы, бывает не всегда. Даже конституционно провозглашенный и институционально легитимированный демократический режим может быть изменен на противоположный, поскольку политические режимы в процессе жизнедеятельности государств по самым разным причинам трансформируются от авторитарных к демократическим и наоборот. Например, в 1984 году около половины всех стран в мире были автократическими и только около четверти — демократическими. Через 20 лет, в 2004 году, ученые зафиксировали уже совсем другую ситуацию: половина стран были демократическими и только 15% — автократическими[237]. Еще через 10 лет демократия в ряде стран вновь качнулась в сторону авторитаризма. И вместе с этими трансформациями режимов колебались уровни коррупции, поскольку, как уже говорилось, высокий уровень коррупции прямо пропорционален высокому уровню авторитаризма и обратно пропорционален высокому уровню демократии.
Высокий и очень высокий уровни коррупции характерны практически для всех государств с правящими тоталитарными и авторитарными режимами личной власти или корпоративного типа. Исключение составляет остров-государство Сингапур, публичную власть которого с 1959 по 1990 год возглавлял и до самой своей смерти в 2015 году контролировал уникальный политик Ли Куан Ю, мотивированный с момента прихода к власти исключительно служением делу искоренения коррупции и экономического развития своей страны. В решении этих задач Сингапур под руководством Ли Куан Ю добился впечатляющих успехов. По результатам исследований Transparency International[238] и Всемирного банка[239], он уже на протяжении многих лет входит в группу государств с низким уровнем коррупции и лидирующих по темпам экономического развития.
Еще одно исключение — военный авторитарный режим Пиночета в Чили. Важнейшим фактором его экономического успеха было последовательно проведенное разделение власти и собственности. Государство полностью, за исключением добычи меди, ушло из экономики. У государственных институтов и отдельных чиновников не было собственных экономических интересов, и они не контролировали собственника через механизмы прямой и завуалированной коррупции. По данным Transparency International, Чили наименее коррумпированная из всех латиноамериканских стран, далеко оторвавшаяся по этому показателю от их основного массива[240].
Несколько лучше, чем в других странах с правящими тоталитарными и авторитарными режимами, обстоят дела с коррупцией еще в 10 небольших по численности населения и территории государств Персидского залива с монархической формой правления и авторитарными режимами личной власти (в частности, Катар и ОАЭ). Обусловлена такая ситуации тем, что правители этих государств выступают в роли «стационарного бандита», являясь главными бенефициарами национальной экономики. Эти правители рассматривают коррупцию должностных лиц государственного аппарата среднего и нижнего уровня как угрозу их личным интересам и потому нещадно ее искореняют.
Во всех остальных государствах с тоталитарными и авторитарными режимами, которые составляют порядка одной трети от всех суверенных государств современного мира, коррупция, по результатам исследований Transparency International и Всемирного банка, находится, как уже говорилось, на высоком и очень высоком уровнях. В том числе даже там, где против коррупционеров применяются жесткие карательные меры вплоть до смертной казни, как, например, в Китае[241]. Такое положение более чем закономерно. Вероятность того, что авторитарный режим избежит коррупционной участи, очень-очень мала, поскольку лежит исключительно в плоскости целеполагания его лидера.
Справедливости ради надо отметить, что и демократия не является абсолютной панацеей от коррупционной болезни. Даже стабильные демократические государства иногда оказываются высококоррупционными. Из 194 суверенных государств — членов ООН только 22–23 государства побороли эту болезнь и живут с низким уровнем коррупции. Но одно безусловно — все эти государства, кроме Сингапура, являются устойчивыми демократиями[242]. В любом случае уровень коррупции в недемократических режимах кратно выше, нежели в демократических. Потому что, как бы ни приспосабливался и ни мутировал коррупционный вирус, борьба с ним вручную и поинститутно в демократических государствах дает гораздо более быстрый результат, нежели при системно-коррупционных авторитарных режимах.
Австрийский писатель и публицист Карл Краус сравнил коррупцию с первой древнейшей профессией. «Коррупция хуже проституции, — написал он, — проституция ставит под угрозу нравственность одного человека, коррупция ставит под угрозу нравственность целой страны»[243]. Но коррупция бывает разная. Учеными выявлено большое число различных видов коррупции[244]. Из всех этих видов самой опасной является коррупция политическая, потому что поставить под угрозу нравственность целой страны может только она. Наверное, именно поэтому только о ней идет речь в определении ООН. В отличие от всех других видов только политическая коррупция не является эпизодической, а носит всеобъемлющий, системный характер и использует для достижения коррупционных целей инфраструктуру всего политического процесса, а не отдельного ведомства или отдельной публичной должности (в том числе для незаконного удержания власти, укрепления политического статуса, накопления богатства и т. д.). Особая ее опасность состоит также в том, что в условиях республиканского правления она осуществляется субъектами политики, уполномоченными принимать решения от имени народа. Поэтому такая власть, как правило, не афиширует своих коррупционных целей и вынуждена имитировать демократические процессы, подменяя их на деле авторитарными практиками.
Подобную политическую коррупцию называют экстрактивной институциональной. Под этим термином понимается синтез административной и политической коррупции, когда политическая элита или класс использует аппарат государства в качестве инструмента для извлечения ресурсов из общества, при котором распространение коррупции достигает таких масштабов и такого уровня структурированности, что государственно-властные решения принимаются не в интересах общества и даже не в интересах частного бизнеса, а исключительно в интересах коррумпированных бюрократических структур. Институциональная экстрактивная коррупция не является побочным продуктом развития социально-политической системы, а целенаправленно выступает в качестве главного стержневого механизма, обеспечивающего повышение управляемости коррумпированной государственной системы перед риском потери нитей управления для извлечения ренты и для контроля власти и богатства под угрозами любого давления. В результате она может трансформироваться в коррумпированную государственную систему и даже в мафиозное государство[245].
Но для того, чтобы использовать ресурсы публичной власти в целях личного или группового материального обогащения, эту власть сначала нужно завоевать, а потом удерживать, создав соответствующий политический режим. Инструментами решения этой задачи служат различные виды политической коррупции. Это в первую очередь электоральная и законодательная коррупция. Потому что только с помощью электоральной коррупции, как центрального элемента политической коррупции, возможен захват представительной власти, через которую путем законодательной коррупции происходит формально-правовое обеспечение деятельности коррупционного режима. Далее для удержания власти и достижения коррупционных целей могут использоваться другие виды политической коррупции.
Если попробовать максимально компактно изложить типологию политической коррупции в зависимости от основных сфер ее приложения в сочетании с характерными используемыми коррупционными методиками и объединить их по основным целям, которых коррупционеры пытаются достигать, то вариант может быть следующим:
1) электоральная коррупция, включая использование административного ресурса, мошенничество с подсчетом голосов, вбросы избирательных бюллетеней, покупку голосов и др., — для обеспечения определенного состава органов народного представительства;
2) непотизм (кумовство), включая политический патронаж, и покупка должностей для занятия невыборных государственных постов;
3) законодательная коррупция (в том числе противозаконный лоббизм) в форме технологии «приватизации государства» для «покупки» или обеспечения потенциально-коррупционных государственно-властных решений;
4) присвоение публичных фондов с использованием политических процедур или для достижения политических целей (в том числе посредством методов «бюрократического» рэкета) — для приобретения имущества в личных целях или для решения групповых коррупционных задач;
5) злоупотребление полномочиями в политических целях (в том числе в обход законно установленных демократических процедур) — для укрепления личной или групповой власти, обеспечения поддержки высокого должностного статуса[246].
Профессор Нисневич разделяет формы политической коррупции по стадиям процесса взаимодействия политических акторов с публичной властью на завоевание (удержание) публичной власти и ее использование.
При завоевании (удержании) власти посредством института выборов выделяется электоральная коррупция, определяемая как создание преимуществ представителям правящих политических сил и групп, подавление их политических конкурентов и искажение свободного волеизъявления граждан посредством противоправного использования структур публичной власти, полномочий должностных лиц и в целом властных управленческих ресурсов. Если электоральная коррупция вовремя не пресекается, она нарастает от одного избирательного цикла к другому и в итоге полностью деформирует избирательный процесс, превращая его в имитацию выборов. С формальной точки зрения можно говорить о политической коррупции и в случае захвата власти в результате государственного переворота, когда одна часть правящих сил и групп отбирает власть у другой их части, так как при этом, как правило, используются структуры публичной власти и их ресурсы (вооруженные силы, правоохранительные органы или другие «силовые» структуры).
Политическая коррупция на стадии использования публичной власти пришедшими во власть политическими акторами называется приватизацией власти. Нисневич определяет приватизацию власти как присвоение лицами, занимающими публичные политические должности, всех властно-принудительных полномочий и прав публичной власти, полное устранение политической оппозиции посредством законодательного и иного нормативного формирования политических порядков и правил, а также кадровых назначений в структуре публичной власти[247].
То есть среди факторов питательной среды коррупции авторитарный политический режим не всегда первичен. В ряде случаев специально под определенные коррупционные цели с помощью политической коррупции он создается искусственно. Поэтому профессор В. В. Лунеев определяет политическую коррупцию как форму политической борьбы за власть[248]. Д. Аджемоглу с соавторами пошли дальше — посредством формального моделирования они проанализировали соотношение коррупции и политического процесса и провели аналогию между клептократическими режимами и режимами личной власти как ориентированными на использование власти в целях извлечения прибыли[249]. Другими словами, взгляд на проблему в том числе имитационных политических режимов может быть совершенно иным в зависимости от целеполагания политических элит. Так, имитационный характер может быть обусловлен целью извлечения политической, а в конечном счете экономической выгоды.
Именно механизмы политической коррупции являются наиболее надежным и весьма популярным средством для нивелирования конституционализма. Исследования показывают, что в этом случае политическая коррупция является еще и средством универсальным. В нестабильных государствах она выступает в виде «премии за риск» (парламентариям, судьям, сотрудникам правоохранительных органов) при создании определенной, отличной от конституционной модели правопонимания и правоприменения. В стабильных авторитарных режимах коррупция является инструментом контроля над бюрократией, бизнесом и другими «системно значимыми» группами для обеспечения их политической лояльности. Контроль над бюрократией и бизнесом достигается через так называемый механизм заложников. Все вовлеченные в коррупционный рынок получают определенную прибыль, но при этом попадают в зависимость от карательных органов. Тем самым коррупция создает основу для политики «кнута и пряника». «Кнут» применяется ко всем, кто выступает против режима, и примеры многочисленных избирательных антикоррупционных дел против оппозиционеров лучшее тому подтверждение. «Пряником» же является выгода от участия в коррупции, распределяемая индивидуально вручную за лояльность режиму[250].
Поэтому большинство основных элементов современных универсальных международных антикоррупционных стратегий имеют конституционно-правовой характер. Современное антикоррупционное знание достигло такой степени системности и точности, что на его основе вполне можно определять, как будут меняться коррупционные практики в зависимости от специфической коррекции властеотношений. В этой связи системное исследование состояния конституционной трансформации России могло бы стать для антикоррупционной науки благодатным предметом анализа. Но российский опыт не уникален. С точки зрения теории политической коррупции не менее интересным является сравнительно-правовой анализ конституционных трансформаций в странах СНГ, которые вполне могут быть охарактеризованы (по Нисневичу) как политически коррупционные на стадии удержания власти.
Анализируя постсоветские авторитарные режимы, мы уже говорили о том, что в начале 1990-х годов во всех странах СНГ были приняты конституции, устанавливающие определенный срок нахождения в должности президента (обычно пять лет или четыре года) и лимит на занятие президентской должности одним лицом (не более двух сроков подряд). В ряде стран имелось также ограничение на возраст кандидата в президенты. Однако очень быстро во многих странах возникли инициативы, а затем и практика продления президентских полномочий, в результате чего находившиеся в должности президенты получили право баллотироваться на третий или даже последующие сроки либо просто существенно эти сроки продлевали.
При этом использовались схожие конституционные и внеконституционные механизмы:
• признание первого срока «нулевым», так как он начался до принятия действующей конституции, и разрешение баллотироваться на третий срок как на второй (Леонид Кучма — Украина[251], Ислам Каримов — Узбекистан, Эмомали Рахмон — Таджикистан, Аскар Акаев — Кыргызстан);
• устранение путем референдума поправки к конституции об ограничении на последовательные сроки (Александр Лукашенко — Белоруссия, Нурсултан Назарбаев — Казахстан, Ильхам Алиев — Азербайджан);
• личное пожизненное президентство — в виде исключения — без внесения поправок в конституцию (Сапармурат Ниязов — Туркмения);
• увеличение президентского срока посредством внесения поправок в конституцию с автоматическим продлением полномочий действующего президента (Назарбаев — Казахстан, Каримов — Узбекистан). При принятии белорусской Конституции 1996 года полномочия Лукашенко, избранного в 1994 году, были «обнулены» и продлены на два года согласно переходным положениям. В России в 2008 году сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы были увеличены до шести и пяти лет соответственно;
• снятие верхнего ограничения на возраст кандидата в президенты (Борис Ельцин — Россия, Назарбаев — Казахстан, Рахмон — Таджикистан).
Использовались также различные сочетания этих методов (например, Ниязов сначала отсрочил применение положения о двух сроках президентских полномочий, а потом был объявлен пожизненным президентом).
В результате такого искусственного продления полномочий некоторые президенты получили право находиться у власти более 20 лет, считая со времен СССР (Назарбаев и Каримов). В России, с учетом возможности «тандема» с председателем правительства, один и тот же президент теоретически может находиться у власти бесконечно. То есть налицо конституционные трансформации с целью удержания власти. Таким образом, конституционные трансформации многих стран — бывших республик СССР вполне могут быть охарактеризованы как имеющие заведомо коррупционный характер. Закономерно, что в результате такого «завоевания власти» режимы этих стран по признаку нераздельности власти и собственности очень быстро стали похожи на другие авторитарные политические режимы. Только скорость, с которой властные группировки в странах СНГ прибрали к рукам все наиболее прибыльные экономические активы, существенно превышает ту, с какой, например, получили свои страны в собственность традиционалистские авторитарные режимы в Центральной Америке[252].
Эти режимы постоянно имитировали демократические институты и тоталитарную риторику, без объяснения меняли пропагандистские модели, в отношении потенциальных оппонентов сочетали точечные репрессии и точечную же кооптацию, заменяли политическую конкуренцию соревнованием бюрократических кланов, а конституционную систему сдержек и противовесов — организацией административной биржи, где торгуют ресурсами, полномочиями, угрозами и обещаниями. Тем не менее экономическим фундаментом этого барочного палаццо являлась и является покупка лояльности за деньги: как правящий класс, так и граждане наделяются своей долей распределенных доходов, а взамен от первых ожидается участие, а от вторых — пассивность[253].
Во взаимосвязи с проблематикой политической коррупции на основе подобных конституционных трансформаций Е. А. Лазарев выделил типологию постсоветских режимов и разделил все постсоветские страны на несколько групп. Первая группа — демократическое равновесие, к этому типу режимов он отнес страны Балтии[254]. Вторая группа — демократическое неравновесие, на момент выхода его статьи в 2010 году к этому типу режимов он относил Украину, Молдову, Армению и Грузию. Третья, четвертая и пятая группы — режимы разной степени авторитарности: авторитарное неравновесие (Киргизия), авторитарное равновесие (Россия, Казахстан и Азербайджан) и закрытый авторитарный режим (Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан)[255].
Правда, по поводу равного демократического равновесия в странах Балтии есть серьезные сомнения. Например, А. Рябов и Е. Мишина полагают, что единственным успешным проектом создания постсоветского национального государства, которое завершило посткоммунистический транзит и, несмотря на проблему русскоязычного меньшинства, никакого отношения к постсоветскому пространству не имеет, является Эстония (unique case по совокупности показателей экономики, реформы полиции и судебной системы)[256]. В то же время двухобщинная парламентская Латвийская Республика, в которой значительная часть населения лишена избирательных прав, а национальные политические партии коалиционным путем осуществили захват парламента и удерживают его на протяжении четверти века, вряд ли может быть отнесена к демократически-равновесному типу политического режима. По мнению К. Таубе, позиция по вопросу гражданства, которую заняла Латвия, вызывает целый ряд вопросов с точки зрения демократии и политической стабилизации. Установление прямой и жесткой связи гражданства и свободного владения государственным языком превратилось в символ возрождения Латвии и одновременно с этим в инструмент политического воздействия, использовавшийся для исключения части населения страны из демократических процессов.
Тем не менее исследование Е. А. Лазарева само по себе крайне интересно, потому что анализ идет «от обратного». Если мы доказываем, что авторитарные и демократические режимы различаются своей потенциальной коррупционностью, то Лазарев, наоборот, выводит тип политического режима на основе антикоррупционных данных. И его типология практически полностью совпадает с данными международной организации «Всемирная конференция по конституционному правосудию» (см. главу 13 об имитационных режимах как новой политико-правовой реальности).
Один из самых влиятельных философов XX века Карл Поппер утверждал, что политические институты как крепости — их надо не только хорошо спроектировать, но и правильно населить[257]. И он совершенно прав. В дискуссии о том, является ли феномен коррупции онтологически присущим всякой публичной власти, недостаточно исследовать только институциональное состояние режима (проектирование крепости). Очень многое зависит от личности носителей власти (населения крепости). То есть у коррупции есть две важнейшие составляющие — институциональная возможность бесконтрольного и безнаказанного недолжного использования своих полномочий и система личных ценностей людей, принимающих решения, которая вступает или не вступает в противоречие с коррупционным поведением.
В поисках ответа на вопрос, верна ли максима лорда Актона о том, что «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно», Арнольд Рогоу и Генри Лассуэлл методом анализа конкретных ситуаций (case-study) исследовали в исторической ретроспективе политические карьеры 30 политиков, которые доминировали в системе публичной власти США в конце XIX — начале XX века. По результатам исследований они пришли к выводу, что максиму лорда Актона нельзя признать фундаментальной аксиомой и сформулировали следующий вывод: «Честность не расходится с властью. Власть не обязательно ведет к коррупции или, наоборот, не всегда облагораживает»[258]. В этом с ними солидарен профессор Ю. А. Нисневич, который считает, что, хотя структура и способна в значительной степени предопределять возможности и ресурсы политических акторов, власть не существует помимо воли субъекта[259]. Субъект является не пассивным носителем роли, а активным агентом. И только его личные действия (бездействие) влияют на результат власти.
В этом смысле показательна оценка состояния российской правоохранительной системы, данная ей бывшим сотрудником МВД правозащитником Виталием Черкасовым в интервью агентству «Росбалт». Он так оценил внутреннюю мотивацию современных российских полицейских: «В органы внутренних дел приходят люди, которые не считают, что в их задачу входит защищать людей и поддерживать законность. Система совершенно не настроена на то, чтобы обеспечивать нашу безопасность и порядок на улицах городов. По большому счету, на службу в органы идут люди потому, что там есть стабильный заработок, есть какие-то льготы и есть еще дополнительная возможность что-то урвать, в зависимости от своих способностей и в меру должностных возможностей, которые имеются. В этом они в первую очередь ориентируются на своих начальников, которые и подают такой пример»[260].
То есть мы вновь возвращаемся к зависимости общественно-политических явлений от уровня освоения элитами конституционных и иных общечеловеческих ценностей. Мы уже говорили о том, что в любом коррупционном взаимодействии некто, располагающий публичным статусом и возможностями распоряжаться вверенной ему властью, использует возможности этого статуса не по прямому назначению, не в связи с достижением задач, ради которых данная публичная позиция была создана, а в соответствии с собственными интересами или личными представлениями. Но если его личные представления и интересы совпадают с прямым назначением публичной должности, то шансы его участия в коррупционном взаимодействии будут минимальны.
За исключением ситуаций, когда политическая и экономическая коррупция практически полностью поражает публичную власть, становится главным целеполаганием и основой функционирования государства. В этом случае, как утверждает профессор Нисневич, пришедшие в публичную власть ради наживы существенно более склонны вступать в коррупционные отношения и проще адаптируются к пронизанной такими отношениями профессиональной среде, чем мотивированные жаждой признания. При этом те, чьи представления и интересы совпадают с прямым назначением публичной должности (жажда признания), коррумпированной средой чаще всего отторгаются по принципу «Если ты такой умный — почему такой бедный?». Более того, мотивированные жаждой наживы не способны переориентироваться на жажду признания, не считая ситуации, когда подъем по карьерной лестнице служит инструментом для наживы. Хотя обратный процесс переориентации с жажды признания на жажду наживы, к сожалению, возможен и на практике встречается в пораженных пандемией коррупции обществах. То есть от жажды признания можно скатиться к жажде наживы, корыстолюбию и алчности, но нельзя подняться от стремления к наживе к служению делу и альтруистической мотивации. Иначе этот процесс еще называют кругом порока.
Склонность к коррупции лиц, мотивированных жаждой наживы, обусловлена прежде всего тем, что для таких соискателей должностей публичной власти принцип «Цель оправдывает средства» если и не является главным, то, во всяком случае, рассматривается как вполне приемлемый. Причем первоначальный смысл, заложенный иезуитами в этот принцип, трансформируется: «Цель оправдывает любые средства». Поэтому для личной выгоды и обогащения допустимо и возможно использовать должностные полномочия и права, распределять подконтрольные ресурсы в обход любых установленных правил[261]. Под эту цель возможно перекраивать конституционные принципы, менять их смыслы, ломать и коверкать государственные институты, обманывать, жульничать, беспредельничать и даже убивать, создавать любыми способами специальные институциональные коррупционные механизмы.
Итак, на состояние коррупции в сфере публичной власти огромное влияние оказывает внутренняя мотивация тех, кто приходит занять публичные должности. Такая мотивация определяется уровнем развития личности и характером ее ценностных ориентаций (население крепости). Да, она, безусловно, важна. Без нее не случится коррупционного взаимодействия. И все же Карл Поппер прав — хорошо спроектированные крепостные стены (институциональная составляющая) будут серьезно препятствовать коррупционному поведению. Если крепость спроектирована хорошо, то тогда для реализации коррупционных целей возможны только два варианта — либо сломать крепость и построить другую, либо снести все внутренние перегородки, оставив фасад сооружения. Это, собственно, и есть тот самый образ имитационного политического режима, если его истинной целью является обогащение и нажива.
В итоге получается, что коррупционные государства и авторитарные политические режимы имеют одинаковые причины и институциональные основы. Развитие коррупционных и авторитарных государств в подавляющем большинстве случаев происходит по одному сценарию. Задачей псевдодемократической имитации авторитаризма может являться попытка скрыть истинные коррупционные цели и задачи власти. В такой ситуации конституционализм становится безусловной жертвой коррупции, поскольку является серьезной преградой на ее пути, которую коррупционному режиму необходимо устранить. И не только конституционализм. Мы все становимся жертвами.
Шестьдесят лет назад известная американская писательница Айн Рэнд очень точно, практически пророчески охарактеризовала эту ситуацию: «Когда вы видите, что торговля ведется не по согласию, а по принуждению, когда для того, чтобы производить, вы должны получить разрешение у тех людей, кто ничего не производит, когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче из-за взятки или по протекции, а не из-за работы, когда ваши законы защищают не вас от них, а их от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием — знайте, что ваше общество обречено».
История и практика мировой государственности подтверждают ее правоту, а полувековая международная борьба с коррупцией свидетельствует о том, что не только Айн Рэнд осознала эту опасность.
Глава 18
Штрихи к портрету экономики имитационных политических режимов
Надо быть безумно самоуверенным человеком, чтобы, не будучи экономистом, судить об экономике. Поэтому в нашем случае максимум что можно сделать — это попытаться легким штрихами, буквально пунктиром и без претензий на высокую точность набросать картину, соединяющую учение о политических режимах, об имитационном псевдодемократическом авторитаризме и о причинах его конституционных трансформаций с экономической теорией. Таким наброском мы замыкаем круг профессионального анализа единой взаимосвязанной системы «государство — общество — политика — экономика». Разделить их невозможно. Это целостный организм. Если мы хотим поставить диагноз явлению, то обследовать его нужно всесторонне. Потому что снижение зрения у диабетиков не лечится только глазными каплями — нужно снижать сахар, а перелом у человека, страдающего остеопорозом, не заживет сам собой — костную ткань нужно насытить кальцием. Что же до нашего исследования, то чем дальше оно продвигалось, тем все больше казалось, что начинать читать его надо не сначала, а с конца. Потому что только в конце мы добрались не просто до теоретических предположений и сравнительно-правовых выводов, но до глубинных причин — институциональных предпосылок и человеческих мотиваций происходящего.
К сожалению, взаимозависимость экономики и политики не является популярным объектом исследования ученых. Некоторые политологи позволяют себе походя заявлять, что «никакой прямой связи между богатством или бедностью и демократизацией общества не существует»[262]. В течение долгого времени экономисты крайне редко сопоставляли анализ экономических процессов со структурными и организационными вопросами власти, а юристы столь же редко в своих выводах апеллировали к экономическим знаниям. За исключением таких разделов конституционно-правовой науки, как экономическая конституция и конституционная экономика[263]. Но в данном случае речь не о них.
Первыми из научной изоляции вырвались экономисты. В российской науке «прорывателями» профессионального изоляционизма стали Евгений Ясин, Ярослав Кузьминов, Вадим Радаев, Андрей Яковлев, Владимир Гельман, Виктор Полтерович и Георгий Сатаров, которым, в силу российской специфики, с неизбежностью пришлось столкнуться с особенностями внедрения так называемых имплантных (заимствованных) политических и экономических институтов в политическую и экономическую действительность страны[264]. Из зарубежных ученых таковым стал лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года американец Дуглас Норт и его соавторы Джон Уоллис и Барри Вайнгаст, которые в своем фундаментальном исследовании «Насилие и социальные порядки» всерьез задумались о соотношении политической и экономической конкуренции, экономического роста и эффективности реализации принципа верховенства права, а также о значении состояния политических институтов для экономического развития[265].
Практически одновременно с Нортом другие американские экономисты Дарон Аджемоглу и Джеймс А. Робинсон (далее Аджемоглу — Робинсон) провели ряд еще более глубоких исследований о взаимодействии политических и экономических институтов. И если у Норта с соавторами политические институты всего лишь «имеют значение», то для Аджемоглу — Робинсона они выходят на первый план и имеют решающее значение[266]. Да, конечно, их теория нуждается в определенной «докрутке» и развитии. Но в целом она прорывная и заслуживает того, чтобы обратить на нее специальное внимание.
Итак, по мнению Аджемоглу — Робинсона, только правильно организованные политические институты в состоянии гарантировать стабильность и устойчивое развитие, поскольку они закрепляют уверенность в верховенстве закона и в безопасности прав собственности. Только эти институты исключают риск захвата власти диктатором, который изменит правила игры, экспроприирует богатство, заключит бизнесменов в тюрьму или станет угрожать их жизни. Только политические институты свидетельствуют о способности граждан контролировать политиков и влиять на их поведение. А она (эта способность), в свою очередь, определяет, будут ли политики агентами граждан или же станут постоянно злоупотреблять возложенной на них властью. В первом случае политики выстроят полезные для роста экономические институты. Во втором — будут накапливать личные состояния, следуя своей собственной линии, и сознательно создавать для этого неэффективные экономические институты. В итоге Аджемоглу — Робинсон делают следующее заключение о соотношении и роли экономических и политических институтов: «В то время как экономические институты имеют решающее значение в определении того, будет ли страна богатой или бедной, то политика и политические институты определяют, какие именно экономические институты страна будет иметь»[267]. То есть выводится прямая зависимость «богатства или бедности» от состояния политических институтов.
В центре теории Аджемоглу — Робинсона о развитии и отсталости находится деление политических и экономических институтов на инклюзивные (inclusive) и экстрактивные (extractive). Соответственно, экономики стран, где преобладают первые, называются инклюзивными, а те, в которых доминируют вторые, — экстрактивными. Для русского уха термины звучат непривычно и сложноразличимо. Наверное, их можно было бы попытаться как-то адаптировать по значению к русскому языку, назвав, например, «развивающими» и «выжимающими». Но чтобы не произошло искажения, как это случилось с термином «верховенство права», лучше этого не делать, потому что часть смысла все равно теряется. В конце концов, любой новый термин однажды становится привычным и понятным. Главное, разобраться, что он означает.
Если определить значение максимально коротко, то экстрактивными институтами являются те, что извлекают ресурсы определенных слоев населения с целью их перераспределения в пользу элиты. А инклюзивные институты — это политические и экономические институты, которые дают равные стартовые возможности и четкие правовые гарантии[268].
Между экономическими и политическими институтами существует сильная синергия. Экстрактивные политические институты концентрируют власть в руках элиты и не ограничивают ее в том, как и на что эта власть может употребляться. Поэтому элита совершенствует экстрактивные институты, которые позволяют ей эксплуатировать остальное население. В условиях постоянного сохранения узкой прослойки людей у власти и отсутствия нормального избирательного права усовершенствованные политические институты помогают тем, кто обладает властью, подстроить экономические институты под себя, то есть приспособить их для собственного обогащения за счет всех остальных и для дальнейшего укрепления своей власти. В свою очередь, это экономическое богатство помогает консолидации власти (например, за счет возможности содержать достаточные вооруженные силы и силы безопасности). Таким образом, экстрактивные институты поддерживают друг друга и в результате обретают устойчивость.
В ряде стран экстрактивность поддерживается так называемым нефтяным проклятием, поскольку значительная база природных ресурсов стабилизирует любой авторитарный режим. Связано это с тем, что, извлекая ренту из монополизированного рынка по добыче ископаемых, политические элиты не зависят от подавляющей части налогоплательщиков, и соответственно избирателей, и лишены поэтому необходимости идти на компромиссы с ними[269].
Инклюзивные экономические институты появляются в результате работы инклюзивных политических институтов, которые распределяют власть среди широкого круга граждан и накладывают ограничения на ее произвольное применение. Они затрудняют узурпацию власти, и лица, контролирующие политическую власть, не могут легко учредить экстрактивные экономические институты ради собственной выгоды. В свою очередь, инклюзивные экономические институты обеспечивают более равное распределение ресурсов и за счет этого способствуют сохранению инклюзивных политических институтов. Характерен эпизод с 32-м президентом США Ф. Рузвельтом, когда при доминировании его Демократической партии в обеих палатах Конгресса он не смог протолкнуть решение, окончательно подавляющее права Верховного суда. Конгрессмены, поддерживавшие его ранее, рассуждали примерно так: «Сегодня он раздавит Суд, а завтра — нас?» Сработали сдержки и противовесы в системе разделения властей[270].
На самом деле теория Аджемоглу — Робинсона, так же как и формула коррупции Клитгаарда, описывает две формы экономического существования различных политических режимов. Модель государств с экстрактивными институтами соответствуют режимам авторитарным, а с инклюзивными — демократическим. Сами авторы подтверждают это, говоря, что большинство существовавших в истории государств были основаны на экстрактивных институтах, то есть были авторитарными. И только массовый приход демократий с инклюзивными институтами вызвал в мире гигантский экономический и научно-технологический прорыв. Современное экономическое развитие ряда устойчиво демократических стран наглядно подтверждает это. Показательно, например, что из всех непостсоциалистических стран Евросоюза в худшем экономическом положении сегодня оказались те, что переживали авторитарные правления во второй половине XX века, — Греция, Испания, Португалия.
Экстрактивные и инклюзивные институты, по утверждению авторов, могут сосуществовать, но это сосуществование непрочно. Экстрактивные экономические институты при инклюзивных политических институтах вряд ли в состоянии поддерживать себя сколь-нибудь долго. Аналогично инклюзивные экономические институты не поддерживают экстрактивные политические институты: либо они трансформируются в экстрактивные к выгоде власть имущих, либо создаваемый ими экономический динамизм дестабилизирует экстрактивные политические институты, заменяя их инклюзивными[271]. Потому что между политическим плюрализмом и инклюзивными экономическими институтами существует прямая связь. Равно как отсутствие политической конкуренции напрямую связано с экстрактивными экономическими институтами. Этим выводом авторы фактически дают ответ на вопрос, почему и зачем в имитационных авторитарных режимах происходят конституционные трансформации.
Распределяя власть среди широкого круга лиц, инклюзивные политические институты будут неизбежно разрушать основу таких экономических институтов, которые поддерживают экспроприацию ресурсов у большинства населения, создают барьеры для входа новых игроков на рынок и в целом ограничивают круг бенефициаров рыночной экономики узким кругом властных элит. То есть они уменьшают ренту, которую элита могла бы извлекать, пользуясь экстрактивными политическими институтами: когда на рынках конкурирует много сильных игроков, каждый из них, включая аффилированных с элитой, ограничен необходимостью соблюдать контракты и уважать частную собственность контрагентов. Коррупционно-ориентированным элитам такая ситуация не подходит. Поэтому они будут прилагать максимум усилий для экстрактивного разворота своих стран. А дальше начинается бег по кругу: коррупционный экономический интерес — завоевание власти — создание экстрактивных политических институтов — удержание и концентрация власти — создание экстрактивных экономических институтов — снижение экономических показателей — усиление экстрактивных политических институтов во имя сохранения власти и т. д. Поэтому процесс борьбы за ограниченные ресурсы, доходы и власть легко перерастает в борьбу за установление правил игры, за выбор экономических институтов, которые определяют характер экономической активности ее бенефициаров.
В государствах с явным доминированием экстрактивных институтов политические элиты практически не ограничены в своих действиях по созданию подконтрольных монополий и близких к ним хозяйственных организаций, приносящих средства, которыми они вольны распоряжаться по своему усмотрению. Эти средства распределяются ими между накоплением личного богатства и инвестированием в укрепление существующих экстрактивных политических институтов, которое принимает разные формы: оплата лояльных вооруженных формирований, подкуп судей, фальсификация выборов и пр. Ну а достижение политических целей в этой системе едва ли не автоматически расширяет возможности извлечения ренты из экономической деятельности. Это и составляет суть порочного круга. Политическое руководство в таких государствах не идет на стимулирование инноваций в экономике, не создает прозрачной патентной системы и других экономических стимулов вроде строжайшей охраны частной собственности.
Как уже говорилось, главным отличием таких стран от стран с преобладающими инклюзивными институтами является отсутствие гарантий прав собственности, поскольку желание и реальная возможность инвестировать и повышать производительность появляется только при наличии таких гарантий. Именно поэтому инклюзивные экономические институты названы «двигателями процветания»: они создают инклюзивные рынки, которые не только предоставляют людям право свободно выбирать деятельность, более всего отвечающую их талантам, но и дают им возможность реализовывать это право[272]. Способность экономических институтов использовать потенциал инклюзивных рынков, поощрять технологические инновации, инвестировать в человеческий капитал и мобилизовывать таланты и навыки значительного числа людей — это необходимое условие экономического роста. Но он будет происходить, только если его не удалось заблокировать тем, кто боится от него проиграть и потерять привилегии, на которых основаны их богатство и власть.
Российская конституционная трансформация по своей природе откровенно политически и экономически экстрактивна. Она — творение рук победителей в политической борьбе, которые, становясь властью, получили возможность изменить условия конкуренции. И если изначально конституция была построена иначе, предполагала инклюзивное политическое устройство, то его нужно было менять любым способом, подстраивая под истинные интересы политических элит. В том числе способом постепенного внеконституционного изменения инклюзивных политических институтов на экстрактивные. Что, собственно, и произошло. Другой вопрос, насколько эти экстрактивные изменения проводились системно и целенаправленно. Эпизодические и разовые трансформации должны настораживать, но они могут не привести к потере конституционного баланса. А если он сохраняется, то инклюзивные институты начинают сами себя защищать. Так и происходило в постсоветских государствах с парламентской формой правления. В президентских и смешанных формах риск всегда был выше из-за сложного сочетания коллегиальных и единоличных полномочий. И когда в этом сочетании индивидуальные полномочия начинали откровенно превалировать, компенсаторный механизм системы переставал работать[273].
Но государство, которое радикально меняет свои представления о содержании конституционных принципов и, что гораздо опаснее, старается приспособить их к текущей политической ситуации, не может считаться сильным. Сильным является государство, которое стабильно функционирует в соответствии с запретами, велениями, требованиями, составляющими содержание демократических конституционных принципов[274].
Именно поэтому России как экономическому пространству, как зоне российского права, как политической системе перестали доверять. Ей перестали доверять все, начиная от собственных граждан и вплоть до личных друзей президента. Причем последние, знающие эту систему и это пространство лучше других, не доверяют ей в самой большой степени. То есть мы имеем дело с ситуацией, когда легально использовать систему боятся даже самые привилегированные ее участники. Боятся настолько, что совершенно законный бизнес предпочитают делать вне страны.
С 1991 года Россия в труднейших условиях начала строить новую, рыночную экономику, которая должна была стать существенно более эффективной средой для предпринимательства, основой для развития и роста благосостояния граждан. Несмотря на все издержки рынка, через которые проходили все молодые капиталистические государства, в том числе приватизацию, появление олигархов и приближенных бизнесменов, сращивание бизнеса и власти (Томас Гарди и Теодор Драйзер хорошо описали эти явления), это развитие началось. Эффективное законодательство, растущая конкуренция, формирующееся гражданское общество должны были постепенно ограничить и свести к минимуму все эти негативные явления.
Вместо этого в России стала утверждать себя модель, которую поначалу обозначили полуметафорическими формулами, имеющими под собой тем не менее реальную жизненную основу: «криминальное общество», «кумовской капитализм», «клептократия», «мафиозное государство». Действительно, размах таких явлений, как рэкет, блат, рейдерство, коррупция, непотизм, теневая экономика, поразил воображение наблюдателей, как внешних, так и внутренних[275]. На практике была создана токсичная среда, в которой господствуют беспрецедентное засилье бюрократии, катастрофическое правоприменение по звонку и диктат силовых органов в решении гражданско-правовых споров, произвол монополий и активно пропагандируемая культура пренебрежения к закону, презрения к предпринимателю и инвестору и примата классовой справедливости (то есть сиюминутной личной выгоды) над честностью. В этой среде не только обычные предприниматели (не говоря уже об иностранных) не могут нормально работать. Создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram предприниматель Павел Дуров охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Если вы принимаете архаичные законы, которые ограничивают свободы, вы закончите тем, что уничтожите собственную экономику. Поэтому за последние несколько лет Google, Oracle и Microsoft закрыли свои представительства в России, и многие небольшие компании последовали их примеру»[276].
И не только они. Даже приближенные к власти выходят в эту токсичную среду как в открытый космос, только для того, чтобы взять кредит и увести деньги в офшор, чтобы купить бизнес, сделав бенефициаром панамскую компанию, чтобы доставить товар, а выручку получить на офшорный счет — по британскому, а не по российскому праву, под неусыпным оком compliance, под боком у налагающих на них санкции американцев, под страхом быть найденными группой журналистов и раскрытыми The Guardian — где угодно, но только не в России[277].
К юридическому анализу теории Аджемоглу — Робинсона хотелось бы еще добавить проблему пределов вмешательства государства в экономическую деятельность. Этот вопрос в их работе явно просматривается, но он не вполне четко обозначен. Хотя ответ на него прямо вытекает из различия инклюзивных и экстрактивных политических институтов. Первые не предполагают чрезмерного, удушающего правового регулирования, за исключением четко очерченных пределов деятельности государственных органов и процедур контроля власти. Вторые, наоборот, максимально размывают правовое ограничение власти (по формуле Клитгаарда) и создают избыточное правовое регулирование для всех других сфер жизни. В том числе путем интерпретации смыслов, созданием неправовых законов и официальной неправовой правоприменительной практики. И в первую очередь это касается государственного вмешательства в экономическую деятельность.
Профессор Филиппов вообще предложил классифицировать политические режимы по степени политического контроля над обществом и над всеми сферами общественной жизни без исключения. Тогда, по его мнению, виды (или типы) политических режимов уложатся в однородную шкалу — от тоталитарного режима (максимально охватывающий контроль) до анархического. Потому что именно политический режим определяет механизм воздействия политической власти на экономические институты и отношения. И именно политический режим в зависимости от своего типа достаточно определенно и конкретно дифференцирует виды и степени свободы социальных субъектов. Например, предоставляет широкую свободу экономической деятельности по конкретным нормативным показателям (присутствие бизнеса во власти, предел налога на прибыль, гарантии гражданских прав и т. п.), но пресекает любые посягательства экономических субъектов на политическую власть или дает политические преференции только тем коммерческим организациям, которые непосредственно оказывают финансовую помощь государственной власти[278]. В целом такой подход вполне согласуется с теорией Аджемоглу — Робинсона.
При доминировании и просто при достаточной развитости публично-правовых институтов механизм обеспечения собственности включает в себя прежде всего публично-властную защиту и в равной мере распространяется на всех. Но этого нет в посткоммунистической ситуации, когда публично-правовые институты неразвиты и акторы публичной власти в той или иной мере действуют в своих частных интересах.
Власть-собственность означает, что собственность реально можно защитить в той мере, в какой собственник имеет реальный доступ к публичной власти. Чем выше цена объекта собственности или доходность бизнеса, тем больше вероятность, что правомочия собственника или бизнес контролируются публично-властными акторами. Соответственно, чем выше положение человека в иерархии власти, тем больше вероятность, что его легальные доходы от объектов собственности существенно превышают его вознаграждение за государственную службу. Государство, выступающее одновременно в роли верховного собственника, может быть только авторитарным. Поэтому либерально-демократические преобразования первых лет после слома социализма закономерно сменяются выстраиванием авторитарного порядка. Соединение власти и собственности и авторитаризм следует расценивать не как злой умысел правящей бюрократии, а как реальность, которая не может быть иной — в силу неразвитости правовой культуры. Эта реальность может быть менее криминальной и репрессивной, но не может быть либерально-демократической.
Посттоталитарная модернизация в неразвитой правовой культуре порождает неофеодализм — общественный строй, при котором признается собственность, но основным субъектом собственности является государство. Такой строй неэффективен даже в сравнении с государственно регулируемым рынком. Когда государство действует как субъект, устанавливающий правила экономической конкуренции, и одновременно как хозяйствующий субъект, оно объективно не может обеспечивать приемлемую конкуренцию[279].
Утешает одно — авторитарный режим с его высоким уровнем экстрактивности не бесконечен. Он имеет свои экономические пределы. Аджемоглу — Робинсон утверждают, что, с одной стороны, «экстрактивные институты по самой своей логике должны создавать богатства с тем, чтобы было что извлекать. Монополизирующий политическую власть и контролирующий централизованное государство правитель может даже привнести какую-то толику закона и порядка системы правил и стимулировать экономическую активность». С другой — экономический рост в построенных на экстрактивных институтах социальных порядках со временем исчерпывает себя и не может быть устойчивым. Потому что рост благосостояния населения важнее роста ВВП, который тоталитарные модели способны вполне эффективно обеспечивать на коротких исторических отрезках. Это миф, что авторитарное государство — сильное. Оно слабое, импотентное. А в большинстве случаев просто отсутствующее[280].
Вывод прост — разного рода «экономические чудеса» в таких социумах (что советское чудо, что нынешнее китайское) в конечном счете не переводят эти социумы в иное качество, если только радикально не меняются политические институты. Поэтому неслучайно Аджемоглу — Робинсон обращаются к китайскому опыту, подробно описывая, как сплотившаяся вокруг Дэн Сяопина часть руководства осознала, что экономический рост станет возможным только при серьезных подвижках в направлении инклюзивных экономических институтов. «Возрождение Китая последовало только вместе со значительным отходом от наиболее экстрактивных экономических институтов в пользу более инклюзивных»[281]. Но при этом права собственности в Китае обеспечены недостаточно, мобильность труда жестко регулируется, существует взаимовыгодная спайка между партийным руководством и бизнесом и сохраняется жесткий партийный контроль над экономическими институтами. «Птица в клетке» — так назвал китайский капитализм один из соратников Дэн Сяопина. Поэтому высокие темпы экономического роста, который дала частичная замена экстрактивных экономических институтов на инклюзивные, при сохранении экстрактивных политических институтов неизбежно приведут к его исчерпанию[282].
Заключение
Прав ли был Дюверже?
Мы начинали третью часть книги с цитаты Мориса Дюверже о том, что любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от расстановки сил в данный конкретный момент, и что разные политические режимы могут функционировать в одних и тех же конституционных рамках. Цитируя Дюверже, мы сами себя спрашивали: «Так ли это? Если любая конституция, то почему? Если не любая, то какая и вследствие чего это происходит? И как быть, когда манипуляции политическими режимами осуществляются вне конституционных рамок?» Для ответа на эти вопросы было бы крайне удобно ввести в оборот на основе теории Аджемоглу — Робинсона «термины «инклюзивная конституция» и «экстрактивная конституция», имея в виду превалирующий в Основном законе набор политических институтов, принципов и смыслов.
Ответ, который может быть дан в результате проведенного исследования, отчасти парадоксален. Нет, не любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, но при определенных условиях любая. Как это может быть? А вот так. Не любая потому, что там, где конституция, построенная на инклюзивных (демократических) принципах, соответствует уровню сознания общества и политических элит, такого быть не может. То есть там, где каждый закрепленный конституционный принцип и смысл в полной мере осознаны и приняты большинством населения, которое вместе с государством не только неуклонно этим принципам следует, но и готово стоять на страже их исполнения, трансформации не случится. В таком обществе, даже если конституционный текст устаревает, все его основные смыслы довольно просто официально адаптируются к новой реальности под неуклонно строгим контролем общества путем общенациональной дискуссии и достижения консенсуса. Инклюзивная конституция играет роль реального общественного договора и практически не зависит от расстановки сил в обществе.
Аналогичная ситуация с экстрактивными (авторитарными) конституциями. В рамках официального конституционного авторитаризма политический режим будет меняться только вместе с конституцией. По сути, она и есть та самая фактическая конституция, о которой полтора века назад рассказывал в одном берлинском бюргерском окружном собрании 38-летний деятель немецкого мелкобуржуазного движения Фердинанд Лассаль. Только с одной существенной поправкой на расширение и углубление осознания человечеством за полтора прошедших века огромного пласта конституционных смыслов и общечеловеческих ценностей.
То есть «расстановка сил в обществе» утратила свое определяющее для действия конституций значение и была заменена человеческим сознанием. Достаточно вспомнить, как негодовало американское большинство после избрания президентом США Дональда Трампа, набравшего меньше голосов, чем его конкурентка. Но при этом с каким потрясающим достоинством выигравшая большинством, но проигравшая по установленным Конституцией правилам Хиллари Клинтон поздравила Трампа с победой и призвала своих избирателей уважать краеугольный камень демократии США, состоящий в мирной передаче власти.
И в то же время любая конституция, содержащая в себе принципы и смыслы, не до конца понятые и не осмысленные обществом и политическими элитами, с большой степенью вероятности будет находиться в зоне риска смены политического режима и даже формы правления. Развивая с этой точки зрения уже упомянутое определение Г. О‘Доннелла и Ф. Шмиттера, утверждающих, что политический режим — это вся совокупность явных и неявных моделей, определяющих формы и каналы доступа к важнейшим управленческим позициям, следует добавить, что эти самые формы и каналы доступа всегда определяются целями и задачами политических элит, порожденными их сознанием.
Да, конечно, определенные недостатки (дефекты или пробелы) конституционного текста могут создавать дополнительные риски для свободы усмотрения при его применении. Но эти риски минимальны или даже равны нулю, если основные принципы и смыслы усвоены и внедрены в практику. В том числе успешной работе заимствованных, имплантированных институтов препятствует их выхолащивание, поскольку они созданы для работы в несколько другой системе ценностей. «Поэтому, развиваясь ради достижения изначально редуцированных или вовсе иных задач, они, конечно, имеют какой-то результат, но с точки зрения эффективности работы всегда оказываются вне возможности адекватного сравнения с их аналогами из тех правопорядков, откуда они позаимствованы»[283]. Потому что, как пишут Аджемоглу — Робинсон, «вы не можете сконструировать процветание». «Оно появляется как результат набора случайных исторических обстоятельств, складывающихся спонтанно в логическую цепочку шагов, ведущих к появлению и последующему закреплению инклюзивных институтов»[284]. То есть, по Карлу Попперу, политические институты как крепости: их надо не только хорошо спроектировать, но и правильно населить.
Вставшие перед постсоциалистическим странами проблемы выбора модели демократического государственного устройства на самом деле есть вопрос цивилизационного самоопределения, связанный с поиском места в формирующейся системе глобальных отношений. В той или иной мере с проблемой самоидентификации сталкиваются сейчас самые разные страны и народы[285]. Все эти страны приняли инклюзивные конституции, но их политические элиты продолжали мыслить и вести себя в рамках экстрактивных стереотипов и стандартов.
Тем не менее у России для новой самоидентификации есть несколько очень серьезных предпосылок. Первой из них является как раз та самая инклюзивная конституционная модель государственного устройства, в которой «нашли свое признание и нормативное закрепление все три основных компонента правовой государственности — гуманитарно-правовой (права и свободы человека и гражданина), нормативно-правовой (конституционно-правовая природа и требования ко всем источникам действующего права) и институционально-правовой (система разделения и взаимодействия властей)»[286]. Россия имеет Конституцию, в основу которой положена человекоцентристская правовая доктрина с ее трактовкой права как системы, базирующейся на неотчуждаемых правах человека. И хотя пока выстроенная на правовой идеологии Конституция страны в значительной мере остается оторванным от реалий идеальным проектом, само наличие нормативной базы для демократических и правовых преобразований имеет исключительно важное значение[287].
Поэтому на вопрос, есть ли шанс у декоративных государственных институтов стать настоящими, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, не будучи юристом, четко и ясно ответил: «Конечно, когда изменится структура власти, когда будет другой президент. Это может произойти даже в рамках этой Конституции и этих законов. Сила осуществляется людьми, которые сидят на тех или иных местах. Если люди сопротивляются президентской власти (мы видим, как это происходит в США: Конгресс, Верховный суд), — это одно. Если они послушно штампуют решения президента, — другое»[288].
Да, конечно, ряд положений Основного закона России расплывчаты именно в тех местах, где описываются механизмы демократии и защиты прав человека. Да, российская Конституция писалась второпях и во многом для удобства действовавшего тогда президента. Если американская Конституция писалась с учетом создания широких возможностей для контроля и ограничения центральной власти, то в России было все наоборот: Конституция написана исходя из презумпции идеальности и добродетельности исполнительной власти в лице президента. Возможно, именно в этом ее главная проблема, врожденный порок или родовая травма, которые и создали почву для узурпации власти и фактической подмены демократии ее имитацией на всех уровнях. И естественно, что многое в ней подлежит тщательной и кропотливой корректировке. Потому что любые конституционные ограничения должны быть безусловными. «Пишите кратко и неясно», — напутствовал Наполеон составителей конституции, описывая свои ожидания от нее. В ситуации России обращение к авторам новой конституции должно быть совершенно иным: пишите максимально подробно и конкретно, пишите так, чтобы минимизировать вариативность трактовки написанного, пишите так, чтобы у гражданина было больше механизмов защиты своих прав, чем у государства[289]. Задача — построить модель так, чтобы амбициозные люди не смогли создать новую авторитарную власть. И это возможно сделать в рамках существующих конституционных принципов.
Вторая предпосылка — это смена сознания и смена поколений. Тем более что исходные данные не так уж и плохи. Вот как описывает их Екатерина Шульман:
«Наше общество, наш социум сложен, многоукладен и разнообразен. Если пытаться выделить некое общественное мнение, некое общее представление о ценностях, разделяемых жителями России — и этому тоже есть многочисленные подтверждения в исследовательских работах, — мы увидим приблизительно следующую картину. Мы увидим социум, разделяющий те ценности, которые принято называть европейскими. Мы увидим социум индивидуалистический, консьюмеристский, во многом атомизированный, очень малорелигиозный, преимущественно секулярный, с довольно-таки низкой толерантностью к государственному насилию — опять же вопреки тому, что обычно говорят. Еще точнее будет сказать, что те, у кого толерантность к государственному насилию низкая, гораздо лучше объединяются, гораздо активнее себя выражают, чем те, кто относится к этому терпимо.
Мы увидим общество с теми ценностями, которые обычно исследователями характеризуются как “европейские, но слабенькие”. Мы увидим общество, в общем, конформное, довольно пассивное, не очень готовое выражать свое мнение, склонное раскручивать ту спираль молчания, которая состоит в том, что люди говорят то, что, как они думают, от них ожидают. Но тем не менее не агрессивное, не кровожадное и совершенно не стремящееся, не мечтающее об установлении в России авторитарного правления»[290].
Причем это изначально «европейское, но слабенькое» общество тоже меняется стремительно. По данным профессора А. Г. Асмолова, расслоение населения увеличивается не по дням, а по часам, и идет оно по очень многим критериям. Происходит серьезнейшее расслоение по возрастным когортам: резко увеличивается разрыв и непонимание уже между сорокалетними и теми, кому 15–20 лет, не говоря уже о возрастной группе граждан 60–70 лет. Это разные люди, воспитанные в разное время. Здесь возникает одно из самых сложных явлений: ценностный диссонанс. Это разрыв в ценностном восприятии, в мировосприятии, принятии решений, разрыв по ключевым критериям: что такое хорошо и что такое плохо. В России увеличивается количество того, что иногда называется мемами, архетипами, матрицами поведения у разных социальных групп. То есть растет разнообразие, но оно совсем иное, чем было 20–30 лет назад. И отсюда возрастает непредсказуемость реакции населения, и отсюда мы все более приближаемся к зоне бифуркации, то есть раздвоению. А в этой ситуации даже слабый сигнал может изменить все развитие системы[291]. То есть происходит самый важный и сложный институциональный сдвиг — изменение сознания.
В одном из своих интервью незадолго до ареста режиссер Кирилл Серебренников говорил, что в России рядом находятся человеческие, европейские поля активности, где люди живут, творят, а рядом с этим — миры Кафки. Так было и так есть сегодня. Сегодня эти миры Кафки расползаются, отбирая места у людей другого склада. И нет способа искать у одной кремлевской башни защиты от другой — это как в мирах Кафки искать защиты у начальника колонии. Единственное, что может возродить общественную атмосферу, — это переход к экспансии, к наступлению, моральному, деятельному наступлению на якобы занятую властями публичную территорию[292]. Огорчает одно — чем выше уровень концентрации власти в одних руках, тем выше уровень насилия при смене режима[293]. Поэтому долгое поступательное закручивание имитационной спирали по законам физики, как известно, чревато ее жестким обратным раскручиванием.
Приложение 1
Динамика конституционных изменений формы правления в Украине
Смешанная парламентско-президентская республика
1996–2004 годы
Действующая Конституция Украины была принята на пятой сессии Верховной рады 28 июня 1996 г. В соответствии с Конституцией президент, не будучи названным главой исполнительной власти, фактически ее возглавлял и обладал достаточно широкими полномочиями:
• с согласия Рады назначать премьер-министра;
• прекращать полномочия премьер-министра и отравлять его в отставку;
• по представлению премьер-министра формировать Кабинет, определять структуру органов исполнительной власти;
• отменять акты Кабинета.
Кабинет министров ответствен перед президентом и подотчетен Раде.
Парламентская республика
2004–2010 годы
Законом Украины от 8 декабря 2004 г. № 2222-IV в Конституцию был внесен достаточно большой список изменений. Помимо увеличения срока полномочий Рады с четырех до пяти лет, значительные изменения коснулись распределения полномочий между президентом и Радой. Полномочия президента, данные ему Конституцией 1996 г., были существенно ограничены:
• премьер-министр назначается Радой по представлению президента;
• полномочия премьер-министра и Кабинета прекращаются Радой, президент может только инициировать перед Радой вопрос о доверии Кабинету;
• Рада назначает министров по представлению президента (министр обороны и министр иностранных дел) или премьер-министра (остальные министры);
• назначение на ряд ключевых должностей производится Радой (председатели Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Государственного комитета телевидения и радиовещания);
• президент может только приостановить действие актов Кабинета по мотиву их неконституционности с обязательным последующим обращением в Конституционный суд;
• президент лишен права вето на законы о поправках в Конституцию.
Кабинет министров теперь ответствен и перед президентом, и перед Радой. Свои полномочия Кабинет слагает перед новым составом Рады, а не перед новым президентом.
В Конституцию были введены положения о коалиции депутатских фракций, которая должна включать в себя большинство депутатов и формироваться в течение одного месяца после первого заседания нового состава Рады (невыполнение этого требования дает президенту право роспуска Рады). Именно коалиция вносит президенту предложения по кандидатуре премьер-министра, которую президент представит на голосование Раде, а также вносит предложения по кандидатурам в состав Кабинета министров.
В случае досрочного прекращения полномочий президента исполняющим его обязанности теперь становится председатель Рады, а не премьер-министр.
Закон о поправках в Конституцию вступил в силу с 1 января 2006 г.
Смешанная парламентско-президентская республика
2010–2014 годы
В 2010 г. по представлению 252 депутатов Рады Конституционный суд рассмотрел Закон от 8 декабря 2004 г. № 2222-IV на предмет его конституционности.
Фактически Конституционным судом была проведена лишь проверка соблюдения процедуры изменения Конституции. Процедура внесения поправок предполагает соблюдение нескольких обязательных условий (статьи 155, 157, 159):
• проект поправок должен быть рассмотрен Конституционным судом на предмет отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина, ликвидации независимости и нарушения территориальной целостности;
• проект сначала должен быть предварительно одобрен большинством от состава Рады и затем принимается на следующей очередной сессии Рады большинством в две трети.
Нарушение процедуры Конституционный суд усмотрел в том, что:
• после того как КС рассмотрел проект поправок и дал на него свое заключение, в проект вносились изменения, т. е. поправки были приняты в редакции, не рассмотренной Конституционным судом;
• Рада одновременно, одним голосованием приняла Постановление об одобрении законопроекта о поправках и приняла его в качестве закона, а заодно приняла и отдельный закон «Об особенностях применения Закона Украины «О выборах Президента Украины» при повторном голосовании 26 декабря 2004 года». По мнению КС, учитывая разницу в процедуре рассмотрения и принятия различных самостоятельных правовых актов, Рада допустила нарушение Конституции.
В своем Постановлении КС сослался на оценку закона о поправках в Конституцию 2004 г. со стороны международных институтов: ПАСЕ и Венецианской комиссии.
В результате Закон о поправках 2004 г. по формальным основаниям был признан не соответствующим Конституции, неконституционным и утратил силу со дня принятия решения КС. Фактически возвращена редакция Конституция 1996 г. с широкими полномочиями президента. Соответственно, все нормативные правовые акты Украины должны были быть приведены в соответствие с Конституцией в редакции 1996 г.
В 2011 г. в Конституцию был возвращен пятилетний срок полномочий Рады и ряд поправок 2004 г., касающихся местного самоуправления. Но распределение полномочий между высшими органами власти сохранено по схеме 1996 г. — с сильной президентской властью.
Возврат к парламентской республике
В 2014 г. Рада подняла вопрос о возврате поправок 2004 г., ограничивавших власть президента. Специальным Постановлением Рады от 22 февраля 2014 г. № 750-VII была возвращена редакция Конституции 2004 г. В качестве обоснования возврата в Постановлении говорилось, что:
• Конституция является актом учредительной власти украинского народа, а значит, парламенту, как элементу учредительной власти, а не Конституционному суду принадлежат исключительные полномочия по внесению в нее изменений;
• поправки 2004 г. к моменту их рассмотрения Конституционным судом уже стали неотъемлемой частью Конституции, Закон о поправках свою функцию исчерпал;
• на момент рассмотрения дела Конституционным судом уже были избраны новый президент и новый состав Верховной рады. Решением КС были фактически изменены их полномочия, о чем не могли знать избиратели в момент голосования. Перераспределение полномочий произошло в течение срока полномочий президента и осуществлено решением суда, а не решением Рады как демократически избранного легитимного органа.
Законом Украины от 21 февраля 2014 г. № 742-VII в Конституцию были возвращены все изменения 2004 г. Некоторые положения были незначительным образом скорректированы — в основном это были редакционные правки. Таким образом, полномочия президента вновь были частично перераспределены в пользу парламента.
Приложение 2
Цели и основания использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории России, сформулированные в российском законодательстве и в документах ООН
1. Федеральный закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» (ст. 1, 2) предусматривает возможность использования вооруженных сил за пределами России для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности с участием Российской Федерации. Под такой деятельностью понимаются «операции по поддержанию мира и другие меры, предпринимаемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Уставом ООН, региональными органами либо в рамках региональных органов или соглашений Российской Федерации, либо на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Российской Федерации и не являющиеся согласно Уставу ООН принудительными действиями... а также международные принудительные действия с использованием вооруженных сил, осуществляемые по решению Совета Безопасности ООН, принятому в соответствии с Уставом ООН для устранения угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии».
2. В Федеральном законе «Об обороне» (пп. 1–4 ч. 2.1 ст. 10) под основаниями использования вооруженных сил за рубежом понимаются:
1) отражение вооруженного нападения на формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска или органы, дислоцированные за пределами территории Российской Федерации;
2) отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой;
3) защита граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации от вооруженного нападения на них;
4) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.
3. В Федеральном законе «О противодействии терроризму» (ст. 6) говорится, что в борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации (фактически без территориального ограничения) могут применяться для:
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта либо захваченных террористами;
2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского судоходства;
3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
4. Перечень мер, направленных на «скорейшую и окончательную ликвидацию международного терроризма, содержится в п. 5 Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, принятой резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года». Это пункт гласит:
«Государства обязаны:
а) воздерживаться от организации террористической деятельности, подстрекательства к ней, содействия ее осуществлению, финансирования, поощрения или проявления терпимости к ней и принимать надлежащие практические меры к обеспечению того, чтобы их соответствующие территории не использовались для создания террористических баз или учебных лагерей или для подготовки и организации террористических актов, направленных против других государств или их граждан;
b) обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц, совершивших террористические акты, согласно соответствующим положениям их национального права;
c) стремиться к заключению специальных соглашений с этой целью на двусторонней, региональной и многосторонней основе и разработать с этой целью типовые соглашения о сотрудничестве;
d) сотрудничать друг с другом в обмене соответствующей информацией относительно предотвращения терроризма и борьбы с ним;
е) оперативно предпринимать все необходимые шаги к претворению в жизнь существующих международных конвенций по этому вопросу, участниками которых они являются, включая приведение своего внутреннего законодательства в соответствие с этими конвенциями;
f) принимать надлежащие меры до предоставления убежища в целях установления того, что ищущее убежище лицо не занималось террористической деятельностью, и после предоставления убежища в целях обеспечения того, чтобы статус беженца не использовался в целях, противоречащих положениям, изложенным в подпункте “a” выше».