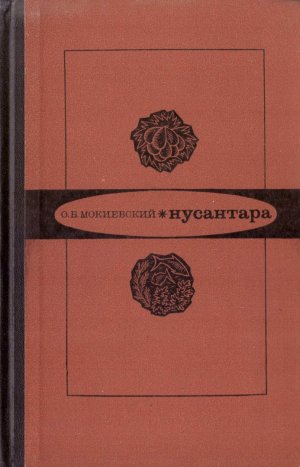
*ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
М., «Мысль», 1967
От автора
Нусантара, «Островная родина» — так издавна называют индонезийцы свою прекрасную страну. Когда бывшая Нидерландская Ост-Индия обретала в борьбе независимость, то первый революционный парламент молодого государства не сразу решил, назвать ли страну Индонезией (в этом очень привычном слове чувствуется легкий французский акцент) или же Нусантарой. Второе название звучало слишком интимно и лирично. Было принято первое, более официальное и более широко известное за рубежом. Но для индонезийца «Нусантара» звучит почти так же, как для русского «Русь».
Проведя в 1962–1963 годах восемь месяцев в различных частях Индонезии, автор оставил там кусочек сердца. И невзгоды, и радости этой страны стали особенно близки не только ему, но и его друзьям и родным, которым он много рассказывал о чудесной Нусантаре. Автору хотелось бы, чтоб и читатели этой книги полюбили Индонезию.
ВВЕДЕНИЕ
Снова, десятый раз за вечер, дребезжит телефон. Нет, это просто невозможно. Никак не сосредоточишься над рукописью. Впору хоть сломать или накрыть подушкой этот проклятый аппарат. На этот раз звонит знакомый геолог. Много лет тому назад мы работали с ним вместе в экспедиции на Дальнем Востоке и сохранили с тех пор теплые отношения, но обычно встречаемся только случайно, раз в несколько лет. После первых приветственных фраз Николай сразу берет быка за рога.
— Слушай, хочешь поехать в Индонезию?.. Нет, серьезно. Помнишь, когда мы виделись в последний раз (вспоминаю, это было три года назад — в троллейбусе), я говорил тебе, что на Курилах у меня получилось кое-что любопытное… Реки выносят в море такие продукты деятельности вулканов, как алюминий, железо, титан, фосфор… И эти элементы в морской воде тут же выпадают в осадок…
Припоминаю, Николай так увлеченно об этом рассказывал, что мне оставалось либо оставить у него в руках пуговицу, либо проехать свою остановку. Я выбрал последнее.
— Но при чем тут Индонезия?
— Как при чем? Ведь это район очень высокой вулканической активности. Больше восьмидесяти действующих вулканов!..
— Ну и что?
— Видишь ли, на Курилах этот осадок тут же распыляется над большими глубинами, а на индонезийских мелководьях вступает в реакцию с известняком коралловых рифов и может образовывать месторождения.
С удовольствием слушаю его страстный рассказ о том, что, видимо, таков же был механизм образования многих месторождений и в нашей стране, когда те или иные ее районы были дном тропических морских мелководий. Но к чему клонится его речь, пока совсем не представляю.
— Ну вот, для изучения того, как все это происходило, Академия наук Советского Союза и Национальный научный совет Индонезии организуют совместную советско-индонезийскую вулканологическую экспедицию.
— Постой, постой, да при чем же здесь я, морской биолог…
— Как при чем? Нам нужен знаток живых коралловых рифов.
— Какой же я знаток?
— Но ты же работал на рифах Южно-Китайского моря. Я читал твои публикации.
— Но ведь там, где мы были в Китае, и рифы-то еще не настоящие…
Собеседник мой продолжает оставаться при своем мнении. Говорит какие-то лестные для меня слова о том, что им нужен именно такой биолог, как я, специально занимающийся жизнью морских мелководий и литорали — осушной или приливо-отливной полосы и владеющий притом легководолазной методикой…
Отхожу от телефона в растрепанных чувствах. Работа, над которой весь вечер пытался сосредоточиться, летит к чертям.
Индонезия… Моря Зондского архипелага… Заманчиво, черт побери… И ведь словно подгадал Николай: спросите меня, какой район земного шара мне сейчас нужен больше всего для собственных работ — для эколого-биогеографических сравнений, — и палец мой на карте или глобусе упрется именно в Индонезийский архипелаг.
Мне уже посчастливилось работать в Беринговом, Охотском, Японском, Желтом, Восточно-Китайском, Южно-Китайском морях, и, для того чтобы проследить, как изменяются на морских мелководьях вдоль западных берегов Тихого океана, от Берингова пролива до экватора массовые биологические процессы, мне не хватает именно Индонезии. Коралловые рифы — мечта каждого биолога, тем более биолога-моряка. Мангровые леса, заливаемые приливом… До сих пор я видел эти леса лишь вблизи северной границы их распространения. Богатейшая морская фауна и флора, явно недостаточно еще освещенная в трудах голландских экспедиций на кораблях «Снеллиус» и «Зибога».
Сейчас в Индийском океане плавает и наш красавец «Витязь». Я не пошел на нем. Большие суда ведь не могут работать в тех прибрежных мелководных зонах, которые особенно интересуют меня, и где тропическое разнообразие морской фауны и флоры представлено пышнее всего. А здесь прибрежная экспедиция, как раз на этих мелководьях… Заманчиво, очень заманчиво. А как же быть с начатой работой над большой книгой? Ведь вряд ли успею ее закончить до поездки. И снова слышу дразнящий голос Николая: «Соглашайся. Такая возможность бывает раз в жизни».
Как зачарованный смотрю на карту Индонезии. Ява, Целебес, Малые Зондские острова — Бали, Флорес, Сумбава, — все эти названия с детства звучали в ушах манящей музыкой. Отыскиваю на карте и печально известный величайшей в истории вулканической катастрофой вулкан Кракатау, и крохотный островок Унауна, название которого услышал сегодня от Николая впервые в жизни. Вот он — в заливе Томини Молуккского моря, лежит прямо на экваторе к югу от северного рога разлапистого Сулавеси (Целебеса). А разве не интересны для биолога влажные тропические леса Западной Явы и Северного Сулавеси или теряющие в сухой сезон листву муссонные леса на Малых Зондских островах и на востоке Явы? А горные леса, где место пальм занимают гигантские древовидные папоротники? А лучший в мире ботанический сад Богора? А древнее искусство и современная жизнь балийцев, яванцев и других народов этой многоплеменной и многоязычной страны?
И вот рука тянется к книжной полке и застывает, делая выбор между классической книгой Уоллеса «Малайский архипелаг. Страна орангутанга и райской птицы» и рассказами Джозефа Конрада — тончайшие психологические драмы его героев развертываются на пряном фоне экзотической Юго-Восточной Азии.
Гидробиолог побеждает бродягу-эклектика, и я начинаю рыться в научной картотеке. Работы по систематике морских растений и животных — их порядочно, а вот по экологии, по распределению, по образу жизни, по сообществам — почти ничего. Классические описания Румфиуса, долго жившего на сказочной Амбоине (его называли амбоинским Аристотелем) и написавшего еще в семнадцатом веке «Камеру редкостей Амбоины», три-четыре более современные, посвященные частным вопросам статьи — и все.
«Плохо же я знаю литературу по тропической литорали», — ругаю себя, как оказалось, незаслуженно. Позднее, обшарив и индонезийские научные библиотеки, я убедился, что больше действительно ничего нет. Работать на пустом месте и заманчиво, и страшновато.
Со мной едут еще пять человек. Издавна я знаю только Николая. Пятнадцать лет назад, когда мы вместе работали в экспедиции на Дальнем Востоке, это был впечатлительный юноша, скрывающий мягкость и застенчивость под маской цинизма и бравады. Теперь застенчивость ушла куда-то внутрь и стала далеко не сразу различимой. Мягкость же сменилась фанатическим упорством в отстаивании своих научных идей. С возрастом почти совсем испарилась и бравада, и напускной цинизм, но они возродились до смешного похоже в его ученике и воспитаннике Альберте, молодом гидрогеологе, вернее, специалисте по вулканическим источникам.
В отличие от этих двух скептиков минералог Валентин смотрит на мир пытливым взглядом. Когда ему встречается что-нибудь до тех пор невиданное, этот представительный кандидат наук словно опять превращается в бесхитростного крестьянского паренька, каким он был двенадцать-пятнадцать лет назад. Он всегда поражает меня то наивностью заключений, то их тонкостью и глубиной.
С кинооператором Павлом мы уже встречались на котиковых лежбищах Охотского моря. Веселый, общительный, легко дающий обещания и столь же легко о них забывающий, он устроен как-то так, что рассердиться на него невозможно. Он подкупает искренностью, острым чутьем и любовью к природе, смесью беззаботности творческого горения, способностью приноравливаться к самым трудным экспедиционным условиям. Он умеет делать все сразу же обжитым, домашним. Зато его помощник Михаил, несмотря на молодость, натура «чрезмерно сложная». Он похож на кривое ружье, которое неизвестно когда и куда выстрелит.
Мы все шестеро вначале не очень верили в реальность этой заманчивой поездки и были, пожалуй, даже несколько удивлены, когда она все же состоялась.
Конечно, первоначальные планы претерпели существенные изменения, конечно, мы посетили не все районы, в которых собрались поработать. Вместо шести месяцев мы пробыли в Индонезии целых восемь. Не все складывалось так, как было задумано, были и разочарования, и неожиданные успехи. Иногда удавалось работать с невероятной интенсивностью, иногда бывали недели томительного безделья.
1
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Отступлю от сложившейся уже традиции описания зарубежных поездок и не буду утомлять читателя безразличными в общем для него и дорогими лишь для автора подробностями, как мощный «Боинг» взмыл над Шереметьевским аэродромом, как ухаживали за пассажирами хорошенькие индийские стюардессы в зеленых сари и с красными пятнышками на лбу…
Дели с его свинцовой удушливой жарой (боже мой! Прожить в такой бане полгода!)… Пятидневное пребывание в Бомбее — результат несогласованности рейсов авиакомпаний и отсутствия транзитной таиландской визы, которая вдруг оказалась необходимой. Короткая остановка в Калькутте, затем Бангкок, где не так уж часто бывают наши соотечественники. Впрочем, много ли успеешь рассмотреть за пятнадцать минут, да еще в аэропорту — наиболее космополитическом из всех возможных учреждений. Нумизмат Николай еле успел разменять в сувенирном киоске индийскую рупию на экзотические таиландские монетки.
И вот наконец Джакарта. После феерии огней Сингапура она кажется затемненной. Только что начавшийся ремонт в аэропорту создает впечатление какой-то запущенности и захламленности. Нас никто не встречает, ведь мы должны были прилететь пять дней тому назад из Бомбея на самолете чешской линии. Потом мы узнали, что представители МИПИ (Национальный научный совет Индонезии) встречали нас несколько дней подряд. Звоним в посольство и оттуда очень быстро приезжает разговорчивый дежурный сотрудник. Он везет нас по ночной пустынной Джакарте мимо небольших домиков с крутыми голландскими крышами из черепицы. Много зелени, почти каждый домик окружен садом. На безлюдной площади Мердека (Свобода) бьет подсвеченный разноцветными огнями фонтан. Наш спутник занимает нас разговорами о дороговизне в Индонезии:
— Подумайте только, обед в новом, только что построенном японцами ресторане «Индонезия» стоит две тысячи рупий, а петух — три с половиной.
Почему-то именно о петухе ценой в три с половиной тысячи рупий мы в последующие дни слышали несколько раз.
Миновав центральную часть города, едем в пригород Кебайоран. Там наш посольский городок.
Въехав в окруженный двухэтажными домами дворик — сад посольского городка, слышим пронзительный крик, похожий на сухой треск, — «токэ, токэ!»
— Попугай у кого-то проснулся, — замечает наш спутник.
Он прожил в Индонезии шесть лет и не знает, что так кричит крупный зеленовато-серый геккон, ящерица, живущая обычно на чердаках и в других укромных уголках. По-индонезийски этот геккон называется токэ. Если с ним столкнется человек, он, защищаясь, может довольно сильно укусить в отличие от безобидных и почти безмолвных чичаков — мелких, серовато-песочного цвета, с блестящими черными глазенками гекконов, которые не только не боятся человека, но обычно устраиваются по вечерам на стенах, поближе к свету лампочек, куда слетаются комары и другие мелкие насекомые. Чичак пользуется всеобщей симпатией и покровительством.
Нас наскоро устраивают в пустой квартире уехавшего советника, и мы, с наслаждением включив «эр-кондишн» и свисающие с потолка огромные вентиляторы пунка, располагаемся на ночлег. Забавно, что европейцы, долго живущие в тропиках, постепенно перестают употреблять «кондишн», считая, что от него только одна простуда. Пупка — другое дело. Ее освежающий ветерок нигде и никогда не бывает лишним. Когда-то мы читали о пунках у Киплинга. В те времена их раскачивали слуги. Сейчас слугу сменил электромотор, сделав пунку и более эффективной, и, главное, нравственно допустимой. Некоторые старожилы, впрочем, утверждают, что от частого пользования пункой выпадают волосы. Думаю, что это лишь в тех случаях, когда они и без того слабо держатся на голове.
Утром долго полощемся под душем. В тропиках это, пожалуй, самое большое наслаждение. Потом знакомимся с живущими рядом товарищами. Нам рассказывают сравнительно мало о стране, больше о быте городка и еще больше о дороговизне. Снова фигурирует злосчастный петух за три с половиной тысячи рупий.
В столовой посольства нас поразило полнейшее отсутствие «местного колорита», хотя повара в ней индонезийские, В обед нас кормили борщом, жарким с гречневой кашей, а на третье подали канадские яблоки.
В посольском городке мы чувствовали себя в эти дни как на корабле. Поэтому, когда в понедельник к нам приехал помощник президента МИПИ учтивый мистер Ради и предложил тут же переехать в Богор, мы с радостью согласились. Еще бы, пожить во всемирно известном еще под голландским именем Бейтензорге ботаническом саду! Меня эта перспектива особенно прельщала: ведь Богор— «биологическая столица» Индонезии. Но геологи тоже устремились в Богор с радостью.
Сегодня окончательно выяснилось, что переводчика у нас в экспедиции не будет, его функции пока что придется выполнять мне. С опаской думаю о том, что ни индонезийского, ни голландского я абсолютно не знаю. Остается уповать на английский, который, как говорят, здесь в ходу. Должен заметить, что к концу экспедиции все ее участники болтали по-английски почти свободно, так что я совершенно освободился от обязанностей переводчика.
Но что же представляет собой индонезийский язык — «бахаса Индонесиа»? В основе его лежит малайский язык, язык торговцев, еще в давние времена разнесших его по всему архипелагу. Литературный «бахаса Индонесиа» включил в свой состав очень много европейских слов с латинскими корнями. На каждом шагу слышишь — квалификаси, индустриализаси, коррупси (увы! — это слово звучит очень и очень часто), квалитет, квантитет и т. д. Язык этот в общем легок для усвоения, грамматика его очень проста. Интересно, что множественное число достигается удвоением существительного: оранг — человек, оранг-оранг — люди. В газетах, да и просто в уличных объявлениях и афишах для экономии места это пишется просто так: orang2.
Вместе с тем индонезийский язык очень образен и метафоричен. Более того, многие его слова сами собой представляют метафоры. Например, солнце называется матахари (мата — глаз, хари — день), в буквальном переводе — глаз дня, родник — глаз воды, литературное произведение — плод пера, вор-карманник называется рыночным крокодилом (буайя-пасар).
Меня, как биолога, поражало, что индонезийцы великолепно знают растительность и животных, знают почти каждое самое незаметное растение или насекомое. Из девяти тысяч цветковых растений Явы три тысячи имеют местные имена, которые прочно бытуют в языке народа, а не только в ботанических справочниках. Близкие, внешне почти неразличимые виды называются тем не менее по-разному.
Европейская наука только к семнадцатому веку пришла к так называемой бинарной номенклатуре животных и растений, где род обозначается одним словом, а вид— другим. Касается это притом лишь «научных», латинских названий. В индонезийском же и в малайском такие двойные наименования развились издавна. Так, например, все цитрусовые носят сборное название джерук, лимон называется джерук нипис, апельсин — джерук мание, грейпфрут — джерук бали, мандарин — кепук джерук и так далее. Можно было бы привести и много других примеров.
На гербе Индонезии написано «Bhinneka tunggal ika» — «единство в многообразии». Одним из символов, и даже не символов, а, скорее, мощных факторов этого единства, служит индонезийский язык в стране, где на трех тысячах обитаемых островов (всего их около тринадцати тысяч) живут народы, говорящие более чем на двухстах языках. Очень важным обстоятельством явилось то, что язык этот не искусственно воскрешенный вроде культивируемого в Израиле иврита или выдуманный подобно многочисленным разновидностям эсперанто, а живой, издавна служивший для общения между жителями различных частей многоязычной Нусантары. Ведь почти каждый остров Малой Зондской гряды обладает собственным языком, а то и двумя-тремя. В небольшой провинции Минахаса на Северном Сулавеси (Целебесе) говорят на восьми языках. Даже на Яве, казалось бы наиболее монолитной в национальном отношении, яванский язык распространен лишь в средней части острова, западную же его часть населяют сунданцы, а восточную — мадурцы. И протяжный говор мадурского языка, и резкий сунданского отличаются от яванского языка не меньше, чем, скажем, русский от чешского или польского. Кроме того, на Яве живут еще и небольшие, но очень самобытные племена бадуев (или бадувисов), тенггерцев и беграев.
Да и сам яванский язык представляет собой весьма любопытное и сложное явление. Во-первых, это не один язык, а по крайней мере семь. Впрочем, это уже в прошлом. На особых императорском и придворном языках уже, пожалуй, никто не говорит. Прочно вымер и литературный «древний кави», почти вся сохранившаяся яванская классика была написана уже на среднем кави. Но и сейчас яванский разговорный язык состоит по существу из трех различных языков, называемых ступенями: вульгарный нгоко, изысканно вежливый кромо и промежуточный между ними мадья. На языке мадья изъясняются между собой люди одного возраста и общественного положения. Старший к младшему или вышестоящий к нижестоящему обращается на мадья лишь в том случае, когда желает проявить особое внимание. А тот во всех случаях обязан отвечать на кромо. Старший по возрасту и положению обращается к младшему на нгоко, а при очень большой дистанции — грубом нгоко, в котором, как деликатно говорится в одном из руководств, «названия частей тела человека заменяются наименованиями соответствующих частей тела животных».
Султан Джокьякарты или сусухунан[1] Суракарты, как лица, стоявшие выше всех на земле, разговаривали, таким образом, на самом грубом нгоко и лишь о своей собственной особе и обо всем с нею связанном говорили на языке кромо инггил.
Все эти сложности привели в свое время к тому, что голландское правительство категорически запретило своим чиновникам употреблять при общении с яванцами яванский язык — слишком много недоразумений возникало из-за его сложностей. Официальным языком для сношений с коренным населением был признан малайский, что также не могло не сыграть определенной роли в его еще большем распространении. Что же касается голландского языка, то даже еще в конце прошлого века «туземцам» запрещалось его изучать.
Итак, как это ни парадоксально, на Яве наиболее изысканно изъяснялись (сейчас в связи с общей демократизацией многие из этих свойств языка ушли или уходят в прошлое), наиболее церемонно и учтиво говорили люди, стоявшие на самой низкой ступени социальной лестницы. Это не могло не оставить отпечатка на всем характере яванского народа. Он в целом отличается не просто вежливостью, а изысканной учтивостью. Для рыбака, крестьянина, разносчика, рикши-бечака и теперь самым большим оскорблением звучит намек на то, что он куранг ад-жер — недостаточно благовоспитан.
Итак, мы отправляемся в Богор. Николай горестно прощается с нами. На ветровом стекле машины наклеен желтый с красным ободком треугольник. Спрашиваем у наших спутников, что это такое. Оказывается, треугольник означает, что это правительственная машина. Наша молодежь гордо задирает нос, но напрасно. Как мы узнали позже, этот значок укрепляется на всех машинах, принадлежащих государству, с тем чтобы пользующиеся ими чиновники не слишком разъезжали по своим личным делам по воскресеньям и вообще во внеслужебное время.
Хотя из Кебайорана в Богор ведет прямая дорога, мы сворачиваем по каким-то делам в центр Джакарты. Еще раз проезжаем по похожим на аллеи улицам города, усаженным тамариндами и тенистыми канари. Прежнее название Джакарты — Батавия… Вероятно, Валентин думает о том же, так как мурлычет старую экзотическую песню:
Действительно, основной фон Джакарты составляют небольшие уютные дома, привольно раскинувшиеся среди тропической зелени улиц и садиков.
А вот это уже выдумки. Город расположен на удивительно ровном месте, в дельте реки Чиливонг, плоской и прорезанной многочисленными каналами — еще недавно рассадниками малярии и желудочно-кишечных болезней.
Откуда здесь взялся негр — тоже непонятно. В Джакарте много китайцев, как и в других городах Индонезии, есть индийцы, арабы, но за все время пребывания в Индонезии мы не встретили ни одного негра.
Ну это, может быть, одна из теней прошлого. Индонезийцы народ очень мягкий и спокойный, драки для этой страны отнюдь не характерны. Не припомню, чтобы я видел хотя бы одну.
Нет, безусловно, эта песня сочинена где-то очень далеко от Джакарты-Батавпи, о которой чувствительный автор песни не имел ни малейшего представления. Порт Джакарты Танджунг-Приок находится, во-первых, довольно далеко от города, а во-вторых, «бушующий моря прибой» не услышишь и в самом порту, расположенном на берегах тихого залива.
Между тем машина уже вырвалась из городских транспортных пробок и поднимается по дороге берегом Чилп-вонга, который из грязного полустоячего канала постепенно превращается во вполне пристойную и даже бурную реку. Дорога по-прежнему окаймлена двумя рядами мощных деревьев — манго, канари, тамариндов.
Хотя мы уже отъехали далеко от города, дорога по оживленности продолжает напоминать городскую улицу. Снуют велорикши — бечаки, возвышаясь над своими колясками — ангконгами, спинки и ручки которых расписаны всевозможными картинками.
По дороге, позвякивая бубенцами и серебряными украшениями упряжи, проезжают низкорослые и ладные лошадки, запряженные в своеобразные кабриолеты бенди, едут крестьяне на дамских велосипедах (ведь их саронги ничем по существу не отличаются от женских юбок), на мотороллерах проносятся юноши и девушки. По специально отведенной для них с краю дороги полосе тянутся важные и медлительные зебу, парами запряженные в громоздкие арбы. Разносчики в плоских малайских шляпах керендеках несут на жердях самые различные товары — связки сахарного тростника, корзины с фруктами, мешки, ящики и громадные металлические бидоны. Они могут быть наполнены только чем-то невероятно легким, чтобы человек мог их не только поднять, но даже нести на плече по два сразу.
Уютные виллы с крутыми черепичными крышами и просторными верандами с низкой мебелью сменяются крестьянскими плетеными хижинами из бамбука или тростника под крышами из пальмовых листьев. Хижины эти без окон, но входная дверь занимает чуть ли не полфасада. Лавчонки токо и ресторанчики рума макан как бы выплескиваются своим содержимым на дорогу. На базарах груды фруктов, многие из них нам еще неизвестны. Тощие куры бросаются под колеса машины, и шоферу порой стоит большого труда обойти этих самоубийц.
В промежутке между очень часто расположенными здесь селениями проезжаем через поля сахарного тростника, кассавы (маниоки), тенистые плантации каучуконоса гевеи и пальмовые рощицы.
А текущий сбоку Чиливонг уже начинает шуметь, постепенно превращаясь в горную реку.
На горизонте маячат, почти не приближаясь, силуэты Салака и Геде — гор, у подножия которых и находится цель нашей поездки — Богор.
Но вот и Богор. С прямого как стрела шоссе сворачиваем на полого закругляющуюся улицу, с правой стороны которой расположены обычные (для Явы, конечно) дома, а справа — ограда парка. Смотрим во все глаза на купы огромных деревьев, на непролазные островки гигантского бамбука. Глаз не успевает охватить всего многообразия растительности, хотя машина уже замедлила ход и въезжает в ворота президентского дворца. Большая лужайка, на ней пасутся олени Аристотеля, похожие на наших пятнистых, но более крупные и с шерстью тусклого темно-бурого оттенка. Машина останавливается у караульной будки, и наш спутник переговаривается о чем-то с часовыми в малиновых беретах. Неужели сюда? Нет, слава богу, машина наша сворачивает вправо и едет по асфальтированной аллее сада. Снова глаза разбегаются от многообразия незнакомых еще деревьев. Аллея пальм, самых разнообразных, от кокосовой до гостьи из Нового Света — королевской, какие-то огромные фикусы, акации, миртовые, панданусы на несуразных подпорках, куртины бамбуков, древовидные молочаи, неожиданное обилие кактусов и агав. А это, кажется, даммары с кронами, будто отлитыми из металла. В пруду рядом с голубой нильской кувшинкой огромные листья виктории-регии и ее белый цветок.
Наконец машина останавливается в глубине сада у симпатичного деревянного домика с крутой черепичной крышей. Это — гестхауз.
— Здесь вы будете жить…
— Сказка!
Наскоро заглядываем в отведенные каждому из нас комнаты и собираемся в обширной столовой-гостиной. На низком столике уже сервирован крепкий ароматный чай с пепе — запеченными в тесте бананами.
Чай с удивительным букетом. Кажется, что к нему прибавлено немножко перцу. Встретивший нас молодой ботаник объясняет, что никаких примесей в нем нет, просто это чай «от второго листа». Потом во всей стране мы нигде больше не встречали такого чая. Пепе оказались по вкусу похожими, пожалуй, на пирожки с повидлом.
После чая наши деликатные спутники показали, где находится камар-манди — умывальная комната, предупредили, что в шесть часов бунг (бой) Марджук, или попросту Джук, сервирует обед, и откланялись, чтобы дать нам побыть наедине и освоиться с каскадом впечатлений.
И вот мы одни в небольшом тропическом бунгало, в гуще замечательнейшего ботанического сада.
Осматриваемся. Да, это не тот безличный европейский комфорт, среди которого мы жили в городке посольства. Здесь свои удобства, местные, национальные, с некоторыми лишь незначительными уступками европейским привычкам вроде второй простыни и легкого одеяла на низких с пологами кроватях-тахтах. Индонезийцы ведь спят, ничем не укрываясь, и мы вскоре тоже привыкли к этому.
Ложась в первый раз спать в Богоре, я не мог понять, зачем на кровати кроме обычной подушки лежит еще одна, круглая, твердая, похожая на втиснутый в наволочку диванный валик. Положил под изголовье, как упор для подушки, — нет, ни к чему. Так и отбросил в сторону. Лишь несколько позже мы узнали, что это бантал-голек, в буквальном переводе — подушка для кувырканья. Еще позднее мы полностью оценили это приспособление: в жару, когда спишь раскинувшись и ворочаясь, очень удобно сунуть прохладный бантал-голек под колено или между коленями, опереться на него или обнять. Он помогает спать разметавшись, открыв воздуху максимально возможную поверхность тела. Подушка для кувырканья имеет и другое название — бабу.
Удивил меня и лежащий на кровати веник. Неужели старательный Марджук стряхивал в комнате пыль или, еще лучше, подметал и не нашел для веника другого места? Оказывается, это непременная принадлежность полога кламбу: прежде чем затянуть его, этим веником следует выгнать из-под полога комаров. Надо сказать, что в Богоре они нам не докучали. Зато в других местах… С тихой нежностью мы вспоминали благородных русских комариков. Они летят на тебя честно, писком-жужжанием предупреждая — иду на вы. (Чехов, впрочем, писал, что это он заранее ханжески извиняется.) Впился, уколол, прихлопнешь его рукой и хоть получишь моральное удовлетворение. Индонезийские же «москиты» (как мы привыкли называть их по-английски) подлетают бесшумно, кусают безболезненно, а укушенное место начинает чесаться (и как!) лишь тогда, когда твой смертельный враг уже улетел. Страдания остаются неотмщенными.
Но здесь комаров пока нет, в домике тихо, тенисто и прохладно, на окнах бамбуковые жалюзи, все окна затянуты сетками, равно как и многочисленные отверстия для вентиляции в стенах. Жара не так страшна, если чувствуешь хоть легкое дуновение ветерка, в закупоренной же комнате сразу начинаешь обливаться потом. Непременная принадлежность сколько-нибудь благоустроенного индонезийского жилища — умывальная комната. Оборудование ее весьма непритязательно: резервуар с водой и черпак чебок. Водой обливаешься не менее трех раз в день, и это — счастливейшие минуты. Правда, чуть заберешься повыше в горы, сразу становится прохладно, даже холодно, и чебок теряет свою притягательную силу, приходится собираться с духом, чтобы опрокинуть его на себя.
Но вот бесшумный Марджук и его совсем уже неощутимая полупризрачная помощница накрыли стол к обеду. Раздался чуть слышный, ненавязчивый звук гонга. Выползаем из своих комнат. На столе стоит большой пети-ман — кастрюля с дырками для варки риса на пару. Он наполнен рассыпчатым рисом — рисинка от рисинки. Если бы в Юго-Восточной Азии рис готовили так, как обычно у нас, боюсь, что мучительно трудно было бы питаться им изо дня в день. Впрочем, есть в Индонезии и специальный сорт клейкого риса — кетон, но он употребляется лишь для особых кулинарных надобностей. К рису поданы всевозможные приправы. Здесь и овощные рагу пегал и чапчей, и невероятная мешанина из самых различных овощей — гадо-гадо, и своеобразное блюдо темпе, приготовляемое из заплесневелых соевых бобов, безвкусные, но очень полезные для здоровья проростки риса, гороха и бобов — тоге.
В состав лаук-паук — приправ к рису входят и мясные блюда под самыми различными соусами или поджаренные кусочки буйволиной кожи — рамбак. Не менее разнообразны приправы из сушеной, вяленой, жареной, а иногда и сырой рыбы. Тощие, жилистые яванские куры тоже находят свое место в этом наборе, равно как и вареные яйца, разрезанные вместе со скорлупой и нередко подаваемые к столу в засоленном виде. Все это сдобрено разнообразными специями — бумбу и залито острыми, обычно желто-зеленого цвета соусами, в состав которых почти обязательно входит порошок из корневищ куркумы, часто мякоть плодов тамаринда, кислой аверроа, горькой периа, имбирь, кора дерева месуи и всегда в изобилии перец различных сортов. Но этого мало. Для придания блюдам еще большей жгучести на стол непременно ставится наряду с соевым экстрактом паста из красного перца — самбал, кладутся маленькие стручки удивительно острого красного чабей-равит и еще более взрывчатого зеленого перца лембок.
Если бы мы не тренировались заранее в Бомбее на, пожалуй, не менее наперченных блюдах южнопндийской кухни, то, вероятно, с трудом поглощали бы, особенно вначале, эту пищу, вызывающую во рту настоящий пожар. Наши кинооператоры, которые прилетели позже прямо из Москвы, долго не могли привыкнуть к обжигающим рот приправам, налегали больше на пресный рис и с ужасом смотрели, когда кто-нибудь из нас еще подкладывал себе самбала или принимался задумчиво хрустеть стручками лембока. Рот после этого действительно начинал гореть невыносимо, перехватывая дыхание, но, когда привыкнешь, жжение это становится даже приятным.
В чем же причина того, что тропическая пища всегда снабжена таким большим количеством перца? Во-первых, перец — консервант, предохраняющий еду от порчи и, может быть, даже ее обеззараживающий. Во-вторых, по мнению многих врачей, острая пища стимулирует моторную деятельность кишечника, которая в тропиках склонна к некоторому ослаблению. Во всяком случае, веря в мудрость накопленного веками народного опыта, я всегда стараюсь в новой для себя стране поскорее приноровиться к особенностям ее стола и вообще бытового уклада (с поправкой, конечно, на современный уровень гигиены), считая, что климат и другие особенности каждой страны не могли не заставить ее жителей привести свой образ жизни и, в частности, диету в наиболее благоприятное соответствие с внешней средой. Я никогда не прогадывал, следуя этому принципу. Некоторые боятся, что неумеренное потребление перца и других пряностей может привести к катастрофическому повышению кислотности. Да простят читатели и особенно читательницы эти физиологические подробности, но на опыте склонного к изжогам человека могу сказать, что за восемь месяцев пользования местной кухней я единственный раз испытал приступ изжоги и то после европейских консервов.
Рис все-таки в диетическом отношении неизмеримо благотворнее, чем пшеничный или ржаной хлеб, который употребляем мы, жители умеренных широт. Недаром именно рисом питается более двух третей человечества!
В индонезийском варианте европейской кухни белый хлеб иногда подается к обеду, но как отдельное блюдо. Ломтики его кладут на тарелку, разрезают на кусочки ножом и отправляют в рот вилкой, как любое другое европейское кушанье.
Но мучные изделия в общем-то не совсем чужды индонезийской кухне. В очень большом ходу хрустящее печенье крупук из рисовой муки с сушеными креветками. Даже на стол крупук обычно ставят в больших банках с притертыми пробками, иначе он легко отсыревает и утрачивает свою хрустящую прелесть. Этим легчайшим печеньем и были наполнены те бидоны, на которые мы сразу же обратили внимание в дороге!
Изготовляются в Индонезии и разнообразные пирожные, и пряные пирожки чембоза, и печенье разных родов: сухое, рассыпчатое, мягкое. Но их обычно едят не за столом, а на ходу, покупая в лавчонках й у уличных разносчиков. Для таких сластей, которые едят вне дома, у индонезийцев существует специальное название кудан-кудан в отличие от тамбула — десерта к чаю или кофе.
В индонезийской сервировке (как и в китайской) ножи на стол не подаются, все блюда приготовлены так, что их можно взять ложкой или вилкой. В глубокую тарелку или пиалу кладут из петимана рис, сверху на него из расставленных по столу тарелок или из особого разделенного на части металлического блюда накладывают то одно, то другое (а иногда и в смеси) овощное, рыбное, мясное блюдо и обильно поливают соответственным соусом, затем добавляют нарезанную зелень, иногда салат из молодых листьев различных растений (в том числе очень пряной кеманги), поливают экстрактом сои, кладут в зависимости от вкуса и закаленности то или иное количество сам-бала, стручков лембока или равита. Едят ложкой, но в ложку еда накладывается вилкой, которую держат в другой руке (в этом чувствуется какой-то отголосок китайских палочек). Когда покончено с одним блюдом — приправой, накладывают на тот же рис другую, затем третью — до восьми-десяти, обычно же четыре-пять. Чем меньше остается в тарелке рису, тем больше пропитывается он различными соусами, и в этой смеси разнообразных ароматов и вкусовых оттенков есть своеобразная прелесть.
Непременным компонентом сервировки служит тазик для мытья рук после еды. Еда запивается холодным чаем или чаем со льдом (в последнем случае его нередко подают на стол еще горячим). Мы часто шутили: вскипяти чай погорячее да положи побольше льда. Холодный чай повсюду в Индонезии пьют вместо воды. Сырую воду здесь пить нельзя из-за почти гарантированных кишечных заболеваний.
На десерт как индонезийского, так и европейского обеда обычно подаются фрукты.
Тропические фрукты! Сколько противоречивых мнений приходилось о них слышать:
— Ради одних фруктов стоило приехать в тропики.
— Однообразны, быстро приедаются, начинаешь мечтать о яблоке.
— По сравнению с нашими фруктами, они все-таки грубоваты — не хватает селекции. Если здесь встречаются те же фрукты, что и у нас, то здешние всегда гораздо хуже.
Какое же из этих мнений ближе к истине? На мой взгляд, пожалуй, все-таки первое, хотя, как это ни странно, и в двух других тоже есть доля справедливости. Правда, если приедешь в тропики не в подходящий сезон, то можно просто поразиться, до чего же мало здесь фруктов. Только бананы, папайю да, пожалуй, ананас вы можете попробовать в любое время года. Плод папайи, или дынного дерева, считается полезным для пищеварения: он содержит пепсин. Но вкус у папайи удивительно скучный— пресно-сладкий, без кислоты, без малейшей пряности, травянистый какой-то. Мне, правда, пришлось попробовать в Китае совсем иной сорт. Переводчица назвала этот плод вместо дынного дерева деревянной дыней. Эта папайя — она показалась мне не вполне зрелой — имела пряный вкус, нечто среднее между действительно дыней и маслинами. Черные, похожие на икринки мелкие косточки были очень жгучие. Вначале я никак не мог понять, отчего на губах вдруг начали вскакивать волдыри. В Индонезии обжигаться косточками папайи мне не приходилось. Кто-то из ботаников нашел, что эти косточки напоминают по вкусу семена настурции. Зато нарезанную на кусочки красноватую мякоть обычно жуешь, вернее, всасываешь флегматично в конце обеда, если на десерт ничего лучшего не оказалось, и вяло убеждаешь себя: полезно, пепсин…
Тонкие, стройные деревья папайи достигают значительной высоты, хотя живут всего два-три года. Ветви концентрируются лишь у вершины, где под кроной причудливо вырезанных листьев в любое время года можно увидеть десятка полтора покрытых зеленой кожицей продолговатых плодов, похожих, пожалуй, не на дыню, а на кабачки.
Плоды манго по форме похожи на папайю, только несколько более округлы. Когда отдерешь тонкую зеленую кожуру спелого манго, открывается желтая или оранжевая сочная мякоть. Если прямо начать ее жевать и высасывать, то зубы будут все время натыкаться на тянущиеся от плоской косточки плотные волокна (именно с этими косточками показывают опыты по мгновенному выращиванию деревьев индийские факиры). Волокна странным образом куда-то исчезают, если мякоть манго нарезать кусочками, которые буквально тают во рту, оставляя великолепный вкус — нечто среднее между ароматной чарджуйской дыней и персиком, но с легким привкусом скипидара, наиболее ощутимым у сорта манго кевени. Очень пикантны и незрелые, еще твердые плоды манго, особенно если их есть с солью и перцем. Вкусны с солью и кислые плоды тамаринда, которые чаще идут на изготовление прохладительных напитков, приправ к рису и конфет. Многие считают царем тропических фруктов мангустан, или мангис, — темно-фиолетовые шары с твердой кожурой, под которой скрывается белая нежная мякоть, сладкая и ароматичная. Но на мой взгляд, мангису не уступают по вкусу рамбутаны — красноватые плоды, похожие мохнатыми выростами своей кожуры на неочищенный конский каштан. Среди этих выростов почти всегда почему-то снуют крупные рыжие муравьи. Вкус окружающих косточки долек почти такой же, как у мангуста-на, rfo слегка напоминает лучшие из мясистых сортов винограда. Недавно у нас начал поступать в продажу консервированный сок манго, дающий очень слабое представление о пряной остроте и сочности этого фрукта.
Очень хорош также пуласан — плод, который не едят, а пьют, раздавив двумя пальцами его плотную кожуру и выжимая в рот жидкость прекрасного вкуса и аромата, которые я затрудняюсь сравнить с чем-нибудь еще.
О бананах — пизангах можно было бы и не говорить, если бы… Вообразите, что житель тропиков приехал к нам в первой половине лета и вы хотите дать ему представление о наших яблоках, когда в вашем распоряжении только незрелая кислица, да в лучшем случае пресные скороспелые сорта. Так и с бананами. К нам добираются плоды, снятые совсем еще незрелыми, которые могут несколько «доходить» при их длительной перевозке и хранении. А ведь в Индонезии бананов насчитывается не меньше сорока сортов. Среди них золотистый с тонкой кожицей пизанг амбон, удивительно сладкий и сочный, и огромный коричневый пизанг раджа с великолепным ароматом, разные кормовые и несъедобные в сыром виде сорта, служащие только для печения и кондитерских изделий. Бананы (я имею в виду настоящие спелые бананы) хороши тем, что никогда не приедаются.
Крупный, с голову ребенка, покрытый твердыми шипами плод снискал себе, как и все выдающееся на свете. крайне противоречивую репутацию. Речь идет о дуриане. При описании его зловонного запаха и божественного вкуса большинство авторов не жалеет самых выразительных эпитетов. Мы с нетерпением ждали возможности познакомиться с этим знаменитым плодом, однако сезон его созревания наступил лишь через полгода после нашего приезда.
Однажды на Северном Сулавеси я тщетно ждал машину, которая должна была прийти за мной издалека и опоздала часа на четыре. Шофер был несколько сконфужен и объяснил опоздание поломкой. Стоило мне, однако, сесть в кабину лендровера, как меня обдал запах перегара скверной сивухи. Мне все стало ясным, но машина была чужая, и от комментариев я воздержался. Вечером мы говорили с моим спутником о дуриане.
— Вы его еще не пробовали? И запаха не знаете? Сегодня у нас в машине пахло дурианом. Шофер его, вероятно, поел…
Через несколько дней мы познакомились с дурианом и сами. Запах оказался тем же знакомым запахом сивушного перегара — не хуже, не страшнее, не зловоннее. Никаких нравственных и физических мук, для того чтобы, преодолев его, насладиться невероятным вкусом плода, нам испытать не пришлось. Вкус оказался приятным и своеобразным: представьте себе тертые орехи со сливками, — но и только. Опять-таки ничего неописуемого. В общем мы испытали разочарование, которого, вероятно, не было бы (ведь дуриан все-таки вкусен), если бы не находились под влиянием прочитанных ранее гиперболических описаний.
Похожи на дуриан, но только по внешнему виду плоды хлебного дерева. Та же покрытая крупными шипами твердая корка, но плод гораздо больше по величине — порой свыше полуметра в длину. Жители некоторых островов до сих пор заквашивают мякоть этих плодов, а затем пекут перебродившую тестообразную массу. По мнению некоторых этнографов, именно этот способ хлебопечения был древнейшим в истории человечества и, вероятно, справедливее было бы не дерево это назвать по имени продукта, получаемого из зерен пшеницы и ржи, а наоборот.
Плодов хлебного дерева в испеченном виде нам отведать не пришлось, сырые же плоды мы пробовали. Они сладки и мучнисты, но вместе с тем имеют какой-то освежающий вкус. Плоды сростнолистной аноны почему-то называются хлебным деревом голландцев, хотя значительно отличаются от настоящего хлебного дерева и по форме, и по вкусу, и по систематическому положению. Плодов хлебного дерева обезьян нам попробовать не привелось, и я не уверен, что они вообще съедобны. Своеобразный плод, называемый саурсак или саурсоп, по своей структуре несколько похож на хлебное дерево и дуриан. Едят в нем дольки более мягкой ткани, окружающие радиально расположенные семена. Саурсак скорее всего можно сравнить с яблоком, твердым, но с какой-то нежной, гладкой, а не шероховатой, как у яблок, мякотью. «Дамский плод» — буа ньонья, или сетчатая анона, имеет, по мнению некоторых, вкус губной помады. У него действительно несколько парфюмерный аромат и пастообразная мякоть, но ассоциаций с помадой он у меня не вызывал. Еще один вид аноны — анона чешуйчатая, по-индонезийски серикайя, несет под своими зелеными чешуйками белую мякоть, я бы позволил себе сказать, что ее вкус напоминает запах ландыша, как и во вкусе красновато-прозрачных водянистых джамбу явственно чувствуется аромат чайной розы.
Очень любопытен плод саво (или саву) манила, внешне похожий на картофелину, темная же его мякоть напоминает слегка подгнившую грушу, так и ждешь, что вот-вот попадется несъедобное место. Следует еще упомянуть о гуаяйяве с приятной кислотой, но немножко ватной структурой мякоти. Из ананасов наиболее сладок и ароматичен богорский ананас, но встречаются и так называемые дикие, более грубые, явно не подвергшиеся достаточной селекции.
Из цитрусовых следует отметить огромные пампельмусы с розоватыми, как у наших апельсинов корольков, дольками и пикантной горчинкой, а также крупные, тоже горьковатые грейпфруты. Апельсины и китайские мандарины с зеленой кожурой не производят здесь особого впечатления.
Всего в Индонезии насчитывается около двухсот пятидесяти сортов фруктов, из которых нам не довелось перепробовать и половины. Многие из них почему-то вообще не принято подавать к столу ни в крупных отелях, ни в маленьких ресторанчиках. Эти фрукты находишь только на базарах. Если вы не проявите достаточной инициативы и будете довольствоваться тем, что вам предложат на десерт в ресторане вашего отеля, то вы можете очень долго прожить в Индонезии и не попробовать ничего, кроме манго, папайи, бананов, ананасов и, может быть, мангиса и рамбутанов. В сухой же сезон этот ассортимент сократится еще вдвое. Даже в Богоре, в ботаническом саду, где нас старались накормить как можно вкуснее и разнообразнее, выбор фруктов за столом был совсем невелик. Вместе с тем индонезийцы очень любят фрукты, едят их везде и повсюду. Не подают их только к первому завтраку, так как здесь считают, что только птицы едят фрукты раньше, чем запеть поутру.
2
УНИВЕРСИТЕТ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Утром, наскоро совершив омовение и позавтракав острым жареным рисом, мы устремились в сад.
Славящийся на весь мир своим ботаническим садом городок Богор от голландцев получил название Бейтензорге (свободный от забот, беззаботный), что вполне согласовалось с его чудесной природой и более приятным, чем в Батавии, климатом, и поэтому здесь всегда предпочитали жить высшие чиновники голландской администрации вплоть до самого генерал-губернатора. Однако в научной литературе сад всегда назывался по-латыни Ногtus Bogoriensis — Богорский ботанический сад. Он основан в 1817 году зоологом Рейнвардтом и с самого своего основания стал не только ботанической, но и зоологической, да и вообще биологической столицей архипелага, объединив комплекс различных природоведческих и сельскохозяйственных учреждений и превратившись как бы в генеральный штаб отправляющихся именно отсюда экспедиций.
В 1831 году куратором сада стал Тейсман, который создал крупнейший в мире арборетум — живую коллекцию деревьев, ввел сохраняемый до сих пор систематический принцип расположения растительности (во многих ботанических садах он принесен в жертву декоративности), основал горный филиал сада — Чибодас. Этот неутомимый организатор и скромный человек (он даже не носил титула директора сада) был очень мужественным. Однажды всесильный генерал-губернатор Голландской Ост-Индии задумал реконструировать сад по своему усмотрению, но натолкнулся на упорное сопротивление Тейсмана.
— Кто же здесь командует — вы или я? — спросил разъяренный вельможа и услышал спокойный ответ:
— Я, пока вашему превосходительству не станет угодным сместить меня с моего поста.
У губернатора, к счастью, хватило ума не тронуть Тейсмапа, и сад был спасен от попыток невежественного, но авторитетного вмешательства.
Очень многое для развития сада сделали его директора Шеффер, в более новое время — Конингсбергер и особенно Мельхиор Трейб. Трейб блестяще сочетал великолепную организационную деятельность с научной, притом очень многосторонней: анатомия, морфология и особенно эмбриология растений, систематика, экология (он написал интереснейшее исследование «Экваториальный лес как ассоциация»), биохимия, физиология. Трейб утверждал не без запальчивости:
— Переносить на тропики физиологические данные, полученные для гибернирующих[2] европейских растений, все равно что основывать физиологию животных на сурке.
В традициях сада всегда была теснейшая связь с практикой. Еще основатель сада Рейнвардт мыслил его как промежуточную ступень для интродукции на архипелаге, и в частности на Яве, новых полезных и декоративных растений. Эти функции, как и многие другие, сад выполнял и выполняет блестяще. Трейб организовал при саде лаборатории растительной химии, фармакологии, лаборатории по изучению риса и кофе. Им были созданы в нынешней Джакарте океанографическая лаборатория (сейчас Институт морских исследований) и морской аквариум, поставлено изучение прудовых рыбных хозяйств. В самом саду Трейб создал лабораторию для приезжающих ученых, носящую теперь его имя (увековеченное также н в названии основного зоологического журнала Индонезии «Treubia»). Мне не удалось найти ни одного отчета о работе в Богоре с 1883 по 1910 год, где бы приезжавшие ученые не выразили бы глубокого уважения Трейбу и восхищения его организаторской и научной деятельностью. А ведь с Богорским ботаническим садом связаны многие славные имена в биологии. Здесь работали или готовились для дальнейших экспедиций по архипелагу такие классики зоологии, как А. Уоллес, Э. Геккель, В. Кюкенталь, М. Вебер и ботаники Г. Габерландт, А. Шимпер, О. Варбург, не говоря уже о «Гумбольдте Явы» Ф. Юнгхуне.
Из русских ботаников здесь в различное время побывали и плодотворно поработали В. М. Арнольди, О. А. Вальтер, М. И. Голенкин, Ф. М. Каменский, А. Н. Краснов, В. Н. Любименко, Н. А. Максимов, С. Г. Навашин, В. А. Ротерт, В. А. Тихомиров, а из зоологов — С. В. Аверинцев, К. Н. Давыдов, П. П. Иванов, О. И. Ион, В. А. Караваев, А. А. Коротнев, С. Е. Кушакевич, М. М. Местергази, Д. Д. Педашенко, Г. И. Радде. Еще мальчишкой зачитывался я отчетами об их путешествиях. Такому наплыву русских ученых в Индонезию много способствовала учрежденная в начале этого века специальная Бейтензоргская стипендия Российской академии наук.
Но теперь — о самом саде. Как уже говорилось, он построен по систематическому принципу, а соображения декоративности отходят на второй план. И вместе с тем сад удивительно живописен. Впрочем, это не сад в обычном понимании, а скорее упорядоченный лес. Да, от него остается впечатление именно леса, несмотря на посыпанные гравием аллеи (песок здесь сразу смыло бы дождями) в на перенумерованные секции, размещенные по строгим законам систематики. Благодаря этому любое растение здесь очень легко найти по каталогу. И все же, забредая в дальние и даже не очень дальние уголки ботанического сада, начинаешь чувствовать себя если не как в лесу, то как на его опушке. Древесные растения здесь решительно преобладают над травянистыми или кустарниковыми Но ведь влажный тропический лес — гилея и характеризуется особым многообразием именно деревьев. Не толь ко скромный комнатный фикус превращается здесь в огромное дерево, перед невероятным переплетением стволов которого останавливаешься в недоумении — одно ли это дерево или целая роща. Даже ближайшие родствен ники нашей крапивы и дурмана оказываются здесь весьма солидными одеревеневшими гигантами.
Каждый вид представлен в саду по крайней мере двумя экземплярами, но многие образуют целые рощи.
К некоторым экспонатам, например к двум тенистым «дождевым деревьям» — питеколобиум, невольно относишься с особым почтением. Они были в свое время при везены в Богор из Южной Америки, теперь же дождевые деревья можно видеть на многих, требующих затенения плантациях и вдоль дорог. Это дерево не заслуживало бы особого упоминания, ведь Богорский сад явился рассадником множества полезных и декоративных растений, которые раньше здесь не произрастали. Примечательно другое: все без исключения питеколобиумы яванских насаждений представляют собой потомство этих двух и ныне здравствующих в саду деревьев-патриархов.
Интересно, что здесь есть виды растений, которые до сих пор не найдены ни в одной точке земного шара, а живут только в Богорском ботаническом саду и лишь по этим экземплярам и известны науке.
Можно представить себе чувства ботаников, которые открывают новые виды (притом это не какая-нибудь мелочь, а крупные деревья) не где-то среди дикой природы, и труднодоступных местах, а у себя под боком, в тщательно культивируемом и поддерживаемом саду.
Л поддерживается сад очень ревностно. Каждый день десятки служителей, вооруженных прямыми тесаками — голоками (на Центральной Яве они называются парангими), подрезают траву на лужайках и выполняют множество других работ. Если траву не подрезать, не охранять незатененные партеры, цветники и другие «культурные» делянки, не расчищать пространство между деревьями, то буйная тропическая растительность все захлестнет, в притом в самое непродолжительное время.
Теперь познакомимся с садом, как знакомились с ним мы, особенно в первые дни. Я, например, направляясь в библиотеку, приходил в нее часа через полтора, хотя прямой путь вряд ли должен был занять больше пятнадцати минут. Но невозможно бывало удержаться от соблазна уклониться в боковую аллею и, вместо того чтобы идти прямо, немного поплутать то среди похожих на канделябры древовидных африканских молочаев, то среди огромных миртов-евгений, пробираться среди непролазных кущ бамбуков или же пройтись по посаженной еще Тейсманом аллее канарий, гигантские стволы которых увиты лианами и другими лазающими растениями. Эта живописная, тенистая аллея представляет собой одновременно и богатейшую систематическую коллекцию эпифитов[3].
Красивее же всего, пожалуй, обширный участок с наиболее полной в мире коллекцией пальм. Лишенная ствола, приземистая, раскидистая болотная пальма нипа соседствует здесь с высочайшими ливистонами, белые стволы которых увиты стеблями вьюнка ипомеи с розовыми, малиновыми или ярко-красными цветками. У очень многих пальм подножия стволов покрыты различными филлодендронами и другими ползучими растениями, а выше располагаются эпифитные орхидеи и папоротники. Изогнутые кокосовые пальмы сменяются арековыми с их прямыми кольчатыми стволами в коричневых и белых полосках и со смарагдово-зеленой кроной сравнительно коротких перистых листьев. Похожие на орехи плоды арековой пальмы хорошо утоляют жажду, но окрашивают слюну в красный цвет и чернят зубы. Они входят неизменным компонентом в бетелевую смесь для жевания, широко распространенную в Юго-Восточной Азии. Между прочим, у многих племен Суматры и Калимантана (Борнео) еще недавно считалось неприличным иметь белые зубы. Это ведь у собак и обезьян зубы белые.
Из сока сахарной пальмы аренги, темной, мохнатой, с огромными свисающими соцветиями и крупными перистыми листьями, делают пальмовое вино сагуэр, а также неважную пальмовую водку.
На Цейлоне вино получают из пальмы карпота. У нее такие же длинные соцветия, как у аренги, но ее отличают своеобразные двоякоперистые, как у папоротника, листья. Она, конечно, тоже представлена в Богоре, но в Индонезии почти не культивируется в отличие от африканской масличной пальмы элеис, дающей значительно больший выход растительного масла, чем общеизвестная кокосовая, которую она в последнее время понемногу вытесняет.
Конечно, выгода выгодой, но будет жалко, если это когда-нибудь произойдет. Не знаю, в чем секрет очарования кокосовой пальмы, всегда стройной, несмотря на свой изогнутый ствол, но именно эти пальмы придают особую прелесть и истинный тропический колорит индонезийским берегам.
Пальма корифа, или гебанг, тоже, например, растет преимущественно у берегов моря, и она не только стройна, но и безупречно пряма. Казалось бы, и кроне ее в красоте не откажешь, а все же с кокосовой пальмой ей не сравниться. Вот на одной из кориф взвилась огромная метелка некрупных цветов. Значит, скоро конец этой краги вице. Ведь корифы зацветают один раз в жизни и затем погибают.
Рядом с толстоствольной и невысокой, но элегантной пальмой феникс кажется особенно тонким вытянутый птихоцекус. А вот эндемик[4] Сейшельских островов лодойцея, ее своеобразные двойные орехи, по величине во много раз превосходящие кокосовые, очень эффектны, по, к сожалению, несъедобны. Интересно, что сейшельская пальма была открыта значительно позже того, как жителям побережий Индийского океана стали уже хорошо известны ее гигантские плоды, приносимые течениями невесть откуда. Их долго так и называли морскими кокосами. У пальмы циртостахис лакка гладкие расширенные основания листьев окрашены в ярко-красный цвет, а у циртостахис ренда такие же красные верхушки. Вон там подальше пальма лонтар, или пальмира, на ее листьях была написана вся древне- и среднеяванская литература.
Можно было бы еще долго рассказывать об уроженке Кубы королевской пальме, об американском сабале, широкие листья которого переходят в тонкие нити, о кормилице Восточной Индонезии — саговой пальме, о мартинезии с длинными шипами не только на стволах, но и на листьях, о разнообразных хамеропсах, шеелиях, ораниях, вашингтониях, латаниях…
Однако еще одна пальма, несомненно, заслуживает особого упоминания — ротанг. Впрочем, в этой причудливой лиане узнает пальму только ботаник, отягщенный специальным образованием, которое заставляет его называть арбуз ягодой и считать, что флора — это одно, а растительность — другое. Действительно, уж на что, на что, по никак не на пальму похоже это, пожалуй, самое длинное на свете растение, то извивающееся бесформенными клубками или гигантскими кольцами по земле, то легко? вскидывающееся по древесным стволам ввысь и перебирающееся затем с одного дерева на другое. Для этого служат вытянутые в длину до двух метров листовые жилки, оканчивающиеся острыми крючками с обратно загнутыми шипами. Эти раскачивающиеся на длинных лесках-жилках крючки цепляются за окружающие деревья, помогая лиане на них укрепиться. Такие крючки вместе с переплетенными петлями ротангов и других лиан и представляют собой основное препятствие при передвижении по тропическому лесу. Они рвут одежду, ранят тело и зачастую не дают сделать ни шагу в сторону от прорубленной тропы, нуждающейся в постоянном возобновлении и поддержании. Ротанг называют часто испанским камышом, хотя он не имеет ничего общего ни с камышом, ни с Испанией. Он очень широко используется для изготовления легкой тропической мебели, особенно излюбленных в Индонезии низких кресел для отдыха — сената.
Мы остановились вкратце лишь на пальмах, а ведь они занимают очень небольшую часть обширной территории сада. Если попытаться, пусть так же кратко, рассказать и обо всех остальных его чудесах, то, боюсь, на это уйдет почти весь отведенный для книги объем и из Богора мы так и не выберемся.
Очень разнообразна здесь коллекция бамбуков с гладкими, волосатыми и шиповатыми стволами, окрашенными не только в зеленый, но и в различные оттенки желтого, коричневого и даже черного цветов. Растут они главным образом по берегам Чиливонга, который протекает по саду в виде горного ручья. Работавший в Индонезии в начале этого века биолог В. А. Караваев писал, что наклоненные ветви бамбука чем-то неуловимым напоминают ему наши плакучие ивы. Ни малейшего сходства с ивами мне заметить не удалось, даже там, где заросли бамбука склоняются над водами Чиливонга. Ивы развесисты, контуры их мягки, бамбук же всегда строен, подтянут и устремлен в небо. Стволы и особенно листья бамбука очень графичны, всегда образуют четкий силуэт, хотя обычно с полутонами. Это излюбленный мотив японской и китайской живописи.
Бамбук ассоциировался у меня всегда именно с Китаем и Японией, но насколько богаче, разнообразнее и пышнее бамбук в Индонезии! Во многих местах сада тот или другой вид бамбука образует сплошные, совершенно непролазные, правильной круглой формы купы. Одна из них, где стволы гигантского бамбука особенно плотно прижаты друг к другу, неизменно фигурирует среди всех по священных Богору (или вообще тропической растительности) иллюстрации. Купа эта действительно очень живописна, но я твердо решил, что не поддамся шаблонному чувству и фотографировать ее не буду. И надо же, когда недавно мне привелось напечатать в научно-популярном журнале статью с фотографиями сада, то в вышедшей статье я обнаружил эту старую знакомую, вставленную с пометкой «фотохроника ТАСС» среди моих собственных фотографий.
Следует рассказать о разных панданусах. Они выглядят обычно так, будто, торопясь вырваться из болотистой почвы, устремились вверх настолько поспешно, что забыли обеспечить себя достаточно мощным и прочным стволом. Затем спохватились и стали выпускать из верхней утолщающейся части ствола добавочные подпорки. Особенно нелепо выглядят те из них, которые еще не достигли земли. В хаосе этих подпорок основной ствол иногда бывает найти невозможно. Узкие жесткие листья панданусов всегда свисают вниз, как бы подломленные посередине. Из этих листьев на Суматре плетут циновки, которые, говорят, хороши тем, что их избегают почти все насекомые. Шишковидные плоды панданусов размерами и формой похожи на ананасы, но, к сожалению, они несъедобны. Их лишь развешивают иногда для украшения да употребляют для чистки посуды. Вызывают удивление цветы фрейсинетии, тоже относящейся к пандановым. Мы привыкли к опылению цветов насекомыми, ну уж куда ни шло мелкими птицами — колибри и нектарницами. Но у фрейсинетии другие, чисто тропические масштабы — ее цветы опыляют белки.
В богатом осадками Богоре я не ожидал встретить обширной коллекции сухолюбивых кактусов и агав. Им отведена специальная кактусовая горка, растительность которой словно создана фантазией художника-формалиста. Здесь и столбы шести-, семиметровых цереусов, и вовсе не похожие на остальных своих сородичей пейрескии, покрытые листьями, и лепешки опунции с шипами и без шипов, и вызывающие одним своим видом сухость во рту агавы, драцены, юкки.
В другом конце сада вы неожиданно натыкаетесь на собрание эвфорбий — древовидных африканских молочаев. Это обычно настоящие деревья и по размерам, и по структуре ствола. Но вот, казалось бы, от обыкновенного, покрытого корой древесного ствола вдруг отходят и устремляются вверх, как канделябры, мясистые зеленые ветви.
Привлекает внимание водная растительность небольших прудов, затянутых вместо нашей ряски эйхгорнией, которой помогают держаться на поверхности воды вздутые и наполненные воздухом черешки листьев. Эйхгорнию, как и нашу элодею, называют американской водяной чумой — так бурно развивается и распространяется она в новых для себя водоемах, изменяя их режим и вытесняя другие виды водных растений. Но водяной чуме в саду, разумеется, не дают полной воли, и остается достаточно места и для цветущей здесь почти постоянно виктории-регии, и для нежно-розовых, как небо на рассвете, цветов индийского и египетского лотоса. Есть здесь и голубая нильская кувшинка, и жюсьена, или японская кубышка, со своеобразными дыхательными корнями, которые плавают по воде, и болотная орхидея ванда, и папирус, и родственник нашего рогоза кошачий хвост, метелки которого действительно похожи на короткие закрученные хвосты южноазиатских кошек.
Я, кажется, злоупотребляю вниманием читателей, но как обойти молчанием обнесенный защитной сеткой воспетый Пушкиным анчар. Ядовитым его соком смачивают стрелы своих духовых ружей батаки Суматры и даяки Калимантана. Как не упомянуть о словно отлитых из металла кронах даммары, похожих на гигантские хвощи казуаринах со свисающими иглами, с которыми по длине может соперничать лишь хвоя мексиканской сосны Монтецумы. Яйцевидные листья даммары не мешают ботаникам относить это дерево к хвойным, тогда как казуарина — растение лиственное.
Каждая прогулка по саду знакомила нас со все новыми и новыми растениями и наглядно иллюстрировала явления, о которых мы знали только по учебникам, да и то не всегда. Конечно, нам и раньше было известно, что многим тропическим деревьям свойственны досковидные корни, помогающие удерживаться в грунте тридцати — сорокаметровым стволам. Но одно дело знать об этом теоретически, другое — увидеть наяву эти извивы досок, за которыми иногда свободно мог спрятаться самый высокий из нас. А каулифлория — развитие цветов прямо на стволах деревьев, когда порой не можешь разобраться сразу, то ли это зацвело само дерево какао или дуриана, то ли просто его ствол усыпан расцветшими эпифитами.
Не побывав в Богорском саду, мы потом ни за что бы не разобрались сразу в хаосе настоящих лесов. Ведь порой и здесь мы, несмотря на разъяснительные таблички, останавливались в изумлении перед чудовищным переплетением стволов и не могли понять, что представляет собой этот необузданный хаос — одно лишь многоствольное дерево или целую рощу, окаймленную завесами нежных нитей воздухоносных корней. На поверку оказывалось, что это фикус: гигантски разросшийся собрат нашего скромного обитателя цветочных горшков и кадок или же гордый варингин, «дерево власти». Еще у одного вида фикуса — фикус пумила разные ветви так отличаются друг от друга, что никак не можешь поверить, что их породил один и тот же ствол, тем более что фикусы-душители обычно начинают развиваться как безобидные эпифиты, обрастая затем со всех сторон ствол своего хозяина и как бы замуровывая его в собственной толще.
Постепенно, когда приглядишься и несколько привыкнешь к разнообразию растительности влажного тропического леса, начинаешь различать характерные ее особенности. Покрытые тонкой, гладкой, обычно светлой корой стройные стволы начинают ветвиться лишь на значительной высоте — десять, пятнадцать, двадцать метров от земли. Преобладают лишь две основные формы листьев: крупные, кожистые, с твердой глянцевитой поверхностью (разбивающиеся о нее капли дождя производят своеобразный шум) или нежные, перистые, как у наших акаций. Во влажном «дождевом» тропическом лесу и имитирующих его участках парка почти нет подлеска, очень слабо развит травяной покров. И совсем мало, неожиданно мало цветов. Большинство из них, очевидно, появляется на кронах деревьев и снизу никак не просматривается. Впрочем, в саду то одно, то другое одиноко стоящее дерево вдруг покрывается целым каскадом цветов — или своих собственных, или какого-нибудь из усеявших его эпифитов. Как-то один мирт, мимо которого я проходил почти каждый день, вдруг почти на глазах окутался багряным пламенем цветущих орхидей, но в тот же вечер дождь, как на грех особенно сильный, сбил это пламя более чем наполовину. Такую судьбу, увы, разделяют очень многие цветы «дождевого» леса.
В тропическом лесу встречается очень мало бабочек, как, впрочем, и других насекомых. В Богоре, из-за того что там много разреженных мест, разных площадок и опушек, их все-таки видишь значительно больше, чем в настоящем лесу.
Мне специально пришлось охотиться за бабочками и за другими крупными насекомыми, об этом меня настойчиво просил один из моих друзей — энтомолог. И вот уже в самом конце путешествия, перебирая черных с зеленоватыми металлическими блестками мемнонов, ярко-желтых с темной каймой на крыльях эврем, оранжевых данай, киноварно-красных иксиас, кофейных сатиров и великолепных бархатисто-черных с золотом помпеев-птицекрылов, — все, что удалось спасти от вездесущих муравьев и тараканов, — я обратил внимание, что на этикетках, как правило, были обозначены ближайшие окрестности населенных пунктов. В настоящих дебрях тропических лесов, среди нетронутой природы бабочки нам обычно не попадались.
Зато немецкий натуралист Зейц, которому удалось наблюдать полог тропического леса сверху, с возвышавшейся над ним скалы, заметил там такое изобилие бабочек, какое и не снилось ни одному энтомологу. То же касается и птиц, и многих других представителей животного царства, о которых мы судим по более или менее случайно оказавшимся внизу экземплярам. Это похоже на то, как если бы мы изучали фауну морского дна и судили бы о ней только по организмам, найденным на берегу в штормовых выбросах. Да так оно и было до сравнительно недавних пор, ведь драгами и тралами, не говоря о более совершенных орудиях лова, зоологи стали пользоваться лишь с прошлого века, и их применение незамедлительно повлекло за собой множество зоологических откровений.
Я не знаю — в литературе не встречал, — пробовал ли кто-нибудь применить для исследования полога тропического леса вертолет, но не сомневаюсь, что в зеленых морях сомкнутых крон бразильской сельвы и индонезийской римбы нас ждут многие и многие открытия и неожиданности.
В районах неподалеку от Джакарты стали уже довольно редкими огромные ночные шелкопряды аттикус-атлас (это одна из самых крупных в мире бабочек). Шелк аттикусов не используется, так как он очень груб, но бабочки служат обычно главной приманкой изготовляемых для туристов энтомологических наборов.
Из других насекомых мы встречали, как в саду, так и среди дикой природы, похожих на желтые цветы орхидей богомолов, огромных жуков-долгоносиков, крупных усатых дровосеков, зеленовато-желтых златок, разнообразно и ярко окрашенных лесных клопов, забавное насекомое филлиум, или странствующий лист. Поразительное сходство с листом, иногда свежим, иногда увядшим, нарушается только тем, что верхняя сторона филлиума похожа на нижнюю сторону листа и наоборот. И повсюду— муравьи, муравьи, муравьи… Стоит оставить на столе не только что-нибудь из еды или же незаспиртованные биологические коллекции, но даже неплотно закрытую коробку с насекомыми, как через час-другой от стола до двери возникает сплошной желтоватый ручеек непрерывно движущихся в обе стороны муравьев. Проходит ничтожный промежуток времени, и от внушительного жука-носорога остается лишь пустой панцирь с рогом, а от красивейшей бабочки — одни лишь ножки да жалкие, отвалившиеся от пустой шкурки крылья.
Для одной моей московской приятельницы, которая любит конструировать изящные ожерелья из самых неожиданных даров природы, я собрал как-то несколько горстей своеобразных орешков с толстой кожурой. Они мирно лежали на столе, когда вдруг я заметил на дверном переплете знакомый зловещий ручеек. Проследив его направление, я с удивлением увидел, что он берет начало (или конец?) у кучки орехов. Толстая отполированная кожура их была проколота в одном лишь месте, но этого было достаточно, чтобы в руках орешки незамедлительно превращались в труху. Муравьи досаждали нам везде и всюду, особенно когда мы жили в домах, мало возвышавшихся над землей. Вот почему в национальных индонезийских жилищах та комната, пол которой значительно возвышается над полом других комнат, считается наиболее почетной и парадной. Отсюда свайные и полусвайные постройки, представление о которых у нас почему-то связывается только с заболоченной почвой.
Муравьи в Индонезии в отличие от термитов, которых мы почти не замечали, удивительно докучны и назойливы. На Западной Яве встречаются и другие перепончатокрылые, представляющие непосредственную угрозу для человеческой жизни. Русский зоолог Караваев натолкнулся на маленьком островке Принсен на гнездо то ли пчел, то ли ос, от которого в ужасе отступили проводники, невозмутимые и храбрые яванцы. Они сказали, что стоило лишь слегка растревожить обитателей гнезда, и всей группе грозила бы почти неизбежная гибель. Зоолога трудно упрекнуть в том, что он не выяснил точной систематической принадлежности этих опасных насекомых, тем более что и пчелы, и осы в языке яванцев (как это ни странно для прирожденных естествоиспытателей) носят общее название тавон.
Только один раз нам удалось увидеть огромного черного индийского скорпиона. Говорят, укус его очень болезнен, но боль быстро проходит. Зато очень часто попадались нам похожие на скорпионов, но не имеющие жала телифоны. Вместо яда они выпрыскивают раствор муравьиной кислоты, который может вызвать болезненные явления, только попав на слизистую оболочку (глаза или рта). Под камнями наряду с невзрачными кивсяками, похожими на наших, можно встретить и пятнадцатисантиметровых вредоносных сколопендр. Зато огромные бархатисто-черные пауки-птицееды на поверку оказались удивительно мирными и смирными животными. Один из них спокойно сидел в коробке и даже не делал попыток убежать, если коробка оставалась открытой. Другие крупные пауки, темно-серые, пяти — восьми сантиметров в длину, часто живут в человеческом жилье и так же безобидны, как наши крестовики, хотя и очень смущают непривычных иностранцев. Эти пауки не ткут паутины.
Из пресмыкающихся в домах живут скромные, но пользующиеся повсеместной симпатией гекконы чичаки, а на чердаках — громкозвучные, но в общем безобидные токэ. О них я уже говорил. Правда, если токэ случайно окажется на полу вашей комнаты или веранды и вы захотите познакомиться с ним поближе, он будет яростно защищать свою свободу и независимость, а вы рискуете приобрести ощутимые царапины от его роговых зубов, просторно размещенных в широкой пасти.
Изредка на деревьях можно увидеть геккона птихозоон, шероховато-складчатая кожа которого по цвету и по структуре похожа на древесную кору. Там же встречаются забавные ящерицы калотес. Их кожистые веретеновидные яйца разбухают после откладки чуть ли не вдвое. Растут, так сказать, независимо ни от чего, сами по себе. Очаровательны миниатюрные летающие дракончики с трогательной оторочкой крыльев по обе стороны (тройного, изящного тела. Они, конечно, не летают в полном смысле этого слова, но могут планировать с дерева на дерево. Упомянем еще быстрых мабуй, ничем особенно экзотическим не отличающихся от наших ящериц. И конечно же, нельзя пройти мимо национальной гордости Индонезии — огромных варанов с острова Комодо, которых недавно специально изучала экспедиция советских зоологов. Этих четырехметровых «драконов» мы сподобились увидеть только в зоопарке.
Лягушки в Индонезии квакают совсем не так, как у нас, а словно на другом языке. Из них особенно красивы некоторые древесницы. Есть и несуразные рогатые жабы, но я, к сожалению, видел их только в полумумифицированном виде.
Зато удивительно красивая древесная змея дендрофис однажды очень спокойно позировала перед моим фотоаппаратом на куче листьев и лишь после того, как мне удалось щелкнуть ее со всех сторон, спокойно уползла в эту кучу, а через минуту ее изумрудно-зеленое тело мелькнуло на светло-сером фоне древесного ствола и исчезло в зелени листьев. Чтобы читатель не упрекнул меня в браваде, скажу сразу же, что эта змея абсолютно безвредна, в чем, правда, в тот момент я не был полностью уверен.
Есть в Индонезии и очень ядовитые змеи — длинный бунгарус и короткий толстый кротал, но они избегают встреч с человеком, и случаи укусов сравнительно редки в отличие, например, от Индии. На дорогах нам случалось видеть этих змей, раздавленных автомобилями, иногда мы давили их сами. Есть в Индонезии и удавы. Обитают они часто на рисовых полях, но опасность представляют разве что для собак. Их ловят ради красивой кожи, используя как приманку тощих и жилистых индонезийских кур.
О многообразии индонезийских птиц предпочту не распространяться, иначе никогда не закончу эту и без того длинную главу, тем более, что большинство птиц мы видели и слышали не в саду и не в лесах, а на рисовых полях, в клетках возле домов и, наконец, в зоопарке. Отмечу только, что хищных птиц здесь очень мало. Оно и понятно, им слишком трудно было бы охотиться в непролазных зарослях.
О фауне крупных млекопитающих здесь, в главе о Богоре, говорить, пожалуй, тоже не место. Прошло то время, когда Ява изобиловала тиграми, носорогами, дикими буйволами. Несколько лет тому назад дотошные немецкие зоологи вызвали сенсацию, обнаружив тигров в глухом юго-восточном углу острова. До этого тигр считался на Яве полностью истребленным. В Богорском ботаническом саду много белок нескольких видов, у дворца президента пасется стадо оленей Аристотеля. Больше из млекопитающих мы здесь никого не встречали, кроме зверя действительно исключительного. Это калонг, или летучая собака, самая крупная из летучих мышей. Большая колония калонгов живет в одном из углов сада. Крупное, покрытое жесткой рыжей шерстью животное действительно с собачьей мордой снабжено черными перепончатыми крыльями более метра в размахе. Когда подходишь днем к их колонии, то прежде всего в нос ударяет острый аммиачный запах. Подняв голову, замечаешь на вершинах миртов-евгений оголенные ветви, с которых свисают какие-то плоды странной формы, нечто вроде опрокинутых груш. Это и есть висящие вниз головой калонги, которые снизу на порядочном расстоянии кажутся совсем небольшими. Днем они спят и лишь изредка то один запищит во сне, то двое других затеют ссору, если кто-то столкнет кого-то с удобного места. Но незадолго до заката калонги начинают шумную возню с драками и слышными издалека повизгиваньями. Затем они для разминки начинают летать вокруг деревьев, а в сумерки отправляются в более дальние полеты к плодовым деревьям и плантациям. Летучие собаки и более мелкие летучие лисицы, тоже местами встречающиеся в Индонезии, питаются исключительно фруктами в отличие от мелких насекомоядных летучих мышей.
У меня в Москве больше года жила совершенно ручная летучая лисица, привезенная с Занзибара. Это было очаровательное животное с зеленовато-серой короткой шерсткой, тонкой породистой мордочкой и огромными влажными, как у оленя, глазами. Кутька, как звали его или, вернее, ее, первое время дичилась и иногда пускала в ход свои поразительно острые зубы или наносила наотмашь удары когтями крыльев. Однако уже через месяц она совершенно освоилась и охотно шла к нам на руки. Любила повиснуть на плече хозяина или хозяйки, прижаться к шее и тихонько мурлыкала, если ее поглаживали. Вместе с тем с каждым членом семьи у нее возникли свои личные отношения. К чужим Кутька относилась спокойно, но на руки к ним никогда не шла.
Кормили мы ее фруктами, соками, зеленью, иногда медом с яичным белком. Больше всего Кутька любила бананы и дозревшую при лежании хурму, их мякоть она съедала целиком, из яблок же и других фруктов лишь выжимала сок, а прожеванную мякоть выплевывала. Очень любила помидоры, но становилась от них беспокойной, при малейшем раздражении начинала суетиться и пронзительно визжать. Обычно же она была кроткой, спокойной и ласковой.
К нам в дом стекалось множество зрителей. Новички обычно пугались необычного вида зверька, его черных крыльев, а главное, постоянного положения вниз головой — в этом им виделось что-то противоестественное. Но вскоре многие из них подпадали под власть Кутькиного обаяния. Особенно верными ее поклонниками становились зоологи и художники.
Калонги грубее как по внешнему виду, так и по повадкам, насколько мы могли судить по поведению подаренной нам позже летучей собаки с лохматой физиономией, слегка смахивавшей на наших дворняжек. Животное выглядело добродушным и вполне ручным, что не помешало ему сбежать от нас в первую же ночь, отодвинув неплотно прилегавшую крышку клетки.
Но я отвлекся от ботанического сада и его сокровищ. Не буду рассказывать о великолепном гербарии, представляющем исключительный интерес для специалистов-ботаников, о неплохом зоологическом музее, о прекрасной научной библиотеке, для которой я жертвовал многими часами, подавляя искушение провести их в саду.
От Богорского ботанического сада отпочковался ряд научных учреждений, сейчас объединяемых Национальным биологическим центром Индонезии, штаб-квартира которого находится, естественно, тоже в Богоре. В одном километре от ботанического сада расположен опытный сад хозяйственных культур, где проводится изучение и селекция полезных тропических растений. Это как бы живой музей прикладной ботаники, где представлено все, что интродуцировано на Яву и другие острова архипелага начиная с 1826 года. Палаквиум, дающий гуттаперчу, различные сорта табака, перца, сахарного тростника, кофе, чая, какао. Здесь можно видеть восьмидесятилетние стволы каучуконоса гевеи, гораздо более молодые плантации которого мы встречали затем повсюду. Есть здесь и другие каучуконосы, представляющие теперь лишь исторический интерес, поскольку с гевеей никто из них конкурировать не может.
Особенно богато представлены различные сорта табака. Страстные курильщики голландцы всегда обращали на него большое внимание. Есть здесь и всевозможные сорта перца — белый риу, мелкий зеленый лембок, красный мексиканский, кайенский и турецкий, черный душистый и множество других. Рядом с перечными лианами растет прославленный бетель-сири. Ценные промышленные смолы и масла дают гуарана, даммара, кайепут, камала, стиракс, камеденос спондиас и другие.
В этом саду произрастают разные виды агав, дающих сырье для канатной промышленности, обширная коллекция самых различных бобовых растений, ваниль, корица, гвоздика, мускатный орех, масличная пальма элеис, эритроксилон, из листьев которого добывают кокаин, и многие, многие другие деревья, кустарники и травянистые растения.
Впечатления от этого интереснейшего сада меркнут, однако, как только в памяти всплывает название Чибодас.
Чибодас — это горный филиал Богора. Он расположен на склоне вулканов Геде и Пангерангго на высоте полутора километров и представляет единый комплекс культурного ботанического сада, где преобладают представители относительно прохладолюбивой субтропической флоры и заповедного леса, который не нарушался на памяти человека ни вырубками, ни лесными пожарами. Лес этот простирается до самой вершины вулкана, демонстрируя все ступени перехода от влажной римбы до альпийских лугов.
Миновав перевал Пунчак со сказочными видами по обе стороны и издавна славящийся своим прохладным климатом горный курорт Синанглайю, мы свернули с асфальта на узкую проселочную дорогу. Сразу все резко изменилось. Вместо элегантных вилл — плетеные хижины бедных деревушек, вместо фланирующей нарядной публики Синанглайи — худые лица одетых в лохмотья крестьян. И весь каменистый ландшафт под стать этой суровой бедности. Но вот деревни постепенно растворяются во все более густой зелени. Проехав мост через Чимачан — реку тигров (воспоминание о них, увы, осталось здесь лишь в географических названиях), въезжаем в гостеприимно распахнутые ворота сада. Еще вчера мне казалось, что на свете нет и не может быть ничего прекраснее сада в Богоре, и вот сегодня я уже готов отдать предпочтение Чибодасу. Прелесть сада в Чибодасе не в особом богатстве и разнообразии растительных коллекций — они значительно уступают богорским. Но если там преобладает ровная поверхность и вы любуетесь огромными деревьями снизу, в лучшем случае сбоку, то здесь открывается великолепная перспектива горного склона. Пройдя по величественной аллее исполинских стройных араукарий различных видов, вы вскоре видите их исполинские темно-зеленые силуэты сверху с противоположного склона.
То спускаясь, то поднимаясь по склонам Чибодаса, мы не только осматривали замечательное собрание интереснейших деревьев, но и любовались живописными пейзажами далеких предгорий Преангера. В саду собраны различные виды кленов. У одного клена обычные, глубоко вырезанные пятипальчатые листья, у другого типичный для кленового листа рисунок предельно упрощен, третий же узнаешь только по семенам-крылышкам, а его листья имеют цельные, совершенно нерасчлененные края. Очень разнообразны здесь и дубы, они представлены двадцатью двумя видами. Их разнообразие особенно бросается в глаза, когда рассматриваешь собранную в саду коллекцию желудей — круглых и огромных, как яблоки, сдавленных и даже совершенно плоских, удлиненных и необычно длинных. Порой только глянцевитая поверхность и морщинистая шапочка говорят о том, что это желуди. Есть в саду несколько видов каштанов; их плоды, те, что нам довелось попробовать, менее вкусны, чем южноевропейские. Когда же я увидел в саду нашу обычную калину, то подумал, что только у нас в умеренном климате нет многого из того, что растет в тропиках, в тропиках же по существу есть все.
Это, конечно, преувеличение, когда речь идет об отдельных видах. Но если говорить о целых родах и семействах, то здесь действительно дело обстоит именно так: многие и многие тропические роды и семейства отсутствуют в нашем климате, у нас же очень мало таких, представители которых не встречались бы в тропиках.
В умеренно теплом субтропическом климате Чибодаса особенно хорошо развиваются представители австралийской флоры. Вот, например, растительное чудище, облик которого вовсе не вяжется с представлением о современных деревьях. С концов его толстых ветвей свисают пучки как бы слегка пожухлой травы, совсем непохожие на листья. При порывах ветра они не шелестят, а издают какой-то резкий металлический звук. Светло-серая гладкая поверхность их ствола и вздутых ветвей покрыта правильной ромбической чеканкой, словно перед вами ожила какая-нибудь сигиллярия или другой представитель растительности мезозоя. Из других «австралийцев» бросается в глаза «травяное дерево», короткий ствол которого увенчан густой круглой шапкой удлиненных листьев. Есть здесь весьма декоративные дорианты и множество казуарин. Их длинные иглы действительно напоминают оперение казуара. Забавно, что казуарины принадлежат не к хвойным, а к лиственным, покрытосемянным растениям. Впрочем, когда присмотришься, то видишь, что эти иглы вовсе и не хвоя, как у наших сосен и елей, а хлорофиллоносные зеленые побеги, на которых можно разглядеть и зачаточные листочки в виде чешуек.
Многие австралийские деревья сбрасывают в определенные сезоны кору. У кордилин кора отслаивается толстыми прочными пластами, из которых австралийские аборигены изготовляли когда-то лодки. У стройных же белоствольных эвкалиптов кора облезает лохмотьями. Известно, что их густые кроны не дают тени, так как листья поворачиваются параллельно падающим на них солнечным лучам. Но оказывается, от дождя они тоже не защищают, в чем убедился на печальном опыте один из наших спутников: когда неожиданно начался ливень, он пытался спрятаться под ближайшими эвкалиптами с заманчиво сомкнутыми ветвями, в то время как все остальные бросились искать укрытия под прекрасным экземпляром дазилириона, так густо опушенного листвой, что крона его выглядела сплошным зеленым конусом.
В саду много выходцев из Японии — изящные криптомерии, несколько десятков видов бамбука с зелеными, желтыми и черными стволами. А сосны образуют целый интернационал: гималайская, филиппинская, австралийская, Канарская, североамериканская. Богато представлены также туи, можжевельники, кипарисы. Среди пирамидальных с прижатыми ветвями кипарисов вдруг усматривается один, удивительно похожий на нашу раскидистую новогоднюю елку. А в общем-то приходишь к выводу, что язык человеческий очень беден: слово «пирамидальный» неизбежно относишь и к кипарису, и к совсем не похожей на него цинхоне — хинному дереву. II разница между ними вовсе не только в том, что кипарис покрыт хвоей, а цинхона густо посаженными лакированными листьями. Весь облик совсем иной, а вот приходится определять его одними и темп же словами. На цинхоны смотришь с особым интересом. Ведь именно здесь великий Юнгхун ставил первые свои опыты по интродукции на Яве хины. Опыты эти вначале были не вполне удачны, и Юнгхун перенес их затем в Лембанг близ Бандунга. Теперь же Ява дает 93 процента мирового сбора хины.
Имя Юнгхуна у нас почему-то мало известно, а вместе с тем этого замечательного ботаника недаром называли «Гумбольдтом Явы». Молодой врач, убивший на дуэли противника, вынужден был бежать из Германии. На Яве он вступил в колониальную армию, увлекся естествознанием, которому и посвятил всю дальнейшую жизнь. Юнгхуном даны классические описания растительности Явы, разработана система вертикальной зональности растительного покрова от влажной римбы до альпийских лугов. Эта система не устарела до сих пор.
Можно многое еще рассказать о ползучем панданусе фрейсинетии, густо усаженной элегантными фестонами листьев, о лаврах и миртах, о мелких, но прелестных магнолиях, о кустах ярко-оранжевого яванского рододендрона, о цветущей кобее и жакаранде, но я остановлюсь еще только на оранжереях. В одной из них — великолепное собрание орхидей, глоксиний и камелий. Об одних орхидеях смело можно было бы написать отдельную книгу — их здесь более ста видов. Вот причудливая стэнхония, похожая на разметавшуюся в полете птицу, вот изысканный башмачок пафпопедилум… Фантастические формы, самые невероятные комбинации красок и оттенков. Природа, позволяя себе удивительно смелые сочетания красок, придавая своим творениям самую замысловатую форму, никогда не бывает безвкусной.
В другой оранжерее культивируются кактусы. Разнообразие еще большее, чем на кактусовой горке Богора, но там все масштабно, монументально, здесь же в миниатюре. Бродя среди этих формалистических растений, странно сознавать, что здесь оранжерейные стекла служат не для удержания тепла и влаги, а, наоборот, для предохранения этих сухолюбивых растений от чересчур уж влажного климата Чибодаса, климата еще более влажного, чем в Богоре.
Но самое большое впечатление в Чибодасе оставил все же не сам сад, а заповедный участок девственного леса. По его окраине мы побродили, конечно, в первый же день. Здесь, однако, на многих деревьях встречаешь этикетки с латинскими названиями. Впрочем, не только люди, но и растения пытаются стереть границу между садом и лесом. Дикие растения из леса стремятся проникнуть в сад, но и культивируемые в саду переселенцы из других мест нередко встречаются в одичалом состоянии на окраине леса, проникая в него порой на несколько сот метров, а то и на километры.
На рассвете следующего дня мы вдвоем со смотрителем сада отправились через лес по склону потухшего вулкана Пангерангго, пробираясь к его вершине. Все вокруг сочилось влагой и сыростью, гремел беспорядочный хор птичьих голосов. Без предварительных ознакомительных прогулок по садам Богора и Чибодаса мне нипочем бы не разобраться в этом переплетении стволов, лиан, ветвей, веточек, листьев. Теперь же я, хоть и не слишком часто, узнаю те или иные растения и могу, скажем, отличить покрытые восковой пленкой молодые стволы ротанга и его обсыпанные белым порошком листочки от стволов ползучего пандануса фрейсинетии или «виноградной лианы» циссуса. Впрочем, это еще самый легкий урок. Ротанг очень быстро заставляет запомнить свои коварные крючки, впивающиеся в одежду, а то и в тело при неосторожных попытках сойти с тропинки и хоть немного углубиться в заманчивую чащу. Зато к ползучим стволам циссуса я вскоре проникаюсь теплым чувством благодарности. Когда, несмотря на пронизывающую сырость, на подъеме все больше и больше начинает мучить жажда и я с тоской думаю о том, что кокосы с их освежающей влагой здесь не растут, мой заботливый спутник рассекает своим ножом-голоком извивающийся ствол циссуса, подставляет к срезу фляжку и через несколько минут потчует меня кисловатым, приятно освежающим соком. Да, эта лиана больше заслуживает права называться «деревом путешественников», чем прославившаяся под этим названием равенала. Веер расположенных в одной плоскости листьев равеналы очень эффектен, ничего не скажешь. Что же касается воды, скапливающейся в карманах листовых влагалищ равеналы, то она всегда имеет настолько неаппетитный вид, что, право, скорее уж напьешься из придорожной лужи.
Поднимающаяся в гору тропинка то расширяется, то снова сужается настолько, что мой проводник должен расчищать ее голоком. А вокруг такое буйство растительности, что только теперь начинаешь понимать, как правы были ботаники прошлого века в своих описаниях тропического «дождевого» леса, описаниях, которыми я в молодости зачитывался, воспринимая все-таки их пафос как некоторое преувеличение. Романтический патриарх яванской ботаники Юнгхун писал, что тропический лес не терпит пустоты, а обычно спокойный и академичный Габерландт начинал категорически утверждать, что для размещения всего этого чудовищного нагромождения взаимно переплетенных растений трехмерное пространство кажется недостаточным. Теперь я мог воочию убедиться, что они нисколько не преувеличивали. Завеса зелени по обе стороны от тропинки или ручья, вдоль которого мы поднимались, на первый взгляд кажется сплошной. Трудно разобраться, где кончается дерево-хозяин и где начинаются окутывающие его шубы, канаты, шпуры, бороды, выросты, гнезда эпифитных папоротников, орхидей, плаунов, мхов и еще невесть каких растений. И все это пропитано водой, сочится каплями и стекает струйками. Сначала все кажется погруженным в зеленый сумрак, только потом замечаешь, что света здесь не так уж мало, гораздо больше, чем в наших хвойных лесах. Смуглое лицо моего спутника в этом зеленом фильтре кажется мертвенно-бледным. Зелено все вокруг, видимо, природа забыла о том, что существуют и другие цвета кроме бесчисленных оттенков зеленого.
Зеленым цветом отливают даже те немногие стволы деревьев, на которых нет эпифитов. Зеленая ассимилирующая ткань просвечивает сквозь их тонкую светло-серую кору.
Слабым диссонансом в эту зеленую симфонию врываются лишь редкие, тонущие в массе листвы цветы орхидей и красного яванского рододендрона да темные стволы древовидных папоротников с улитками неразвернувшихся листьев. Здесь, на полуторакилометровой высоте, они приходят на смену пальмам.
Нежно-зеленые листочки печеночных мхов селагинелл контрастируют с темно-зелеными «птичьими гнездами» папоротника асплениум, действительно похожим на растрепанное гнездо крупной птицы. Иногда, прикрепляясь к лианам, эти гнезда неожиданно приобретают сходство с огромными темными люстрами. Листья другого эпифитного папоротника платицериум смахивают на гигантские оленьи рога. Эти листья образуют у ствола дерева-хозяина огромную воронку, где скапливается перегной и куда опускаются собственные корни папоротника, который, таким образом, сам себя кормит. Сходным образом ведут себя и асплениум, и образующая из своих листьев почти замкнутые мешочки дишидия. Рядом взметнулся вверх по стволу стройной гордонии красивый лазящий папоротник лагодиум.
Вот огромные губчатые клубни мирмекодии. Это — живые муравейники: обширные воздухоносные полости растения густо населены муравьями. Долго считалось, что ходы эти прогрызают сами муравьи, но Трейб (чем он только не занимался!) доказал, что полости образуются и в отсутствие муравьев. Нелегко было поставить соответствующие опыты, ведь муравьи в Индонезии вездесущи. Здесь их тоже множество — и в висячих муравейниках мирмекодий, и на нашей тропинке, которую они пересекают целыми колоннами. А вот и совсем другая, но тоже достаточно мощная колонна. Это куда-то перебираются походным маршем личинки мух сциар.
Подъем наш продолжается уже около двух часов. Смолк птичий хор, слышно только басовитое воркованье диких голубей, да красновато-коричневая кукушка, которую почему-то называют «рыжая обманщица», кукует совсем не по-нашему: «петэ, петэ, петэ!» Зато голубой с белым зимородок, порхавший на берегу ручья, будто спрашивал меня по-русски: как? как? как? Да ничего, приятель. Взмок, устал, но до чего же все здорово! Иногда слышались крики обезьян, однако за все время подъема мы только один раз увидели длиннорукую фигуру гиббона, а потом еще быстро промелькнувшую над нами черную мартышку лотонг.
Двигались мы почти в полном молчании, что было и не удивительно, так как мой спутник не говорил по-английски. К счастью, он знал многие латинские названия растений и с готовностью приходил на помощь, когда я нуждался в ботанической консультации. В остальном помогали жесты.
Я давно мечтал увидеть прославленный паразитический цветок раффлезию, который достигает метра в поперечнике и имеет консистенцию, цвет и запах разлагающегося мяса. Из этого неаппетитного, но очень интересного для каждого биолога цветка и состоит по существу все растение, паразитирующее на некоторых лианах, на тех их частях, которые лежат на земле.
Мне приходилось читать, что жительницы Малайского архипелага приготовляют из цветка раффлезии любовный привораживающий напиток падма. Говорят, что если готовящая падму женщина будет в это время стоять на чем-нибудь мокром, то она станет ненавистной не только своему избраннику, но и вообще всем мужчинам.
В Богорском саду мне удалось увидеть лишь дальнего родственника раффлезии — аморфофаллус, менее мясистый и вообще менее выразительный. Он покрыт восковой пленкой, поэтому богатые воском высушенные аморфофаллусы используются как факелы.
Еще в начале пути, когда я убедился, что мой спутник достаточно сведущ в латинских названиях растений, я спросил его по возможности выразительнее: «Раффлезия?» Он ответил длинной речью, сопровождавшейся жестами. Широко расставив руки, он произнес несколько фраз, в которых я уловил лишь одно слово «Самудера». Верно, гигантская раффлезия Арнольди встречается только на Суматре. Потом он сказал что-то еще, и расстояние между его ладонями сократилось до десяти-пятнадцати сантиметров. Ну что ж, я радостно закивал головой — согласен и на такую.
По пути мой провожатый несколько раз покидал тропинку (иногда это было возможно только с ножом) и показывал мне что-нибудь примечательное или разочарованно качал головой. Во время одного из таких отклонений от курса он протянул руку и удовлетворенно сказал: «Раффлезия». Знаменитый цветок вначале показался мне похожим на какой-то необычный гриб. Приглядевшись внимательнее, я различил пять толстых лепестков, красноватых, покрытых белыми пятнышками, а в глубине чашечки круглый диск, похожий на цветоложе лотоса, диск, из которого торчали короткие конические тычинки. Все это пахло довольно своеобразно, пожалуй неприятно. В литературе этот запах сравнивается с запахом несвежего мяса. Не знаю, у меня такой ассоциации не возникло, хотя в остальном — и по цвету, и по фактуре — цветок больше всего был похож на «мясо». Впрочем, может быть, запах раффлезии притупился для меня оттого, что перед этим мы прошли мимо гниющего ствола вербены премна (или гунора), которая отличается от подавляющего большинства растений тем, что подобно животным после смерти становится зловонной. Вокруг раффлезии крутились мухи и, надо сказать, что как опылители они здесь были к месту, хотя мне вспомнилось, что иногда и самые красивые бабочки стремятся к субстрату, отнюдь не гармонирующему с их поэтическим обликом.
Вскоре мы подошли к водопаду Чибереум. Он величественно низвергался тремя каскадами с высоты пятидесяти метров. Шум его был слышен издалека.
Стена брызг, стоявшая у подножия водопада, создавала свой особый микроклимат. Здесь мы встретили замечательных червей-планарий. Эти самые примитивные из свободноживущих червей представляют собой плоские овальные пластинки, сквозь тонкие покровы которых просвечивает сеть их нехитрых внутренностей. Большинство планарий имеет микроскопические размеры, лишь иногда достигая двух-трех миллиметров в длину. Необыкновенными великанами казались мне когда-то планарии, которых мы ловили у берегов Японского моря, — их длина составляла четыре-пять сантиметров. Здесь же на суше (подавляющее большинство планарий живет в морской воде), на грунте, увлажненном бесчисленными брызгами водопада, ползали плоские чудовища, едва умещавшиеся на ладони и запросто пожиравшие крупных земляных червей.
Еще в лесу нам встречались стройные глазированные кувшинчики насекомоядных растений непентесов, а здесь их было особенно много — прямо целый гончарный ряд. На покрытом соком дне кувшинчиков мы находили то целых, еще не переваренных насекомых, то лишь остатки их хитиновых скелетов. Местные жители издавна пользуются соком непентеса для лечения болезней желудка. Биохимические исследования показали, что в соке кувшинчиков есть пищеварительный фермент пепсин.
На берегу ручья квакали по-непривычному лягушки с белым пятном на морде, а в воде плавали головастики со странными треугольными выростами позади глаз.
Мой спутник разоблачился, чтобы снять с тела несколько сухопутных пиявок хэмадипс. Еще по дороге я с опаской поглядывал на их висящие на ветвях тела. Увидев первую же пиявку, присосавшуюся к лопаткам моего провожатого и уже успевшую немного раздуться, я поспешил последовать примеру своего спутника. Он, однако, жестом остановил меня и, смеясь, показал на только что брошенный мною окурок (сам он был некурящим). Действительно, ни в этот раз, ни потом, когда мне приходилось бывать во влажном лесу, на меня не напала ни одна хэмадипса. Очевидно, их нисколько не привлекал мой насквозь прокуренный организм.
Немного отдохнув, мы продолжали подъем. Ландшафт с высотой постепенно менялся. Деревья стали более приземистыми, корявыми, количество их видов уменьшилось. Почти исчезли лианы, стало гораздо меньше эпифитных папоротников и особенно орхидей. Зато стало больше мхов, одевающих деревья в такие плотные шубы, что, казалось, ветви вот-вот должны были сломаться под их тяжестью. Отовсюду свисали зеленые и почти белые бороды лишайников и плаунов, придавая лесу вид сказочной театральной декорации.
Пряди мха прикреплялись не только к веткам и стволам, но даже к листовым пластинкам. На земле же, наоборот, печеночных и лиственных мхов стало гораздо меньше, их сменил мертвенно-бледный мягкий покров сфагнума. Начала появляться трава, которой раньше почти не было.
По учебникам мы все, казалось, отчетливо представляем себе вертикальную зональность ландшафтов, но совсем другое дело, когда она разворачивается перед вашими глазами в течение одного лишь дня!
Чувствовалось, что поднимаемся мы по склону вулкана. То там, то здесь клубится пар над горячими источниками. В их воде мы не нашли ничего живого, кроме пленок невзрачных сине-зеленых водорослей.
Наконец мы добрались до Канданг-бадак — «Приюта носорога», небольшой хижины из гофрированного железа, где уже много десятилетий останавливаются на ночлег биологи, восходящие на вершины Геде и Пангерангго. Я знаю, что когда-то кто-то из немецких ученых, может быть это был Габерландт, а может быть Шимпер или Кюкенталь, написал на стенке приюта строки чудесной стихотворения Гёте:
Русский ботаник В. M. Арнольди приписал под ним гениальный лермонтовский перевод:
Мне смертельно хочется найти эти строки или хот? бы их следы. Долго и тщательно осматриваю я стены хижины, к недоумению моего спутника, которому не могу объяснить, в чем дело. Но нет никаких следов (еще бы, больше пятидесяти лет прошло!), хотя я и прилагаю все старания, даже лупу порой достаю, несмотря на валящую с ног усталость. Усталость не столько от восхождения, сколько от обилия накопившихся за этот яркий день впечатлений.
Мой спутник очень доброжелателен и приветлив, но увы, между нами языковой барьер. Наскоро поужинав завернутым в банановые листья спрессованным холодны» рисом и холодными же к нему приправами, располагаемся на ночлег.
— Подожди немного, — мелькает в усталой голове, — отдохнешь и ты… Warte nur, balde ruhest du auch — до чего же здорово, ведь прямо дословный перевод…
Однако обещанный скорый отдых все не приходит и не приходит. Перед глазами проплывают то огромные, пожирающие червей планарии, то шествие стройной колонны мушиных личинок, то мясоподобный цветок раффлезии или глазированные кувшинчики насекомоядного непентеса. Вспоминаются буйные болотные заросли папоротника глейчении и миниатюрные белые цветочки лесного гиганта гордонии. Кручусь на жестком ложе, но сна ни в одном глазу.
Наконец понимаю, в чем дело: вечерняя прохлада перешла в нестерпимый холод, сырой, пронизывающий. В хижине есть лампа, посуда и многие мелкие предметы комфорта. Все это красноречиво свидетельствует, что о гостях в саду Чибодас думают и заботятся, но одеял или вообще чего-нибудь, чем можно было бы укрыться, нет. Здесь, в сыром и туманном горном климате, любая ткань моментально бы заплесневела. Но все-таки как хорошо было бы сейчас завернуться в одеяло или хотя бы в плащ-палатку! Наконец засыпаю тревожным, прерывистым сном.
Утром двинулись дальше к вершине. Деревья все более низкорослы и заскорузлы. Одни из них приобретают типичную для морских побережий флаговидную форму, другие растут почти в горизонтальной плоскости на крутых горных склонах. Зато гуще и плотнее становится травяной покров. Яванский рододендрон с его ярко-красными цветами превращается здесь из эпифита в самостоятельно растущий кустарник. Кустарники и травы начинают уже явно преобладать. Бросаются в глаза цветы примулы на стеблях метровой высоты. Вот яванский апафалис, похожий своими белыми, волосистыми листьями на эдельвейс наших горных вершин. Это знаменитая примула империалис, встречающаяся только здесь да еще в Гималаях. Но цветы ее все же поразительно схожи с нашими подмосковными баранчиками. А вот еще более удивительное напоминание о Подмосковье — земляника. Листья, цветочки, ягоды. У ягод тот же необыкновенный аромат.
— Туан, — тихий голос и мягкое прикосновение к плечу. — Проводник указывает на близкую вершину. Да уж недалеко осталось. Но откуда же здесь земляника. Проводник словно угадывает мой безмолвный вопрос и произносит, показывая на пучок земляники:
— Фрагария веспа. Тейсман.
Да, опытные посадки земляники произвел здесь все тот же неутомимый Тейсман, благодаря неустанным многолетним хлопотам которого существует и этот девственный лес, и гостеприимный (но, увы, такой холодный) «Приют носорога». Лесная земляника хорошо принялась в культуре, а затем легко вернулась к дикому состоянию.
Но вот мы и на вершине. Ровный кратер бездействующего уже сотни лет вулкана зарос травой, кустарником и редкими деревьями с мертвыми в большинстве ветвями, увешанными прядями седых лишайников.
Мы очень рассчитывали, что с вершины Пангерангго откроется замечательный вид на Западную Яву вплоть до Яванского моря. Но весь горизонт был застлан сплошным туманом или облаками и лишь в ближайшем разрыве виднелся базальтовый кратер Геде, который, по образному выражению местных жителей сунданцев, «не спеша покуривал свою трубку». Мы так ничего и не увидели, кроме внушительной воронки с крутыми, обрывистыми краями и столба то ли дыма, то ли пара.
Спускались форсированным маршем, так как ни меня, ни, видимо, моего спутника не вдохновляла перспектива ночевать еще раз в прохладе «носорожьего приюта». Поэтому к вечеру мы уже были в гостеприимном гестхаузе Чибодаса, а на следующее утро я отправился восвояси, в Богор.
Последний вечер в Богоре. На следующее утро за нами должны заехать индонезийские коллеги, чтобы отправиться в Бандунг. Мы с Валентином долго бродим по саду и возвращаемся домой уже в полной темноте под оглушительную музыку цикад и своеобразное звучание лягушек-древесниц, которое очень трудно назвать кваканьем. В одном месте цикады стрекотали так оглушительно, что Валентин убежденно сказал:
— Это не цикада, это работает мотор.
Он долго искал несуществующий мотор, а я меж тем следил, как двигается в темноте многоножка, оставляя за собой светящийся слизистый след. В ночном саду светились похожие на опенки грибы, причем слабый, мертвенный свет излучали не только шляпки или ножки, а весь контур гриба. Медленными трассирующими пулями пролетали светлячки, а надо всем этим распростерлось темное небо южного полушария с яркими непривычными созвездиями, среди которых мы сперва долго пытались найти прославленный Южный Крест, пока не сообразили, что здесь он закрыт от нас громадами Геде и Салака.
Утром по живописнейшей, но уже частично знакомой мне дороге через Сиианглайю и перевал Пунчак мы отправились на машине в Бандунг.
3
В БАНДУНГЕ
Наступил праздник и у наших геологов. Если Богор — биологическая столица Индонезии, то Бандунг с не меньшим основанием можно назвать ее геологической столицей. Здесь находится Геологическое управление Индонезии, Технологический институт с очень сильным геологическим факультетом и несколько других учреждений того же профиля. Бандунг будет основной базой нашей экспедиции.
Это очаровательный, белый, чистенький и на первый взгляд небольшой городок. Только спустя несколько дней, когда мы смотрели на Бандунг с возвышающегося над ним холма, то увидели, что в действительности это огромный город (третий по величине в стране после Джакарты и Сурабайи, его население достигает миллиона). Первое впечатление, что это курорт, в какой-то степени оказывается правильным, как по существу все первые впечатления. Здесь прекрасный ровный климат, никогда не бывает сильной жары (Бандунг расположен на высоте около 1200 метров над уровнем моря), что, разумеется, привлекает многочисленных отдыхающих, но все же они никоим образом не составляют основу населения этого крупного административного, культурного и индустриального центра.
Если в Богоре я не знал, как разделить свое время между Ботаническим садом, превосходными библиотеками и музейными коллекциями, а геологи упивались экзотикой и кейфовали, то здесь роли в общем переменились.
Правда, мне все еще приходится выполнять роль переводчика. Николай и Валентин еще «не разговорились». Переводя (не без труда) специализированные геолого-вулканологические беседы, я шучу, что пройдет несколько месяцев такой практики, и я попробую сдать экстерном за геофак. Николай, например, иногда просит извиниться перед собеседником и в течение пяти — десяти минут распаковывает мне суть какой-нибудь геологической проблемы и, лишь когда ему кажется, что я усвоил ее смысл, продолжает прерванный разговор «для перевода». Бывает и так, что я становлюсь в тупик перед каким-нибудь геологическим термином, никак не могу сообразить, как перевести его на английский язык, а оказывается, что индонезийский коллега прекрасно уловил его и в русском произношении. Но это все было несколько позже, пока же мы едем по великолепной авеню Азия-Африка, поручившей свое название в дни исторической Бандунгкой конференции.
Проехав центральную торговую магистраль Брага и свернув в одну из прилегающих улиц, останавливаемся перед гостиницей «Истана», что в переводе означает «дворец». «Истана», еще недавно называвшаяся «Асторией», с ее скромным фасадом и небольшим балконом не очень похожа на дворец, но ее внутренний дворик очень симпатичен. Одноэтажное здание окаймляет сплошная терраса, позволяющая пройти, не покидая навеса, в любое из помещений гостиницы. Терраса разбита на отдельные для каждого номера отсеки, в которых стоят плетеные кресла и столик. Во дворе разбит садик — небольшая, но пестрая коллекция тропической растительности. Здесь можно увидеть группку папирусов, цветущий олеандр, покрытую яркими розовыми цветами иксору, несколько опунций и драцен, тую, к которой подвешены куски дерева с растущими на них орхидеями, пестролистный кротон, а также несколько растений, которых я еще, увы, не знаю.
Едва успели мы привести себя в порядок после дороги и пообедать в гостиничном ресторане, как к нам пришли наши индонезийские коллеги: живой и подвижной целебесец профессор Катили, крупнейший в стране геолог, которого называют «Нестором индонезийской геологии». Его сопровождали спокойный и даже несколько флегматичный доктор Сурьо, начальник вулканологического департамента и гидрогеолог господин Мурьоно, который оказался очень разговорчивым. К сожалению, Мурьоно говорил по-английски неразборчиво, а когда мы его не понимали, он начинал говорить очень громко, почти кричать. При продолжительных разговорах это не раз доводило его собеседников до головной боли.
В общем же наши гости были весьма деликатны. Заметив, что мы несколько устали с дороги, они лишь условились о деловых встречах на завтра и откланялись.
Но на следующий же день темпераментный профессор Катили начал с присущей ему энергией осуществлять программу нашего пребывания в Бандунге. Собственно, это была не одна программа, а две или, пожалуй, целых три. Первая — чисто деловая: официальные визиты и знакомство с работой геологических учреждений Бандунга. Подробное ознакомление с этой программой вряд ли было бы интересно читателю. Вторая программа предусматривала знакомство с геологическими достопримечательностями окрестностей Бандунга — вулканами, горячими источниками, вулканическими озерами и даже индонезийской «Долиной смерти». Обо всем этом расскажет следующая глава. Третья же программа, вечерняя, звучала так: «Я покажу вам, как развлекается индонезийская буржуазия», и, должен сказать, неугомонный профессор Катили разработал и эту программу очень неплохо, с присущими ему вкусом и выдумкой.
Он приводил нас то в фешенебельный дансинг, то на студенческую танцплощадку, то вез в обсерваторию Лембанга (единственная в мире обсерватория, расположенная вблизи экватора), и мы послушно залезали в кресло телескопа, чтобы наконец-то рассмотреть во всех подробностях Южный Крест. В следующий вечер, но еще до наступления сумерек мы оказались на холме Дагу, откуда открывался вид на весь Бандунг, словно лежащий в гигантской чаше. Профессор Катили уводил пас с холма и показывал окрестности, чтобы снова привести обратно, когда стемнеет и Бандунг будет залит огнями.
В первый же вечер третьей программы, когда мы впервые ехали смотреть, «как развлекается буржуазия», я не смог удержать любопытства и спросил:
— А куда именно мы едем?
— Сначала поужинаем в ресторане, а потом отправимся в бассейн пить пиво.
Ослышаться я не мог, тем более что бассейн для плавания (swimming pool) звучит в английском языке еще определеннее, чем в русском. Удивился, но решил, что в конце концов мы ведь еще совсем не знаем местных обычаев. Я сказал ребятам, что мы едем в бассейн и чтобы они взяли плавки. Ребята тоже удивились, но послушались.
За очень вкусным ужином, где нам особенно понравились миниатюрные шашлычки из курятины и говядины (впрочем, может быть, это был буйвол), ребят разбирает любопытство. Они то и дело переспрашивают меня насчет бассейна. Но что я могу им сказать?
Наконец, мы садимся в машины и подъезжаем к какому-то парку. Катили исчезает в изящной ротонде, расположенной действительно на краю бассейна (в котором, правда, никто при нас не купался), потом снова появляется и приглашает войти. У входа на нас слегка косятся (впрочем, что ж удивительного, думаю я, европейцев здесь не так уж много). Причина удивления, однако, оказалась иной, но мы узнали об этом чуть позже, когда вполне освоились за сдвинутыми для нашей компании столиками.
— Сюда полагается приходить только в вечерних туалетах, — шепнул мне один из наших спутников. — Для вас, конечно, сделали исключение, тем более по просьбе профессора Катили. Он заверил метрдотеля, что танцевать мы не будем.
— Нам ведь сказали, что мы едем в бассейн, — ответил я, — вот мы и вооружились плавательными принадлежностями вместо выходных костюмов. — Шутка понравилась и обошла всю компанию.
Между прочим, мы и не могли надеть наши парадные облачения, так как оставили их в Джакарте у заместителя президента МИПИ мистера Ради, сопровождавшего нас и в Бандунге. Мистер Ради, потомок одного из знатнейших родов Суматры, очень симпатичный и обходительный человек, заверил нас, что, кроме Джакарты, вечерние туалеты нам не понадобятся нигде. «В нашем климате, — сказал он тогда, — подобные условности сохраняются только при приемах на самом высоком уровне, стало быть только в столице».
Теперь я обратил внимание, что и он, и профессор Катили были тоже в рубашках, хотя еще несколько часов назад мы их видели во всем параде. И теперь мы могли в полной мере оценить их деликатность.
Между тем место, куда привел нас Катили, оказалось очень колоритным. Сидя за бокалами с сингапурским «Тайгер бир» (ведь в мусульманской Яве пить публично что-нибудь более крепкое, чем пиво, не полагается), мы наблюдали, как в таинственном полумраке под звуки наполовину джаза, наполовину национального оркестр; скользили пары в танцах, полных томной восточной отрешенности.
Одна-две европейские пары теряются среди индонезийских и особенно китайских. Ведь наиболее богатую часть населения Индонезии составляют торговцы китайской происхождения.
Молодой певец полушепчет в микрофон то четкие и ритмичные суматранские мелодии, то более расплывчатые и лиричные яванские. Все они малость синкопированье и «джазированы».
— Вчера мы были там, где развлекаются очень богатые люди, — говорит на другой день неугомонный Катили. — Сегодня же, если вам интересно, мы пойдем в место развлечения студентов и богемной молодежи.
Тоже столики, но попроще, тоже пиво, но подешевле. Другие танцы, другой аккомпанемент (пластинки, а не оркестр), другие туалеты, совершенно иная атмосфера. Если там преобладали танго и блюзы, то здесь — музыка более мажорна: быстрые фоксы, румбы и мамбы, ча-ча-ча, буги-вуги. Временами прорываются замаскированные (маскировка в основном относится к аккомпанементу) рок и твист. Нам поясняют, что в публичных местах их танцевать не разрешается.
Все здесь проще и жизнерадостнее. Задиристые девчонки сплошь в розовом или красном, в коротких юбочках колокольчиком. Танцы в основном бравурны, если же заводят пластинку с неторопливым ритмом, то молодежь танцует с утрированной медлительностью и иногда подчеркнутой чувственностью.
Через несколько дней обаятельнейший профессор Катили уехал, а наш выезд несколько затянулся из-за задержки багажа.
Со своего постоянного объекта исследований — вулкана Мерапи приехал доктор Зен. Живостью характера и ума, разносторонностью он напоминал нам профессора Катили. При первой же встрече он достаточно определенно дал понять нашим вулканологам, что собирается работать по-настоящему. Если же мы явились просто посмотреть…
Забегая несколько вперед, скажу, что, видимо, стиль работы советских коллег пришелся ему по душе. Он уделил совместным работам много времени, сил и своей всесокрушающей энергии. В экспедиции доктор Зен оказался превосходным товарищем.
За год до нашего приезда он дал блестящий и почти беспрецедентный в мировой науке прогноз извержения Мерапи и добился от правительства эвакуации не более и не менее как тридцати тысяч человек из района, который, по его предположениям, будет залит лавой. Извержение точно захватило указанный район, и вместо тридцати тысяч человек погибло всего двое спрятавшихся от эвакуации стариков.
Мне много пришлось беседовать с доктором Зеном, переводить его ученые беседы с нашими вулканологами. Редко мне приходилось встречать человека с таким обостренным чувством ответственности. У меня создалось впечатление, что, пока вулканология не способна прогнозировать все вулканические извержения, он, доктор Зен, считает себя персонально ответственным за будущие катастрофы, как вулканолог, который обязан знать весь механизм извержений, а пока его не знает. Поэтому доктор Зен постоянно в работе, жадно интересуется всем, что делается в вулканологии и смежных областях, изучает геофизику, чтобы разработать геофизические методы прогнозирования. Он не выносит потерь времени на визиты, представления, аудиенции. Нас же в посольстве предупреждали:
— Имейте в виду, индонезийцы очень склонны ко всякого рода церемониям. С этим необходимо считаться.
Мы и считались. Индонезийцы, видимо, полагали в свою очередь, что подобные церемонии любим, мы, русские. Так было потеряно немало часов, пока в Джокьякарте, крупнейшем культурном центре страны, нашим «церемониймейстером» не оказался доктор Зен. Аудиенция в канцелярии султана Джокьякарты, встреча с ректором крупнейшего в стране университета Гаджа Мада — все это протекало в молниеносном темпе, к видимому удовольствию обеих сторон.
Но не следует представлять себе одержимого наукой доктора Зена человеком, чуждым всего, что не относится к его специальности. Он тонкий ценитель литературы и искусства. Любимый его писатель — Достоевский, композиторы — Римский-Корсаков и Стравинский.
Хочется вспомнить и о других коллегах, работавших с нами в различных районах страны. Колоритна фигура доктора Кардона, геоморфолога. Это большой, спокойный, даже чуть флегматичный, неизменно благожелательный человек и хороший товарищ в экспедиции. Он прекрасный полевой работник, как никто другой умеет быстро разбить комфортабельный лагерь, приготовить на костре вкуснейший обед, быстро и надежно погрузить машины. Вместе с тем он жалостлив и немножко сентиментален.
Все мы храним теплые воспоминания и о нашем администраторе из Национального научного совета Индонезии (МИПИ) господине Будионо, которого мы так и прозвали «господин МИПИ». Сначала он держался с нами очень холодно, но потом мы сжились с ним. А к концу нашего пребывания на Яве, когда кончились его полномочия, он нас просто растрогал, попросив, чтобы его оставили в экспедиции, но не в качестве «господина МИПИ», а просто в составе геологического отряда.
Очень внимательным и заботливым товарищем был в экспедиции Онг Ханлин, студент-дипломник, геолог по образованию, китаец по национальности, католик по вероисповеданию, коммерсант по социальному происхождению. Очень набожный, не садившийся за стол без того, чтобы не прошептать молитву и не перекреститься, он иногда вместе с тем очень мягко и тактично помогал нам найти правильный тон с нашими коллегами мусульманами.
Запомнился один трагикомический эпизод: перед отъездом из Бандунга мы устроили у себя в гостинице небольшой прием для наших индонезийских коллег, тех, что ехали с нами, тех, кто должен был присоединиться к нам позже, и для тех, с кем нам предстояло встретиться лишь после возвращения.
Уже при гостях, приехавших вместе с нами из загородной поездки, мы начали сервировать стол, рассчитывая угостить наших коллег импортными лакомствами, заблаговременно запасенными в посольском магазинчике в Джакарте. Появление на столе бутылок «Столичной» было встречено всеобщим одобрением и интересом. Затем появились консервированные и копченые колбасы, ветчина, буженина. Пока все это дружно распаковывалось и нарезалось, я вдруг заметил на лице Онг Ханлина неописуемо страдальческое выражение.
Мы совсем упустили из виду, что большинство наших гостей мусульмане, которым шариат запрещает есть свинину. Более того, если бы теми же ножами, которыми резалась свинина, мы потом начали бы резать сыр и выкладывать икру, они бы не стали есть ни того, ни другого. Это-то и вызвало отчаяние на лице бедного Онг Хан-лина, как он нам потом объяснил. К счастью, остальные закуски оказались «неопоганенными», и последователям пророка было чем закусывать водку, хотя, собственно, и ее, если уж быть логичными, им пить не полагалось. Вместе с тем «Столичная» имела большой успех и здесь, и в дальнейшем, и я что-то не припомню ни одного случая, чтобы от нее хоть раз отказался кто-нибудь из самых набожных мусульман. Может быть, они считали, что Магомет запретил пить только вино, на водку же, которой в те времена еще не было, запрет пророка в силу этого не распространялся.
Были и более серьезные случаи, когда католик Онг Хан-лин помогал нам предотвратить возникновение нежелательных недоразумений с мусульманами. Я думаю, излишне говорить, что сознательно мы никогда не давали повода к их возникновению. Но религиозные настроения в Индонезии так сложно переплетаются с чувством национального достоинства и освободительными настроениями, что одной нашей лояльности и доброй воли к сотрудничеству могло иногда оказаться недостаточно. Нужно было тонкое знание местных условий и настроений. Тут-то нам и приходил на помощь благожелательный Онг Хан-лин.
Не без чувства удовлетворения можем мы теперь вспоминать, что со всеми нашими товарищами по работе, даже и с самыми правоверными мусульманами, мы расставались в конце совместных работ если не друзьями в полном смысле этого слова, то с обоюдной симпатией и уважением.
Очень приятно было встретить в Бандунге и соотечественников — сотрудников многолетней экспедиции, разведывавшей месторождения фосфоритов и серы. Геолог с Дальнего Востока Никольский появлялся в перерыве между двумя маршрутами так, словно вернулся из приамурской тайги. В будничном тоне его рассказов экзотические подробности приобретали какое-то особо привлекательное звучание.
Как-то у одной из сотрудниц экспедиции я застал в гостях старушку, от которой с первых же ее слов пахнуло чем-то старинным и необычным. Оказалась она очень разговорчивой, приветливой и благожелательной. Прекрасный русский язык, чуточку, пожалуй, архаичный, в который вплетаются французские и немецкие слова и обороты. Иногда она вставляет и индонезийские слова, порой немножко заговаривается:
— Государь Николай Третий, ах, passez-moi le mot, Александр…
Узнав, что я лишь недавно приехал из Москвы, она стала расспрашивать о Москве, о России. Почти каждый вопрос начинался так:
— Я хочу вас спросить, это не касается политики, скажите, пожалуйста…
Иногда она переходила к рассуждениям, наивным, старомодным, но, чувствовалось, очень искренним.
— Государыня Александра Федоровна, она ведь передавала немцам шпионские сведения, у нее специальный аппарат был в спальне, мне рассказывал мой отец — он был камергером. Послушайте, ведь это нехорошо. Я понимаю, она очень любила свою родину, l’Allemagne. Я ведь тоже ужасно тоскую о России, очень часто во сне ее вижу. Я из Томска. Сейчас же поехала бы туда, если бы там не было так холодно. Но, поймите, быть государыней и приносить вред своей стране, стране, в которой царствуешь, согласитесь со мной, это нехорошо!
Вспоминается мне и совсем другая встреча, совсем в другом месте и значительно позже. Через четыре месяца советский генеральный консул в Сурабайе познакомил пас со знаменитыми чехословацкими путешественниками Иржи Ганзелкой и Мирославом Зпкмундом. Узнав, что они отправляются на остров Бали (откуда мы лишь недавно вернулись), мы пригласили их отдохнуть несколько дней на нашей приморской базе на яванском берегу Мадурского пролива. Уже на следующий день они были у нас. После первых же нескольких фраз у всех нас появилось ощущение, что мы знакомы давным-давно и понимаем друг друга с полуслова. Мирослав Зикмунд и особенно Иржи Ганзелка преотлично говорят по-русски, но очень следят за правильностью речи и просят поправлять ошибки. Молодой механик Мирослав Дриян и более пожилой врач Йожеф Коринта ладят с русским немного хуже. Чехословацкие друзья очень ярко и остроумно рассказывают нам о своем посещении Западного Ириана, где они присутствовали на торжественной церемонии подъема индонезийского флага. Расспрашивают о наших работах, о поездке на Бали, рассказывают о Суматре, на которой мы не были.
Двое суток мы не расстаемся с нашими новыми друзьями. Днем показываем им свои морские «угодья» — приливо-отливную полосу, мангры, тащим с собой под воду на коралловый риф, к сожалению в этих местах угнетенный. А по вечерам на веранде звучат под аккомпанемент Иржиной губной гармоники русские, чешские, индонезийские песни. Гости наши — неутомимые труженики. Несмотря на то что здесь они, по их словам, только отдыхают, все четверо проводят за пишущими машинками не менее трех-четырех часов в день. Мирек-второй и Йожеф тоже ведь корреспонденты пражских изданий.
Как-то в одни из вечеров, страдая от острого приступа ностальгии, я сидел и думал, что мы будем дома через четыре месяца. Следующая разлука не так уж скоро, наверное. А они? У них ведь почти все время так… Да, жизнь чешских путешественников блистательна, деятельность их благородна. Но завидую ли я им, как раньше? Нет, не завидую, пожалуй. По крайней мере сейчас, вот в эту минуту — нет. И все-таки завидую, но не их образу жизни, а такой вот собранности, поразительной трудоспособности. Они раскрутили машину, которую уже не могут, не имеют права остановить и которая теперь вертит их самих до пределов человеческой выносливости. Завидую тому, как великолепно переносят они ими избранный, но определяемый уже не ими жребий.
Я посмотрел на сидевшего напротив меня Иржи, на три авторучки и два автоматических карандаша, торчащих за обшлагом короткого рукава его рубахи, на его широкое мягкое, типично славянское открытое лицо, подернутое в этот момент грустью и со следами никогда не проходящей усталости. Мы переглянулись, и мне показалось, что он понял все, о чем я сейчас думал, улыбнулся очень понимающе, по-детски просто и беспомощно. А если он и не прочел мои мысли дословно, то все равно ведь думали мы об одном и том же.
В это время Йожеф, «врач Цербер», как его, смеясь, называли за неумолимость к режиму путешественников, сделал знак «пора». Иржи и оба Мирослава покорно встали и пожелали нам спокойной ночи.
Ну вот, пора расставаться. «До встречи, — как сказал Иржи. — Обязательно в Москве, возможно в Праге, и не исключено, что в какой-нибудь дальней точке земного шара».
Даем друзьям на память раковины и крупные высушенные морские звезды. Мпрек нюхает звезду и говорит:
— Воняет… по-чешски это означает пахнет.
Запах у звезд ореастер действительно отбить почти невозможно.
Записываем в памятные книжки Иржи и Мирека приготовленные еще с вечера экспромты. Об этих книжках стоит рассказать подробнее. Хозяева принесли их нам еще вечером, но мы попросили разрешения задержать их до отъезда, чтобы рассмотреть повнимательнее (и подумать над собственными записями, чтобы потом не краснеть).
Два толстенных альбома с монограммами «IH» и «MZ». Начаты в 1947 году в первое их африканское путешествие, сразу принесшее Ганзелке и Зикмунду мировую известность. Разглядываем многочисленные записи, сделанные жителями самых различных мест земного шара. Латинский, арабский, амхарский шрифты, наша родная кириллица. Английский язык, французский, потом начинает резко преобладать испанский. Ага, это уже путешествие по Латинской Америке. Итальянский, славянские языки, среди них, конечно, преобладает чешский. Вот что-то совершенно непонятное, но написано латинским шрифтом, значит, по-венгерски. И снова вся семья славянских языков: сербский, хорватский, словенский, болгарский, македонский. Вслед за знакомым преимущественно по математическим формулам греческим алфавитом снова пошла арабская вязь — Ближний Восток. Клинопись, похожая на древнееврейскую, индийский девана-гари. Там, где мы можем разобрать, много остроумного, но порядочно и казенного, выспреннего. Наши надписи снабжены смешными рисунками, но в этом отношении мы далеко не одиноки. С некоторым волнением поглядываем на Мирека и Иржи. Как им понравится наше творчество? В отличие от многих мы ни слова не написали о том, какие они замечательные путешественники, что они — борцы за мир, что они вносят вклад…
Видимо, отсутствие таких фраз им и понравилось больше всего. Улыбаются. Кажется, даже тронуты. Прощальное щелканье фотоаппаратов, теплые прощальные слова, и вот экипажи обеих «Татр» заняли свои места. Машины разворачиваются и выезжают на очень прямое в этом месте шоссе. Долго машем им вслед, и, пока видно машины, из них тоже высовываются машущие руки.
4
ПОРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ
В Бандунге нам пришлось задержаться дольше, чем мы рассчитывали. Было решено, что вулканологи и геологи посвятят все это время работе на окрестных вулканах и вулканических источниках. Мне же, морскому биологу, предстояло превратиться в туриста, исполняющего и обязанности переводчика. Эти обязанности удерживали меня от попытки вырваться на морской берег (правда, без снаряжения я мало что мог бы там сделать) или хотя бы в Богор. Но я не огорчался. Мне интересно было посмотреть на проявления вулканизма, о которых я знал очень мало. Гиды мои более чем высокой квалификации, а Ява — самый благодарный объект. Ведь тут насчитывается 121 вулкан, из них более 80 — действующие.
Наш первый загородный выезд из Бандунга. Дорога ведет в гору через местечки Лембанг и Награк, тянется мимо кофейных и хинных плантаций. Именно здесь неутомимый Юнгхун внедрял в культуру капризное хинное дерево. Осматриваем скромный обелиск на могиле и вспоминаем историю его жизни.
Много времени и сил посвятил Юнгхун интродукции на Яву различных видов хинных деревьев — цинхон, названных так еще Линнеем в честь вице-королевы Бразилии. Капризные цинхоны в Индонезии долго не принимались. Юнгхуну пришлось много повозиться и с самой богатой хинином цинхоной леджериана, и с очень красивыми, достигающими двадцатиметровой высоты красновато-серыми стволами цинхона суккубра, пока первая из них соблаговолила прижиться в Награке, а вторая — в Лембанге. Зато вскоре Индонезия стала поставлять подавляющую часть мирового урожая хинной корки.
Они и сейчас требуют большой заботы, эти привередливые уроженцы Латинской Америки. Не выносят климата тропических низин и растут только в предгорьях, да и то далеко не всяких. Цинхоны не прижились, например, на благословенных склонах Чибодаса — рая для большинства других деревьев. Для них оказалось там слишком сыро. Молодые хинные деревья не выносят и слишком сильного солнечного света, их приходится затенять. Вот и сейчас, проезжая мимо плантаций, мы видим, что в одних местах молодая хинная поросль покрыта рамами, в которые вплетены пальмовые листья, в других молодые растения заботливо прикрыты листьями папоротников, в третьих — над деревцами цинхоны возвышаются специально посаженные деревья-затенители: мимоза, альбицция и эритрина. Эти же деревья попользуются для затенения молодых посадок кофейных деревьев.
— А вы знаете, какой сорт кофе считается у знатоков самым лучшим? — спрашивает меня профессор Катили.
Я очень люблю крепкий черный кофе, но в сортах его в отличие от сортов чая разбираюсь неважно. Однако биологу не пристало пасовать перед вулканологом, и, напрягая память, я вспоминаю, что раньше в Индонезии широко культивировались сорта «арабика». Во второй половине прошлого века все посевы этого сорта начали так катастрофически гибнуть от паразитарных грибков, что их пришлось срочно заменять более неприхотливыми, но и менее вкусными сортами «либерика». Что-то еще в этом роде, но все это не ответ на вопрос.
— Лучшим в Индонезии сортом кофе, — говорит Катили, когда я честно признался в своей неосведомленности, — считается так называемый луаккопи. При этом даже не так важно, какой сорт служит исходным продуктом, важно лишь, чтобы ягоды кофе были съедены небольшой виверрой, ее местное название луак. Она обожает кофейные ягоды. Вы их не пробовали? Они действительно вкусны, ароматные и сладковатые. Кофейные зерна проходят через кишечник зверька непереваренными, но, очевидно, ферментируются как-то по-особенному. А ведь для кофе, как и для чая, ферментация необыкновенно важна. Поэтому непереваренные виверрой зерна очень тщательно собирают и продают знатокам, которые уверяют, что с кофе из этих зерен не сравнится ничто! Хотите, я угощу вас таким кофе?
Я готов попробовать, но наши брезгливые геологи начинают протестовать с таким жаром, что профессор Катили снимает свое предложение.
Между тем мы поднялись выше, пальмы уже сменились похожими на них древовидными папоротниками с черными стволами и с характерно закрученными в улитку молодыми листьями. Эти улитки часто сравнивают с ручками епископских жезлов, но, боюсь, это сравнение мало что говорит советскому читателю. Кофейные плантации сменились чайными. Куда ни кинешь взгляд — ряды ровных подстриженных приземистых кустиков.
Машина неожиданно остановилась у шлагбаума. Оказывается, дальше к вершине вулкана Тангкубан-прау ведет частная шоссейная дорога, за проезд по которой надо платить.
Название «Тангкубан-прау» означает «опрокинутая лодка». При известном воображении его вершину действительно можно сравнить с днищем перевернутой плоскодонки. Профессор Катили рассказывает легенду о происхождении этого названия.
В незапамятные времена на этом месте жили мать с сыном. Они все время ссорились и дрались. Наконец сын не выдержал и ушел от матери. Пространствовав много лет, он снова встретил ее, не узнал и влюбился. Мать тоже не узнала сына, и они начали готовиться к свадьбе. Но однажды мать увидела у него на голове характерный шрам и узнала его. Она сама во время очередной драки нанесла ему удар топором…
— Может быть, все-таки крисом или голоком? — спрашивает не любящий принижать экзотику Николай.
— Нет, крис женщине носить не полагалось, — поясняет Катили. — Очевидно, это был все-таки маленький топорик, которым женщины пользуются на кухне. Я не знаю, почему она не сообщила об этом сыну, а начала выпутываться одна. Если бы даже его не остановила перспектива кровосмешения, то он хоть бы вспомнил о скверном характере своей избранницы. Но будем снисходительны к легенде, простим ей нелогичность ее героев. Так вот накануне бракосочетания невеста потребовала, чтобы жених за одну ночь выкопал огромное озеро, на берегу которого они и отпразднуют свадьбу. Представьте себе, с помощью сверхъестественных сил он это исполнил. Более того, жених изготовил огромную лодку — прау и отправился на ней за своей невестой. Та в ужасе бросилась молиться богам, чтобы они ей помогли и опрокинули лодку. Боги любезно выполнили ее просьбу, хотя, конечно, могли бы вмешаться и раньше, более мирным путем.
— Нет, — продолжал Катили, — несмотря на бессмысленность этой легенды, для нас она все же очень характерна и поучительна. Не находите ли вы, что она сложена очевидцами вулканических катастроф и в ней отчетливо прослеживаются чувства безыменных авторов легенды: преклонение перед разрушительной мощью извержений и других проявлений вулканизма.
Но вот наша машина закончила подъем и остановилась на ровной площадке. Выходим, осматриваемся. Всего несколько шагов, и под нашими ногами открывается величественная вулканическая воронка. Со дна огромного каменистого цирка вздымается несколько внушительных столбов пара — это курятся сольфатары. Пар несет ветром не в нашу сторону, но все же мы ощущаем вполне явственный запах серы. Неподалеку возвышается ажурная башенка, на ней и на краю кратера толпятся туристы — индонезийцы и иностранцы, слышна немецкая, английская, польская, чешская речь.
Местные жители бойко торгуют фруктами, прохладительными напитками и сувенирами из очень своеобразного материала.
— Из чего это сделано? — спрашиваю я.
— Затвердевший ил грязевых котлов, — отвечает мне Николай.
Кроме башенки здесь есть и наблюдательный пост вулканологической службы — деревянный жилой домик и специальный бункер с запасом кислорода на случай извержения. Хотя Тангкубан-прау сейчас очень смирный вулкан, никто не знает, что можно ожидать от него в дальнейшем. Ведь еще тридцать лет тому назад он считался вообще потухшим. Однако в 1935 году вулкан неожиданно возобновил свою деятельность. В последние годы о его активности свидетельствуют только беспрерывно курящиеся сольфатары. Одна из них содержит ядовитые цианистые газы. Вулканологическая служба здесь особенно следит за безопасностью туристов. Кроме того, не следует забывать, что склоны вулкана довольно плотно заселены, на одном из них расположен фешенебельный курорт Лембанг, да и до Бандунга отсюда не так уж далеко. Поэтому особенно тщательные наблюдения ведутся именно на этом вулкане, гораздо более смирном, чем многие его яванские собратья.
Нам, конечно, мало заглянуть в кратер Тангкубана сверху, надо спуститься в него, взять образцы пород, а также выделяющихся сквозь трещины газов. Это уже не совсем туристское мероприятие, хотя, впрочем, на дне цирка видны выложенные кем-то, вряд ли исследователями, надписи из круглых камней. Сюда кое-кто иногда спускается. Но сегодня, несмотря на довольно многолюдную толпу, желающих спуститься, кроме нас, нет. Спуск не труден, за исключением одного-двух мест, и не опасен, надо только следить за направлением ветра. Мертвые камни, мертвый песок, мертвые потоки излившейся на поверхность и затвердевшей грязи, мертвые желтые кристаллы серы и белые гипса, осевшие на серой поверхности. Хотя бы кустик какой-нибудь, травинка или насекомое. Абсолютно ничего, нет даже ни одной пленки вездесущих сине-зеленых водорослей.
Следующий вулкан Папандаян тоже в общем туристский. Но кратер его менее глубок, многие решаются в него спуститься, правда только в сопровождении проводников. Прогулка по кратеру здесь гораздо эффектнее, чем в Таигкубане: вы идете по узкой тропинке и во многих местах не смеете оступиться. Не потому, что свалитесь вниз, как на крутых краях предыдущего кратера, а потому, что сквозь тонкую застывшую корку можно провалиться в бурлящую грязь. Проходя через кратер, нередко окутываешься паром и теряешь из виду своих спутников. Правда, пары эти не имеют, как в Тангкубан-прау, ядовитых примесей и температура их недостаточно высока, чтобы причинить ожоги. Но все же впечатление от прогулки по кратеру остается довольно внушительное, тем более внушительное, что все это сопровождается и шумовыми эффектами: свистом выходящего пара, подземным гулом и грохотом. Недаром вулкан получил название «Папандаян», что означает «кузница».
Позднее, когда начались основные работы, ребятам привелось побывать и на более солидных вулканах, совершать восхождения, требующие настоящих альпинистских навыков, и даже попадать под обстрел вулканических бомб — лапиллей. Но в это время я был уже по уши занят собственной работой на море и не мог отвлекаться на заманчивые для меня туристские мероприятия.
А теперь мы побывали на серпом озере Телага-Бодас, путь к которому вел через живописнейшую долину Тарута. До этого я никогда не думал, что почти полностью окультуренный ландшафт может быть настолько красив. Эта долина населена очень густо, плотность населения (сельскохозяйственного!) достигает чуть ли не целой тысячи человек на квадратный километр. Здесь возделан каждый клочок земли, и вместе с тем, до чего же живописна эта долина, когда смотришь на нее с петляющей по горному склону дороги. Террасы рисовых полей, пальмовые рощи, снова поля — и все это в голубоватой прозрачной дымке, в уходящей на десятки километров перспективе. Завершает же эту необыкновенную картину стройный конус вулкана Гунтур. Сейчас вулкан спокоен, он не проявляет себя с 1887 года. Однако Юнгхун предрекал почему-то чистенькому и приветливому Гаруту и его благословенной долине участь Геркуланума и Помпеи. Дай бог, чтобы это мрачное пророчество не осуществилось.
Взбираемся все выше, гладкий асфальт сменился тряской проселочной дорогой, снова вместо пальм вокруг нас черные стволы гигантских папоротников. Вот и Телага-Бодас — «молочное озеро», залившее кратер не успокоившегося еще вулкана. Вода озера окрашена гидратом окиси алюминия в белый цвет. Лес да и вообще растительность словно не решается подступить вплотную к его берегам, покрытым спекшейся коркой вулканической грязи и камнями. Даже в отдалении от озера листва деревьев, так же как в Папандаяне, имеет какой-то красновато-бурый оттенок. А само озеро бурлит от выхода газов, в одном его конце слышен постоянный грохот, напоминающий гул водопада.
Геолог-поисковик Никольский показывает нам небольшие вышки, он ведет здесь разведывательное бурение. Потом провожает нас в небольшую, но пользующуюся широкой известностью лощину. Это своего рода «долина смерти». Ее местное сунданское название Паджагалан (Бойня Явы). В этой лощине скапливаются и своеобразно мумифицируются трупы мелких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся. Дело в том, что из расположенной здесь естественной скважины выделяются вулканические газы. Вот и сейчас мы ощущаем сильный запах сероводорода.
— Это ничего, — говорит Никольский, — сейчас здесь безопасно, но когда этот неприятный запах почти исчезает, значит пошла углекислота. Тогда берегись. Можно свалиться замертво, как все эти, — и он показывает на разбросанные, словно на поле битвы, тела зверьков и птиц.
Встретить представителей яванской фауны в природных условиях не так-то легко, поэтому я с интересом рассматриваю эту своеобразную коллекцию. Здесь и остромордая с кисточкой на хвосте тупайя, и неправдоподобно длинная мангуста, и белки как обычные, так и с шерстистой перепонкой между передними и задними лапами — рукокрылы. Из птиц злая судьба занесла сюда пеструю с оранжевыми пятнами вокруг головы майну, черных ласточек, маленьких длинноклювых нектарниц. Шкуры и перья в этой атмосфере сохраняются хорошо, а тела ссыхаются и кости становятся очень ломкими.
На этой площадке невольных самоубийц разбросаны и рептилии: небольшой варан, рогатая жаба, несколько змей — короткий и толстый, очень ядовитый тригоноцефал и безвредная, но удивительно красивая древесная змея дендрофис.
Снова спускаемся к «молочному озеру». Нельзя ли в нем выкупаться? Нет, в самом озере вода слишком горяча, но вот в одном месте сохранились полуразрушенные деревянные купальни. Рискуя переломать себе ноги об обломки досок и бревен, забираемся в горячую, пузырящуюся от выходящих газов воду и подолгу нежимся в ней.
На обратном пути обедаем в Гаруте, в китайском ресторанчике. Наши геологи, знакомые с китайской кухней в лучшем случае по московскому ресторану «Пекин», настроены скептически. Только Альберт все думает, что бы поэкзотичнее ему заказать.
— А у вас есть лягушачьи лапки?
— Пожалуйста.
Через несколько минут они на столе, запеченные в тесте. Геологи переглядываются, никто не решается начать. Однако через двадцать минут «господин МИПИ» видит, что следует заказать вторую порцию, а затем и третью. Действительно, лапки лягушек очень вкусны, они напоминают мясо самого нежного цыпленка.
Разнообразие блюд китайской кухни удивительно велико. Более того, существует, если я не ошибаюсь, четырнадцать различных кухонь, совершенно разных как по набору блюд, так и по характеру их приготовления. Одна отличается преобладанием сладких блюд — и мясо, и даже рыба приготовляются в сладких соусах, для другой характерна жгучая острота приправ, для третьей — приправы острые, но не жгучие и так далее. Вопреки распространенному предрассудку неаппетитных блюд в китайской кухне нет, есть только непривычные.
Недаром чешский писатель Н. Фрид в своей очаровательной книжке «С куклами к экватору» приводит высказывание одного американского журналиста, который, коллекционируя всю жизнь разнообразные проявления комфорта, суммировал результаты таким образом: «Я хотел бы провести остаток своей жизни в горах Явы, с японской женой, китайским поваром и американской уборной».
Следующая поездка на затопленные кратеры вулканов Кавапути и Кава-Чивидей. Название «Кавапути» уже не сунданское, а яванское. «Кава» — озеро, «пути» — белое. Зато в названии второго озера яванское «кава» мирно соседствует с сунданским «чи» вода.
Кавапути во многом похоже на Телага-Бодас. Та же кипящая от пузырьков выходящего газа вода, тот же молочно-белый цвет, та же скипевшаяся корками поверхность грунта по берегу. Однако выходы фумарол здесь не только в воде, но и на суше. Валентин сел было на глыбу засохшей вулканической грязи, но глыба вдруг разъехалась немного и из образовавшейся трещины повалил пар. Он был не особенно горяч и бил не слишком сильной струей.
— Ничего, — решил Валентин, — посижу погреюсь. Для моего радикулита это только полезно.
Я сидел рядом с ним и вдруг увидел, что брюки его пошли сзади красными пятнами. Валентин вскочил, по было уже поздно. Не прошло и суток, как эти красные пятна превратились в обширные дыры.
Николай предложил выкупаться в озере. Температура его воды оказалась вполне терпимой, но кислотность была гораздо выше, чем в Телага-Бодасе. Поэтому, купаясь, приходилось беречь глаза, губы, нос, их начинало весьма ощутительно щипать при попадании воды и даже отдельных брызг.
Геологи собирали образцы, мне же делать было абсолютно нечего. И вода, и незатопленная часть кратера были так же безжизненны, как и на предыдущих вулканах. Оставалось лишь искать кристаллы самородной серы и гипса покрасивее.
Наскоро перекусив ореховыми лепешками, крупуком, солеными орешками кемири и очень красиво выглядевшими воздушными белыми и розовыми шариками (они давно привлекали мое внимание на лотках уличных продавцов, на поверку же у них оказался вкус густой манной каши), мы запили все кока-колой прямо из бутылочек и отправились на Кава-Чивидей.
Это озеро тоже кратерное, но проявлений вулканизма здесь давно уже нет. Деревья подступили к самой воде, чистой, прохладной и спокойной. Ни один пузырек газа не тревожит спокойное зеркало озера, лишь плывущая крупная змея оставляет на поверхности расходящийся под углом след. На отражающихся в воде деревьях много орхидей. Один из наших спутников-индонезийцев был их страстным любителем, и скоро багажники обеих наших машин заполнились кусками древесных стволов с покрывающими их эпифитными растениями. В оранжереях эти капризные и прихотливые цветы так обычно и подвешивают на кусках дерева. Роль оранжерей сводится здесь к сохранению не тепла, а влаги.
Уже к вечеру добрались мы до какой-то деревенской харчевни. На стол были выставлены миски с большими кусками мяса и курятины, стеклянные банки с вареными яйцами, крупуком, соевыми лепешками. Обильно, вкусно, но по-деревенски неприхотливо и, пожалуй, не очень чисто. Закрыв глаза на последнее обстоятельство, мы принялись с аппетитом уничтожать все, что было на столе. Когда пришло время расплачиваться за трапезу, оказалось, что хозяева не считают, сколько подается еды. Наш администратор просит каждого поднимать пальцы — один, два, три в зависимости от того, сколько кусков того или иного блюда съел каждый. Со стороны это, вероятно, было похоже на какую-то детскую игру.
Следующий наш маршрут вел к горячему вулканическому источнику Чиатер. Покинув машину, мы подходим к каналу, по которому льется дымящийся кипяток. Над водой надпись по-индонезийски. Разбираю только одно слово «диларанг» — запрещается. Что именно запрещается, остается неясным. Индонезийский язык пока что для меня еще темный лес.
Итак, не обратив внимания на грозный запрет, зачерпываю воду и осторожно пробую ее на язык, хотя кто-то из спутников пытается меня удержать.
Через минуту начинаю не только отплевываться, но старательно полощу рот из чьей-то фляжки. Оказывается, вода этого источника содержит много фтора. А фтор даже в самой малой концентрации очень губителен для зубной эмали. Недаром почти все местные жители, которых мы здесь встречаем, улыбаются нам беззубыми ртами. Позже Николай показал мне карту этого района. Несмотря на то что воды реки, которую питают чиатерские источники, разбираются на орошение савахов — рисовых полей, деревни, судя по карте, словно шарахаются от этой фтористой реки. Все они тяготеют к ручьям других водных систем, на берегах же этой речки совершенно нет населенных пунктов.
И все же на источнике Чиатер сооружены купальни: большой бассейн и индивидуальные кабинки. Во второй наш приезд в Бандунг мы остановились не в самом городе, а в фешенебельном горном отеле Лембанга и нередко ездили в Чиатер как в баню. В Лембанге сплошь и рядом не бывало горячей воды (которой вообще в Индонезии мыться не принято, индонезиец несколько раз в день обливается водой, но только холодной). Горячие источники есть и в самом Лембанге, но там они по существу превращены в общественные бани. Альберт даже не смог взять пробу воды для анализа. Источник заключен в железную ампулу где-то на глубине, вне пределов досягаемости.
Схожи с лембангскими оказались и источники Чипа-нас, неподалеку от уже упоминавшегося Гарута у подножия вулкана Гунтур. Здесь тоже бассейн с разноцветным дном и отдельные кабины. Температуру воды в них можно регулировать, усиливая или уменьшая проток.
Эти частые купания в серных и фтористых вулканических источниках помимо удовольствия играли еще одну благотворную роль, предохраняя пас от необыкновенно широко распространенных в Индонезии кожных болезней. Правда, при работах в районе Бандунга, когда мы каждый вечер возвращались в комфортабельную гостиницу, опасность этих инфекций была не так уж велика, при полевых же работах встречавшиеся на пути горячие целебные источники, вероятно, предохранили нас от многих неприятностей.
Как-то к нам на Восточную Яву приехал из Джакарты один индонезиец. Его смуглая кожа была буквально изуродована каким-то грибком. После нескольких купаний в озере Кава-Иджен он совершенно вылечился.
Правда, когда плаваешь в зеленой воде Иджена, ощущаешь жжение по всему телу. Зато целительный и профилактический эффект таких купаний был несомненен. Мы пришли к выводу, что живая человеческая кожа представляет собой великолепный по прочности материал. Ни у кого из нас она не слезала, не воспалялась, не обжигалась. Зато обувь и одежда от соприкосновения с идженской водой очень быстро приходили в полную негодность. Особенно пострадал туалет Альберта, который специально занимался термальными вулканическими водами.
Когда Альберт впервые приближался к Иджену во главе кавалерийской кавалькады (автомобильных дорог в этом районе пет) в белоснежном костюме и пробковом шлеме, он имел настолько импозантный и победоносный вид, что ребятишки из ближайшей деревни со всех ног бросились домой с криком: «Голландцы возвращаются, голландцы вернулись!» Скоропалительному заключению ребятишек способствовали, конечно, и рыжие волосы Альберта, и его веснушки, и его длинные ноги, свисавшие с обоих боков низкорослой сумбавской лошадки.
Возвращаясь же после двухнедельных работ на Ид-жене. бедный Альберт выглядел совершенно иначе. Все туалеты его превратились в лохмотья, кислотоупорными оказались лишь одни только брезентовые брюки да под стать им рабочие ботинки.
Но я отвлекся от самого Кава-Иджена, а он, безусловно, заслуживает особого внимания. Это если не самый большой то, вероятно, самый интересный в мире затопленный кратер вулкана. Огромная, окруженная горами чаша залита водой невообразимого изумрудного цвета. Такого насыщенного зеленого оттенка мне не приходилось видеть раньше нигде — ни в морях, ни в горных или равнинных озерах. И это ярко-зеленое водное зеркало вставлено в рамку синеющих в дымке горных вершин.
Бурлящий под многометровой толщей воды вулкан Иджен причинял много неприятностей местным жителям. Недаром первая в Индонезии вулканологическая обсерватория была создана именно здесь. Временами Иджен переполнял свою чашу, иногда же просто размывал одну из стенок, и массы его воды обрушивались на поля и селения, неся с собой огромное количество грязи и каменистых глыб, вымытых из рыхлых стенок вулканического кратера. Потоки эти не только смывали постройки и посевы, но и погребали их под многометровой толщей застывающей грязи и камней. Такие «холодные» извержения свойственны многим другим вулканам, иногда они происходят из-за обильных ливней, но обычно в тех случаях, когда эти ливни начинаются вскоре после извержений. Застывшие реки из камней и грязи называются лахарами. Это местное, индонезийское название, вошедшее и в мировую геологическую литературу. На Восточной Яве особенно страшен своими лахарами вулкан Келуд. Его пытаются смирить уже много лет, строят плотины, перемычки и подземные каналы, чтобы направить зловещие потоки по определенному пути.
Впервые увиденный мною лахар Келуда удивительно напомнил мне селевые потоки у нас в Средней Азии. Разбросанные кое-как угловатые скалы, затвердевшие грязевые толщи, мертвые вывороченные деревья. То же самое я видел на Памире и в русле реки Малой Алма-атинки. Хотя селевые потоки не связаны с вулканизмом, они очень сходны с лахарами и по своему поведению, и по картине причиняемых ими разрушений.
На Иджене угрозу грязевых потоков удалось отвести. Там выстроен специальный каменный шлюз, который поддерживает в озере постоянный уровень воды. Шлюз сложен из особых кирпичей — песок с серой. Кирпичи эти не разъедаются кислотами. Избыточные воды все время поступают в речку Банипути, которая теперь не доходит до моря, ее целиком разбирают на орошение полей. А раньше устье ее славилось крокодилами. По течению реки установлена сеть постов — наблюдательных пунктов, которые следят, не превышает ли количество вредных веществ в воде безопасную норму. Если уровень озера резко повышается (это бывает обычно в разгар муссонных февральско-мартовских дождей) и начинается очень уж обильный спуск вод Кава-Иджена, то вдоль всей реки передается сигнал «Тревога! Иджен!», означающий, что вода к употреблению непригодна. Служба эта налажена четко. Наших геологов река Банипути заинтересовала совсем с другой стороны. Оказалось, она несет очень много алюминия, который оседает впустую на рисовых полях. А между тем алюминий находится здесь в наиболее доступной для производства форме: наполовину суспензии, наполовину коллоидного раствора. На большинстве предприятий руду специально приходится диспергировать и приводить в то состояние, в каком здесь она существует сама по себе. Одним словом, наши геологи дали индонезийцам рекомендацию построить на стоке идженских вод алюминиевый завод, довольно большой притом мощности. Река, которой до сих пор боялись и за которой неусыпно следили, как за притаившимся врагом, сможет давать не только алюминиевое сырье, но и электроэнергию для выплавки алюминия.
Вулканы — бич Индонезии. То один, то другой индонезийский вулкан начинает извергаться. Он заливает все вокруг грязевыми потоками, расплавленной лавой, отравляет людей и животных ядовитыми газами, выжигает их легкие «палящими тучами». Палящие тучи — эти постоянные спутники потоков раскаленной лавы — обычно не сжигают и даже не обугливают свои жертвы, а высушивают их легкие.
Извержения Тамборы (остров Сумбава), Кракатау, Папандаяна, Мерапи, Келуда и многих других вулканов унесли сотни тысяч человеческих жизней, разрушили огромные районы. Доктор Зен, например, считает, что катастрофическое извержение Мерапи в одиннадцатом веке изменило весь ход яванской истории, переместив на восток крупнейшие центры цивилизации.
На наших глазах извержения не происходили. Но мы видели многочисленные бесплодные лахары и зловещие ладу — поля застывшей лавы, покрытые вулканическими обломками, песком и пылью, вынимали в Зондском проливе набитые пемзой драги, с ужасом читали, как на прекрасном Бали после нашего отъезда погибло при извержении вулкана Агунг одиннадцать тысяч человек…
Вместе с тем вулканизм — это и благо для страны. Крупнейший почвовед Мор и геолог Ван Беммелен утверждают, что без действующих вулканов эта страна пришла бы в упадок. Дело в том, что в тропиках, особенно в условиях частых ливневых дождей, почва очень легко выщелачивается и теряет питательные соли. Без постоянной регенерации этих выщелоченных почв интенсивное земледелие на них было бы невозможно. А продукты вулканизма в высшей степени способствуют регенерации тропических латеритов-красноземов и обогащают их необходимыми питательными солями.
Именно вулканами объясняет Мор то обстоятельство, что плотность населения на Яве и Филиппинах неизмеримо выше, чем на Борнео и Новой Гвинее. Конечно, нужно учитывать и другие физико-географические условия: убийственный климат низин Борнео и Новой Гвинеи, слабую расчлененность этих островов и ряд других факторов. Однако при прочих равных условиях наличие действующих вулканов, несомненно, оказывает огромное влияние на плотность населения. А плотность сельскохозяйственного населения в районах вулканического плодородия действительно чудовищна: пятьсот — шестьсот и даже тысяча человек на один квадратный километр. Ни известковые карстовые почвы, ни выщелоченные красноземы не смогли бы прокормить такое количество людей даже при самом их низком жизненном уровне.
Поэтому, несмотря на ужасные катастрофы, гибель близких и потерю имущества, земледельцы неизменно возвращаются на те же места, чтобы на удобренной вулканическим пеплом почве, на разрыхленных и очищенных от камней лахарах, на продуктах выветривания ладу снова бороться за ежедневный минимум пищи для себя и своей семьи.
Вряд ли Ява, земля очень древней цивилизации, могла бы сейчас прокормить семьдесят миллионов своего населения, не будь на ней этих зловещих, но неизменно плодотворных пор земли — вулканов.
Поскольку эта глава посвящена геологическим чудесам Явы, то следует остановиться еще на некоторых из них, хотя они и не связаны с вулканами.
Однажды к нам обратились за помощью геологи из другой советской экспедиции. Они разведывали запасы фосфоритов для большого суперфосфатного завода, который создается в городе Чилачап нашими же инженерами. Встретив фосфориты в пещерах Комбонга (Центральная Ява), геологи не смогли сразу решить, какого происхождения эти фосфориты. Если пещеры были когда-то дном моря, тогда можно ожидать, что скопления фосфоритов здесь очень велики, если же соли фосфора накопились в помете летучих мышей, тысячелетиями живущих в этих пещерах, то не следует рассчитывать, что месторождения окажутся достаточно обширными, чтобы служить сырьевой базой для большого завода.
В пользу гипотезы о морском происхождении фосфоритов говорили, однако, находки в грунте пещер раковин морских моллюсков. Меня попросили выяснить, были ли эти раковины отложены здесь естественным путем или же, например, принесены первобытным человеком. Находки раковин в так называемых кухонных отбросах древних человеческих стоянок — вещь довольно обычная.
Мы на три дня приостановили свои морские исследования и отправились в Комбонг, лежащий километрах в ста пятидесяти от места наших работ.
Первая пещера расположена довольно высоко над дорогой, приходится долго карабкаться по травянистому склону под жгучими солнечными лучами. Если бы не жаль было потерять сутки, то следовало бы отложить восхождение на следующее утро, а не совершать его как раз в полдень. Зато удивительно приятно оказаться в прохладной пещере. Но, увы, слои, которые мне предстоит обследовать, расположены у самого входа, они освещены и даже накалены солнцем.
Роюсь в рыхлой земле. В верхнем слое попадаются хрупкие мелкие кости летучих мышей, глубже — раковины морских моллюсков, более крупные кости млекопитающих и птиц, обломки каменных орудий. Да, никакого сомнения. Это куча кухонных отбросов древнего человека.
Впрочем, нужно осмотреть и вторую пещеру. Там, говорят геологи, характер отложений раковин несколько иной. Пока же осматриваем первую. Не сгибаясь, входим в высокий просторный зал, украшенный массивными колоннами сталагмитов и свисающими с потолка сталактитами. Форма этих известковых столбов очень эффектна и разнообразна. К сожалению, цвет всех этих причудливых образований не сверкающий, белоснежный, как об этом говорят описания большинства пещер, а грязновато-серый, что в какой-то мере снижает впечатление. В значительной части большого зала не нужно ни фонарей, ни факелов, достаточно дневного света, который проникает через два широких входа. Во внутренней части зала крутой обрыв и под ним в глубине другая пещера. При свете фонарей спускаемся по вертикальной лестнице и попадаем в абсолютно темный зал. Здесь очень много мелких насекомоядных летучих мышей. Их растревожило наше появление, особенно свет. Темные гроздья, подвешенные к потолку, на глазах распадаются, и тени летучих мышей мечутся по пещере.
Особый мир пещерной фауны, состоящий из червей, насекомых, ракообразных и даже позвоночных — рыб и земноводных, обязан своим существованием летучим мышам. Каким образом? А вот каким: в пещерах нет света, значит, отсутствует и первичная продукция органических веществ. Весь странный мир троглобионтов[5], не выходящих на земную поверхность, существует лишь благодаря тем органическим веществам, которые в виде помета приносят в пещеры летучие мыши, единственные массовые жители пещер, регулярно их покидающие в погоне за пищей.
А какое количество органики вносится в пещеры летучими мышами, можно судить по данным наших товарищей-геологов. Ведь найденные здесь фосфориты занесены сюда именно летучими мышами. По крайней мере в этой пещере. Но нам предстоит обследовать еще вторую, не исключено, что там окажутся фосфориты морского происхождения.
Эта вторая пещера со сложным и странным названием Джатиджаджан («истинная сладость» или «истинное лакомство») гораздо более доступна, так как находится у самой дороги и попадает, таким образом, в категорию «туристских пещер». Живописные своды ее первого зала испещрены разноязычными надписями, из которых самая ранняя относится к 1881 году.
Картина захоронения здесь раковин по сравнению с первой пещерой гораздо сложнее, и мне пришлось порядком повозиться, прежде чем я убедился, что морские раковины и здесь представляют собой остатки трапез наших далеких предков, переотложенные потом протекавшей когда-то по дну пещеры рекой. Действительно, в отложениях мы находили лишь достаточно крупные, пригодные в пищу раковины мидий, кардит, устриц, брюхоногих моллюсков. При этом рядом располагаются раковины, которые прп жизни никак не могли обитать вместе. Вот еще забавные находки — плоские, до блеска отполированные раковины крупных двустворчатых моллюсков плакун, явно служившие зеркалом первобытным кокеткам.
Деловая часть закончена. Пробы взяты, подробные записи сделаны, теперь снова можно приняться за лицезрение экзотических диковин. Зал, в котором находились мы, ничем особенным, кроме обилия надписей, не отличался. Но наши спутники хотели показать нам что-то, явно заслуживающее внимания. Нас тащат по какой-то тропинке в другую пещеру. Мы нехотя входим и вдруг раскрываем рот от изумления. Над нами раскинулся высоченный купол с отверстием посередине. В отверстие глядит находящаяся почти в зените луна. Еще день, до сумерек далеко, но ночное светило выглядит таким ярким и четким, каким на ночном небе мы его никогда не видели. Свет фантастически струится по вогнутым стенам пещеры. Разумеется, это обычный дневной свет, по нам кажется, что он льется от луны.
Эта фантастическая пещера удивительно напоминает мне высеченный в скалах Армении храм Гегард, но значительно превосходит его по размерам. Иллюзия храма настолько велика, что хочется подойти поближе к стенам и поискать, не сохранились ли там старинные фрески.
Однако это еще не все сюрпризы, которые приготовили нам местные геологи. Они увлекают нас в одно из углублений, и мы видим идущие куда-то вниз крутые каменные ступени. Они мокрые, скользкие, без перил. На подошвах у нас налипла глина, трудно и страшновато спускаться в эту черноту. На полпути часть ступеней разрушена, мне очень хочется вернуться обратно, но я все же продолжаю спускаться, несмотря на боязнь свалиться неизвестно куда. И вот наконец мы стоим на глинистом берегу стремительно бегущей перед нами подземной реки. Насколько можно рассмотреть при свете фонаря, вода ее изумительно прозрачна и, несомненно, холодна. А вокруг здесь промозгло и сыро, и мы все тоже отсырели. Зачарованно смотрим на мчащиеся мимо нас прозрачные струп. Фонарь не может охватить сразу и тот тоннель, из которого они выносятся, и тот, в котором исчезают. Более таинственную картину трудно себе представить. Вздохнув, начинаем подъем. Вверх по скользким ступеням ноги идут увереннее, но каждый шаг отдается в висках. На обратном пути тряска машины по ухабистым дорогам кажется блаженством. Можно не двигаться, а лишь безвольно подскакивать от толчков.
5
ПО ДОРОГАМ ЯВЫ
На Яве мы ездили в основном на двух полулегковых автомашинах. Привезенный из Москвы ГАЗ-69 использовали геологи, так как им чаще приходилось пробираться по почти непроходимым горным дорогам, мне же достался элегантный, быстрый, но не слишком поворотливый пикап шевроле с трехместной кабиной и просторными откидными скамейками в кузове. Когда, закончив работы на Яве, мы отправились на Сулавеси, спидометр моего шевроле показывал двадцать тысяч километров.
Теперь мне хочется вкратце вспомнить о том, что промелькнуло перед нашими глазами за эти двадцать тысяч. Небольшая сравнительно часть пути была проделана по пересекающей с запада на восток почти всю Яву превосходной автостраде, которая начинается в Джакарте, проходит через Богор, Бандунг, Семаранг, Сурабайю и заканчивается в маленьком городке Баньюванги (в переводе «благовонная жидкость для зубов»), который кроме своего благоухающего названия замечателен только тем, что отсюда идет переправа на сказочный остров Бали. Немало на Яве и других асфальтированных дорог, но на тех из них, которые пересекают горные хребты, нередко можно увидеть среди других дорожных знаков и весьма красноречивые изображения черных черепов со скрещенными костями, предостерегающие водителя от излишней беспечности.
Есть, конечно, на Яве, как и везде, очень скверные проселки, которые могли форсировать только вездеходы — английские лендроверы, американские джипы и наши ГАЗы, к слову сказать, в Индонезии достаточно популярные. На таких дорогах, особенно горных, например, на пути к Кавапути (Белому озеру) или к известняковому плато Тысячи гор, наш шевроле совершенно не годился, и нам заранее обменивали его на лендровер или второй ГАЗ.
Но надо сказать, что почти все дороги, связывающие крупные города, покрыты, как правило, отличным асфальтом, снабжены четкими указателями и километровыми столбами, окаймлены рядами деревьев — перистолистных тамариндов, внушительных манго, тенистых канари и других. Стволы этих обязательно однородных, выстроенных по ранжиру деревьев обычно побелены метра на два от земли, и аллеи их служат великолепным обрамлением дороги. Они дают прохладную тень, оберегают от пыли, а ночью и при проливных дождях значительно увеличивают видимость. От большинства яванских дорог у меня осталось прекрасное воспоминание, особенно от главной автострады Джакарта — Баньюванги.
Дорогу эту проложил еще в начале прошлого века генерал-губернатор Ост-Индии Дэндельс. Мне говорили, что для автомобильной трассы эту старую дорогу почти не пришлось переделывать, а только подровнять и залить асфальтом. Грохочущий маршал, как называли Дэндельса современники, был безусловно яркой и крупной фигурой, оставившей на Яве весьма ощутительные следы своего трехлетнего (1808–1811 годы) правления. Он перенес Джакарту из болотистого устья Чиливонга на более возвышенное место, что в несколько раз уменьшило смертность среди живущих в городе европейцев (в отношении же коренного населения подобной статистики не велось ни в то время, ни значительно позже). При нем была проложена только что упомянутая трасса. Но никто не подсчитал, сколько местных жителей, восстававших против европейских поработителей или просто отказывавшихся от принудительного труда на строительстве дороги, было повешено на окаймляющих дорогу деревьях. Дэндельс уменьшил финансовый дефицит Явы, но добился он этого введением политики принудительных культур. Сельские общины были обязаны безвозмездно выращивать для правительства определенное количество кофе. Политика принудительных культур, смущавшая многих даже буржуазных экономистов, получила свое дальнейшее развитие при губернаторе Ван ден Босхе, к слову сказать критиковавшем Дэндельса за «извращенный Либерализм». При Босхе Ява впервые стала приносить Голландии огромные доходы, хотя жители самого острова то и дело страдали от голода.
За нашим ветровым стеклом мелькает необычный мир, очень яр*Кий и красочный. Необыкновенные краски одежд. У нас на севере они бросались бы в глаза, а здесь, на этом ослепительном солнце, кажутся вполне естественными. Наиболее резки и контрастны сочетания цветов в одежде сунданских женщин. Но все эти броские каины (юбки), баджу и кебайи (кофточки) великолепно вписываются в общую пестроту и яркость тропического пейзажа. Впрочем, восточнее, в центре Явы, у собственно яванок в одежде преобладают более темные цвета — синие с золотом и коричневым, а на востоке острова, где много мадурцев, — коричневые с красным. Чуть сдержаннее цветовая гамма в одеяниях мужчин, которые в деревнях не так-то уж отличаются от женских. Такой же кусок пестрой материи обертывается вокруг тела в виде длинной юбки, такой же пестрый пояс, на голове замысловато завязанный платок салук. Говорят, по тому, как надет салук, можно безошибочно определить, откуда родом его обладатель — из какой он провинции и даже деревни. Впрочем, головные уборы очень разнообразны. Многие носят черные, похожие на пилотки шапочки пичи. В такой шапочке ходит президент, а также многие государственные служащие. Носить пичи считается признаком патриотизма и лояльности. У других на голове (особенно у крестьян и разносчиков) конические широкополые чапинги, плетеные, иногда лакированные.
Во всех старых описаниях Явы можно прочесть: «Яванец (или малаец) никогда не расстается с кривым кинжалом крисом, который он всегда носит за поясом в богато украшенных ножнах». Со времени последнего такого описания прошло всего пятьдесят лет, но картина резко изменилась. Крисы мы видели лишь в музеях да у торговцев различной экзотикой, атакующих европейских и американских туристов. У яванского же крестьянина теперь совершенно иной нож: прямой, заостренный лишь с одной стороны, голок у сунданцев или паранг у яванцев. Это не оружие, а орудие труда, которым его владелец выполняет множество различных операций.
Очень многие жители Явы, и городские, и деревенские, пользуются велосипедами, преимущественно дам-сними, потому что в юбке — саронге на мужском велосипеде ехать неудобно. Впрочем, среди горожан, особенно на Западной Яве, саронг в значительной степени вытеснен длинными брюками, а среди молодежи — шортами или просто трусами. Но, видимо, только днем и на людях. Мы убедились, что приверженность к саронгу сохраняют и самые европеизированные индонезийцы. Путешествовавших с нами коллег мы привыкли видеть везде и всюду в европейской одежде. Но стоило нам зайти к кому-нибудь из наших спутников до завтрака или после ужина, мы неизменно заставали их в саронгах.
Натруженно крутят педали своих трехколесных колясок бечаки. Эти раскрашенные цветочками и слащавыми пейзажиками повозочки конструктивно очень несовершенны. У пэдди-кебов, которые мне приходилось видеть в Китае, рикша сидит впереди своих пассажиров, и это, несомненно, несколько облегчает его труд. Здесь же он возвышается над седоками сзади, поэтому на подъемах, даже не очень крутых, бечаку приходится очень часто соскакивать и толкать коляску плечом. Зато пассажиры могут свободно лицезреть открывающиеся перед ними виды. С другой стороны, мне не раз приходило в голову, что подобная конструкция коляски в корне противоречит индонезийской феодальной традиции, согласно которой каждое высокопоставленное лицо должно сидеть на более высоком сиденье, чем окружающие. Один раджа с негодованием отверг карету, подарок голландского резидента, только потому, что кучерские козлы были расположены выше остальных сидений кареты. Кто-то из индонезийцев рассказал мне, что повозка бечаков — нововведение, появившееся в Индонезии только после японской оккупации. В этом убеждают и дешевого стиля картинки, которыми расписаны* стенки этих колясок, в них нет ничего национального. Жители острова Бали и Северного Сулавеси с гордостью обращали наше внимание на то, что у них бечаков нет. На Яве же бечак, увы, еще составляет характернейший элемент любого городского и пригородного пейзажа.
Очень редко бечак бывает собственником коляски. Обычно он должен отдавать ее владельцу значительную часть своего скудного дохода. Поэтому и охотятся за пассажирами они очень рьяно. Стоит остановиться на улице с нерешительным видом, и к вам сейчас же подъедут, предлагая услуги, один или несколько бечаков.
Индонезийские горожане, даже зажиточные, живут как-то очень открыто, ничем не занавешивая ярко освещенных вечером веранд, на которых обычно семья коротает часы досуга. Двери внутренних помещений тоже почти всегда распахнуты. Не говорю уж о кварталах бедноты, где большая часть жизни вообще выплеснута на улицы и переулки. Если вы поздно вечером проходите по этим кварталам, вам приходится старательно переступать через спящих прямо на тротуарах людей.
Индонезийцы очень самолюбивы, как правило, держатся с достоинством, учтивы, сдержанны и ненавязчивы. Здесь почти нет тех назойливых комиссионеров, которые не дают вам проходу на торговых улицах Бомбея, нет молодых людей, бросающихся открыть вам дверцу автомобиля, чтобы затем протянуть руку за мелкой монеткой. Конечно, и тут, особенно в местах, где много туристов, на вас будут порой наседать торговцы поддельной экзотикой. Или же вы можете обнаружить, что оставленная вами на улице машина вытерта или просто охраняется каким-нибудь проявившим инициативу мальчишкой. Заплатите ему, иначе вы рискуете обнаружить через несколько минут в баллонах один, а то и несколько проколов — в зависимости от темперамента вашего незваного помощника. Иногда к вам может обратиться на улице продавец лотерейных билетов, но чаще всего к иностранцу подходят просто любители автографов, вернее, адресов. Среди индонезийской молодежи распространилась странная мода коллекционировать адреса иностранцев. Адрес при этом должен быть написан вашей собственной рукой.
Индонезийцы очень общительны. Случайные попутчики то и дело заводят с вами разговоры в поезде, в автобусе, на террасе отеля. Раньше всего справятся о вашей национальности, потом спросят, как вам нравится Индонезия, не преминут также задать два почти стандартных вопроса: сколько у вас детей и какую религию вы исповедуете. В Индонезии очень любят детей, редкий индонезиец пройдет мимо ребенка, не сказав ему «уок, уок» (нечто вроде нашего «агу») или не погладив по головке.
За все время пребывания в стране я, кажется, ни разу не слышал, чтобы взрослый индонезиец или индонезийка кричали на ребенка или даже просто говорили бы с ним в раздраженном или повышенном тоне.
Каждая семья, которой позволяет достаток, стремится иметь побольше детей. Пять-шесть — это норма, часто встречаешь семьи с десятью-двенадцатью ребятишками. Количество детей даже служит показателем состоятельности той или иной семьи.
В Индонезии существует очень резкая диспропорция в распределении ее населения. Если на слабо еще заселенных Внешних островах (к их числу относятся и Суматра, и Сулавеси, и индонезийская часть Борнео — Калимантан) средняя плотность населения составляет всего 18 человек на квадратный километр, то на Яве — 441. Правительство принимает меры к устранению этой диспропорции и всячески стимулирует переселение жителей Явы на другие острова страны.
Ява действительно населена очень плотно. За исключением лишь крайних западной и восточной провинций Бантама и Безуки, на высоте ниже полутора километров над уровнем моря почти не осталось невозделанных территорий. По обе стороны яванских дорог за окаймляющими их аллеями деревьев почти непрерывной чередой тянутся искусственные террасы поливных рисовых полей, посевы сахарного тростника, поля, покрытые стройными однолетними деревцами кассавы, плантации рядами высаженных кокосовых пальм, каучуконосной гевеи, драгоценного тика, древесина которого не гниет в воде, не повреждается термитами и другими насекомыми. На склонах гор еще более аккуратные плантации круглых чайных кустов с блестящими листьями, кофейных и хинных деревьев, молодую поросль которых заботливо затеняют щитами из пальмовых листьев и специально высаженными деревьями. Чаще всего это эритрина и дающая, несмотря на перистые листочки, густую тень альбицция.
Все возделано, все ухожено и вместе с тем очень живописно. Обширные рисовые поля равнин сменяются игрушечными террасированными площадками на склонах холмов. На одних нежная или ядовитая зелень молодых всходов, на других тут же рядом спелая желтизна стеблей и черные колосья, третьи залиты водой, четвертые только подготовлены к посеву. Эта неодновременность посадок риса вызвана необходимостью рационального использования воды, в изобилии нужной растению лишь в определенный период, в начале его развития. Затем вода отводится туда, где в ней подоспела надобность — на второе поле, третье и так далее.
На заднем плане почти неизбежный для каждого центральнояванского пейзажа курящийся конус вулкана, вблизи же обязательно виднеется несколько густых пальмовых рощ. Когда к ним подойдешь, эти рощи всегда оказываются деревнями. Мы долго не могли к этому привыкнуть. Сплетенные из бамбука, покрытые пальмовыми листьями и обычно стоящие на сваях хижины яванских десс и малайских кампонгов, как правило, скрыты в густых зарослях кокосовых, арековых или сахарных пальм, манго, папайи, дуриана.
Залитые ярким солнцем возделанные равнины, плавные очертания горных склонов, тоже покрытых террасами полей, тенистые аллеи дорог, буйное разнообразие растительности рощ-деревень, величественные силуэты вулканов на горизонте — все это представляет зрелище такой невероятной красоты, что порой у нас буквально перехватывало дыхание.
Я отчетливо помню это чисто физическое ощущение, когда «захватывает дух», притом не от стремительного движения, не от неожиданной встряски, а просто от мирного созерцания пейзажей, проплывающих за окном машины. Ко всему постепенно привыкаешь, но и в живописнейшей Гарутской долине (через полтора месяца после приезда), и по дороге к расположенному в горах Малангу (через четыре месяца), не говоря уж о дорогах Северного Сулавеси с его более нетронутой природой, нас снова поражал этот своего рода эстетический шок. Только геолог Альберт, борясь с очарованием мягких, сглаженных линий яванских гор и холмов, пробовал было бурчать:
— Ну что ж тут такого? Изношенный рельеф…
Всюду на всем этом пути общим протяжением в двадцать тысяч километров мы то и дело видели что-нибудь. новое и любопытное, да и в примелькавшемся открывали. какие-нибудь необычные черты. Что, казалось бы, могло быть привлекательного для глаз в банальных кокосовых пальмах? И вместе с тем каждой новой группой мы порой любовались так, будто раньше никогда их не видели. Не знаю, в чем секрет их очарования, но каждая рощица пальм да, пожалуй, и отдельное дерево всякий раз выглядит по-новому. Может быть, это происходит оттого, что ствол кокосовой пальмы никогда не бывает прямым, он всегда изогнут. (Яванцы говорят, что легче встретить неболтливую женщину или найти в лесу мертвую обезьяну, чем прямую кокосовую пальму.) Притом эта изогнутость всегда еще как-то подчеркивает порыв и стремление вверх тонкого и напряженного ствола, с вершины которого расплескиваются широкие стрелы листьев.
Пора было бы привыкнуть к величественно шествующим по дорогам упряжкам зебу. Животные запряжены в огромные неповоротливые крытые повозки кахары, для которых нередко рядом с основным шоссе проложена дополнительная грунтовая дорога. Когда рассмотришь орнамент, которым украшены эти повозки, то заметишь, что в каждой провинции свои неповторяющиеся мотивы. На Восточной Яве такого орнамента нет, здесь фантазия мастеров переключилась на фигурные дышла, на которых вырезаны угловатые фигуры народного кукольного театра вайанга.
Крупные белоснежные зебу с непременным жировым горбом на холке очень смирны и послушны. Мои товарищи упорно называли их волами, хотя каждая повозка, как правило, была запряжена быком и коровой зебу, очевидно супружеской парой, а изредка и двумя быками. Да, эти ближайшие родственники европейских быков резко отличаются от них и образом жизни, и темпераментом.
Хозяева очень трогательно заботятся о своих зебу. Они часто обувают их в матерчатые мокассины и растягивают над оглоблями тент, защищающий зебу от солнца.
В маленькие четырехместные двуколки бенди запрягают малорослых, но резвых и выносливых лошадок. Лошадками славится город Шерибон на севере Центральной Явы и остров Сумбава в группе Малых Зондских островов. Сбруя их покрыта металлическими украшениями, над головой и чересседельником обычно возвышаются целые миниатюрные пагоды в бирманском стиле. В переднем углу бенди лежит длинный, украшенный инкрустацией и помпонами бич, выполняющий обычно лишь декоративную функцию. Полиция следит за тем, чтобы бенди не были перегружены лишними пассажирами. Впрочем, лошадки эти достаточно выносливы. Кормят их рисом с небольшой примесью листьев. Лугов, которые давали бы траву, на Яве практически нет.
Вблизи больших городов часто встречаются мотороллеры. Ездит на них в основном молодежь. Иногда можно встретить лихую амазонку с развевающимися по ветру волосами, обычно в красной или розовой кофточке, живописно оттеняющей смуглость лица и шеи, и того же цвета короткой юбке колокольчиком. Этот распространенный среди индонезийских девушек наряд вызывающе контрастирует с традиционными кебайей и каином, плотно облегающими фигуру.
Должен заметить, что, чем дальше мы отъезжали от больших городов, чем в большую глушь забирались, тем стройнее, изящнее и красивее становились яванки. Самых красивых женщин мы видели в глухих деревушках гор или на труднопроходимых дорогах неплодородных, безводных карстовых столовых плоскогорий, где появление наших машин вызывало настоящую сенсацию среди ребятишек. Видимо, в этих глухих местах, вис основных путей миграции населения сохранился в большей неприкосновенности и чистоте древний яванский тип. Так это или не так, пусть судят специалисты. Традиционное одеяние молодой яванки — длинный в обтяжку капп и облегающая фигуру кебайя подчеркивают стройность и грацию движений, но лишь очень немногие европейские женщины могут позволить себе в них облачиться. Не хочу сказать ничего худого о фигурах моих соотечественниц. Это просто иной стиль.
В городах, особенно приморских, типичный яванский облик выражен гораздо слабее, и не только потому, что многие женщины и большинство мужчин носят европейскую одежду. Здесь, несомненно, сказалась многократная метизация главным образом с другими малайскими племенами, в меньшей степени, но тоже ощутимо — с китайцами, арабами, индийцами, европейцами.
В Индонезии, в частности на Яве, очень много китайцев — им принадлежит большинство токо (магазинов или лавок), репараси (мастерских), варунгов (закусочных), рума-макан (ресторанов) как с китайской, так и индонезийской кухней. Индийцы же и арабы, насколько мы могли заметить, занимаются главным образом экспортной торговлей. Во всех больших городах Явы есть обширные китайские кварталы и кое-где небольшие индийские и арабские. В пестроте городской толпы европейцев почти не видно, даже вблизи тех кварталов, где расположены крупные международные отели.
Хотя следы голландского влияния в стране очень ощутимы (вплоть до того, что научные работники-индонезийцы говорят между собой на научные темы почти исключительно по-голландски), мы за все время встретили лишь одного-единственного голландца — владельца небольшого ресторана.
Каждый из крупных городов Явы, в которых нам привелось останавливаться, — Джакарта, Бандунг, Джокьякарта, Суракарта, Семаранг, Сурабайя — имел какие-то собственные, неповторимые черты.
Джакарта — огромный по протяженности город. Здесь преобладают одноэтажные коттеджи, разделенные довольно обширными садами, изогнутые, с небольшим количеством перекрестков улицы, на которых в часы пик возникают долго не рассасывающиеся пробки.
Бандунг — элегантный, современный город с прямыми улицами, город учебных заведений, государственных учреждений, банков и торговли. От его улиц веет прохладой и кажется, что превосходный климат каким-то необъяснимым образом сказался и в архитектуре, и во всем облике города. Недаром на него похож расположенный в горах Маланг, находящийся на другом конце Явы.
Джокьякарта (Джокья) и Суракарта (Соло) похожи друг на друга и больше ни на один город в мире. Это старинные центры яванской культуры и искусства. В прошлом Соло и Джокья были столицами двух соперничавших султанов. Духом старояванских столиц здесь дышат не только стены сохранившихся дворцов — кратонов, но и многие другие кварталы.
Пожалуй, самый разнородный из больших городов — Сурабайя. Нарядный, оживленный центр, тихие, тонущие в садах боковые улочки, поселки стандартных, как бы выстроенных по ранжиру однотипных домов, индустриальные (в индонезийских, конечно, масштабах) районы и, наконец, порт, гражданский и военный, расположенный как-то в стороне от города. Близость порта ощущается только в большом количестве моряков на улицах, но, к сожалению, не в прохладном дыхании моря. Сурабайя — самый жаркий, самый знойный, самый душный из яванских городов. Расположена она в заболоченной дельте реки Брантас, полустоячие воды которой оказывают на город значительно больше влияния, чем море. Здесь очень много комаров, и нигде в других местах я не видел таких огромных и наглых крыс.
И все-таки у всех индонезийских городов много сущего. Даже въезжая в небольшой городок типа Сптубон-до, Воносарп или Вонособо, не различишь, маленький ли это город или окраина большого, пока не въедешь на алунг-алунг — центральную площадь перед зданием муниципалитета, где обычно возвышается одно или несколько «деревьев власти» — варингинов. Изо всех индонезийских фикусов этот представляет собой наиболее хаотичное переплетение стволов, ветвей, свисающих воздушных корней. По яванскому преданию, варингин — это застывшая принцесса, закрывшаяся от преследователя своими волосами и одеревеневшая подобно убегающей от Аполлона Дафне.
Обычно на этих «княжеских» деревьях вешали осужденных, скорый суд над которыми вершился тут же, в резиденциях раджей.
Для всех яванских городов характерно обилие зелени, белизна стен, большое количество одноэтажных домиков с высокими красными черепичными крышами. Домики эти разделены садиками, в которых, странное дело, большая часть растений находится по бокам, а на улицу выходит почти неприкрытая веранда. Веранда белей, на которой индонезийская семья проводит обычно весь свой досуг, составляет непременную принадлежность каждого городского и сельского дома. К этому еще следует добавить широкую, как правило, открытую настежь дверь, ведущую во внутренние помещения, и низкие заборы, а иногда и просто живые изгороди из самшита, пизонии или дурмана. Так что жизнь индонезийской семьи протекает, можно сказать, на виду у всех. Проходя или проезжая по улицам, особенно вечером, невольно наблюдаешь кадры из чужой своеобразной жизни.
В садах много цветов. В большинстве своем это цветущие деревья и кустарники. Значительная часть садовых растений выращивается в кадках. Нас это очень удивило. Ведь, казалось бы, в таком благодатном климате и палка прорастет, если ее воткнуть в землю. Не знаю, чем это вызвано, тем ли, что, переезжая в другой дом, семья может взять с собой любимые цветы, или тем, что кадка облегчает уход за деревом (поливка в сухой сезон, внесение удобрений).
В городских и пригородных садах чаще всего встречаешь кусты гибискуса с огненно-красными, розовато-фиолетовыми, реже желтыми цветами. У молодых индонезиек нередко можно увидеть такой цветок возле уха. Недаром один из сортов гибискуса носит название «сережка принцессы». Великолепны яркие бугенвиллеи. Свисающие ярко-пламенные кисти этого растения в ботаническом смысле слова собственно не цветы и не соцветия, а окончания ветвей. Очень непривычно видеть цветок дендрохилума, словно составленный двумя красными зазубренными веточками. Эффектны и разнообразны гардении, магнолии, гордонии, искусственной белизной отливают словно вылепленные из пластика цветы мединиллы, нежно-палевые уплощенные лепестки кроссандры сложены в цветке во много слоев. Любопытны причудливые метелки лагерстремии, по утрам окрашенные в нежно-розовый цвет, но к вечеру наливающиеся пурпуром. Стены многих домов увиты антигоной, пассифлорами, розовыми, малиновыми и ярко-красными граммофончиками ипомеи. Но всех цветов не перечесть, их целые десятки, ярких, причудливых, с экзотическими названиями.
Забавно, что всего этого разнообразия цветов не встретишь обычно на базарах. Там продаются гладиолусы, тюльпаны, георгины. Правда, все в одно и то же время года. Выставленные на продажу цветы очень похожи на наши, но таких залежей цветов, такого цветочного разгула у нас не встретишь. С цветочными базарами соседствуют фруктовые. Здесь, наоборот, увидишь груды фруктов, многие из которых почему-то никогда не подают к столу в ресторанах и закусочных. В приморских городах можно часами бродить по рыбным рядам, находить рыб и морских беспозвоночных все новой и новой формы. Человека, не опускавшегося в тропиках подводу, может быть, поразят и их краски, но по сравнению с тем, что можно увидеть под водой, на суше они удивительно тусклы и бесцветны. Забавные находки можно сделать и в мясном ряду. Здесь иногда продают большеногов, или сорных кур, яйца которых развиваются без насиживания в выделяющих достаточно тепла мусорных кучах. Однажды я видел, как покупатель старательно укладывал в целлофановый мешок беспомощно барахтавшегося ящера-панголина, имевшего, несмотря на внушительный роговой панцирь, цвет молочного поросенка. Неподалеку продавали какие-то глиняные фигурки, которые, оказывается, употребляются в пищу, особенно ожидающими ребенка дамами.
Тропическое великолепие царит там, где продают овощи. Продолговатые корневища кассавы (тут же их можно отведать в горячем виде; они были бы похожи на печеную картошку, если бы не сладковатый привкус и не плотные волокна), гигантские клубни таро и ямса, связки сахарного тростника и молодых бамбуковых побегов, горки янтарной кукурузы и самых различных кореньев, из которых мы узнали лишь куркуму да редиску, вовсе не похожую на нашу. Груды различных орехов, земляных и «воздушных», связки кокосовых орехов, очищенных и неочищенных от волокнистой оболочки — койры.
Рядом продают кустарные изделия: разнообразные циновки, посуду из стволов бамбука разного диаметра, плетеные конические шляпы. В обступивших базар лавчонках выставлены объемные и плоские (теневые) куклы для вайанга, деревянные балийские скульптуры, чеканные металлические украшения и гордость яванского ткачества — батик (живописнейшие материи, узорчато окрашенные в различные цвета при помощи воска). Повсюду разноцветные, аппетитнейшие для глаз (по не всегда для языка) сласти и на каждом шагу прохладительное питье.
То в одной, то в другой палатке возвышается грузная машина, нечто среднее между старомодным «зингером» и мясорубкой, назначение которой — измельчать лед для всевозможнейших освежающих напитков.
На выезде из больших и малых городов, за базарами и торговыми кварталами лавчонок с лоджиями и со сплошной чередой вывесок мы попадали в предместья с типичными коттеджами-виллами. Каменные стены постепенно сменяются оштукатуренными, затем просто плетенными из бамбука. Черепичным крышам на смену приходит атап — рамы с нашитыми на них пальмовыми листьями. Декоративные деревья уступают место плодовым, гаражи — хлевам и сараям, у лестниц исчезают перила, у стен — окна (зато дверь занимает теперь более трети фасада). И вот мы оказываемся в деревне.
Эти яванские придорожные дессы очень аккуратны. Вдоль побеленных заборов, возле калиток висят неизменные фонарики со свечой или коптилкой, которые зажигают с наступлением темноты. Такие же фонарики в руках немногочисленных путников. Еще не так давно здесь существовал закон: человек, появляющийся ночью на улице без фонаря, подлежит задержанию как злоумышленник. По праздникам нам иногда преграждали путь на полчаса и более торжественные факельные шествия. В эти дни у въезда в деревню часто воздвигаются гапуры — триумфальные арки, увитые цветами или просто листьями.
Из мечетей доносится звук табуха — большого барабана, а порой заунывное хоровое бормотание поминок, которые справляются на третий, седьмой, сороковой и тысячный день со дня смерти мусульманина.
В ленонге — театре на открытом воздухе или в легкой сквозящей постройке разыгрывается старинная драма. В двуколках проезжает свадебная процессия. У невесты белое платье, фата, флердоранж. Бредут странствующие актеры, зажав под мышками силуэты лошадей и другие принадлежности декораций к вайангу. Проезжает набитый междугородный автобус. Несколько человек обычно висит в полуоткрытых дверях. Вероятно, не потому, что не смогли протиснуться внутрь, а просто чтобы подышать свежим воздухом. Среди них выделяется фигура юноши в зеленом шутовском колпаке. На спине у него плакат, сбоку болтается бутылочка с соской. Это студент-новичок, который в соответствии с традицией должен целый месяц ходить в таком облачении.
Неподалеку в небольшой речушке, через которую перекинут бамбуковый пешеходный мостик, купаются две яванки. Одна из них облачена в специальный каин для купания, другая же совсем обнажена. Проходит колонна симпатичных ребятишек в темных шортах и белых рубашках с красными галстуками. Это бойскауты. Галстуки у них не красные, а красные с белым (белая полоска сливается с рубашкой), под цвет национального индонезийского флага санг мера-пути. Скауты торжественно проносят изображение индонезийского герба. В его геральдической символике сочетаются и варингин, и разорванные цепи, и мифическая птица — гаруда, и голова буйвола, и рисовые колосья, и надпись «Bhinneka tunggal ika» — «единство в многообразии».
Снова большая деревня или городское предместье. Перед многими домами на высоких шестах подняты просторные деревянные клетки. Декоративные и певчие птицы — одно из увлечений яванцев. Содержат птиц именно таким образом, на открытом воздухе, перемещая клетки на разную высоту при помощи блоков, и очень удивляются, когда слышат, что у нас птиц держат в комнате.
Чаще всего в таких клетках живут голуби. Яванцы очень любят слушать их воркованье. Голуби разнообразны — и зеленые с бронзовыми пятнами на груди, и черные манадские, и коричневые, и розовоголовые, и длиннохвостые, и широкохвостые земляные, и карликовые, которые, по поверью, охраняют дом от пожара. Из других птиц в клетках можно увидеть зеленого лесного петушка, бронзовую сороку, хохлатую ворону циссу, синюю водяную курочку, зеленую иволгу, голубую питту, жаворонка, яванского скворца, хохлатую майну с ярко-желтым клювом. Очень мало попугаев. Ведь их царство начинается лишь в Восточной Индонезии, за Лембокским и Макассарским проливами. Исключение составляют маленькие зеленые лорикулусы. Эти флегматичные и медлительные попугайчики способны застывать в самых невероятных позах. То повиснут, зацепившись за что-нибудь своими красными клювиками, то опрокинутся на жердочке, вяло держась за нее одной ногой.
Живую, темпераментную птицу бео (пестрая майна) в клетке перед домом обычно не встретишь. Эта черновато-синяя с оранжевыми сережками птица так нервно реагирует на каждый резкий и немелодичный звук, что ее держат обычно где-нибудь на заднем дворе. Пожалуй, это самый изумительный подражатель. Бео легко запоминает и воспроизводит музыкальные мелодии и человеческую речь, не говоря уж о передразнивании других птиц и имитации самых различных звуков вплоть до треска пишущей машинки. Вместе с тем бео нервна и пуглива до чрезвычайности. Говорят, она умирает от одного только вида крови. До первого знакомства с бео мы считали это преувеличением. Попросив не шуметь, нас подвели к давно уже живущей в неволе птице, и она, не чинясь, продемонстрировала нам свой весьма разнообразный и обширный репертуар. Нам предложили обучить бео чему-нибудь, скажем какой-нибудь русской песенке. Николай начал, увы фальшивя, насвистывать «Подмосковные вечера». При первой же зазвучавшей диссонансом ноте птица шарахнулась в сторону. Может быть, все как-нибудь бы и обошлось, но в это время Альберт чихнул. Бедняжка бео стала так биться о прутья, что нам пришлось поспешно удалиться.
Держат в домах, вернее, в клетках перед домами, также нарядных банкивских петушков, крохотных бантамок, яванских куропаток и перепелов. Последних, впрочем, выдерживают и готовят для одного из любимых на острове азартных развлечений — перепелиных боев. Еще чаще устраивают бон петухов, которым подвязывают острые металлические шпоры, и борьба ведется обычно до смертельного исхода. Популярны, преимущественно среди детей, поединки между кузнечиками и сверчками. Миролюбивых в общем-то сверчков обычно выводят из себя, щекоча их головы травинками. Устраивают бон и между баранами, к рогам которых иногда прикрепляют ножи. Эта традиция, видимо, недавнего происхождения, так как до голландского владычества овец на Яве не было. Их и сейчас называют голландскими козами.
В прежние времена практиковались и более свирепые поединки: между тиграми, между тигром и буйволом, между тигром и человеком (обычно осужденным преступником), вооруженным тупым крисом. Эти бон происходили не в загородке, а в середине тройного круга вооруженных и возбужденных боем яванцев. В первом ряду на корточках сидели мужчины с крисами, во втором стояли воины с саблями, третий же ряд щетинился вытянутыми к центру круга пиками.
Я читал об одном таком бое 1812 года. Против тигра, которого заранее раздразнили, выпустили поочередно двух осужденных. Первый был растерзан почти мгновенно, второй сражался тупым оружием два часа и в конце концов убил тигра, за что был не только освобожден, но и награжден титулом мантри (дворянина).
Сейчас все это ушло, в прошлое, и не только потому, что смягчились нравы. Тигры давно уже на Яве истреблены (несколько лет тому назад дотошные немецкие зоологи как будто обнаружили единичные экземпляры в одном из самых неприступных уголков юго-восточной оконечности острова). Нет и диких буйволов, а их темные и светлые домашние родичи, несмотря на свой свирепый вид, покорно выполняют тяжелую работу, подчиняясь даже пятилетнему ребенку.
Азарт же яванцев перенесен теперь на более мелких животных, но нужно сказать, что при смертельной борьбе вооруженных шпорами петухов обычно вежливые яванцы преображаются неузнаваемо. Пожалуй, не меньшие страсти кипят у зрителей национальной борьбы пенчак и фехтования на палках. Азарт проявляется вовсю и при игре в кости (занесенной китайцами), в похожий на нашу расшибалочку темпонг, в шашки, в чуки и чонгкак — играх на разграфленной доске с фишками из раковин, камешков, плодовых косточек. Многие из этих игр можно наблюдать на обочинах дорог или в укромных уголках базаров.
6
БОГИНЯ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
Вот уже второй месяц я знакомлюсь с неистовой тропической растительностью Явы, с ее вулканами и горячими озерами, с яркой непривычной жизнью городов и десс. Занятие это увлекательное, ничего не скажешь. Очень приятно промчаться на машине из Джакарты в Богор, из Богора в Бандунг, затем по окрестностям Бандунга в радиусе примерно ста километров и дальше в самый центр Явы — Джокьякарту. За ветровым стеклом проносятся невероятной красоты пейзажи. Времяпрепровождение совершенно восхитительное, но не для этого я все-таки приехал в Индонезию. И ведь моря-то я еще по существу не видел.
Но вот Джокьякарта. Отсюда до берега Индийского океана всего сорок километров. Мы напоминаем нашим спутникам, что мне необходимо приступить к работам на берегу, что нам нужно разделиться с геологами, которые отправятся отсюда на штурм кратера Мерапи — прославленного и грозного вулкана-убийцы.
Влюбленный в свои вулканы Николай успел мне рассказать, что еще в одиннадцатом веке при извержении Мерапи была разрушена почти вся Центральная Ява, а центры яванской цивилизации сместились в восточную часть страны. Что совсем недавно, в 1960 году, грандиозное извержение угрожало жизни многих тысяч людей, и только блестящий прогноз нашего друга доктора Зена и его кипучая деятельность по эвакуации населения опасного района спасли жителей склонов Мерапи от верной гибели…
Как было договорено еще в Бандунге, я завтра отправляюсь на берег океана. На карте выбрано место, где известняковый массив Тысячи гор соприкасается с широкой полосой прибойных песчаных пляжей. Там можно будет изучать фауну берегов, сложенных чистым и промытым песком, и одновременно флору и фауну скалистых обрывов. Остается разрешить вопросы о помещении для жилья и лаборатории и о моих помощниках, ведь весь научный состав нашей экспедиции состоит пока что только из геологов.
Меня представляют президенту джокьякартинского университета, носящего имя крупного исторического деятеля Гаджа Мада. Энергичный, остроумный и приветливый президент выделяет мне ассистента. Нам разрешают воспользоваться виллой, которую, впрочем, все здесь упорно именуют кабиной.
И вот в сопровождении разговорчивого балийца Сутайя и общительного, но не говорящего по-английски шофера Ото мы отправляемся в местечко с многообещающим названием Паранг-Тритис (что по-явански означает «Коралл в брызгах воды»).
Я был несколько удивлен, что в помощь мне дали не морского биолога, а специалиста по микробиологии почв. Оказывается, Сутайя полгода провел в Москве, в Тимирязевской академии. Видимо, поэтому внимательный ректор решил, что он будет мне самым подходящим помощником. Впрочем, тут же выяснилось, что в русском языке Сутайя силен не очень, помнит только отдельные слова и выражения. Разговариваем мы с ним по-английски. Он рассказывает мне о Бали, рекомендует обязательно поехать туда во время церемониального сожжения праха умерших.
Подъезжаем к мосту через небольшую, но окаймленную широкой каменистой поймой речку Опак.
— В дождливый сезон река выходит из берегов, заливает мост, и связь всего района с внешним миром прекращается на несколько месяцев, — поясняет Сутайя.
За проезд по мосту нужно платить. Деньги поступают в кассу выстроившей мост деревенской общины.
Мы уже вблизи океана. Слышится его шум. Дорога наполовину засыпана нависающими над пей песчаными дюнами. Наконец за поворотом открывается вид на берег, на песчаный пляж, на кипящие белой пеной валы прибоя. Мы проезжаем по очень своеобразной улочке. Вплотную друг к другу стоят неказистые деревенские домики с большими просторными верандами. Расставленные на верандах столики останавливают ваше внимание бутылками лимонада, банками со сластями и неизменным крупуком, фестонами из разноцветной бумаги, гирляндами высохших цветов, своеобразными шаровидными плодами панданусов, немного похожими на ананасы, но несъедобными.
Не трудно догадаться, что все это сельские ресторанчики, рассчитанные на приезжих из города. Действительно, Паранг-Тритис в течение сухого сезона служит местом загородных прогулок жителей Джокьякарты, поскольку это самый близкий от города участок океанского побережья. Поэтому в деревушке забавно сочетаются глухая провинция и модный курорт.
Улица упирается в песчаные дюны и теряется в них. Впереди пляж и накатывающие на берег волны Индийского океана. Впрочем, основной накат разбивается о прибрежную мель в тридцати-пятидесяти метрах от берега, береговой же песок лижут уже потерявшие силу волны. Зато там, на мелководной полосе, стоит не прекращающийся ни на минуту гул и грохот. Еще бы, ведь волны катятся сюда, не встречая препятствий, от самих «ревущих сороковых» широт и даже от берегов Антарктиды. Они бы со страшной силой обрушились на ничем не прикрытый, прямой, ровный берег, если бы в непосредственной близости от него не натыкались на спасительное мелководье. Благодаря его защите у берега могут полоскаться в воде даже маленькие дети. Мне говорили, что пройти благополучно через линию наката не удается почти никому, даже в самую тихую погоду. Местные жители никогда и не пытаются этого делать, но приезжие из Джокьякарты очень часто погибают при таких попытках. Если неосторожного пловца и не оглушит ударом многотонный разбивающийся вал, у смельчака все равно не хватит сил противодействовать току отбегающих волн. Они неотвратимо тянут его в открытый океан, где он тонет, избитый и оглушенный волнами или схваченный судорогой. Ведь температура воды в открытом море значительно ниже, чем у берега.
Недаром здесь сложен миф о прекрасной, но жестокой богине Индийского океана Наи Лори Кидул. Она забирает в плен молодых и здоровых мужчин, которые отваживаются плавать за линией прибоя, срываются с прибрежных скал при сборе ласточкиных гнезд или даже просто неосторожно ложатся спать на берегу океана, обратившись головой к воде.
Но обо всем этом я услышал немного позже. А сейчас мы вышли из машины, неспособной преодолеть песчаную преграду, и шагаем по щиколотку в сухом песке к нашему будущему жилищу. Прикидываю, насколько трудно будет тащить назад ящики с материалом, которые нам предстоит наполнить.
Вот и стоящая на берегу «кабина» — современного вида павильон с огромными окнами по всему фасаду. Вдоль него выстроилась шеренга чахлых, полузанесенных песком пальм хамеропс. Песок атакует все, он заносит и лестницу виллы, и невысокую балюстраду. Чувствуется, что если не убирать систематически эти песчаные наносы, то скоро нельзя будет даже открыть дверь. Входим и попадаем в большой зал со столиками и низкими креслами, плетенными из ротанга. Потолок и стены увешаны гирляндами украшений, оставшихся от какого-то праздника. Впрочем, для лаборатории помещение неплохое. Много света, много места для разборки, обработки и хранения коллекций. Столы можно сдвинуть к окнам. К залу примыкает несколько небольших комнат-спален, умывальная комната. Хозяйственные постройки вынесены на задний двор, тоже покрытый сугробами песка. Нас встречает обслуживающий «кабину» персонал — пять или шесть бунгов (боев) различного возраста. Куда нам так много? Через несколько минут вереница бунгов уже перетаскивает из машины паше снаряжение. Затем приносят из какой-то харчевни — сами еще не успели приготовить — нехитрый деревенский обед.
Вид из зала великолепен. За неширокими полосами песчаного пляжа и относительно спокойной прибрежной воды стоит ни на миг не спадающая, кипящая пеной стена волн. Это сейчас, при слабеньком ветерке, а что же здесь делается в шторм? Дня через два мы получили ответ и на этот вопрос, когда ветер нес тучи не только сухого песка, но и комья влажного, только что смоченного волнами, а также сорванные с волн клочья пены и ливень брызг. В «кабину» этот песок странным образом не попадал, хотя в стенах были вентиляционные отверстия, которыми снабжаются все индонезийские постройки. Зато ветер то и дело гасил светильники, которые пришлось заменить похожими на нашу «летучую мышь» калильными лампами «Петромакс». Но даже и сегодня, в спокойную погоду, для того чтобы зажечь в комнате спичку, приходится прикрывать ее рукой.
Такой же открытый океанскому прибою песчаный берег, что расстилается под окнами, тянется к западу на сотни километров, до порта Чилачап в заливе Сегара Анакан («Детское море»).
На всем этом протяжении не встретишь ни лодки, ни причала, ни паруса рыбака. Коренным местным жителям даже слова эти непонятны. А на восток тянутся непроходимые скалистые обрывы. Выходы к морю видны лишь кое-где, в редких устьях рек и в еще более немногочисленных заливчиках. От поселка по берегу вдоль скал можно пройти совсем немного, да и то лишь при отливе и в спокойную погоду.
Мне не терпится поскорее заняться фауной тропических песчаных пляжей. Из-под ног разбегаются полусухопутные крабы-призраки. Эти крупные длинноногие крабы могут мчаться с поистине призрачной, не улавливаемой глазом скоростью и либо исчезают в волнах прибоя, либо зарываются в сухой песок. В песке они роют норы больше метра глубины, достигая водоносных горизонтов. Вода им необходима, чтобы время от времени смачивать нежные лепестки скрытых под панцирем жабер. Если жабры высохнут, краба ждет смерть от удушья. В остальном же они явно предпочитают морской среде воздушную, шныряют в поисках пищи по всему берегу, забираясь порой и в наше жилище.
Однажды, обуваясь утром, мой спутник вдруг пронзительно вскрикнул. Оказывается, во влажном еще от вчерашних морских работ ботинке ночью примостился крупный краб-призрак, который и не преминул, обороняясь, ухватить владельца ботинка клешнями за голый палец.
Поймать скачущего во весь опор краба-призрака дело нелегкое. Но у нас почти всегда находились добровольные помощники, азартно состязавшиеся в скорости с призраками, которых англичане недаром называют крабами-лошадьми.
К сожалению, пойманных крабов нам обычно торжественно вручали с оторванными клешнями, и приходилось терпеливо объяснять, что такие экземпляры теряют для нас ценность. Ведь даже самого кусачего краба легко взять за панцирь так, чтобы руки не пострадали от острых клешней.
Крабы-призраки — обитатели так называемой супралиторали, то есть зоны, расположенной выше литорали. Это полоса, куда уровень воды не поднимается даже во время самых высоких приливов, и лишь время от времени сюда заплескивают волны. А теперь посмотрим, что же делается у самого уреза воды, во влажном песке, омываемом ленивыми волнами. Здесь, как и следовало ожидать, фауна оказывается более разнообразной, хотя она и совершенно неприметна с первого взгляда. Поскольку верхний слой песка перемещается волнами, все животные тут зарываются в грунт на глубину нескольких сантиметров. Здесь обитают мелкие крабики эмериты и гиппы. Внешне они совсем несхожи. У эмерит мощные, расширенные лопатками ноги, гладкая же гиппа имеет совершенно обтекаемую форму желудя. У тех и у других бросаются в глаза длинные усики — антенны. Когда эти полукруглые в сечении антенны сложены вместе, они образуют трубку, через которую зарывающийся краб всасывает с поверхности песка воду, дающую ему кислород для дыхания и мелкие частицы пищи.
Сверху укрывшийся в песке краб совершенно не виден. Деревенские женщины добывают их своеобразным способом. Они разглаживают поверхность песка особой палкой с перекладиной на конце и обнаруживают таким образом зарывшихся крабов. За несколько часов работы можно набрать один-два кувшина эмерит и гипп, которых потом запекают в тесте.
В этой зоне заплеска обитает несколько видов моллюсков: гладкая, словно отшлифованная олива (она действительно похожа на маслину), длинный и тонкий спирально закрученный клипеоморус и гладкая двустворка донакс. Все они получают кислород и пищу из омывающей берег воды, только одни из них, как донакс, постоянно перемещаются вместе с приливами и отливами вверх и вниз по пляжу, все время оставаясь в оптимальной для них зоне заплеска, где волны подносят им пищу прямо ко рту, другие же пассивно ожидают, когда благосклонный заплеск подойдет к месту их обитания.
Есть в зоне заплеска мелкие хищные рачки эвридики и тонкие, полупрозрачные, похожие на уменьшенных во много раз креветок мизиды гастросаккус. Этих привлекает сюда не пища. В изобилии кислорода они не нуждаются и вообще постоянно обитают гораздо глубже. В зону же заплеска выходят одни лишь яйценосные самки, потому что для быстрого развития яиц необходима более высокая, чем в толще океанической воды, температура, да и кислорода развивающимся эмбрионам требуется гораздо больше, чем взрослым рачкам.
Любопытно, что в нашем Черном море на песчаных крымских пляжах к западу от Евпатории я находил во второй половине лета таких же заботливых мамаш, относящихся к тем же родам ракообразных. Обитают здесь и близкие к черноморским виды тонких и незаметных червячков спионид и древних усатых червей саккоциррус, давших свое название особому типу грубозернистых промытых песков.
Видимо, многострадальная черноморская фауна все-таки родственна более всего именно фауне тропической. Черное море пережило весьма бурную историю: то опреснялось, то осолонялось, попадало то в более теплые, то в более холодные условия. Фауна его подвергалась суровым испытаниям. Одни виды вымерли, другие измельчали, третьи вселились в него лишь недавно. И все же, несмотря на то что и сейчас соленость в нем вдвое меньше океанической, в нем нет приливов и отливов и оно испытывает большие температурные колебания, там сохранились не только отдельные тропические виды, но и целые сообщества, подобные тем, которые я обследую сейчас на берегу Индийского океана.
Да, работы мне хватит не на один день, даже здесь, на безжизненных с виду песчаных пляжах, где волны открытого Индийского океана, казалось бы, должны сокрушать все живое. Новые формы жизни и новые приспособления к своеобразным условиям существования открываются теперь именно на таких прибойных пляжах, на которые многие поколения морских зоологов не обращали внимания. В классических сводках 20—30-х годов нашего столетия так и писалось: «на открытых волнению пляжах прибой в сочетании с песком и галькой истирает все живое». Нужно будет взять количественные площадки, проследить количественное распределение и динамику этого биоценоза, провести наблюдения над образом жизни различных видов.
Берег моря сегодня почти пустынен, но, говорят, в воскресенье он покроется сотнями отдыхающих, которые приедут из Джокьякарты, и нам нужно будет тогда убраться куда-нибудь подальше. А сейчас на всем прибрежном просторе видны лишь две-три крестьянки, собирающие рачков, бредет, спотыкаясь, слепая старуха-нищенка, по песку несется сорванная ветром плетеная шляпа, за которой в нескольких десятках метров поспешает ее владелец, да несколько человек колдуют над костром в верхней части пляжа. Как оказалось, они вымывают из песка морскую соль, а затем выпаривают ее из раствора на костре. В океане ни паруса, ни дымка. И это на густонаселенной Яве!
Действительно, человек здесь отвернулся от океана.
В последующие дни — то же самое. Появились, правда, три-четыре рыбака с закидными сеточками яла, похожими на увешанные грузиками авоськи, и с квадратными сетками бинт о, сшитыми по типу наших «рачней». Заходя в воду по колено, рыбаки наловили понемногу рыбьей мелочи разных видов. На мое счастье, научная ценность их уловов оказалась гораздо большей, чем гастрономическая. Крупная рыба за линию прибоя на отмели почти не заходит.
Однажды, возвращаясь с количественного разреза, я заметил у кромки волн влажные пятна. «Песок… заляпан сырыми поцелуями медуз», как сказал поэт. Но это были не медузы, а гораздо более сложно устроенные сифонофоры велелла и физалия. Я сейчас же достал запасные банки с фиксатором. То-то обрадуется мой московский коллега, специалист по плейстону.
Плейстон — это своеобразный комплекс морских организмов, связанных с поверхностью раздела «вода — воздух» или попросту с поверхностью океана. Кроме сифопофор в состав плейстона входят забавные морские уточки лепас, моллюск янтина со своеобразной фиолетовой раковиной и другие виды беспозвоночных и даже рыб. Стебельчатые раковины морских уточек прирастают обычно к кускам дерева, птичьим перьям и другим плавающим по воде предметам. Пока уточка мала, птичье перышко в состоянии удержать своих пассажиров на поверхности, но по мере того как их вес увеличивается, лепасы фабрикуют особые поплавки из застывающей в виде пузырьков слизи. Постепенно этот поплавок и висящая на нем колония лепасов увеличиваются настолько, что первоначальный субстрат становится уже не виден. На таких же поплавках держатся и массивные раковины янтин. Белые длинноногие клопы галобатесы бегают по поверхности океана подобно водомеркам наших прудов. Основу же плейстонного комплекса составляют сифонофоры: крупные, ярко расцвеченные физалии с наполненным газом пузыревидным туловищем и длинными жгучими щупальцами, а также более мелкие парусники велеллы с пластинчатым телом, обрамленным бахромой мелких щупалец, часть которых образует своеобразный руль. На уплощенном теле велеллы возвышается хрящевидный парус. Этот парус позволяет ей двигаться не только по течению, но и по ветру. У велелл из различных частей океана парус ориентирован по-разному, но всегда так, чтобы все велеллы могли двигаться в определенном направлении внутри замкнутой системы циркуляции морских течений. Велеллам сопутствуют другие организмы плейстона. Один из них питаются студенистыми стенками тела велеллы, другие используют ее как средство передвижения и опоры. Ведь в отличие от парящего в толще воды планктона плейстонные организмы могут жить у поверхности воды лишь благодаря таким приспособлениям, как поплавки, газовые пузыри, или использовать свойство поверхностного натяжения водной пленки и различный субстрат, на котором они могли бы держаться в промежутках между свободными проплывами. Такой субстрат для некоторых видов плейстона (например, для крабика планес) и представляет собой велелла. Забавно отметить, что изучение строения велеллы подсказало моему коллеге идею создания дрейфующего буя, который может быть сконструирован таким образом, чтобы автоматически приплыть в заданную точку океана.
К тому участку берега, где я нашел выброшенных велелл и физалий, следовало присмотреться повнимательнее, потому что из-за каких-то местных условий (ветра или струй течения) здесь выбрасываются на берег организмы, которым вообще суждено судьбой проводить всю свою жизнь на поверхности открытого океана. И действительно, я и позднее находил на этом участке скопления выброшенных сифонофор, которыми набил не одну банку, и фиолетовые раковины янтин.
Очень интересовала меня фауна и флора скалистых обрывов Тысячи гор, западный край которых подходит к Паранг-Тритису. Однако эти обрывы были настолько неприступны, что по ним рисковали пробираться лишь сборщики гнезд саланган, так называемых ласточкиных гнезд.
Сделаю отступление и расскажу немного об этом излюбленном продукте китайской кухни.
Гнезда эти строят собственно не ласточки, а стрижи и строят их не из земли, а из клейкой, застывающей на воздухе слюны.
Такое гнездо, разумеется, тщательно отмывают от грязи, пуха и экскрементов птенцов. Затем оно варится тонко нарезанными ломтиками, которые с острыми приправами и подаются к столу. Вкус самого гнезда невнятен. Это нечто хрящеватое, упругое, вроде нашей вязиги. В сочетании с пряными соусами получается очень приятное блюдо, но вкус ему, пожалуй, придают именно приправы. Ведь китайская кухня вообще очень часто бывает построена на контрастном сочетании почти не имеющих собственного вкуса ингредиентов (вроде тоже прославленных акульих плавников) и очень тонких, пикантных приправ. Впрочем, говорят, ласточкины гнезда обладают тонизирующими и даже афродиастическими свойствами, но эту славу они разделяют и с трепангами, и со многими другими экзотическими блюдами. Судить не берусь…
Зато я воочию убедился, с каким напряжением и риском для жизни связана добыча этих гнезд, которые саланганы устраивают на самых неприступных скалах. Сборщики гнезд карабкаются по почти отвесным обрывам. Порою они пользуются трепещущими бамбуковыми лестницами, которые спускают со скалистых вершин.
Должен сказать, что промысел ласточкиных гнезд еще опаснее, чем сбор гагачьего пуха и птичьих яиц на прибрежных утесах Баренцева моря. Не мудрено, что многие сборщики срываются в грохочущую под ними громаду океанских волн. Яванцы со свойственным им фатализмом говорят:
— Его забрала к себе Наи Лори Кидул — богиня Индийского океана.
При отливе и в тихую погоду мы могли пробраться вдоль скал на два-три километра. Дальше начинались «непропуски» или «непроходы», как говорят на Дальнем Востоке. Фауна была здесь неизмеримо богаче, чем на песчаных пляжах. Но и она носила отпечаток океанского прибоя, смягченного, правда, и здесь подводными скалами. На этих скалах преобладали организмы либо приросшие, либо умеющие плотно присасываться к субстрату. Поэтому для их сбора требовалось зубило, стамеска и геологический молоток.
В прирастающих к скале конических известковых раковинах морских желудей непосвященный никогда не узнает рачка. Тем не менее это ракообразные из отряда усоногих. Как и все их другие родственники, они имеют плавающую в планктоне личинку, которой свойственны все рачьи черты. Личинка оседает на пригодном для нее каменистом субстрате и неузнаваемо преображается. Она обрастает толстым известковым домиком, из которого под водой высовывается веточка усоножек, производящая ритмичные колебательные движения. При этом в раковину поступают микроскопические частички пищи и необходимый для дыхания кислород. Когда же раковина оказывается на воздухе, верхние крышки ее плотно замыкаются, и в таком состоянии рачок может существовать без воды многие дни и месяцы.
Впрочем, морские желуди в изобилии представлены почти во всех наших морях, и некоторые виды почти не отличаются от тропических. Однако только в тропиках живет крупная пористая тетраклита (правда, наш гигантский балаиус Эвермана превосходит ее по размеру во много десятков раз, но он встречается лишь на глубинах Охотского моря, тетраклиту же можно иногда добывать, даже не замочив ног). К усоногим относится также уточка мителла, о родственнике которой — лепас мы уже упоминали. Домик этой ютящейся в расселинах съедобной (и очень аппетитной на вид) морской уточки в отличие от большинства усоногих состоит из кожистой оболочки, в которую вкраплены лишь отдельные известковые пластинки.
Плотно прирастающие к скалам устрицы имеют здесь очень толстостенные створки раковин, так что для тела моллюска остается очень мало места, поэтому их пищевая ценность гораздо ниже, чем устриц Черного и Японского морей. Эти раковины трудно отбить от скалы, не повредив моллюска, зато среди их живых и мертвых створок можно найти много других мелких животных.
У морских блюдечек раковины имеют форму уплощенного колпачка. Они могут двигаться и соскребать со скал микроскопические водоросли, но когда блюдечки присасываются к скале, оторвать их не менее трудно, чем приросшие организмы. Когда же все-таки удается отделить морское блюдечко от субстрата, на скале остается отпечаток краев его раковины. В скалистых расселинах ютятся моллюски со спирально закрученными раковинами — удлиненные литторины, конические волчки турбо, массивные, с нежной белой оторочкой нериты и снабженные причудливыми выростами тане и мурексы. Плоские крабики под ударом воли плотно прижимаются к скале, другие же, покрупнее, больше уповают на свою быстроту и силу.
В углублениях скал плотно прижаты своеобразные морские ежи — фиолетовые кололобоцентротусы. Со своими иглами, превратившимися в плоские чешуйки, они похожи на обрубленные еловые шишки. Весь обтекаемый облик этих ежей говорит о том, какие свирепые удары волн приходится им переносить.
Встречаются здесь морские ежи и более «нормального» вида, с длинными колючими иголками, но они могут существовать лишь в надежно укрытых от прибоя углублениях, благо их немало в рыхлой известковой породе. Вытащить из такой ямки упирающегося иголками ежа очень трудно, приходится вырубать его вместе со стенками жилища. Иногда же выросший в такой ямке еж вообще превосходит по величине входное отверстие. Мы встречали ежей с искривленным скелетом, повторяющим изгибы их пожизненной тюрьмы, а также заживо замурованных хитонов — плоских моллюсков, сверху похожих на аккуратно сложенную крышу из черепицы.
От работы молотком и зубилом уставали руки, но это была хорошая практика для будущих работ на коралловых рифах, где значительную часть животных можно извлечь, только раздробив кораллы. В толще известняка мы часто находили моллюсков-камнеточцев: круглые цилиндрики литофаг и зазубренные раковины морских фиников фолад. Прекрасные актинии представали перед нами в виде съежившихся слизистых комочков. С ними было много возни. Сначала отчленить от камня, не повредив нежной подошвы этого живого мешочка, а затем долго выдерживать в растворе ментола все время меняющейся концентрации, пока наркотизированная актиния не расслабит своих напряженно втянутых щупалец и не превратится снова в тот изысканный по форме и расцветке цветок, каких не увидишь в самых лучших оранжереях. Эта утонченная красота не мешает актинии быть самым прожорливым и неразборчивым хищником.
Родственник актиний палитоа, относящийся к классу зоантарий, покрывает сплошными колониями поверхность больших валунов у подножия известняковых обрывов. Палитоа похожи на животных еще меньше, чем актинии. Представьте себе густую поросль опенков, настолько густую, что шляпкам их некуда расшириться, и вы получите некоторое представление о прибрежных колониях этих тропических зоантарий.
Водорослей на прибойных скалах немного, и они приурочены, как и всюду в тропиках, лишь к нижней части прибойной осушной полосы. Но если они и развиваются, то густыми куртинками, которым легче выдерживать натиск прибоя, чем одиночным растениям. Мы встречали здесь зеленые ворсистые ковры нитчатой хэтоморфы, полянки нежного морского салата ульвы, слизистых шнуров немалион, заросли миниатюрных ярко-красных багрянок различных оттенков и очертаний.
Нам очень повезло, что хоть в одном месте удалось вторгнуться в запретные прибойные владения «богини Индийского океана». Позднее на юге Явы и на Бали, в тех местах, где их берега совершенно неприступны, мы только с высоты двухсот-трехсотметровых обрывов могли судить по окраске отдельных полос и пятен, какими водорослями или животными они образованы.
Несколько дней мы с господином Сутайя мирно трудились на песчаных или на скалистых берегах, а вернувшись домой, допоздна разбирали собранные пробы. Ни на секунду не прекращался шум прибоя. Его белая стена исчезала из нашего поля зрения только под покровом мгновенно наступающей темноты. На темнеющем небе зажигались непривычные звезды и прямо перед окнами сиял Южный Крест, чуть неправильный и слегка наклоненный. Индонезийцы воспринимают рисунок его звезд по-своему и называют созвездием Ската. Что ж, пожалуй, он и похож на эту рыбу, но нам, северянам, с детства мечтавшим увидеть именно крест, как-то не по сердцу другие сравнения.
В воскресенье, как мы и ожидали, на берег океана нахлынули толпы отдыхающих из Джокьякарты. Мы были предусмотрительны и с утра уехали к устью реки Опак, той самой, что, разливаясь в дождливый сезон, отрезает Паранг-Тритис от остального мира. В таких устьях, где пресная вода смешивается с морской, можно иногда найти много интересного. На этот раз наши ожидания не оправдались. Хотя устье кишело мальками крабов (просто гигантский детский сад) и попадалась молодь кое-каких рыб, но в общем к середине дня нам уже было нечего делать на песчано-галечных берегах устья, и мы вернулись в Паранг-Тритис. Еще не доехав до конца нашей улочки, упирающейся в пляж, мы увидели, как все здесь изменилось. Улицы забиты автобусами, легковыми автомобилями, пикапами, мотороллерами. На обычно пустующих террасах ресторанчиков полно посетителей. Но особенно неузнаваемым стал пляж. Однако никто здесь не принимает солнечных ванн, не торопится подставить тело солнечным лучам. Отдыхающие бродят по берегу, любуются прибоем, иногда, не разоблачаясь, валяются на песке или роются в нем. Лишь немногие, быстро раздевшись до трусов, входят в воду по колено и, озираясь на шумящие неподалеку валы прибоя, торопливо окунаются несколько раз. Потом бегут на берег и так же быстро одеваются. Вот и все купанье.
Нам все же жаль упускать дневной отлив, и мы вскоре отправляемся «брать» на влажном песке площадки для количественного учета фауны.
Много проработав на берегах различных морей, я в общем привык к тому, что наши непривычные действия собирают некоторое количество зевак. Но здесь их было столько, что я не выдержал, взял лишь несколько проб и отправился домой их обрабатывать, поручив господину Сутайя добрать остальные пробы.
Сутайя — микробиолог, занимающийся микрофлорой рисовых полей, и вряд ли его удовлетворяет участие в морских, преимущественно зоологических, работах. Правда, некоторые задания он, как специалист по микроорганизмам, выполняет просто виртуозно.
Представьте себе, например, моток тонких ниток. Их нарезали коротенькими кусочками, а затем замешали в растворе цемента. Когда цемент застыл, вам предстоит из этой массы извлечь все до одного обрывки ниток. При этом нитки очень нежны и легко рвутся. Вот и вчера Сутайя потратил несколько часов на подобное занятие, извлекая из твердых трубок тонкие тела червячков — спионид.
Вечером к нам неожиданно приехал «господин МИПИ» в сопровождении молодого человека в полувоенной форме и пробковом шлеме. Он, оказывается, прибыл сменить Сутайя, тоже на несколько дней. По специальности он зоолог общего профиля и особенно интересуется морскими моллюсками, производящими жемчуг.
Зовут моего нового помощника Сукарно. Я не удерживаюсь и тут же спрашиваю, не родственник ли он президента. Вопрос в достаточной степени нелепый. Ведь у яванцев не бывает фамилий, только имена. Да и имя яванец иногда меняет по нескольку раз в жизни. Например, отец, дав имя ребенку, сам может взять себе имя, означающее «отец такого-то».
Сукарно изысканно вежлив, как и подобает яванцу. Ко мне он обращается только в третьем лице: «Как считает доктор М.? Куда доктор М. собирается поехать?» Гораздо хуже, что когда он чего-нибудь не понимает, то считает, видимо, невежливым в этом признаться и неизменно говорит: «Yes, sir». Всегда аккуратно выполняя все мои поручения, он в первые дни упорно не внимал моим просьбам разбудить меня тогда-то или тогда-то.
Просыпаюсь с опозданием, Сукарно давно уже на ногах…
— Что же вы меня не разбудили?
— Доктор М. так хорошо спал…
У яванцев, правда, есть поверье, что спящего человека будить нельзя. Его душа, летающая в виде бабочки, может не успеть вернуться в тело. Но, как я вскоре убедился, Сукарно вовсе не суеверен, а просто очень, иногда даже во вред делу, деликатен.
Помогать мне он прибыл всего на несколько дней. Однако через неделю попросил у декана разрешения остаться с нами до тех пор, пока мы будем работать на Центральной Яве, потом отправился с нами и на восток острова, а затем остался в экспедиции до самого ее конца.
Вскоре геологи пригласили меня поехать на два дня в карстовый район Тысячи гор с выездом к океану, в единственно, м месте, где это возможно.
Через три дня съезжаемся в Джокьякарте. Место, куда мы едем, называется Кракал. Николай где-то раздобыл рекламный проспект, в котором броско написано: «Вы не имеете права умереть, не посетив Кракал!» Вот уж не представлял себе, что мы едем в модное туристское место. Впрочем, судя по фотографиям, оно мало похоже на фешенебельную обитель туристов. Пустынные скалы и каменистые островки. Никаких построек, кроме двух соломенных навесов…
Наши индонезийские спутники сказали, что шевроле не пройдет по трудной дороге в Кракал, и предложили обменять его на время поездки (вместе с Ото) на университетский вездеход. До городка Воносари дорога была вполне приличной, но затем на карстовом плоскогорье резко ухудшилась.
Вместо спокойного и плавного рельефа Центральной Явы, ставшего для нас уже привычным, здесь повсюду громоздились известняковые скалы самых причудливых очертаний. Местами в них зияли отверстия пещер со сталактитами у входа, сильно деформированными. Между скалами попадались клочки краснозема. Он здесь имеет особенно яркий, насыщенный красный оттенок.
Давно уже исчезли рисовые поля, их сменили посадки кассавы — стройные «штамбовые» кусты с кроной изрезанных листьев, несколько схожих с листьями дынного дерева. Дорога стала извилистой и очень крутой. Наша жизнь сейчас зависит не столько от мастерства шоферов, сколько от надежности тормозов.
Машины появляются здесь очень редко. Ребятишки устраивают лам восторженные овации, а взрослые уступают дорогу с преувеличенным рвением. Лица крестьянок, как и в других глухих местах, особенно красивы. В плавных движениях и пластичных позах женщин необыкновенно отчетливо проступают полинезийские черты.
Хотя грунтовая дорога присыпана щебнем и вообще видно, что ее поддерживают и о ней заботятся, все же нам иногда приходится останавливаться и скатывать с дороги упавшие на нее сверху крупные валуны. И без того медленному движению машины все время мешают зебу и козы. Один козленок-самоубийца прыгнул с высокой скалы прямо под колеса. Шофер еле успел от него увернуться.
Но вот осталась позади последняя деревня, а через несколько километров мы выехали на пустынный берег моря. Между высоченными скалами укрылась небольшая бухточка, берег которой сложен коралловым песком. На безлюдном берегу уже знакомые по фотографии соломенные навесы. Мы угодили сюда как раз в самую полную воду. Волны плещутся у верхней отметки прилива.
Ничего не поделаешь, придется ждать отлива. Пока же можно заняться сбором мертвых раковин и остатков других организмов в полосе штормовых выбросов. Засучив рукава, мы с Сукарно принимаемся за дело.
В выбросах чаще всего попадаются раковины ципрей, те самые каури, которые у многих приморских племен Океании и Африки выполняли в свое время функцию денег. Эти раковины кроме необычной для моллюсков формы отличаются удивительно гладкой, словно специально отшлифованной поверхностью. А те каури, которые долго подвергались шлифующему действию прибоя, стали шероховатыми и утратили весь свой блеск. Но все же порой попадаются и свежие, «новенькие» раковины с блестящей, словно глазированной, поверхностью, покрытой самыми изысканными узорами. Даже одни только видовые названия ципрей и близких к ним эрроней дают некоторое представление об этих цветах и узорах. Вот чешуйчатый рисунок эрроней «голова змеи», вот отливающий бледной синевой «оникс». Находим мы также кофейную цппрею, черепаховидную, мавританскую, ципрею-ласточку. Не менее разнообразен рисунок на раковинах рода конус. Этот недаром называется конус-тюльпан, а тот получил имя капитанского. На поверхности конуса географус будто нанесены очертания каких-то загадочных островов. А у конуса текстиле очень тонкий, словно вывязанный, узор. На черном фоне мраморного конуса треугольные белые пятна. Гораздо более правильную коническую форму имеет трохус, но нам попадаются только разбитые раковины. Вот светло-коричневая раковина волюты. Просто не верится, что ее зигзагообразный узор нанесен не рукой чертежника.
В выбросах довольно много и обломков кораллов. Значит, не зря мы сюда ехали. Когда схлынут воды отлива, должен приоткрыться коралловый риф, который, впрочем, обещан нам проспектом («Вы не имеете права умереть…»). Попадаются обломки акропор «оленьи рога» и похожие на пчелиные соты гониастреи. Одни из них сохраняют остатки прижизненной окраски (зеленой, коричневой, малиновой), другие отмыты и отшлифованы до белизны. Напрасно стали бы мы искать здесь розовые или пурпурные обломки так называемого благородного коралла, из которого делают ювелирные украшения. Он обитает в Средиземном и Красном морях, а в Индийском океане только в западной части. Но не стоит об этом жалеть, ведь он не из настоящих рифообразующих кораллов мадрепор, слагающих острова и атоллы. По сравнению с их иногда многокилометровой толщей, с разнообразием их форм и нежной, быстро тускнеющей окраской живых колоний так называемый благородный коралл — хилый и довольно однообразный заморыш, ветви которого лишь изредка достигают в длину нескольких десятков сантиметров.
Между тем начался отлив и стал обнажать неровное скалистое дно, сложенное мертвым, изъеденным коралловым известняком. Подавляющая часть донных животных прячется в его уступах. Добывать же каждое из них при помощи зубила и геологического молотка — занятие слишком трудоемкое. Ведь у меня для обследования этого местечка, которое кажется очень многообещающим, всего лишь сутки. Словно чувствуя это, змеехвостки-офиуры как бы дразнят меня своими длинными извивающимися лучами, высовываясь из пещерок. Крабы прячутся в пустотах, и я успеваю поймать лишь немногих медлительных майид, остроносых, длинноногих и несуразных, да двух-трех калапп с их округлым, обтекаемым панцирем с желобками, в которые прячутся клешни и ноги. Зато раки-отшельники, чувствующие себя неуязвимыми в пустой раковине моллюска, легко становятся нашей добычей.
Отлив продолжает открывать все новые участки морского дна. Вот появились и водоросли, и колонии кораллов, погибших совсем недавно.
На пустынном до сей поры берегу начали появляться пришедшие издалека крестьянки с огромными корзинами и крестьяне с парангами и небольшими котомками. Сначала они сидели в ожидании, а потом устремились к линии отступающей воды. Женщины занялись сбором водорослей, мужчины — животных организмов, вырубая их из известняка парангами.
Чем дальше уходит вода, тем более разнообразным становится население обсыхающего морского дна. Однако коралловый риф с настоящими живыми кораллами все еще не открывается, хотя по времени отлив уже скоро должен закончиться. Видимо, риф расположен вон там, в проливе между скалистым островком и береговым утесом, где набегающие волны превращаются в белую полосу бурунов. Но добраться туда сейчас невозможно и приходится ограничиваться сборами здесь, в лагуне.
Местные жители тоже неодобрительно посматривают в сторону бурунов. Очевидно, и они рассчитывали промышлять сегодня на рифе, но отлив оказался недостаточно большим, а прибой, наоборот, сильнее обычного. Все же в одной глубокой протоке я нашел несколько крупных колоний живых кораллов.
Начался прилив, приходится отступать, так и не добравшись до рифа. Впрочем, и Сукарно, и наш шофер Хидаят, и я уже сгибаемся под тяжестью добытого материала. Крестьяне и крестьянки тоже отходят к берегу, но их съедобная добыча заполняет в лучшем случае одну треть корзины, а то едва лишь покрывает дно. Улов их помимо собранных женщинами водорослей состоит из крабов, раков-богомолов, моллюсков, голотурий и пойманных в лужах рыбешек. С коническими раковинами трохусов они разделываются на месте, разбивая парангом раковину и тут же поедая мягкое тело моллюска. Вот почему мы нашли на берегу так много обломанных раковин трохусов.
Прилив уже залил почти половину осушенной до этого полосы, все крестьяне ушли далеко вперед, но мы отступаем черепашьим шагом, порой уже по колено в воде, так как то Сукарно, то Хидаят показывают мне что-нибудь примечательное. Иногда я и сам застреваю у какой-нибудь лужицы или просто застываю на месте и кое-что записываю.
Вечер на берегу океана был великолепен. Мы долго сидели у костра, на котором доктор Кардона и «господин МИПИ» приготовили немудреный, но вкусный и сытный ужин. Потом мы стояли у воды, смотрели на Южный Крест, на снова подступившие почти вплотную к нашей стоянке волны и пели песни.
— А ведь, пожалуй, в первый раз звучат здесь русские песни, — заметил Альберт.
— Нет, Петрушевский-то наверняка здесь побывал, — расхолодил его Николай. — Помнишь, доктор Зен говорил, что, когда они с Петрушевским взошли на вершину Мерапи, Петрушевский там пел.
Полковник белой армии Петрушевский в эмиграции стал вулканологом. Он был на службе голландского колониального правительства и объездил почти всю Индонезию, во всяком случае ее вулканы, отнимая, таким образом, у наших геологов формальное первенство. Стоило нам сказать в самом глухом уголке страны: «Ведь мы здесь, наверное, первые русские? Во всяком случае из научных работников?» — как почти неизменно кто-нибудь из индонезийских спутников вежливо поправлял:
— Нет, здесь бывал Петрушевский. Правда, очень давно…
Судя по рекламному проспекту, день, проведенный в Кракале, давал нам теперь моральное право умереть, хотя нам и не удалось добраться до живого кораллового рифа. Мы заснули совершенно мертвым сном на спальных мешках, на самом склоне берега. В середине ночи меня разбудил Сукарно (кажется, в первый раз за все время), чтобы идти смотреть рыбную ловлю при факелах, как мы уговорились с вечера.
Осторожно обойдя ящики, которыми при наступлении темноты мы огородили еще не разобранные пробы, Сукарно и я зашлепали по лагуне вслед за местным рыбаком с бамбуковым факелом в одной руке и закидной сеточкой в другой. Сукарно все время старался, чтобы я был поближе к свету факела, потому что свет распугивает ядовитых морских змей. Я и так жался к источнику света не столько из-за змей, сколько из боязни переломать в темноте ноги на неровном дне, сложенном мертвыми колониями кораллов. Рыбак несколько раз бросал свою закидушку, но все неудачно. Может быть, его смущало мое присутствие.
На следующий день отлив, увы, оказался тоже недостаточным, а прибой слишком большим, чтобы дать нам и снова собравшимся крестьянам возможность добраться до рифа. Последнюю порцию материала мы уже не разбирали, а просто свалили в шведские банки — металлические цилиндры с ручкой, которая, завинчиваясь, герметично прижимает крышку.
Обедали мы на берегу реки, которая устремлялась к океану через узкий скалистый просвет. Хотя в устье волны прибоя вздымались весьма внушительно, мне все же удалось добыть здесь кое-что новое. Мокрый с ног до головы, я рассматриваю свои трофеи: равноногих рачков литий со вздутым телом и длинными усами, шмыгающих обычно в промежутке между двумя волнами из одной скалистой расселины в другую, раков-отшельников ценобит. Эти отшельники решительно предпочитают сухопутный образ жизни подводному. Морская вода им нужна лишь для того, чтобы периодически «смачивать лепестки своих жабер. Поселяясь, как и все раки-отшельники, в мертвых раковинах брюхоногих моллюсков, ценобиты складывают свои уплощенные клешни таким образом, что наглухо закрывают отверстие раковины. Собирая пищу среди морских выбросов, ценобиты нередко смываются прибоем, что для них вовсе не страшно. Закупорив раковину втянутыми клешнями, они, как мелкие камешки, перекатываются волнами, пока более высокая волна не выбросит их на берег. Тут же клешни и ходильные ноги выставляются из раковины, словно шасси самолета, и рак-отшельник как ни в чем не бывало продолжает свой прерванный путь.
Нам с Сукарно пора уже собираться домой. Усталые, но довольные собранным материалом и обилием впечатлений, мы возвращаемся в Паранг-Трптис. И тут я узнаю о большом своем упущении.
Дело в том, что я давно мечтал попробовать бетель. Бетель, или по-явански сири, — это орех арековой пальмы, смазанный ароматичной смолой растения гамбир, посыпанный толченой известью и завернутый в лист бетеля— перечной лианы, от которой и получила название вся эта смесь. Ее кладут в рот и жуют, сплевывая время от времени набегающую красную слюну.
Мне приходилось видеть изысканные наборы для сири, где кроме коробочек для орехов, извести, гамбира и листьев бетеля есть и специальная плевательница. Авторы, писавшие об Индонезии несколько десятков лет назад, говорили, что сири жуют все местные жители. Мы же видели, что бетель употребляют одни только старые женщины, а мужчины переключились на сигареты. Это всегда казалось мне странным, так как курение распространено на архипелаге тоже издавна. Многие авторы считают, что сигареты — индонезийское изобретение. В других районах земного шара раньше были распространены лишь сигары, трубки, жевательный или нюхательный табак. Во всяком случае Индонезия уже в течение многих столетий была и осталась крупнейшим производителем и экспортером табака для сигарет и папирос. Недаром одна из старейших русских папиросных фабрик носит название «Ява», а сорт папирос «Дели» получил свое название отнюдь не от столицы Индии, а от табаководческого района на Суматре. Поэтому странно, что табак вытеснил здесь бетель лишь в последнее время.
Бетель, как и табак, оказывает на организм человека возбуждающее и слабо наркотизирующее действие. Мне очень хотелось его попробовать, но не мог же «советский туан», повсюду привлекающий к себе внимание, уподобиться старой яванской женщине, тем более что жевание бетеля не может пройти незамеченным для окружающих, так как оставляет на губах и на зубах красноречивые улики.
И вот теперь я узнал от Сукарно, что покинутый нами район Воносари — единственный на Яве, где бетель жуют и мужчины!
7
В ОСУШНОЙ ПОЛОСЕ
Мы отправляемся на запад, в порт Чилачап. Он тоже расположен на южном берегу Явы, но не на открытом прибою океанском берегу, а в заливе Детское море, защищенном от океана большим полуостровом Нуса Комбонган. Впрочем, трудно судить, полуостров это или остров, так как от собственно Явы его отделяют совершенно непроходимые мангровые болота. Во всяком случае «Нуса» по-явански означает «остров». По преданию, на этом острове приплыл из далекого океана к берегам Явы какой-то очень почтенный святой.
Две ближайшие недели геологи будут работать на вулканическом плато Дьен — Олимпе яванской мифологии. От них у меня пока что единственное задание — обследовать особенности приустьевой фауны речки Срайю, которая стекает с Дьена и впадает в океан километрах в тридцати от Чилачапа. В ее водах растворены вещества вулканического происхождения.
В остальное время я могу спокойно заниматься литоралью (приливо-отливной зоной) залива. Наше водолазное снаряжение, как и другая более громоздкая аппаратура, отправлено грузовиками на Восточную Яву, где будет основная база экспедиции. Здесь у меня с собой кроме необходимой посуды, фиксирующих жидкостей, простейших приборов (все это, правда, занимает кузов пикапа почти целиком) есть только маски с трубками и ласты. Но и в литоральной, осушной полосе дел у меня будет более чем предостаточно.
Сравнительным изучением литорали в различных морях я занимаюсь уже два десятка лет. По существу литорали была посвящена и предыдущая глава, но на открытых берегах Индийского океана на состав и распределение морских организмов очень большой отпечаток накладывает океанский прибой, здесь же, в Детском море, вертикальная протяженность литоральной зоны и закономерности распределения ее населения всецело обусловлены приливо-отливными явлениями.
Приливы и отливы вызываются космическими причинами — притяжением массы воды луной и солнцем. Благодаря ритмичности приливо-отливных колебаний уровня их иногда образно называют дыханием моря. Правда, каждый вдох и соответственно выдох длится шесть часов, а в некоторых морях и двенадцать. Но разные моря дышат очень по-разному. Различают полусуточные и суточные приливы, а также приливы смешанные, правильные и неправильные полусуточные, правильные и неправильные суточные. В наиболее нам всем знакомом Черном море приливов практически нет. Только тонкие приборы улавливают здесь приливо-отливные колебания уровня, не превышающие по высоте шести сантиметров. Но в других наших морях, например Охотском, приливы достигают высоты четырнадцати метров. Там мне приходилось наблюдать, как в отлив линия уреза отступающей воды уходит за пределы видимости и исчезает за горизонтом.
В морях Индонезии и на Яванском побережье Индийского океана средняя величина неправильных полусуточных приливо-отливных колебаний уровня составляет два-три метра, а это означает, что на плоских берегах море в отлив отступает на десятки, а иногда и сотни метров.
Не утомляя читателя излишними подробностями, скажу лишь, что «глубина дыхания моря» все время меняется. Часто один отлив бывает очень большим (хорошо, если он приходится на светлое время суток), следующий же— совсем незначительным. Это так называемое суточное неравенство приливов, которое иногда меня очень подводило. Кроме того, величина приливов меняется и на протяжении двухнедельного цикла. Самые большие (сизигийные) приливы приурочены к новолуниям и полнолуниям, самые малые (квадратурные) — к началу второй и четвертой четвертей лунного цикла. Но мало этого, время самой высокой (полной) и самой низкой (малой) воды каждый день сдвигается вперед на три четверти часа. Несмотря на всю сложность приливо-отливных явлений, их можно рассчитать заранее, и «Таблицы приливов» на текущий год я непременно использую в прибрежных исследованиях.
Осушная приливо-отливная полоса, литораль, имеет примечательное население, приспособившееся к необычным условиям существования, то наземным, то подводным. У литоральных животных и растений выработались приспособления, которые помогают им переносить очень резкие перемены. Приспособления эти имеют не только морфологический характер. У многих организмов они проявляются и в поведении, тесно связанном с ритмом приливов. Если, например, посадить литорального морского желудя в аквариум, в условия постоянного погружения, он будет «работать» своими усоножками только в то время, когда горизонт его обитания должен быть залит водами прилива. Здесь проявляется феномен так называемых «биологических часов», которые по ритму движения гораздо сложнее обычных часовых механизмов.
Но обитатели литорали интересны и в других отношениях. Жизнь на земном шаре, как известно, зародилась на морских мелководьях и лишь затем постепенно завоевала сушу. Различные этапы этого завоевания суши морскими организмами и сейчас демонстрирует нам население литоральной зоны, особенно в тропиках. Есть и обратные, тоже очень интересующие нас процессы, но на них мы остановимся несколько позже, когда будем говорить о мангровых зарослях.
Население тропической литорали очень разнообразно. Хотя многие ее обитатели уже давно известны биологам, мы все же еще очень мало знаем о закономерностях существования населения этой зоны в целом. Некоторые ученые считают, что в тропиках по сравнению с умеренными широтами литоральная жизнь угнетена, что, спасаясь от палящего тропического солнца, большинство обитателей осушной полосы стремится отступать в ее нижние горизонты или вообще за пределы литорали. Не субъективные ли ощущения исследователей легли в основу этой точки зрения? Ведь, как мы уже говорили, именно в тропиках наиболее интенсивно проявлялся и проявляется важнейший этап эволюционного процесса — переход морских организмов от водного образа жизни к наземному. Именно здесь мы встречаем особенно много животных явно морского происхождения, которые настолько приспособились к чередованию воздушной и водной среды, что уже не могут выносить длительного пребывания под водой. Им не хватает для дыхания растворенного в воде кислорода, они задыхаются и, фигурально выражаясь, тонут.
К таким организмам относятся уже известные нам крабы-призраки. Крабы-солдаты из семейства миктирид активны только во время осушения, когда же воды прилива заливают их поселения, они отсиживаются, зарывшись в песок. Манящие крабы, или крабы-сигнальщики, и в фазе прилива находятся в воздушной среде, так как на время затопления закупоривают отверстия своих норок илисто-песчаной пробкой. В Чилачапе мы, несомненно, встретим очень много крабов-сигнальщиков, так как само название «Чилачап» по-сундански означает «река машущих клешнями раков». Безусловно, увидим мы здесь и пучеглазых рыбок-периофтальмусов, или ильных прыгунов, похожих одновременно и на головастиков, и на лягушек. Головастиков они напоминают формой тела, лягушек — лихими прыжками по илистым осушкам и выразительным взглядом выпученных глаз.
Все литоральные животные научились защищать свое тело, и особенно нежные жабры, от потери влаги, от высыхания. Моллюскам и усоногим рачкам защитой служит плотная раковина, крабам — твердый обызвествленный панцирь, многощетинковым червям — известковые, илистые, песчаные трубки. Многим животным (различные черви, голотурии и другие) и водорослям сохранять влагу помогает покрывающая их слизь. Большинство обитателей литорали стремится укрыться от обжигающих солнечных лучей и иссушающего ветра, зарываясь в грунт, прячась под камни, в расселины, трещины, в скопления других животных и растительных организмов.
Но жителей литорали подстерегают и другие трудности, например резкая смена температуры окружающей среды (ведь различия в температуре воды и воздуха достигают порой десятков градусов). Если во время отлива идет сильный дождь, то литоральные животные и растения попадают из соленой морской воды в пресную. А в сухую жаркую или ветреную погоду, когда особенно интенсивно испаряется влага, те же организмы могут оказаться в густом рассоле. Поэтому на литорали выживают лишь те виды, которые могут вынести жесткий отбор. Но зато эти немногие победители, оставив ниже уровня максимального отлива своих многочисленных конкурентов и врагов-хищников, развиваются в осушной полосе в очень большом количестве особей, и богатая пищей, кислородом, светом, токами воды литоральная зона отличается от других морских зон особенно высокой продуктивностью.
Итак, мы приехали в Чилачап, единственный яванский порт на побережье Индийского океана. Когда-то это было самое гиблое место на Яве. Голландцы вынуждены были сменять находившийся здесь гарнизон каждые три-четыре месяца, так как он полностью утрачивал боеспособность из-за косившей солдат и офицеров малярии. Позднее им вообще пришлось убрать отсюда свои войска, несмотря на то что неподалеку находилась граница султаната Джокьякарты, постоянно причинявшего голландцам беспокойство.
Малярией здесь болеют и сейчас, но не так уж много. Все равно придется резко увеличить дозы хинина, который я регулярно заставляю принимать всех участников экспедиции. Индонезийцы глотают горькие таблетки безропотно, даже с таким видом, словно это им доставляет удовольствие, но с русскими приходится каждый раз торговаться. Два дня от полутораграммовой дозы хинина шумит в ушах, потом привыкаем.
Гостиница с громким названием «Виджайя кесума» («Цветок победы») имеет и европейское наименование, не менее обязывающее, — «Бельвю» («Прекрасный вид»), хотя вид у нее далеко не прекрасный — она грязна и запущена.
На следующий же день с утра мы с Сукарно отправились на берег залива, который открывался в конце нашей же улицы. Однако пляж, сложенный промытым песком, оказался очень загрязненным. Кроме того, из песка торчали обломки портовых сооружений. Во время войны этот порт был важной базой союзных войск и был разрушен японской авиацией настолько, что отстраивать его стали на новом месте, значительно западнее.
В поисках подходящего для работы места мы отошли на несколько километров к востоку и наконец отыскали чистый пляж, на котором встретили огромные стаи почти шаровидных крабов-солдат, или марширующих крабов. На ровной, казалось бы безжизненной, поверхности песка, только что обсохшего при отливе, вдруг буквально из-под земли появляются их бесчисленные коричневато-малиновые мундиры. Маршируя стройными (или так только кажется?) рядами, они движутся вслед за отступающей водой и старательно перерывают песок, чтобы извлечь из него микроскопические частицы пищи. Но стоит подойти к этой копошащейся массе крабов, как она на глазах начинает таять. Через несколько секунд только сплошь изрытая поверхность грунта свидетельствует о том, что вы не были жертвой галлюцинации.
Место интересное, и мы приступили к количественному разрезу через литораль. С квадратов определенной площади мы собирали грунт и клали его в специальное сито. Затем по колено в воде вымывали песок и тщательно собирали оставшихся на сите крабов-солдат, а также и других мелких крабиков, мизид, равноногих эвридик и живущих в песке моллюсков. Интересно, сосуществуют ли все эти виды с полчищами крабов-солдат, или же их поселения пространственно разобщены? Ответить на это можно только после тщательного количественного учета.
Значительно позже нам с Сукарно как-то пришлось проработать почти без перерыва целый день, с утра до темноты, близ одной деревушки на северном побережье Явы. Жители этой деревни очень заинтересовались нашими работами, приносили нам фрукты, кокосовые орехи, а когда у меня кончились спички, — зажженный трут. После того как трут догорел, приходивший к нам несколько раз деревенский полицейский любезно предоставил в мое распоряжение свою зажигалку, доверительно пояснив:
— Я ведь сам не курю, а зажигалка нужна мне, чтобы смотреть в лицо подозрительным людям…
Когда уже в темноте мы сидели в ожидании машины, Сукарно заговорил о том, что местные жители были очень удивлены, как это русский ученый работает целый день без перерыва для ленча и для обеда. Помолчав, Сукарно добавил, как всегда говоря обо мне в третьем лице:
— Доктору М. очень повезло, что я родился и рос в деревне. Если бы я был городским парнем, то, вероятно, не смог бы работать с доктором М.
На следующий день мы отправляемся во внутреннюю часть изогнутого почти под прямым углом залива Сегара Анакан (Детское море). Удобное для работы место на берегу находим по соседству с мусульманским кладбищем. Приливо-отливные течения здесь интенсивно размывают берег, и через несколько лет на литорали можно будет находить человечьи косточки. Пока еще, к счастью, до этого не дошло. Илисто-песчаная осушка испещрена массой желтых, красных и белых пятен, мгновенно исчезающих при приближении человека. Это клешни ук, манящих крабов, или крабов-сигнальщиков. Самец уки высовывается из своей норки, прикрывая вход в нее огромной ярко окрашенной клешней. Почувствовав приближение опасности, крабы-сигнальщики прячутся все одновременно, действительно как бы по сигналу. Если же затаиться, то они вскоре появляются снова, делают короткие перебежки от норок, драчливо замахиваясь друг на друга своим ярким оружием. Вылезают на поверхность и миниатюрные самочки с тонкими крохотными клешнями. Неподалеку шлепают по влажному грунту стайки ильных прыгунов. Если к ним приблизиться, они дружно удирают всей стаей неожиданно большими прыжками. Но если остановиться, они тоже застывают неподвижно и, чуть приподнявшись на передних плавниках, разглядывают нежданного пришельца своими выпуклыми глазами, выступающими над головой как рожки. Поймать периофтальмуса не так-то легко, но все же это возможно вопреки утверждениям моих товарищей, которые побывали в тропиках раньше меня. Нужно только немножко сноровки, а главное — терпения. Почти из каждого маршрута на илистую литораль мы возвращались с полудюжиной или десятком этих рыбок, похожих со своими глазами-рожками на сказочных чертенят. Если же у вас оказывались добровольные помощники, входившие в азарт при погоне за прыгунами или крабами-призраками, то добыча оказывалась еще большей. Несколько раз мы даже ухитрились провести количественный учет периофтальмусов.
У верхнего края осушной полосы видны большие отверстия с набросанными рядом кучами грунта. Необходимо выяснить, чья это работа. По литературным данным, в таких норах живут крабы сезармы и раки-привидения. Наш новый бунг, пожилой, но довольно работоспособный человек, начинает раскапывать нору. Занятие это нелегкое. Вскоре он почти исчезает в вырытой им яме. Наконец из длинной разветвляющейся норы, уходящей на полтора метра в глубину и еще на метр в сторону, он достает огромную талассину. Она тоже относится к ракам-привидениям, но, право же, не заслуживает такого названия. Привидения, обитающие в наших отечественных водах, имеют непропорционально удлиненное мертвенно-белесое тело.
А здесь бунг достает ярко-красного красавца, раз в пять более массивного, чем самые крупные наши речные раки. Но вот незадача: я все время наблюдал за работой бунга, следил за всеми ответвлениями извилистой норы, а в самую последнюю минуту не углядел, и он успел оторвать у талассины ее мощные внушительные клешни.
Между тем прилив уже залил больше половины осушкой полосы. Нужно еще посмотреть, как ведут себя литоральные крабы под водой, и я, поеживаясь, надеваю маску и ласты. Поеживаюсь отнюдь не от холода (какое там, температура воды около тридцати градусов, воздуха еще выше), а потому, что вспомнил, как вчера в порт вошел под флагом Гонконга пароход «Звезда мандарина». Наверное, он привел за собой акул. А здесь еще как на грех довольно мутная вода, в которой акулы становятся гораздо смелее…
На следующий день отправляемся к устью реки Срайю. Когда переезжаем по мосту в нескольких десятках километров от устья, я вижу, как местные жители добывают со дна реки богатый железом магнетитовый песок. Три лодки-прау расположены «покоем», возле них трое мужчин. Они одновременно ныряют на дно и возвращаются с наполненными песком корзинами. Вываливают содержимое корзин, каждый в свою лодку, и снова одновременно ныряют. На реке ни одного рыбака, ни колышка от сетей.
— Ловят ли здесь когда-нибудь рыбу?
— Нет.
Видимо, это на самом деле «мертвая» река, воды которой отравлены какими-то ядовитыми продуктами вулканов и вулканических источников.
Мы идем через высокие заросли аланг-аланга — сорной травы, пышно разрастающейся там, где сведен тропический лес, затем через засоленный луг, и наконец наши ноги привычно вязнут в рыхлом прибрежном песке. Обследуем бедную фауну прибойного пляжа и штормовые выбросы. Пока что картина такая же, как и в Паранг-Тритисе. Но вблизи устья реки одна за другой перестают встречаться характерные формы, а само устье оказывается совершенно безжизненным. Несмотря на самые старательные поиски, мы не можем найти ничего, кроме забегающих сюда быстроногих крабов-призраков. Но ведь они без труда преодолевают посуху большие расстояния.
Дорога по рыхлому песку довольно утомительна. Возвращаясь домой на машине, останавливаем ее у моста и обследуем реку у берега. Тоже никаких следов жизни. На следующий день для сравнения отправляемся в устье соседней реки со звучным и внушительным названием Бенгаван-Адираджа, что означает «Великий государь», или «Река великого государя». Несмотря на сходный физико-географический облик обеих рек, контраст просто поразительный. Не только предустьевое пространство, но и нижнее течение реки, куда в прилив заходит морская вода, населены достаточно богатой и разнообразной живностью. Около десятка мужчин, стоя по грудь в воде, добывают со дна своеобразными бамбуковыми сачками мелких двустворчатых моллюсков. Несмотря на их малый размер, один лишь ловец за три часа наловил более трех килограммов ракушек. Женщины очищают моллюсков от раковин, которые сваливают кучками тут же на берегу.
— Материал для археологов двадцать первого — двадцать второго века, — говорит Сукарно.
Сравнение двух почти одинаковых, но с разными истоками рек получилось разительным. Действительно — «живая и мертвая вода».
Следующий на очереди маршрут — мангровый лес на противоположном берегу залива. Мы своевременно раздобыли большую лодку-прау. Как и почти все здешние прау, она выдолблена из одного ствола, но борта еще надставлены дополнительными досками. С обеих сторон лодки расположены бамбуковые противовесы, придающие долбленке значительную устойчивость. Уплощенный нос и корма украшены прелестной декоративной росписью, а над серединой прау возвышается полукруглая циновочная крыша. Лодка немного неповоротлива, но зато вместительна и просторна. Кроме старика лодочника в ней легко размещаемся мы с Сукарно и бунгом, а главное — неизменно громоздкое гидробиологическое снаряжение.
И вот наш ковчег неторопливо скользит к противоположному берегу залива. Я вглядываюсь в густой мангровый лес. Он состоит из сравнительно молодых деревьев трех-четырех метров высоты. Идет отлив, нижняя часть стволов еще погружена в воду, но уже можно различить, что каждый ствол снабжен многочисленными дополнительными стволами-подпорками, которые выполняют не только механическую, но и дыхательную функцию. Эти деревья относятся к роду ризофора, что в переводе означает «несущий подпорки». Но это по существу вовсе и не стволы, а воздушные корни. Ведь деревья дышат не только листьями, но и другими своими частями, в том числе и корнями. Однако в полужидком иле, на котором обитают мангры, всегда содержится очень много разлагающихся органических веществ и практически никогда не бывает свободного кислорода. Для того чтобы корни все-таки могли дышать в этих «безвоздушных», анаэробных условиях, у всех мангровых деревьев существуют дополнительные приспособления в виде воздушных дыхательных корней. У ризофор они выглядят как подпорки. У авиценнии и зоииератии (в этом мангровом лесу их нет) от обычных горизонтальных подземных корней вверх под прямым углом выходят мощные отростки (пневматофоры), возвышающиеся в виде заостренных кольев, иногда до полуметра высотой. У брюгьеры пневматофоры выглядят иначе: корень сам выбивается на поверхность, вздымается над ней на несколько десятков сантиметров, чтобы затем, круто повернувшись, снова уйти под землю и неподалеку снова повторить эту замысловатую фигуру. Извивающиеся над поверхностью грунта пневматофоры брюгьер представляют еще большие препятствия для передвижения, чем острые колья зоннератий и авиценний.
Примечательно, что мангровые деревья не представляют собой какую-то обособленную систематическую группу. К ним относятся представители самых различных и далеких друг от друга семейств. Они совершенно самостоятельно, как в науке говорят полифилетически, развили сходные приспособления, перейдя к жизни в одинаковых, необычных для деревьев и вообще для большинства высших растений условиях литорали.
Для мангровых деревьев характерна и другая общая черта — существование в условиях так называемой физиологической сухости.
Как ни странно, но эти деревья, стоящие во время отлива, так сказать, по пояс в воде, имеют облик сухолюбивых растений. Их кожистые листья приспособлены к тому, чтобы испарять минимум влаги. Ведь мангры окружает морская, «непригодная для питья» вода. До недавнего времени считалось, что мангры вообще не всасывают морскую воду, довольствуясь лишь оседающей на их листья росой и каплями дождя, а также пополняя запасы воды во время ливней, когда поверхность мангровых болот опресняется.
Однако современные данные говорят о том, что мангровые деревья все же используют и морскую воду. Они обладают способностью превращать ее в пресную. На листьях мангров обнаружены специальные солевые железки, выводящие на поверхность подобно потовым железам животных избыток солей. В настоящее время, когда в масштабах земного шара назревает дефицит пресной воды и ряд государств стремится совместно решить проблему превращения морской воды в пресную, изучение опресняющей способности мангров привлекает особый интерес физиологов растении. Поскольку различные мангровые деревья «пришли к жизни такой» разными путями, они могут подсказать не один, а несколько путей решения этой животрепещущей проблемы.
Наша прау уже углубилась в одну из проток, которыми изобилуют мангровые заросли. На берегах таких проток, дренирующих заросли, грунт менее вязок, чем в других местах, но все же мы становимся на его поверхность с некоторой осторожностью. Я вспоминаю, как увяз однажды в мангровых лесах Китая. Отойдя на десять шагов в сторону от ручья, дно которого было тверже, чем берега, я чем-то заинтересовался и долго простоял на одном месте. Из-за этого мои ноги погрузились в вязкий пл глубже, чем обычно. Я попробовал вытащить одну ногу — она не поддавалась. Вместо того чтобы продолжать ее вытаскивать, я совершил грубейшую ошибку и начал вытягивать другую ногу, которая ушла в грунт еще глубже. Я продолжал тянуть то одну ногу, то другую, пока не убедился, что мои длинные рыбацкие сапоги увязли совершенно безнадежно. Очень противное состояние беспомощности, усугубляемое мыслью, что вскоре начнется прилив, уровень воды будет все повышаться и повышаться…
Положение, впрочем, вовсе не было таким уж трагическим. Сапоги на моих ногах сидели достаточно свободно для того, чтобы, опрокинувшись на живот, я смог вытащить из них сначала одну, потом другую ногу. Но те, кому приходилось бывать в грязи мангровых болот, поймут, почему я не стал в нее ложиться, а позвал работавших неподалеку товарищей. Они освободили меня, прокопав канаву от ручья до моих ног. Если бы они пробрались прямо ко мне и попытались бы просто откопать меня, то только бы разделили со мной мое трагикомическое положение.
Мангровый лес, где мы сейчас находимся, довольно однороден по своему растительному составу. Кроме ризофоры здесь еще встречаются на более возвышенных местах только бесствольная пальма нипа да какой-то кустарник с нежными, белыми, очень ароматными цветками.
Фауна этого мангрового леса оставила далеко позади все виденное мною раньше в Китае, правда не по обилию, а по разнообразию. Она разделяется на два основных комплекса — население грунта и обитатели самих стволов мангровых деревьев. На стволах, как и на камнях и скалах, мы находили приросших к коре морских желудей, устриц нескольких видов, актиний. С ветвей свисают слизистые колонии сложных асцидий-оболочников, губки. Большинство брюхоногих моллюсков самой различной формы и раскраски держится в отлив у основания стволов, но есть виды, обитающие только на листьях и не встречающиеся больше нигде, ни в каких других условиях. Особенно разнообразны в мангровых зарослях крабы — большие и мелкие, вздутые и уплощенные, компактные и с непропорционально большими клешнями, серые, кирпичные, малиновые, небесно-голубые, темно-синие, почти черные. Уже знакомых нам крабов-сигнальщиков здесь сравнительно немного. В лужицах и протоках самые различные рыбешки. Некоторых из них мои спутники испуганно принимают за змей. Встречаются креветки, в том числе и забавные алфеусы, которые производят своими клешнями характерный треск. Порядочно периофтальмусов, но не больше, чем на лишенных растительности илистых осушках. Поэтому напрасно художники традиционно изображают ильных прыгунов на стволах мангров. Это вовсе для них не характерно, наоборот, им удобнее прыгать на свободных от деревьев пространствах.
На берегу протоки мы нашли крупное отверстие какой-то норы. Вунг принимается терпеливо ее раскапывать. Вот уже его стриженая, испачканная илом голова почти скрылась в яме. В норе неожиданно оказываются два периофтальмуса невиданной до сих пор величины. Да и вообще раньше не было известно, что они живут в норах, притом таких глубоких.
После возвращения домой мы с Сукарно обычно засиживались за разбором проб до глубокой ночи, но на этот раз нам пришлось побить все собственные рекорды. В этом был повинен один из гигантов-периофтальмусов. Сначала он несколько часов пролежал неподвижно в ванночке, всем своим видом свидетельствуя, что уже покинул этот грешный мир, но вдруг ожил и начал буйствовать, сокрушая и разбрасывая все, что находилось на столе, — пробирки, ванночки и даже солидного веса банки с уже разобранным материалом. Больше часа нам пришлось разбираться в учиненном рыбой беспорядке.
Работы в Чилачапе завершены. Мы отправляемся по северному берегу Явы на восток, где будет развернута база для более углубленных (как в переносном, так и в буквальном смысле слова) работ.
После Индийского океана мутное у берегов, но синеющее на горизонте Яванское море кажется каким-то плоским и очень домашним. В отличие от пустынного южного побережья Явы здесь мы видим прямо толчею рыбацких шхун и лодок. В каждом районе прау отличаются и линиями корпуса, и формой крепления противовесов, и рисунками на носу и корме. В одном месте рисунки вообще уступили место деревянной скульптуре. На носу почти каждой прау возвышается резная фигура Сери Рамы, героя яванского эпоса.
Рыбу на этом побережье не только ловят, но и разводят. Местами берег приобретает форму квадратных фестонов. Это в литоральной зоне расположены выростные пруды тамбаки. Сюда запускают молодь различных рыб, главным образом из семейства молочных рыб ханид, и подобно карпам в наших прудоводческих хозяйствах выращивают до товарных кондиций.
Интересны способы добычи рыбьей молоди для там-баков. Местами вдоль берега, словно вывешенное для просушки белье, тянутся нескончаемые гирлянды нанизанных на веревки пучков измельченных пальмовых листьев. Во время прилива среди этих листьев скапливаются мальки рыб, которых тут же вылавливают. Однако этот способ не может полностью обеспечить потребности в молоди, и нахождение промысловых скоплений мальков тех рыб, которые могут жить в тамбаках, остается для рыбного хозяйства Индонезии проблемой номер один.
Мы обследовали тамбаки, как функционирующие, так и на время спущенные, и нашли в них много для себя интересного. Ильные прыгуны, от которых невозможно избавиться, играют здесь ту же роль, что и сорняки на полях. Некоторые хозяйства специально выращивают креветок — необходимый компонент широко распространенного на всей Яве хрустящего несладкого печенья крупук.
Немного дальше, за Семарангом, мы встретили пляжи, сложенные чистым коралловым песком. В литературе можно найти утверждения, что такие пляжи совсем безжизненны. Однако и здесь, и потом на Восточной Яве мы неизменно находили какую-то живность. Население литорали на таких пляжах было представлено крабами, мелкими креветками, кумовыми рачками, похожими на жирные запятые, полупрозрачными мизидами, мелкими, а иногда и довольно крупными моллюсками, многощетинковыми червями, похожими то на миниатюрных змеек, то на странной формы цветы. Находили мы здесь и невзрачных ланцетников, наших ближайших родичей среди беспозвоночных животных.
Все непродолжительные, на один-два дня, остановки в пути мы использовали для работы. У нас не хватило даже времени посетить священную гору Муриа, где похоронен хаджи, впервые принесший на Яву ислам. Впрочем, можно было утешиться тем, что доступ к этой мусульманской святыне разрешен только несколько дней в году.
Недалеко от Сурабайи мы увидели на берегу моря обширные белые квадраты — бассейны для добычи соли из морской воды. Позднее нам довелось консультировать специалистов этих хозяйств. Они жаловались, что в бассейнах с насыщенным соляным раствором в огромном количестве заводится мелкий многощетинковый червь и снижает качество получаемой соли. Он сумел приспособиться даже к таким вопиюще неблагоприятным условиям существования.
Несколько дней в жаркой и удивительно душной Сурабайе. Дальше наш путь идет на юг, на берег Мадурского пролива, к небольшому гестхаузу Пасирпути, где мы и развернули свою базу.
Выехали из Сурабайи уже в темноте и никак не могли понять, что за ярко освещенная аллея тянется справа от нас, притом на очень большом протяжении. Только потом мы узнали, что это огромная вереница промышляющих рыбу судов.
8
КОРАЛЛОВЫЕ КЛАДБИЩА
В Пасирпути нас уже ожидало переброшенное сюда снаряжение, в том числе и подводное. Несколько дней мы налаживали аппаратуру, оборудовали лабораторию, подготавливали катер. Акваланги в длинном путешествии от Москвы немного разболтались, два из пяти стравили воздух. Нужно было подтягивать то одну, то другую гайку.
В тропическом климате мы очень боялись коррозии, но ее пока не было, резина тоже оказалась в хорошем состоянии. Нужно сказать, что основные узлы наших аппаратов работали всю экспедицию безотказно. Но внешний вид отечественных аквалангов оставляет желать лучшего. Оформлены они очень грубо, даже неряшливее, чем первые выпуски. Особенно обидно видеть их рядом с зарубежной аппаратурой, зачастую отнюдь не лучшей в работе, но выглядящей всегда аккуратно и даже нарядно.
Нам очень повезло с компрессором. Уже после того как мы отправили в Индонезию пароходом тяжелый и громоздкий ПЗУ С и горестно размышляли, всюду ли мы сможем найти необходимый для него трехфазный ток, нам вдруг удалось достать французский компрессор «Ализ». Этот чудесный безотказный компрессор, маленькая трудолюбивая пчелка, работает на бензиновом движке, имеет малые габариты и весит всего тридцать два килограмма. Да простит меня читатель, не имеющий отношения к подводному спорту или исследованиям, за все эти подробности, которые, не сомневаюсь, будут близки сердцу каждого подводника.
Мы не взяли с собой ни «сухих», ни «мокрых» гидрокостюмов, здесь они могли бы нам понадобиться только для защиты тела от порезов и ожогов кораллами и другими морскими организмами на рифах. Впрочем, мы успешно обходились без защитной одежды, которой все равно хватило бы ненадолго, и ограничивались лишь ластами с закрытой пяткой да порой брезентовыми рукавицами.
Для отпугивания акул мы привезли с собой из Москвы средство, которым, признаюсь, фактически и не пользовались. Это были марлевые пакеты с порошком уксуснокислой меди, которые мы собирались привязывать к ногам. В годы второй мировой войны, по заданию военно-морского флота США, Флоридский океанарий провел обширную серию экспериментов по поискам репеллентов (отпугивающих средств) против акул. Тогда была рекомендована и принята флотом для использования смесь уксуснокислой меди и нигрозина С. Нигрозин С не годился, так как он окрашивал воду в красный цвет, а это исказило бы ландшафты, которые мы собирались изучать. Что же касается уксуснокислой меди, мы добросовестно взяли ее с собой, но вспоминали о ней только после встреч с наиболее несимпатичными акулами да порой за обеденным столом, где нередко говорили и о других средствах: красных лоскутах, которыми пользуются ама — японские ныряльщицы за жемчугом, и небольших зонтиках из красной материи — уж не помню, кто рекомендовал раскрывать их навстречу акуле, что, говорят, ее пугает.
Вместе с тем нельзя сказать, что мы акул не боялись. Ни с акулами, ни с барракудами нам, увы, не удалось добиться той непринужденности в отношениях, какой достигли подводники групп Ж.-И. Кусто, Ф. Квиличе, X. Хасса. Ни крупные барракуды, ни акулы тех видов, которые имеют дурную репутацию, не вызывали у нас желания познакомиться с ними под водой поближе. Наоборот, при встрече мы норовили скромно удалиться на спасительное мелководье и обычно не помышляли о том, чтобы пустить в ход длинные хирургические ножи, которые иногда брали с собой.
К сожалению, за все время пребывания в Индонезии нам не удалось проявить для контроля ни одной цветной подводной пленки, и мы производили съемки фактически вслепую. Можно представить себе, как это затруднило работу и какие печальные, к счастью лишь частично оправдавшиеся, опасения вызывало.
Не буду останавливаться на специальном биологическом снаряжении, а также и на подводных ружьях. Должен только сказать, что, если вы берете с собой в тропики на несколько месяцев подводное ружье, все равно пружинное или с резиновыми жгутами, не рассчитывайте, что оно может быть использовано и в следующем сезоне.
Итак, мы прибыли на два месяца в Пасирпути, место, которое славится своими коралловыми рифами на всю Восточную Яву. Именно здесь добывают коралловых рыбок, актиний и других животных для морских аквариумов Сурабайи, Сингапура и даже для «тропикариума» во Франкфурте-на-Майне, куда предприимчивый коммерсант Аттар отправляет живых рыбок в полиэтиленовых пакетах самолетом. Пасирпути по-индонезийски значит «белый песок». Это также внушало хорошие надежды, ведь белой окраской отличается именно коралловый песок. А если есть песок, должны быть и поставляющие его рифы. Но песочек здесь оказался темно-серым из-за значительной примеси магнетита — минерала, содержащего железо. На таком грунте фауна очень скудна. Так оно и случилось. Зато разнообразным оказалось население скалистой литорали. Пологая платформа, сложенная мертвым коралловым полипняком, представляет собой отмершую часть рифа, обращенную к берегу. Только в самом низу, как это и должно было быть, при отливе ненадолго обнажаются отдельные живые колонии кораллов — бурые, коричневые, зеленые, розоватые, фиолетовые, похожие на крупноячеистые, неровные соты или образующие мелкопористую корку.
Но вот начались погружения. Рифы, над которыми мы плаваем и на которые опускаемся, оказываются мертвыми. Может быть, просто попали на неудачное место? И вот день за днем мы рыскаем на небольшом катерке в поисках живых рифов. Мои спутники — верный Сукарно и Абдуррахман (владелец, механик и капитан катера, все в одном лице). Временами к нам присоединяются геологи, работающие в основном в горах. Вместе с ними и с прибывшими позже из Москвы кинооператорами (один из них, Павел, маститый опытный подводник) мы совершаем и более дальние выходы на берега Мадурского пролива и пролива Бали, на необитаемые коралловые острова Карангмас и Табуап. Везде картина одна и та же. Вместо коралловых рифов мы попадаем всюду на коралловое кладбище. На островах и на некоторых участках побережья эти кладбища еще более выразительны, чем в Пасирпути. На дне и в нижней части литорали там во много слоев лежат длинные обломки ветвистых кораллов акропор. Нога вязнет в них по колено и глубже, при любом неосторожном движении вы рискуете изрезаться этими острыми обломками. Ходить в осушной полосе можно, лишь выбирая место для каждого шага, а под водой нечего было бы и думать о работе старым водолазным методом хождения под грузом. Хорошо, что можно плавать с ластами над этим непроходимым дном. Опускаешься к нему только в нужных местах, стараясь не обрезать живот или грудь отростками оленьих рогов.
Почему-то именно в этих местах много мурен разных видов, величины и расцветок. Их змеевидное светло-серое, оливковое, красное или коричневое тело покрыто обычно сложным сетчатым или пятнистым рисунком. Эти желтые, темно-серые, черные или белые пятна имеют самую различную форму — круглую, овальную, звездчатую.
Иногда мурена неожиданно выскакивала из-под опрокинутой коралловой плиты и бросалась наутек. Но убегали и прятались от нас лишь внезапно потревоженные мурены, большей же частью они невозмутимо высовывали из коралловых нагромождений свои удивительно противные морды с незакрывающейся из-за слишком больших зубов пастью. И когда случалось почувствовать на себе внимательный, злобный взгляд шести-восьми пар глаз этих тварей, становилось немного не по себе, особенно если плывешь один и без оружия. Вспоминалось, что в пасти мурен есть ядовитые зубы, приходил в голову рассказ Плиния о съеденном заживо рабе, брошенном в бассейн к муренам в наказание за разбитый драгоценный кубок. Этих мурен римский гурман выдерживал в бассейне для своего изысканного стола. Правда, мне неизвестно, чтобы за последующие два тысячелетия кто-нибудь был растерзан муренами, но раны от их зубов бывают весьма серьезными и подолгу не заживают. Не знаю я и случая, чтобы непотревоженная мурена первой напала на человека. Но если ее ранят, эта сильная и ловкая рыба превращается в сущего дьявола. Одна из них на моих глазах энергично бросалась на подстрелившего ее охотника и грызла в бессильной ярости гарпун, на котором остались выразительные следы. Другую простреленную мурену не смогли удержать два сильных подводника. После двадцатиминутной борьбы она скрылась в глубокой расселине, унося с собой один из лучших наших гарпунов.
На фоне причудливого рельефа, образованного главным образом размытыми глыбами мертвых кораллов, в районе Пасирпути можно было встретить и довольно обширные колонии кораллов живых. Местами здесь разрастаются ветвистые колонии акропор — красноватые, фиолетовые, коричневые, зеленоватые. Острые окончания вычурных кустиков нередко бывают окрашены в иной, обычно более светлый и нежный цвет, чем вся колония. Акропоры различаются не только по окраске или ее оттенкам, еще более разнообразна их изысканная форма. Один и тот же вид образует порой совершенно несхожие колонии, а всего в индо-тихоокеанских водах насчитывается около двухсот пятидесяти видов акропор. Кустистые пециллопоры отличаются тупыми, как бы оплавленными кончиками, в окраске их колоний преобладают обычно розовые тона. Аккуратные уплощенные и короткие выросты дистихопор напоминают двувильчатые рожки каких-то парнокопытных. Похожи они на рога и своей скромной серовато-песочной окраской. Реже встречаются нежно-голубые гелиопоры. На скопления миниатюрных органных труб похожи пурпурные колонии тубипор. Одиночный коралл фунгия поразительно сходен с перевернутой шляпкой гриба. А вот павона — коричневый коралл, состоящий из острых, пересекающихся под прямым углом пластинок. Перегородками с острыми режущими краями снабжены и похожие на окаменевшие цветы извилистые колонии трахифиллий и симфиллий.
Впрочем, колют, режут и царапают тело, да притом еще нередко и обжигают его, почти все виды твердых кораллов, даже сравнительно гладкие, с бархатистой и, казалось бы, безобидной поверхностью. С погружений на рифы мы, как правило, возвращались исцарапанные, а порой с глубокими порезами, с красноватыми пятнами ожогов от стрекательных нитей кораллов, гидроидов[6] и актиний. Все эти травмы быстро исцеляло чудодейственное лекарство меркурохром — карминово-красная, долго не высыхающая на теле жидкость. Меркурохром у нас не изготовляется, но широко распространен в тропических странах. Правда, покрытые этим снадобьем ранки приобретали зловещий вид. Во всяком случае наши заботливые индонезийские спутники всегда участливо спрашивали нас, не хотим ли мы обратиться к врачу. К счастью, врачебное вмешательство нам ни разу не понадобилось.
Когда на мертвых рифах мои товарищи находили живых кораллов, они являлись возбужденными и говорили, что вот теперь наконец-то обнаружили настоящий живой коралловый риф. Я отправлялся в указанное место, мы прочесывали его на катере, глядя в подводную подзорную трубу, похожую на сплюснутую урну для мусора с плексигласовым дном, плавали с маской, но это опять оказывались лишь разрозненные заросли кораллов, иногда довольно обширные. Такие заросли порой образуют очень живописные участки с разнообразным населением, но все же это не был настоящий живой риф.
Для мертвых рифов очень характерно массовое развитие не настоящих рифообразующих жестких шестилучевых кораллов, а так называемых мягких кораллов, или альционарий. Огромные подушки этих своеобразных, тоже колониальных организмов занимают на мертвых или угнетенных, погибающих рифах гораздо больше места, чем кораллы жесткие, с известковым скелетом. Более того, альционарии настолько характерны именно для таких условий, что их смело можно назвать могильщиками коралловых рифов.
В коллекциях или даже просто вынутые на воздух альционарии обычно выглядят не очень привлекательно. Не случайно одна из обитающих и в водах Мурмана альционарий имеет довольно выразительное название — «пальцы мертвеца». Только немногие альционарии, например розовая или красная нефтия, и на суше некоторое время сохраняют облик какого-то необычайного цветка, пока не потеряют форму и не обесцветятся. Но под водой огромные колонии альционарий выглядят порой просто сказочно. Они образуют то длинные, похожие на водоросли шнуры, то компактные, но с самыми причудливыми выростами лепешки, то какие-то пышные букеты. Окрашены альционарии в фиолетовый, сиреневый, лиловый, коричневый, желтый, розовый, красный цвета самых тонких оттенков. Но это цветовое богатство на воздухе почти тотчас исчезает, окраска становится в большинстве случаев тускло-оливковой, тело сплющивается. Трудно поверить, что это та же колония, красотой которой вы только что любовались на дне. Один и тот же вид нередко образует колонии, настолько различающиеся по форме и окраске, что и мне, зоологу, нередко случалось обманываться и многократно выносить на поверхность колонии того же самого вида.
Кроме кораллов и альционарий в подводных ландшафтах Мадурского пролива встречаются поселения разнообразных гидроидов и губок. Сероватые и желтые веера гидроидов заставляют относиться к ним с большей осторожностью, чем к крапиве. Ожоги этих изящных вееров гораздо ощутимее крапивных. Губки имеют самые различные размеры, форму, структуру и окраску — от тонких голубых и малиновых пленок и рыхлых вишневого цвета корок до огромных коричневых чаш, которые носят громкое название кубков Нептуна.
На мертвых рифах, как и на живых, сравнительно немногочисленны крупные водоросли. Порой встретишь высокий куст саргасса (это тот самый род водорослей, который дал название знаменитому Саргассову морю) с круглыми шариками плавательных пузырей, похожих на мелкие виноградинки. Саргассо — это португальское название мелкого винограда. Привлекают внимание своеобразные столбики турбинарий с тесно прижатыми к стволу треугольными или пятиугольными зазубренными пластинками. Развернутые веером нежные воронки водоросли падина заставляют вспомнить ее черноморских сородичей. Но преобладают на рифах мелкие водоросли, образующие на мертвых кораллах и на отмерших частях живых густой спутанный войлок, в котором один вид почти невозможно отделить от другого. Этим войлоком питаются многие виды коралловых рыб.
Трудно найти слова, чтобы описать сказочное очарование оживляемых рыбками подводных ландшафтов. Фауна коралловых рыб по своему богатству не уступает самым процветающим рифам. Коралловых рыбок часто сравнивают с бабочками или птицами, порхающими среди тропической растительности. Пожалуй, если положить рядом махаона мемнона и одну из рыб-бабочек, трудно будет сказать, кому отдать предпочтение. Впрочем, при таком сравнении соревнование выиграет все же бабочка наземная. Ведь самая яркая рыбка на воздухе очень быстро тускнеет, даже только что вынутая из воды она выглядит гораздо более блеклой, чем под водой. Большинство коралловых рыб, которых нам случалось видеть в рыбацких корзинах, мы узнавали с трудом. То же самое происходило, когда я искал виденных на дне рыб в ихтиологических сводках. Раньше цветные изображения в этих книгах казались мне неправдоподобно яркими, а теперь раздражала их бледность и невыразительность. О коллекционных же сборах, обесцвеченных фиксирующими жидкостями, спиртом и формалином, нечего и говорить.
Ни разу нигде мне не приходилось и, очевидно, не придется видеть такие феерические скопления существ, как на коралловых рифах, будь то рифы живые или мертвые. Рыбы-попугаи, рыбы-бабочки, рыбы-барышни, рыбы-ангелы, рыбы-белки, рыбы-кардиналы, хирурги, сержанты, спинороги — к каждому из этих семейств и ко многим другим, имеющим только латинские или непереводимые местные названия, относятся десятки родов и видов различных рыб, для которых по-русски невозможно подобрать даже имена.
Рыбы-бабочки или щетинозубы обычно имеют, как и другие обитатели рифов, высокое сплющенное тело. В профиль их очень уж плоские тела похожи на круг, правильность которого нарушают только выступающий хвост и слегка вытянутые челюсти. В пестрой окраске этих рыб, обычно пасущихся среди водорослевых обрастаний на кораллах, преобладают желтые, оранжевые, золотистые тона десятка, если не более, оттенков. Представитель щетинозубов платакс держится часто у самой поверхности воды. Он до неправдоподобия похож на увядший листок мангрового дерева. Карикатурно вытянутые челюсти некоторых рыб-бабочек придают им очень комичный вид. Красные большеглазые рыбы-белки ведут ночной образ жизни, а днем их обычно встречаешь недвижно стоящими у самого дна. Название свое рыбы-белки получили за своеобразное ворчание, похожее на беличье. Они издают эти звуки, когда их извлекут из воды, так же как и гронты, которых ихтиологи относят к семейству урчащих рыб.
Как-то я снимал с гарпуна толстого сфероидес, чем-то похожего на поросенка, хотя его желтая кожа вся покрыта шипами. Раненый сфероидес хрюкал так жалобно и выразительно, особенно при вытягивании из него гарпуна, что мне стало не по себе, и я поторопился отправить его в формалин, жалея, что нет другого способа избавить его от страданий. Сфероидес, как и его близкие родственники из отряда сростночелюстных (рыба-еж, тетродов и прочие), способен раздуваться «и превращаться в колючий шар. Другие представители этого отряда — кузовки, наоборот, как бы закованы в прочный костный панцирь. У рыб-шаров очень внушительны торчащие вперед зубы и при неосторожном обращении они могут отхватить палец. Эти рыбы очень забавны своей причудливой формой, но красавицами их не назовешь в отличие от большинства коралловых рыб.
Очень часто встречаются на рифах бесчисленные стаи карангид, полосатых рыбок с ромбовидным телом и раздвоенным, как у ласточки, хвостом. К ним близки известные рыбы-лоцманы, обычно сопровождающие акул. Иногда лоцманы привязывались и к нам, не отставая на всем протяжении подводного маршрута. Почти на каждом шагу можно увидеть синих, алых, темно-красных, золотистых, оранжевых и даже черных, чаще же всего полосатых с голубыми глазками на плавниках рыб-барышень, или помацентрид. Очень красивы высокие и короткие помацентриды с живописным чередованием голубых и оранжевых полос, вытянутыми спинными плавниками и с неблагозвучным латинским названием абудебдуф, взятым, очевидно, из арабского языка. Одна из рыб-барышень, амфиприон, получила также название рыбы-клоуна, очевидно, за свой пестрый с яркими белыми пятнами наряд. Эту рыбку мы часто встречали, казалось бы, в самом неподходящем месте — среди смертоносных щупалец крупной актинии стойахтис. Амфиприон не только питается крохами со стола актинии, но и прячется здесь от других хищников. Подобным же образом номеус, относящийся к так называемым масляным рыбам, находит стол и защиту среди жгучих нитей парящей в толще воды сифонофоры-физалии.
Можно было бы без конца рассказывать об очень живописных рыбках каллионимидах, лишенных чешуи, о рыбах-сержантах, как бы покрытых нашивками, об облаченных в пурпурный наряд рыбах-кардиналах, о своеобразных спинорогах, у которых первый луч спинного плавника — «рог» защелкивается, как лезвие ножа, о тра-хинотусах с плавниками в виде шлейфов, о молочных рыбах, о рыбе-борове со звучным латинским названием антигона, о застывающих в вертикальном положении стаях длинных тонких эолискусов…
У внешнего обрывистого края рифа — свала плавают большие крутолобые зеленоватые рыбы-попугаи, или скарусы, усиленно обгрызающие ветви кораллов. О том, что подобная пища не слишком питательна, свидетельствует постоянно тянущийся за рыбами-попугаями шлейф медленно оседающих известковых экскрементов. К району свала приурочены и более крупные хищные рыбы. Именно там, где риф уходит в голубую, кажущуюся бездонной глубину, приходилось нам порой встречаться с акулами и барракудами. Акулы либо не обращали на нас внимания, либо неторопливо плавали на некотором расстоянии, не подходя слишком уж близко. Однако ни медлительность, ни кажущаяся почтительность акул не внушали никакого доверия. Я хорошо помнил, с какой быстротой могут передвигаться эти рыбы. Должен признаться, что при встрече с крупной акулой я не разглядывал ее слишком уж пристально и обычно успевал только заметить, мигают ли у этой акулы глаза, или же она смотрит на меня не более приятным немигающим взором. Мигающая акула принадлежит к семейству, которое англичане многозначительно называют реквием-шаркс. По-русски это, пожалуй, можно перевести как заупокойные или похоронные акулы. Акула же без мигательной перепонки могла оказаться и акулой-людоедом, и акулой-мако, которой в Китае, например, приписывают, и видимо не без основания, неприятное свойство набрасываться на людей, даже выскакивая из воды.
Впрочем, нужно отметить, что ни одна из встреченных акул, к счастью, не проявляла чрезмерной назойливости, чего нельзя сказать о барракудах. Эти длинные рыбы с противной щучьей пастью иногда проплывали мимо, не удостаивая нас ни малейшим вниманием. Однажды я угодил в стаю неподвижно стоящих барракуд. При моем появлении они не шевельнулись, но в другой раз две барракуды очень уж заинтересовались непонятным пришельцем, и, отступая на мелкое место от их нездоровой любознательности, мне все время приходилось оборачиваться и делать отпугивающие движения, так как они оказывались в слишком уж подозрительной близости от ласт.
Почти каждый раз встречали мы у свала крупных морских окуней эпинефелус и промикропс. Обычно они вели себя вполне пристойно, но иногда такая трех-, четырехметровая тварь вдруг довольно решительно направлялась к вам с полуоткрытым ртом. Признаюсь, два-три раза я от них посторонился, хотя этого, видимо, можно было бы и не делать…
Встречая на некотором расстоянии крупных скатов-хвостоколов, совершенно безразличных к нашему присутствию под водой, мы любовались их красивыми телами и плавными, неторопливыми движениями. Хорошо, что мы не столкнулись с ними внезапно и не испробовали на себе ударов их хвоста, снабженного костяной зазубренной иглой. Соответственно величине этих скатов и игла у них в несколько раз длиннее, чем у нашего черноморского морского кота. У ската-орла, красивейшего из скатов, эти иглы (их обычно бывает две) достигают метровой длины. Счастливым образом нам удалось также избежать неприятностей от неосторожного соприкосновения с ядоносными лучами плавников или выростами жаберных крышек различных скорпен, усатых рыб-кошек, вычурных морских петухов, уродливых рыб-жаб, а также со «скальпелями» многочисленных на рифах высоколобых рыб-хирургов. Эти «скальпели» представляют собой острые костные лезвия, расположенные у основания хвоста рыбы.
Самой недоброй славой пользуется ядовитейшая си-нанцея, или камень-рыба. Это малоподвижное создание — один из примеров самой совершенной в животном мире покровительственной окраски. Синанцея полностью сливается с фоном присыпанных песком и поросших водорослями камней. Возможно, что мы не раз проходили или проплывали мимо синанцей, не подозревая, что имели возможность испытать проницаемость подошв наших ласт или кедов — лучшей обуви для прогулок по прибрежным мелководьям.
Несколько слов о пресмыкающихся. Яванский крокодил немногим уступает нильскому и по размерам, и по агрессивности, но в отличие от него живет почти исключительно в устьях рек и выходит довольно далеко в море. Человек, схваченный крокодилом, может считать себя погибшим, — вот что знаем мы о нем из литературы. На Западной и Центральной Яве крокодилы, по-видимому, истреблены. Во многих местах нас пугали возможностью встречи с ними, но когда мы спрашивали, пострадал ли здесь кто-нибудь от крокодилов, то в ответ неизменно слышали историю о растерзанном крокодилами голландце. Поскольку прошло уже много лет с тех пор, как голландцы покинули Индонезию, нас не очень беспокоили эти рассказы. Однако в Пасирпути мы услышали нечто иное. В районе небольшого порта Панарукан, всего в десяти километрах от нашей базы, за последний год от крокодилов погибло два человека, причем одного из пострадавших рыбаки сумели отбить еще живым, но он умер в лодке через несколько минут. Все же шансы на встречу с ними под водой были невелики, так как мы избегали работать под водой в местах с заиленным дном и мутной водой. Ни на берегу, ни в мангровых зарослях, ни на литорали в устьях рек крокодилы нам тоже не встречались, и мы ограничились их лицезрением лишь в зоопарке Сурабайи.
Хотя в морях Индонезии много морских змей и они в большинстве очень ядовиты, для подводника змеи не представляют особо серьезной опасности, так как на людей не нападают и укусить, видимо, могут лишь при случайном столкновении. Да этим змеям с их устройством рта не так-то легко укусить гладкое человеческое тело. При погружениях мы встречались со змеями, но те не обращали на нас внимания или же стремились скрыться.
У одних видов морских змей, например у пеламиды, тело сплющено с боков, у других сплющен только хвост, служащий рулем при плавании. Обычно морские змеи окрашены довольно скромно, но иногда чередование черных, серых и белых полос или фестонов бывает очень элегантным.
На прибрежном песке мы довольно часто встречали следы морских черепах, однако в воде видели этих черепах только два-три раза. Яйца их довольно вкусны в вареном виде, хотя белок не сворачивается даже при длительном кипячении, оставаясь слизисто-полужидким.
На фоне подводных ландшафтов, образованных кораллами и альционариями, в меньшей степени губками и актиниями, обитает множество видов крабов и других высших ракообразных, а также двустворчатых и брюхоногих моллюсков, иглокожих, всевозможных червей. На мертвых глыбах кораллов во многих местах распускаются изысканные венчики из красных, синих, белых или желтых лепестков. При приближении к ним они исчезают в круглых известковых трубках, пронизывающих коралловую толщу. Если набраться терпения, они вскоре «расцветают» снова. Это многощетинковые черви полихеты из семейства сабеллид, встречающиеся и в наших морях, но особенно обильные и разнообразные именно в тропиках. Другие полихеты, так называемые эррантные, ведут свободный образ жизни. Их змеевидные тела усажены по бокам пучками щетинок, иногда еле заметных, иногда же длинных и острых, порой к тому же ломких. У нескольких видов эти щетинки, кроме того, ядовиты.
Как-то я выходил из воды на берег и услышал голос шофера Хидаята. Он, как многие другие наши спутники, бродил в свободное время по мелкой лагуне в поисках каких-нибудь интересных для нас животных. Это часто оказывало нам значительную помощь. Вот и сейчас Хидаят спешил ко мне с зажатым между двумя палочками и отчаянно извивающимся червем хлоэа. Я чувствовал, что этот великолепный экземпляр, каких еще не было в нашей коллекции, сейчас выскользнет, а попав в воду, мигом скроется в какой-нибудь расселине среди мертвых кораллов лагуны. Делать нечего, пришлось схватить червя рукой и сразу почувствовать, как в кожу впиваются тут же ломающиеся стекловидные щетинки. Кроме того, хлоэа отчаянно колотила меня хвостом и по тыльной стороне руки. Пока удалось водворить добычу в банку, в руке у меня оказалось несколько десятков тонких, полупрозрачных заноз. Вооружившись топкими пинцетами, Хидаят, Сукарно и я сам принялись за их извлечение. Ни в одном из учебников тропической медицины мне не пришлось читать о средствах лечения ядовитых уколов многощетинковых червей, но я на всякий случай решил засунуть исколотые руки в шведскую банку со спиртом. Моему примеру последовал Хидаят, хотя заноз у него не было, а затем и Двое местных жителей, участие которых во всей этой сцене до тех пор сводилось к роли наблюдателей.
Вообще яванцы питают большое пристрастие к любым медикаментам. Когда, например, в некоторых районах нам приходилось профилактически принимать хину против малярии, ни один индонезийский участник экспедиции в отличие от соотечественников ни разу не уклонился от приема достаточно невкусного хинина. Таблетки с витаминами служили лучшим угощением и для взрослых, и для юных индонезийцев.
Как и на литорали, на рифах представлено множество видов крабов. Квадратные гладкие грапсусы, бугорчатые ксантиды, остроносые, длинноногие майиды, несуразные и медлительные. У всех крабов глаза расположены на стебельках, но иногда, например у некоторых макрофтальмусов, длина этих глазных стебельков становится неправдоподобной. Есть крабы, настолько густо покрытые волосками, что в этом мохнатом комочке не сразу и разберешься. Из других ракообразных можно отметить раков-богомолов, вывернутые клешни которых действительно похожи на заломленные в молитве руки, и крупных крабов-привидений. Интересны морские пауки-пикногоны. Название «пауки» не вполне подходит этим своеобразным животным, состоящим из одних, кажется, только ног. Ведь пауки обычно имеют достаточно солидное брюшко, у пикногонов же почти полностью отсутствует туловище и большая часть внутренностей переместилась в их карикатурно длинные конечности.
Очень разнообразны в тропиках длиннохвостые десятиногие раки, известные жителям наших морских побережий лишь по мелким креветкам. Здесь же эти ракообразные часто значительно превосходят по величине своего пресноводного собрата — речного рака.
Когда бродишь по литоральным лужам, часто вдруг раздается характерное потрескивание. Это алфеусы, раки-щелкуны. При погружениях встречаешь их не реже, но треск алфеусов под водой наше ухо почти не воспринимает.
Одну из характерных черт подводного ландшафта в Пасирпути и многих других местах составляют торчащие из расселин и углублений длинные светлые усы лангустов. Увы, многие из них лишились этих украшений, когда мы пытались вытащить их из убежищ. Лишь очень немногие угодили в коллекцию, не говоря уж об обеденном столе, где изредка единственный лангуст торжественно разрезался на двенадцать-пятнадцать частей. Оставалось лишь пожалеть, что Ж.-И. Кусто и его товарищи, показав в одном из своих замечательных фильмов, «В мире безмолвия», торчащие из углублений в скалах усы лангустов и затем аппетитную груду лангустов, уже сваренных, не продемонстрировали, как они их доставали.
На рифах можно встретить много видов раков-отшельников самых различных по форме, величине, окраске и опушенности торчащих из раковин клешней. Еще гораздо большим разнообразием отличаются раковины брюхоногих моллюсков, которые отшельники используют как переносные жилища. Впрочем, в тропиках есть отшельники, приспособившиеся к жизни в полых бамбуковых трубках. Характерно, что спирально закрученное в соответствии с формой раковины брюшко у этих видов, перешедших к жизни в прямых бамбуковых стеблях, снова распрямляется.
Не всегда сразу различишь на дне, какая перед тобой движется раковина — живая или мертвая, занятая отшельником. Только присмотревшись, отличишь плавное скольжение живого моллюска от неровной, я бы сказал, переваливающейся походки отшельника.
Для того чтобы подробно описать все многообразие тропических брюхоногих моллюсков, потребовалось бы несколько томов. Мне придется ограничиться описанием лишь некоторых из них. Очень декоративны раковины ципрей, необычной для брюхоногих моллюсков формы, с узким зубчатым отверстием-щелью на нижней стороне раковины. Эти как будто специально отполированные раковины снабжены тонким рисунком самых различных очертаний и оттенков коричневого, оливкового, желтого и других цветов. Ципреа арабика покрыта узорами, похожими на арабские письмена. Белая с синеватым отливом ципреа тигрис украшена коричневыми пятнами. Вероятно, правильнее было бы назвать ее «леопардис».
Другой своеобразный род брюхоногих — конус действительно имеет коническую раковину. Геометричность формы здесь нарушена срезанной вершиной раковины, ее устье простирается сбоку от основания до вершины этого усеченного конуса. По окраске эти раковины тоже очень разнообразны. Рисунок их бывает то почти прямолинейным, то живописно хаотическим, но в этом хаосе полос и пятен всегда можно обнаружить известную упорядоченность. Несколько видов рода конус пользуются дурной славой: эти моллюски не только умеют кусаться, но укус их очень ядовит и, по литературным данным, иногда смертелен.
Помню ту почтительность, с которой мы с моим товарищем по экспедиции в Китай передавали друг другу несколько лет тому назад первого найденного нами живого конуса. После этого через мои руки прошел не один их десяток, в том числе и тех видов, которые описаны как опасные, и почтительный трепет сменился лишь элементарной осмотрительностью. Надо только не подставлять руки под укус этого медлительного и прежде всего прячущегося при раздражении существа. Мне известны обстоятельства лишь одного случая, когда конус укусил человека: пострадавший шлифовал раковину с живым моллюском.
Некоторые брюхоногие, так называемые голожаберные моллюски, подобно нашему обычному слизню не имеют наружной раковины. Но в отличие от него голожаберники обычно очень ярко раскрашены в коричневый, оранжевый, красный, голубой цвета и самые различные их сочетания. Форма этих моллюсков также бывает весьма изысканной.
Из многочисленных двустворчатых моллюсков отметим лишь немногих: неправильно округлые раковины устриц и похожие на них, но более вытянутые и изогнутые маллеус, что по-латыни означает молоток. Их волнистая раковина действительно напоминает изогнутый молоток, насаженный на такую же кривую ручку. Привлекают внимание крупные пинпы, имеющие форму вытянутого треугольника со сглаженными наружными углами. Острый «внутренний» угол прикрепляется к скале шелковистыми нитями биссуса, из которого в древности выделывали драгоценную ткань виссон. Одни пинны имеют хрупкую коричневую раковину, другие — черную, она ценится как украшение. Большие плоские створки плакун отливают перламутром и кажутся полупрозрачными. Изящны, особенно с внутренней стороны, раковины жемчужниц пинктад, которых в Индонезии усиленно собирают не столько из-за сравнительно редко попадающихся в них жемчужин, сколько из-за перламутра — «матери жемчуга», как он называется на некоторых языках.
Много написано о самых крупных двустворчатых моллюсках — тридакнах, которые якобы захлопывают ногу неосторожного ныряльщика подобно капкану. В многочисленных рассказах, слышанных нами в самых различных местах, жертвой всегда почему-то оказывался молодой сын вождя. И происходило это всегда накануне свадьбы, когда юноша нырял, чтобы достать для своей невесты какой-нибудь необыкновенный подарок. Нежная окраска мантии тридакн очень украшает подводные пейзажи. Край самой раковины бывает различной формы, то плавно закругленный, то с крупными зубцами.
Можно было бы рассказать и о представителях других классов моллюсков, лопатоногих, панцирных, головоногих, о похожих на миниатюрный слоновый клык денталиумах, о покрытых как бы аккуратными плитками черепицы хитонах, об осьминогах. Нарушу традицию и о встречах с корректными, скромными и ненавязчивыми осьминогами распространяться не буду.
Другое дело морские ежи. Те, кто погружался в воды залива Петра Великого, несомненно помнят черных длинноиглых ежей нудусов и их уколы. Может быть, вам приходилось извлекать из тела обломившиеся кончики игл нудуса. Представьте себе теперь те же иглы, но в пять-шесть раз длиннее и более тонкие и ломкие, и вы получите представление о тропических центрехинусах. Эти ежи часто образуют скопления, и, когда проплываешь мимо, они угрожающе поворачивают иглы в сторону пришельца. Хуже, когда такой еж притаится где-нибудь в одиночку. Еще менее приятно наткнуться на тончайшие, почти просвечивающие, но очень длинные и ядовитые иглы ежа диадемы. Ядовиты и некоторые короткоиглые ежи. Иглы же некоторых ежей и вовсе не похожи на иглы. У цидарид они больше напоминают неочиненные карандаши пли, скорее, какие-то удлиненные кристаллы. Красновато-коричневые подофоры вообще смахивают на уплощенные, с округленными пластинчатыми чешуйками шишки каких-то хвойных растений.
Очень разнообразны по форме морские звезды — от тонких уплощенных астропектенов до огромных шарообразных кульцит. Тонкие ярко-синие лучи одних звезд контрастируют с массивными оранжевыми или красными других. В пустотах мертвых кораллов то и дело видишь длинные извивающиеся щупальца змеехвосток-офиур. Но обильнее всех других иглокожих на рифах, и особенно в коралловых лагунах, голотурии. Толстые колбасы их тел достигают нередко в длину полуметра и более. Окраска голотурий варьирует от черной, через все оттенки фиолетовой и лиловой, до светло-желтой. Тела их то покрыты шиповатыми выростами, например у трепанга, то упругие и гладкие, то образуют плотные кожистые складки. Многие голотурии распускают по дну длинные клейкие ловчие нити. Если эти нити прилипают к рукам, от них потом очень трудно отделаться. И вообще, собирая голотурии, приходится класть их отдельно, иначе они измажут слизью весь остальной материал. Красотой эти животные обычно не блещут, но внушают некоторое уважение своей массивностью. Отдельные виды голотурий употребляются в пищу.
Наиболее живописны из всех иглокожих, пожалуй, морские лилии, составляющие обязательный элемент подводных рифовых пейзажей. Не знаю, с чем сравнить букеты их жестких и тонких, вычурно разветвленных лучей — зеленых, черных или оранжево-красных. На цветы они не похожи, слишком уж тонки «лепестки» их венчика. Ни с чем другим их тоже, пожалуй, не сравнишь.
Итак, на коралловых рифах Мадурского пролива мы встретили очень разнообразную и интересную фауну, несмотря на то что сами рифы оказались мертвыми. Долго пришлось анализировать все возможные причины их гибели, и в конце концов мы сделали вывод, что рифы уничтожены продуктами вулканических извержений. Теперь перед нами стоит задача (ее нельзя было выполнить в Индонезии) — по «радиоактивным часам» определить время этой гибели и увязать его с исторически известными вулканическими извержениями.
С точки зрения основной проблемы нашей вулканологической экспедиции, полученные выводы нас обрадовали, но мне, биологу, приходила в голову печальная мысль: ведь все намеченные для изучения районы приурочены к тем местам, где вблизи берега есть действующие вулканы. Неужели повсюду мы встретимся лишь с мертвыми рифами? К счастью для меня, эти опасения не оправдались. Настоящие живые рифы мы встретили на замечательном острове Бали, на Северном Сулавеси и на лежащем у самого экватора острове Унауна.
9
ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ ЯВЫ
В предыдущих главах мы ничего не говорили об архитектурных памятниках Явы, но обойти их вниманием невозможно. Наряду с прославленными храмами Индии, камбоджийским Ангкор Ватом и знаменитой бирманской падогой Шве-Дагон они внесли в культуру человечества огромный, еще не оцененный полностью вклад. Но и теперь нельзя себе представить всеобщую историю искусств, в которой не нашли бы места величественные памятники домусульманской Явы.
Нам повезло. Все примечательные сооружения седьмого — десятого веков на Центральной Яве лежали прямо на пути наших маршрутов. Все эти памятники (чанди) расположены в трех районах: на вулканическом плато Дьен (между Пекалонгканом и Чилачапом), в живописнейшей долине Кеду (район Магеланга) и в окрестностях Джокьякарты.
В современном яванском языке словом «чанди» обозначаются по существу все самые разнообразные древние памятники — мавзолеи, гробницы, храмы. Ведь старые буддийские и индуистские святыни еще в пятнадцатом веке, с победоносным шествием ислама, полностью утратили свое религиозное значение, а многие их них, даже самые грандиозные, надежно укрылись в чаще тропических лесов и были заново найдены учеными лишь полтораста лет назад.
Исключение составили только памятники плоскогорья Дьен с его бедными почвами и суровыми климатическими условиями. Здесь древние чанди продолжали оставаться на виду у сменивших религию жителей. Бесплодное плато Дьен стало, как говорят исследователи, «Олимпом яванской мифологии». Сохранившиеся здесь чанди связаны с именами легендарных воинов полумифического царя Пунтадевы: герой Арджуна, летавший на своем сказочном крылатом коне, Гатот Кача, Сено, Креспо, Бима, доблестно сражавшиеся со злокозненным раджой Суюдоно, со страшным великаном Девой, с раксасом-демоном Сватамой. Они совершали множество других подвигов, вошедших в традиционные героические спектакли яванского театра — вайанг. Примечательно, что Арджуна, обладатель чудесного Виджайя Кесума — цветка победы, кое в чем напоминает героев древнегерманских саг.
Под стать скудной растительности горного плато Дьен скупы и строги линии имеющих почти правильную форму куба, сложенных из вулканических пород храмов седьмого-восьмого веков: Сумар, Дваривати, Сембадра, Пунтадева, Гатот Кача и самого крупного из них — Арджуна. Храмы эти, несмотря на небольшие размеры, величественны, на их гладких стенах особенно четко выделяются экономные декоративные детали и немногочисленные скульптурные украшения. Мавзолей Шри Канди сложен из отдельных блоков. Границы между блоками подчеркнуто разделяют на части барельефную фигуру божества, покровителя этого удивительно цельного мавзолея.
Привыкнув к тому, что индуистские храмы обычно отличаются большой пышностью и разнообразием формы, не сразу понимаешь, почему специалисты относят эти геометрически строгие постройки к южноиндийским шиваистским памятникам и лишь в более вычурной чанди Бима усматривают влияние Северной Индии. Вместе с тем никак нельзя назвать эти храмы примитивными, хотя в них и проглядывает порой магическая простота дольменов. Вероятно, эта лаконичность была демонстративным протестом против плавных и мягких линий какой-то не дошедшей до наших дней архитектурной школы (памятники древнее пятого века на Яве не обнаружены). Ведь и суровая простота дорических храмов Эллады явилась в какой-то мере реакцией на вычурное искусство Крита.
В середине восьмого века значительную часть Явы захватило суматранское государство Шривиджайя, и буддийская династия Шайлендров вытеснила с центральной части острова шиваистских властителей династии Санджайя. В принципе буддизм даже в своей махаянской[7] разновидности должен быть более строгим, аскетичным и рационалистичным, чем склонный к внешней пышности индуизм, как шиваистского, так и брахманского толка.
Но именно в эту (а не в последующие) эпоху буддизм, потеснивший шиваистский индуизм Санджайя, оказался в оставленных им памятниках гораздо более пышным и декоративным. Обе мировые религии в яванских условиях очень сильно трансформировались под местным влиянием. Так, первобытный анимистический культ предков оказал влияние не только на все без исключения архитектурные памятники Явы, он пронизывает и современный индуизм балийцев. К эпохе Шайлендров относятся отделанные богатыми скульптурными фресками буддийские храмы долины Кеду и окрестностей современной Джокьякарты — очень стройная, устремленная ввысь чанди Павон (видимо, древний крематорий), вычурная чанди Мендут с великолепной статуей Будды и двумя предстоящими бодисатвами, гробница Каласан, посвященная царем Панчапана своей жене (опа изображена в обличии богини Тары), чанди Сари, незаконченная чанди Севу и, наконец, прославленный Боробудур.
Теперь считается, что этот величайший памятник мировой архитектуры выстроен в 772 году при том же царе Панчапана. Не верится, что долгие века это грандиозное сооружение было скрыто лесными зарослями. Однако это так. Боробудур был найден учеными в непроходимом лесу лишь в 1814 году. Когда поглотили его тропические джунгли? В десятом ли веке, когда на Центральной Яве вновь воцарилось индуистское государство Матарам? Или в одиннадцатом, после катастрофического извержения Мерапи, которое причинило непоправимый ущерб всей цивилизации Центральной Явы? А может быть, и значительно позднее, когда и буддизм, и индуизм были сокрушены магометанством, завоевавшим в пятнадцатом веке почти всю Нусантару? Кто знает? Ясно лишь одно, что в отличие от дьенского пантеона фольклорных героев религиозная, философская и политическая символика Боробудура чужда яванцу-мусульманину не меньше, чем европейскому туристу. Мы не слышали ни легенд, ни местных преданий, связанных с Боробудуром. Даже происхождение его названия исследователи истолковывают по-разному. Есть, правда, слабые зачатки новых ритуалов, но таких наивных, что не приходится говорить о них всерьез. Кто сумеет протянуть руку сквозь каменную решетку и дотронуться до скрытого под ней изваяния сидящего Будды, особенно до самой сокровенной части его тела, тот обретет счастье. Вокруг толпится народ, слышится смех, шутки. Тот, кто жаждет рождения сына, возжигает ароматные свечи-лучинки перед одной из каменных фресок.
Что же все-таки представляет собой Боробудур? Это огромный храм, но храм совершенно особый, особый хотя бы потому, что в нем нет специального храмового помещения. По существу это облицованный серым вулканическим трахитом холм, где камни не скреплены известковым раствором. Девять ярусов, девять окаймляющих каждый ярус галерей, ходы которых все время изгибаются под прямым углом. Каждый следующий ярус уже предыдущего, три верхних яруса представляют собой концентрические окружности, в центре их возносится к небу огромный купол очень своеобразной формы. Это ступа, или дагоба, типично буддийское сооружение, которое часто можно увидеть на полотнах Рериха.
Мне растолковывали как-то смысл сложного строения дагобы. Круглое ее основание символизирует землю, выше располагаются три диска — три вида человеческого счастья: центральная часть, похожая на колокол, соответствует сердцу человека, увенчивающая его четырехугольная плита соответствует четырем видам человеческой воли, а усеченное короткое острие отражает извечное стремление человека к богу.
Собственно, и весь ансамбль Боробудура представляет собой тоже огромную дагобу, но с иным соотношением частей: шесть усложненных прямоугольных галерей, три круглые. Не девять ли это гармоний человеческого духа? Помню, пагоду девяти гармоний я видел как-то в Хань-чжоу. А может быть, нужно принимать в расчет и десятый, засыпанный ярус. Тогда храм может символизировать десять ступеней бодисатвы на пути становления его Буддой. Верхняя дагоба, видимо, изображает острие. Эта дагоба глухая, в ней замурована статуя Будды, слишком священная, чтобы открыть ее для человеческих глаз.
На склонах каменного холма воздвигнуто еще четыреста тридцать восемь изображений Будды, часть из них расположена в нишах, но большинство тоже накрыто ступами, правда решетчатыми. Будды со сложенными ладонями изгоняют страх, с руками на коленях благословляют землю, Будда с ладонью вверх символизирует щедрость, со сложенными руками — просвещение. Каждый традиционный тип статуи ориентирован очень строго. Символ щедрости всегда повернут лицом на юг, благословляющий землю Будда — обязательно на восток.
Но это все, так сказать, частные символы. Общая символика храма так и осталась для нас непонятной, не нашел я ее толкования и в литературе, кроме самых общих слов: символ упорядоченности государства, символ упорядоченности человеческой личности, ее совершенствования и стремления к нирване, слиянию с божеством.
И все же какая-то стройная философская система, несомненно, чувствуется в этом гигантском шедевре. Ощущаем ее даже мы, бесконечно далекие от буддизма люди. Можно представить себе, как она действовала на приверженцев этой религии!
И наряду с этим — величественное пренебрежение к молящимся, к тем, для кого, собственно, храм и предназначался. Статуи Будд под колпаками дагоб, глухими или ажурными, сквозь которые видны лишь общие контуры статуй. Весь нижний ряд скульптурных фресок оказался замурованным, и замурован он не когда-то потом, а сразу же после их создания. Но самое главное, храм построен так, что нет на земле точки, из которой можно было бы увидеть его целиком во всей гармонии и упорядоченности. Долго-долго бродил я по лестницам и галереям Боробудура, любовался отдельными его деталями и частностями, представлял себе, как должны были эти детали действовать на чувства и разум верующего буддиста, но постепенно я начинал ощущать все большую и большую неудовлетворенность. Чего-то недоставало в обилии впечатлений от этого сказочного памятника. Наконец я понял, в чем дело. Ансамбль воспринимался мной лишь по частям, цельной же картины не оставалось, а это уже становилось тягостным.
Спустился вниз, пытаясь найти ракурс, чтобы памятник воспринимался в ансамбле. Ничего не получилось, и я чувствовал, что и не получится, если я даже отойду на несколько километров. Более того, при лицезрении со стороны стройность памятника вообще исчезала. Если лестницы и галереи, когда я был в самом Боробудуре, создавали стройную перспективу и чувство гармонии, то, глядя на храм снаружи, я никак не мог увидеть ничего, кроме нагромождения террас, выступов, беспорядочно торчащих обелисков. Так же воспринимали Боробудур и мои спутники, особенно те, кто хотел запечатлеть его ансамбль на фотографии. Им это не удалось, как и мне, как и авторам многих других изображений храма.
Помогла мне понять, в чем тут дело, чудесная книжка Норберта Фрида[8]. Но пусть чешский писатель расскажет об этом сам: «Строители Боробудура… в своем интеллектуальном высокомерии зашли очень далеко. Они не стремились к тому, чтобы их создание правилось как можно большему количеству людей. Не колеблясь, спрятали они часть рельефов под землю. Не побоялись спрятать н.а.с.т.о.я.щ.и. й вход в лабиринт. Поместили статуи семидесяти Будд в непроницаемые для взора каменные купола. Множество деталей, рассеивающих внимание, замаскировали всю гармонию плана.
И все-таки они, вероятно, стремились к общей гармонии. Им удалось придать своей постройке большое очарование, недоступное, однако, взору рядового человека. С муравьиным усердием строили они все так, словно этим должен наслаждаться взор, уже оторвавшийся от земли, направленный вниз с небес.
Вид на Боробудур с самолета прекрасен. Вся нестройность этой громадины исчезает, хитросплетение путей сразу распутывается. Неужели это тот самый скучный лабиринт? Ведь все это ясно, точно, открыто. Все как на ладони…
Не стремились ли строители продемонстрировать эту истину? Но тогда скажите, на кого они рассчитывали? Ведь не на самолеты же, не на аэрофотосъемку. Так не кажется ли вам, что верхушка духовенства создавала истинную красоту Боробудура в буквальном смысле слова как зрелище для богов?»
Боробудур представляет собой огромный музей древней скульптуры. По обе стороны бесчисленных галерей храма тянутся сплошной чередой прекрасные барельефы, иллюстрирующие так называемые джатаки — притчи о всех пятистах цятидесяти перевоплощениях Будды. Одни авторы говорят, что общая длина всех изображений составляет два с половиной километра, другие утверждают, что больше четырех. Не знаю, не измерял, но думаю, что правы вторые.
Иллюстрированная энциклопедия буддизма — назвал кто-то эту экспозицию. Нет, скорее, энциклопедия яванского быта восьмого века — поправил другой и был прав, так как эти жанровые сцены изображают самые различные стороны жизни народа. Мне же представляется, что это прежде всего великолепный музей древнего искусства, музей, равный которому по полноте экспозиции, пожалуй, и не встретишь в мире. Нечего было и думать о том, чтобы подробно рассмотреть все это богатство за один-единственный день. Я доволен и тем, что смог различать манеру школ или даже мастеров, ведь их здесь работал не один десяток. Одни более сдержанные, даже порой суховатые, другие откровенно любуются высеченной линией и сочностью композиции, третьи работают в торопливой и несколько угловатой эскизной манере.
Если когда-нибудь судьба снова занесет меня в Боробудур, я больше не буду вдумываться в религиозную символику буддизма, не буду рассматривать великолепно сделанные, но все же однообразные статуи Будд и вникать в оттенки их благословляющих или поучающих жестов, а все внимание и все свое время посвящу этим великолепным каменным картинам. Так, бегло пробежав по залам Эрмитажа и составив себе самое общее впечатление об их богатствах, мы мечтаем вернуться туда, чтобы рассматривать отдельные шедевры. Вот, пожалуй, то основное чувство, с которым я покинул Боробудур.
В девятом веке продолжалась борьба между буддийским суматранским государством Шривиджайя и индуистским исконно яванским Матарамом. У историков нет единого мнения о буддийской династии Шайлендров. Одни и те же ли цари правили на Суматре и на Яве или разные? Имеющиеся сведения расплывчаты и противоречивы. Допускается даже возможность, что Суматра и Ява составляли в то время единый остров, как это можно считать доказанным для Явы и Мадуры, и что Зондский пролив образовался только в четырнадцатом веке.
Как бы то ни было, но через средневековую, да и более позднюю историю Индонезии красной нитью проходит борьба за гегемонию в архипелаге между преимущественно малайской Суматрой и яванскими государствами Матарам, Кедири, Сингосари, Маджапахит. Часто эта борьба переносилась с полей битвы в покои царских дворцов — кратонов. Идея об объединении всей Нусантары в одно государство встречала отпор старояванской феодальной знати, противодействовавшей панмалайским «чужеземным» влияниям.
В начале десятого века на Центральной Яве снова господствовал традиционный шиваистский индуизм. Видимо, в 910–919 годах при матарамском царе Дакса из династии Санджайя был воздвигнут неподалеку от Джокьякарты замечательный ансамбль Прамбанана, насчитывающий сто пятьдесят шесть гробниц и восемь больших храмов. Среди них выделяется монументальный и пышный храм Шивы.
Этому блестящему скоплению архитектурных шедевров было суждено лишь очень недолго просуществовать в своем первозданном виде. Страшное извержение вулкана Мерапи в начале одиннадцатого века разрушило Прамбанан и засыпало его остатки пеплом. Руины заросли лесом и были обнаружены учеными лишь в 1797 году. Восстав из пепла в буквальном смысле слова, они и в то время поражали зрителей своей вычурной красотой. В пятидесятых годах нашего века правительство Индонезии начало большие реставрационные работы. Теперь центральные храмы Прамбанана уже восстановлены.
Каждая деталь всех храмов насыщена украшениями с воистину индуистской пышностью и щедростью. Но стоит отойти немного, и детали сливаются в стройное, законченное целое — то, чего так недостает Боробудуру. Эта цельность восприятия относится не только к отдельным храмам, но и ко всему ансамблю.
Один из храмов посвящен Браме. Его статуя вознесена на площадке верхнего сужающегося этажа. Фигура бога вырастает перед вами, когда вы поднимаетесь по ступеням к центру храма. Этот бог, создав вселенную, удалился затем от дел. Соответственно и почитание его носит какой-то формальный, лишенный эмоционального накала характер, по крайней мере у шиваистов. У другого очень красивого и по линиям, и по отделке храма центральной статуи нет. Кому он посвящен, так и остается неизвестным. Запечатлелся в памяти храм веселого, жизнерадостного Вишну. Отдельный храм отведен божественному быку Шивы — Нанди. На площадке высится его изваяние.
Центральный, наиболее пышно декорированный и самый величественный храм посвящен, разумеется, Шиве. В четырех его разобщенных приделах, к которым ведут лестницы с четырех сторон, стоят статуи Шивы божественного — Махадевы, Шивы учителя — Махагуру, мудрого бога науки — Ганеша, изображаемого в виде слона, и царственной супруги Шивы — богини Дурги. Со статуей Дурги, давно уже утратившей для местных жителей свой религиозный смысл, связано и другое, более распространенное в Индонезии название всего ансамбля — «Лоро Джонггронг» или «Стройная дева».
Нам рассказали легенду о создании Лоро Джонггронга. Знатный юноша посватался к красивой, но заносчивой девушке, которая сказала ему, что выйдет за него замуж лишь в том случае, если за сутки он выстроит город-храм, украшенный тысячей статуй (во всем ансамбле Прамбанана, включая и разрушенные гробницы, их было, вероятно, немногим меньше). Юноше помогали гномы или какие-то другие силы, но в общем девица увидела, что задание будет выполнено в срок. Тогда, за несколько минут до назначенного времени она, тоже с чьей-то помощью, похитила и уничтожила одну из статуй. Но разгневавшиеся боги превратили обманщицу в недостающую статую. Это и есть статуя божественной супруги Шивы.
Храмовой ансамбль великолепен. Как и Боробудур, он славится своей скульптурной резьбой. Снаружи храмов высечены самые различные, преимущественно декоративные (но, видимо, имеющие и символическое значение), сюжеты: какие-то лопоухие зайчики или кролики, птицы… Но что это такое? Под сенью густого дерева расположились две птицы с женскими лицами. Одно радостное, светлое, другое грустное. Да ведь это наши вещие птицы сирин и алконост! Каковы же были пути этого сказочного Мотива? От «Голубиной книги» византийского православия в Юго-Восточную Азию пли, скорее, наоборот?
Если в Боробудуре запечатлена в каменных иллюстрациях летопись жизни Будды, то Прамбанан хранит в своих камнях не менее блистательный индуистский эпос. «Рамаяну», или, вернее его индонезийский вариант, существенно отличающийся от подлинника — «Сказание о Сери Раме». На внутренних парапетах площадок центрального храма Шивы высечены картины жизни этого сказочного принца и царя, земного воплощения бога Вишну. Вот его отец Дасарта Махараджа находит в бамбуковом стволе красавицу Манду Дари, свою будущую супругу и мать Сери Рамы. Вот за больным царем ухаживают Манду Дари и преданная, но своекорыстная наложница Балия Дари. На другом рельефе Сери Рама, чтобы получить в жены царевну Ситу Деви, пронзает одной стрелой сорок посаженных в ряд веерных пальм. Царь демонов-раксасов злобный и чудовищный Равана похищает красавицу Ситу Деви. Сери Рама со своим братом и верным помощником Лаксаманой ищут пропавшую Ситу. Сери Рама торжественно сажает рядом с собой царя обезьян Ханумана, тем самым официально признав его своим сыном (умный, энергичный и храбрый Хануман был зачат Сери Рамой и Ситой, когда они силой злого волшебства были превращены в обезьян, но выношен другой женщиной). Хануман собирает обезьянье войско для решительного штурма заколдованного дворца Раваны. Вот доблестный Сери Рама снова вместе с красавицей Ситой Деви.
Многие находят, что каменная поэма «Рамаяны», высеченная в центральном храме Прамбанапа, превосходит по своим художественным достоинствам боробудурское жизнеописание Будды. Ее каменные фрески мягче и пластичнее, от них веет добротой и жизнерадостностью, здесь почти нет кровавых батальных сцен. Но на меня более суровые и даже более примитивные резные фрески Боробудура произвели не меньшее впечатление, хотя их сюжеты я знаю гораздо хуже, чем перипетии «Сказания о Сери Раме».
Неподалеку от храмового ансамбля расположен открытый театр, оснащенный современной осветительной техникой. В этом театре по полнолуниям в сухой сезон ставятся для многочисленных туристов и приезжих широко рекламируемые спектакли «Рамаяны». Только в сухой сезон — театр ведь открытый, а освещенные лунным светом храмы Прамбанана служат для представления естественной декорацией. Посмотреть эти спектакли мне так и не удалось, потому что именно к фазе полной луны приурочены самые большие отливы, когда обнажаются и те горизонты литорали, которые обычно скрыты под водой. Л такие дни были у меня всегда самыми горячими.
Доктор Сурьо утешал нас, что «Рамаяна» адаптирована для иностранных туристов, что из нее для большей понятности даже исключен текст и она превращена в пантомиму. Зато он как-то специально пригласил нас поехать в Суракарту на спектакль вайанг-оранга — «человеческого театра», где в отличие от излюбленных на Яве марионеток (плоских, объемных, теневых) и от различных видов театра масок играют живые актеры с открытыми лицами.
Спектакль проходил в парке «Шриведари», представляющем собой нечто среднее между нашим парком культуры и ярмаркой. К началу спектакля мы опоздали и поэтому торопливо прошли мимо бесчисленных торговых павильонов, мимо открытой эстрады, где джаз тщетно старался заглушить звуки, доносившиеся и из радиорепродуктора, и из полуоткрытого помещения, где уже началось представление вайанг-оранга. Эта смесь различных звуков еще больше оглушила нас, когда мы вошли в зрительный зал. К тому же еще зрители, не стесняясь, переговаривались в полный голос. Наша соседка что-то кричала своей приятельнице, сидящей через несколько рядов, та отвечала ей так же громко. Плакали дети.
Актеры что-то говорили на сцене, но их не было слышно, и начало своеобразного и красочного спектакля мы воспринимали как пантомиму. Однако через некоторое время мы все же начинаем улавливать и произносимые фальцетом монологи действующих лиц, и сопровождающую действие музыку гамеланга — оркестра, составленного из различных ударных инструментов, и певучий рассказ ведущего-даланга о том, что происходит между отдельными картинами.
Спектакль идет на средневековом яванском языке. Его не понимаем ни мы, ни, увы, наши спутники. Правда, двое из них знают сюжет спектакля и вкратце его нам пересказывают. На сцене совершают подвиги легендарные герои Арджуна, Сено, Гатот Кача, известные нам по их мавзолеям. Очаровательная принцесса-воин, имени ее я не запомнил, храбро сражается с раксасом — духом какого-то вулкана. Раксас с длинными клыками и звероподобной физиономией очень страшен, но девушка одним лишь презрительным и грациозным движением ножки заставляет его отскакивать и в ярости носиться по всей сцене. Очень своеобразна пластика актеров. Она вся какая-то плоскостная — сказывается влияние излюбленного на Яве теневого театра. Условен, но выразителен грим, условна вся манера игры, предельно стилизованы костюмы. Лишь декорации какие-то приторно натуралистические.
Патетика героических подвигов сменяется шутовскими сценами. Шуты с белыми, но почти незагримированными лицами. Это слуги царицы Шри Ганди. Они долго потешают публику шутливыми диалогами (судя по жестам и мимике, не очень высокого сорта), и их-то как раз большая часть аудитории воспринимает с интересом. Нам же, не знающим языка, все эти сцены кажутся невыносимо длинными, и мы с нетерпением ждем возвращения на сцену Арджуны или принцессы-воина.
Кое в чем вайанг-оранг напоминает пекинскую или, скорее, чжецзянскую оперу, и прежде всего — своей растянутостью. Видимо, этот слишком замедленный для европейца темп сценической игры вообще свойствен театру Юго-Восточной Азии — и бирманскому балету-пантомиме, и прославленной японской «Кабуки».
Странное впечатление оставляет музыкальное сопровождение. Гамеланг с его непривычной для европейского уха пентатонической гаммой то гипнотизирует вас какой-то расплывающейся, словно облака на небе, неторопливой музыкой, то ошарашивает неожиданными (но соответствующими действию) диссонансами.
Как-то, проходя по парку в Сурабайе, мы увидели на сцене открытого театра тех же героев, те же костюмы и грим, те же мизансцены того же спектакля, который, очевидно, очень каноничен.
Пьеса, которую мы видели, написана в одиннадцатом веке, при царе Эрлангге, когда яванская цивилизация уже сместилась на восток острова, в устье реки Брантас. Это был золотой век яванской литературы. Рознь между яванскими и суматранскими государствами продолжалась, но индуизм и буддизм в государстве Эрлангги стал постепенно примиряться и сосуществовать. Хотя царь был индуистом и даже считал себя земным воплощением Вишну, среди его приближенных было распространено тантрийское направление махаяны буддизма. Позднее обе эти религии слились в государствах Восточной Явы настолько, что когда в тринадцатом веке умер правитель государства Сингосари царь Вишнувардхата, то после сожжения его прах разделили между двумя гробницами. В чанди Млери Впшнувардхате поклонялись как воплощению Шивы, а в чанди Джаго — как бодисатве.
Нам, к сожалению, почти не пришлось повидать архитектурные памятники Восточной Явы, слишком уж они разбросаны по разным местам. Все же в приветливом горном городке Маланге нам удалось осмотреть чанди Кидал с его как бы слоистыми стенами и с очаровательной устало-скептической мордой доброго чудища Баронг над ее входом, а также полуразрушенную чанди Джаго с остатками барельефов, перегруженная композиция которых напоминает произведения современной балийской живописи.
10
ЗАПОВЕДНИК ИСКУССТВА
Мы отправляемся на остров Бали! Этот сравнительно небольшой остров, самый западный из островов Малой Зондской гряды, занимает во всей многоликой и разнообразной Нусантаре совершенно особое место. Когда в конце пятнадцатого и в шестнадцатом веке ислам с невероятной быстротой сметал все буддийско-шиваистские царства и княжества Явы и Суматры, когда он подчинил своим воинствующим доктринам все развитые государства Индонезии, Бали оказался единственным островом, на котором в неприкосновенности сохранилась домусульманская религия и теснейшим образом связанная с ней культура.
Религия индуизма пронизывает всю материальную и духовную жизнь своих последователей, их быт и искусство. На Бали сохранился шиваистский культ с примесью буддизма и местных верований. Этот остров стал в мусульманской Индонезии заповедником той яркой, тонкой и красочной культуры, которая развилась в этой части архипелага в средние века нашей эры.
В одиннадцатом — пятнадцатом веках между Бали и Явой существовали очень тесные связи. Один из крупнейших государей Восточной Явы Эрлангга был по рождению балийским принцем. Могучий правитель Маджапахита Гаджа Мада лично возглавлял посольства и военные экспедиции на Бали. После падения Маджапахита и других индуистских государств на Яве многие, не принявшие магометанства яванцы, особенно духовенство и светские феодалы, эмигрировали на Бали. Их потомки и сейчас называются Уонг (люди) Маджапахит.
Попасть на Бали лучше всего самолетом. Но мы, конечно, отправились туда на машинах. Что бы мы там делали без них? Несмотря на большое количество автомобилей, направляющихся на Бали с Восточной Явы, переправа через Балийский пролив оборудована очень скверно, вернее сказать, вовсе не оборудована.
Наш шофер Ото лихо форсировал полосу песчаного пляжа и сравнительно благополучно влетел на сходни десантной баржи, отделавшись лишь поломкой глушителя. Пока баржа отчаливала, мы с соболезнованием смотрели, как команда полуголых грузчиков пытается вытащить автомобиль какого-то индийского семейства. Эта машина завязла настолько прочно, что ее капот уже начали заливать волны наступающего прилива.
Балийский порт Гилиманук городишко скучноватый, хотя и вымощены его мостовые кораллами — тем самым пористым известняком, из которого неутомимые строители мадрепоры возводят рифы и целые острова.
Но стоило нам выехать из этого в общем безликого портового городка, как наши рты широко раскрылись, чтобы не закрываться потом на протяжении всего нашего пребывания на сказочном острове. Первая же деревушка оказалась совсем не похожей на яванские дессы. Каждая усадьба огорожена невысоким глинобитным или каменным забором, а над ним возвышаются многоярусные башенки меру, пальмовые крыши домашних храмов и жертвенников, которые мы сначала приняли за курятники и голубятни. Балийская семья, даже крестьянская, живет не в одном, а в нескольких небольших домиках: легких бамбуковых или капитальных каменных — это уж зависит от ее благосостояния. Каменные или кирпичные строения обязательно украшены резьбой из светло-серого «речного» камня. Резьба складывается из очень пышных декоративных мотивов, в ее ковер вплетаются фантастические маски и фигуры различных чудищ, духов, богов. Множество статуй богов и божков, духов, преимущественно злых, и героев народных сказаний щедро рассыпано не только на перекрестках или у фасадов храмов, но и у многих жилых домов.
Изображения богов не имеют здесь того молитвенного значения, как во многих других религиях, боги изваяны без того пиетета, который делал бы их в конце концов очень скучными. Здесь каждая фигура или скульптурная маска отличается «лица необщим выраженьем» даже у «положительных» богов и героев, не говоря уж о демонах-раксасах и злых духах Кала и Бута. Маски злых духов чаще всего встречаются над воротами усадеб и храмов, равно как и злобно-комичная физиономия старой ведьмы Рангды или снисходительная морда доброго чудища Баронг.
Особенно пышно и богато украшены храмы. В каждой деревне их несколько, о городах же не приходится и говорить. Всего на Бали свыше десяти тысяч храмов. Ни один из них не повторяет другого. Мы по крайней мере ни разу не видели двух одинаковых храмов. Перекрестки тоже обязательно оформлены. Углы оград окаймлены колоннами, украшенными резьбой. Обычно такая колонна увенчана странного вида птичьей головой с одной лишь половинкой клюва. Посреди проезжей части возвышается скульптурная группа из пяти фигур, большой центральной и четырех поменьше, которые пялятся с комической злобой на все окружающее.
Украшены даже самые бедные усадьбы, где постройки крыты почерневшими пальмовыми листьями (по виду они почти не отличаются от наших соломенных), где дым из кухонных очагов выходит сквозь многочисленные просветы в крыше, странным образом ее не поджигая. Там, где нет ни резьбы, ни скульптур, ни росписей на побеленной стене, вход в усадьбу все равно украшен кистями или гирляндами бамбуковых листьев. Даже огородные пугала на полях представляют собой колоритнейшие юмористические фигуры.
Сами балийцы производят впечатление красивого, жизнерадостного и очень приветливого народа. Это первое впечатление полностью подтвердилось и в дальнейшем. У мужчин открытые, одухотворенные, умные лица, а женщины почти все красивы. Если балийка молода, то, как правило, хороша собой или даже очень хороша. Слегка округленные лица с мягкими, почти без монголоидных признаков чертами, выразительные темные глаза, нежно-золотистая кожа, стройные гибкие фигуры. Одна, другая, третья — исключений почти нет.
До самого недавнего времени большинство балийских женщин в обычной обстановке ходили обнаженными до пояса. Правительство Индонезийской республики, борясь с этой традицией, прислало на остров, как мне говорили, безвозмездно несколько сот тысяч блузок-кебайя.
Однако и теперь в деревнях мы нередко видели полуобнаженных красавиц или же с кебайей, накинутой так небрежно, что она, собственно, ничего не закрывает. Должен сказать, что стройные женские фигуры очень хорошо вписываются в мягкие и ласковые пейзажи балийских деревень. Но к сожалению, наиболее рьяными хранительницами древних обычаев оказались не молодые, а старые женщины.
Ландшафты Бали даже без построек все же чем-то отличаются от яванских. То ли здесь раньше окончился сухой сезон, то ли это влияние более влажного климата, но зелень оказалась ярче и тона ее сочнее и нежнее, чем на только что покинутой нами Яве. Домашние животные тоже иные. Всюду бродят черные с провисшей спиной и хищно удлиненным рылом несуразные свиньи. По обочинам дороги пасутся красивые миниатюрные коровы, похожие на благородных оленей и окраской, и всей своей статью. У большинства буйволов светлая поросячьего оттенка розовая кожа.
Через несколько часов въезжаем в Денпасар, столицу острова. Пышное индуистское «барокко» на его окраинах сконцентрировано до предела. Украшенные резьбой здания и ворота, храмы, скульптурные группы встречаются буквально на каждом шагу. Центр города имеет, увы, более космополитический характер. Проезжаем мимо католического костела. Его кирпичная громада тоже украшена светло-серой резьбой, правда чуть более сдержанной' и строгой, чем на шиваистских храмах. Зато фигуры святых на фасаде не имеют по^ти ничего общего с аскетическими фигурами апостолов, мучеников и отцов европейской католической церкви. Скорее это расшалившиеся индуистские бесенята, которых заставляет чуть-чуть сдерживаться только строгая обстановка христианского богослужения. Очень наглядный пример, что даже принявшие католичество балийцы остаются сами собой и по-своему трансформируют чуждые им идеи.
Еще небольшой двадцатикилометровый бросок — и мы в Сануре, курортном отеле на берегу Индийского океана. Он лениво плещвтся прямо за невысокой оградой из кораллового известняка.
Пока мы разгружаемся, устраиваемся в комнатах, налаживаем в садовой беседке походную лабораторию, уже стемнело. На берег идти бессмысленно. Но и в темноте океан напоминает о своей близости тихими всплесками волн и морской свежестью.
В отеле для туристов жильцов очень немного. В основном это американские семьи, почти все, как потом выяснилось, из Калифорнии. Надо думать, калифорнийские миллионеры. Ведь туристская поездка в Индонезию, особенно на Бали, стоит баснословно дорого, что еще усугубляется фантастическим валютным курсом рупии.
Утром, не дождавшись даже рассвета, устремляюсь со своими помощниками на берег (таблицы предсказали полный отлив на шесть часов утра). Белый коралловый песок, заросшая «черепашьей травой» лагунка, а за ней слегка выступающий над водой риф. Риф не убитый, но, что называется, зрелый. Колонии кораллов доросли уже до своего предела. О былом их богатстве и великолепии можно судить лишь по углублениям, расселинам и протокам, где еще произрастают живые кораллы.
Еще до поездки сюда Николай заявил, что на Бали сведет объем работы к минимуму, а все остальное время посвятит чисто туристскому знакомству с островом. Ну разумеется, нужно поработать на самой большой в мире кальдере вулкана Батур, посмотреть особенности карстов на южной оконечности острова, побывать на вулкане Агунг… Я тоже тогда подумал, что на Бали действительно нужно побольше внимания уделить самому острову. И вот теперь завяз на первом же рифе…
Возвратившись в отель, мы застали там переполох и суматоху: через час в ближайшем селении должна была начаться торжественная погребальная церемония — ее заключительный этап.
Очень торжественный ритуал похорон у балийцев распадается на несколько этапов и растягивается на годы. Сначала умершего зарывают в землю на кладбище. Кладбище считается местом нечистым и зловещим, а покойник, не прошедший последующих очистительных обрядов, — неудовлетворенным, беспокойным, потенциально злым духом. Раз в несколько лет жрецы-пандиту объявляют, что настало благоприятное время для кремации. Подготовка к этой церемонии отнимает у населения массу времени, сил и средств. Если бы ее совершали все семьи умерших поодиночке, то живым оставалось бы лишь одно — последовать за своими усопшими родственниками. По сигналу жрецов подготовка к кремации накопившихся за несколько лет останков начинается по всему острову. Изготовляют саркофаги и декоративные башни бадэ, похожие на столь характерные для балийского ландшафта многоярусные меру. Бадэ украшаются многочисленными масками, под которыми находится обвитая змеей черепаха. Для каждой касты установлена определенная форма саркофага. Для брахманов мужчин они изготовляются в виде быка, для женщин — в виде коровы. Если брахман был жрецом, то его сжигают в белом саркофаге. Саркофаг представителей касты кшатриев имеет форму крылатого льва, касты весъя — оленя. Эти три благородные касты объединяются названием тривангса, противопоставляясь касте судра, которая впитала в себя и другие низшие касты, и просто людей без касты, например бали-ага — остатки древних жителей острова. Бали-ага вообще не сжигают своих покойников, а отдают их тела на растерзание хищным зверям и птицам. Саркофаг низших каст может иметь форму мифического зверя гаджамина — полуслона, полурыбы. В других случаях саркофагом служит просто четырехугольный ящик, к которому может, впрочем, быть приделана голова быка или другой символ высших каст. Но и в этом случае саркофаг не должен иметь богатой отделки или украшений.
Нужно сказать, что деление на касты вызывает возмущение не только у жителей других островов Индонезии, но возмущает (или смущает — в зависимости от темперамента) и интеллигентных балийцев. Кроме того, оно очень часто не отражает реального социального положения жителя Бали. Многие представители тривангса, даже высшей касты брахманов, живут почти в нищете, судра же могут быть и весьма состоятельными.
Даже в прошлые времена кастовая принадлежность часто не отвечала реальному положению вещей. Например, все балийские раджи и князья — реальные носители власти — относились не к высшей касте брахманов, а к касте кшатриев или даже к весья — первоначально касте торговцев и ремесленников.
Пышной и длительной церемонии сожжения извлеченных из земли останков (во влажном тропическом климате зачастую чисто символических) мы уже не застали. И может быть, жалеть об этом не стоит. Очевидцы говорят, что, несмотря на всю красочность этого ритуала, некоторые его моменты для неподготовленного зрителя довольно неприятны. Но через тридцать пять дней после кремации наступает последний этап обряда — торжественное выбрасывание пепла умерших в море. Вот эту-то процедуру нам и предстояло увидеть сегодня.
Процессию мы встретили на деревенской улице. Прежде всего бросилось в глаза шествие женщин, торжественно несущих на голове плоские металлические чаши. Каждая чаша покоится на ватной подушке, внутри же сосуда виднеется что-то белое. Нам объясняют, что прах заключен в расписанную скорлупу кокосового ореха, завернутую в белую ткань. Снаружи пакет покрыт украшениями из бумаги.
Слышны звуки оркестра гамеланга, на этот раз четкие и ритмичные. Вот идут и оркестранты с бамбуковыми и металлическими ударными инструментами. Некоторые особенно мощные и гулкие гонги и барабаны подвешены на шестах, каждый из которых несут два человека.
Дальше на плечах десятков трех здоровых мужчин в центре всей процессии проплывает бамбуковый помост с золоченой девятиярусной башней, пышно декорированной и украшенной гирляндами цветов. Мне поясняют, что в ней покоится прах очень заслуженного человека (кажется, деревенского старосты), представителя высшей касты. О высоте касты и о личных заслугах красноречиво свидетельствует количество ярусов башни — девять, при максимально возможных одиннадцати (при этом число их обязательно должно быть нечетным). В эту же башню помещен и прах родственников покойного. На следующем помосте возвышается тоже очень богато украшенное сооружение, но без ярусов — в таких хоронят жрецов-пандиту. Далее опять следуют женщины с сакраментальной ношей на голове.
Помост с виднеющейся издалека башней уже проплыл вперед, но вдруг процессия остановилась, и мы увидели, что башня начала раскачиваться и вертеться. Приблизившись к ней, мы с удивлением смотрели, как носильщики с криками и улюлюканьем толкают ее в разные стороны, поворачивают назад, влево, вправо, опять поворачивают, а затем снова чинно несут вперед. Это делают, оказывается, для того, чтобы дух покойника (вернее, покойников — ведь их в башне несколько) не нашел дороги назад. Интересно, что это запутывание следов производится только по отношению к наиболее почтенным покойникам, совершающим свой последний путь в башнях, а женщины, несущие прах своих близких на голове, двигаются вперед без подобных маневров. Видимо, и на том свете «сильные мира сего» могут проявлять себя более действенно и вредоносно, чем бедняки.
На одном из перекрестков наша процессия вобрала в себя другую, тоже с девятиярусной башней. Движение этой соединенной процессии то и дело замедлялось из-за разнообразных поворотов то с одной, то с другой башней. Достигнув берега, обе процессии снова разделились и направились в разные стороны. Отойдя совсем недалеко (мы успевали держать в поле зрения и ту и другую колонны), носильщики поставили башни на песок и, приставив лестницу, полезли доставать из верхних ярусов белые кульки, такие же, что и у женщин на голове. Затем участники (главным образом участницы) церемонии уселись вокруг полуобнаженных, с гирляндами цветов на шее и с завязанными в пучок волосами пандиту, которые начали читать молитвы, сопровождая их очень пластичными движениями рук. Временами пандиту вручал то одной, то другой из окружающих его женщин красный цветок. Молитва продолжалась очень долго, и многие из молодых ее участниц порой начинали поглядывать с улыбкой по сторонам, особенно когда они замечали, что на них направлены объективы кинокамер наших кинооператоров. Впрочем, стоило отвлекшейся заметить, что пандиту смотрит в ее сторону, как на лице ее снова появлялось постное сосредоточенное выражение.
Но вот молитвы кончены, и на берегу началось столпотворение, никак не соответствующее похоронному обряду. Молодые мужчины набросились на башни и стали их остервенело разрушать, другие с шумом разместились в прау и отправились в море, чтобы высыпать пепел на более глубоком месте, большинство же просто входило для этого по пояс в море. Тут же в воде сновали мальчишки. Они подбирали высыпающиеся из пепла бронзовые обгорелые монетки с квадратным отверстием посередине — выкуп для повелителя ада Батари Ямы. Наш нумизмат Николай тут же определил, что это старинные китайские чохи, давным-давно не имеющие хождения.
Церемония окончена, возбужденные ее участники расходятся. Пляж покрыт обломками от похоронных башен, комками мишуры, обрывками позолоты, ватными подушечками из-под чаш с прахом.
Впервые видели мы похоронную церемонию, которую никак не назовешь траурной, и теперь пытаемся разобраться в своих впечатлениях. В чем же здесь дело? Может быть, у большинства боль потери уже сгладилась, так как со дня смерти близкого человека до завершения ритуала прошли годы? Нет, дело, очевидно, не в этом. Просто правоверный индуист воспринимает смерть не как конец существования индивидуума, а как звено в почти бесконечном переселении душ. Тот, кто вел праведную и достойную жизнь, в новом воплощении перейдет в более высокую касту, грешнику же уготовано переселение в касту низшую или даже в какое-нибудь животное. Отсюда и индуистский принцип не убивать ничего живого. На Бали, впрочем, он не принимает таких форм, как в Индии.
Но вместе с тем если умершие перевоплощаются в новые живые существа, то почему же духам предков — лелухурам продолжают приносить на Балл жертвы и после ублаготворения их достойными похоронными обрядами? Более того, их считают божественными посредниками между живыми людьми и, так сказать, штатными богами. Крепко же перемешался на Бали «чистый» индуизм с древнеиндонезийским культом предков!
Кто-то робко заикнулся о том, что, мол, все эти обряды давно утратили внутренний смысл и поддерживаются лишь для туристов. Эти мысли были почерпнуты из поверхностной и предвзятой книжки.
Нет, и в этом мы убеждались потом не раз: во всех обрядах, во всех танцевально-театральных зрелищах балийцев нет ни тени показного, сделанного для приезжих зрителей. Разве только на эстраде отеля «Бали» в центре Денпасара чувствуется некоторый налет приспособления национальных танцев к европейским вкусам. Сказанное, конечно, не относится к «туристской индустрии». Возле отелей и в центре Денпасара вас атакуют продавцы поддельных древних иллюстрированных рукописей на листьях пальмы лонтар, бутафорских крисов, чуть ли не на глазах ржавеющих «серебряных» изделий и, главное, балийских деревянных фигурок. Фигурками этими набиты все индонезийские магазины сувениров — от аэропорта в Джакарте и до главной улицы Денпасара. Покаюсь, что вначале мы смотрели жадными глазами потенциальных покупателей почти на все, что видели на магазинных полках. Лишь потом, когда увидели в селениях Мас и Убуд вдохновенный труд настоящих мастеров, мы поняли истинную цену поточной продукции, которая фабрикуется в расчете на неискушенных и невзыскательных потребителей рыночной экзотики.
Зато в художественном магазине Маса мы не могли оторваться от всех его маленьких шедевров. Примелькавшиеся в других лавках и ларьках композиции здесь были полны настоящего художественного очарования. Морщинистый худой рыбак с закинутой удочкой и хитровато-простодушным лицом, мужская голова с загадочной язвительно-мягкой улыбкой, обнаженная фигура отдыхающей девушки, полная безмятежного покоя и чистоты, две взвившиеся на дыбы грызущиеся лошади… Одни фигурки сделаны из светлого дерева бентава, удивительно передающего теплоту человеческого тела, другие из коричнево-красного саво, хорошо подчеркивающего четкость линий. Светло-серый с более темными прожилками панггал используется для сложных композиций. Я не могу оторваться от простершейся в молитвенном экстазе к небу жрицы. Она, как и многие другие, неестественно удлинена. Модерн? Но модерну этому, насколько я могу судить, не одна сотня лет.
Монументальная каменная скульптура органически входит в архитектурный комплекс храмов, каждый из которых неповторим. Древний Луур гордо возвышается над прибоем Индийского океана в самой южной точке острова. Он расположен на крутой скале, которую считают окаменевшим кораблем богини вод Деви Данау. Внешние ворота его выполнены в стиле «чанди бентар» — расколотого чанди, очень популярного на Бали. Это как бы раздвинутые половинки уплощенного, победно устремляющегося ввысь триумфального обелиска. У подножия каждой половинки статуя мудрого слоноподобного Ганеша. Эти статуи повторены и у вторых ворот, над крутой каменной лестницей. На внутренней храмовой площадке несколько жертвенников, трон бога солнца, стоящий на черепахе, обвитой змеей, рядом каменный навес для кулкула — выдолбленного внутри куска древесного ствола, выполняющего роль колокола. Я задержался у низкой ограды и смотрел на гребни волн, отчетливо видные отсюда, с двухсотметровой высоты, куда грохот прибоя доходил еле слышным рокотанием. Вдруг рядом раздался какой-то шорох. Из окутавших наружную сторону стены зарослей на меня почти в упор уставились две черноволосые обезьяньи мордочки, умные, настороженные и грустные. В такую минуту и впрямь поверишь, что это наказанные за неведомые им самим грехи люди.
Одним храмом на севере острова обезьяны (другого вида) завладели полностью. Обнаглевшие от полной безнаказанности, они забирались на радиаторы и крыши наших машин, прижимали носы к ветровому стеклу и боковым окнам. У женщин с жертвоприношениями они вырывали скомпонованные из фруктов и цветов пирамидки, тут же разрывали их, цветы выбрасывали, а фрукты, торопливо чавкая, пожирали.
Особенно мне запомнился скромный храм приморской деревушки Мартасари, высеченный, как и его наивные статуи, из глыб кораллового известняка, а также всемирно известная Гуа Гаджа (Слоновья пещера). Этот храм вырублен в скале и имеет Т-образную форму. В одном его крыле статуя мудрого Ганеша, в другом — фаллический символ созидания лингам и богиня плодородия Харита, окруженная множеством крохотных ребятишек. Над входом — маска злой ведьмы Рангды с каким-то устало-скептическим выражением.
Каждый вечер и значительную часть ночи мы проводили то в одной, то в другой деревне, любуясь непривычным искусством балийского танца, музыки, театра самых различных видов — теневого вайанг-кулит и близкого к нему театра плоских кукол вайанг-келитик. И в том и в другом театре положительные герои имеют заостренные птицеподобные лица с единой линией носа и лба, отрицательные же персонажи, курносые и с выпяченными губами, таращатся на зрителя круглыми глазами. Лица и ноги у тех и других неподвижны, играют, и притом очень выразительно, лишь невероятно длинные руки.
В театре вайанг-голек объемные деревянные куклы более крупные, они менее стилизованы и выполнены гораздо грубее. Переходом к «человеческому театру» служит вайанг-топенг, где актеры играют в масках. Рот этих выразительных в своей гротескности масок всегда плотно закрыт. Да актеры и не могут говорить, так как удерживают маски зубами за специальный кожаный язычок. Реплики действующих лиц произносит, как и во всех видах кукольного театра, ведущий — даланг. Следует упомянуть об уличном «зверином» театре вайанг-баронган, где главную роль играет огромное доброе чудище Баронг, которое приводится в движение двумя актерами.
В репертуаре всех жанров традиционного балийского театра, чем-то между собой очень схожих, — отрывки из древнеиндийской «Рамаяны» и «Махабхараты», чисто балийские повествования о легендарном принце Панджп. Панджи очень во многом сходен с героем яванского эпоса Арджуна, который, впрочем, часто фигурирует и в балийском театре. Каждый жанр этого театра имеет строго ограниченный, только ему свойственный репертуар.
Все спектакли сопровождаются музыкой гамеланга, причем для каждого жанра имеются свои варианты этого оркестра. Слушали мы и выступление концертного гонг-геде (настоящий симфонический концерт в глухой деревушке!), где дирижер вдохновенно руководил примерно сорока музыкантами, которые натруженными крестьянскими руками старательно извлекали странные для европейского слуха звуки из ударных инструментов, смахивающих на кастрюли, котелки, цимбалы и металлические миски. Этот же оркестр сопровождал классические танцы похожих на заколдованных принцесс крестьянских девушек. Они исполняли танец жертвоприношения, танец золотой птицы и другие. О балийских танцовщицах можно сказать, что они танцуют руками и даже пальцами. Изогнутый торс остается почти неподвижным. Иногда лишь, оттеняя изысканную игру рук и пальцев, они почти садятся на землю, чтобы потом так же незаметно выпрямиться. Эта непривычная пластика в сочетании с дурманящей музыкой гамеланга производила на нас гипнотизирующее действие. Очень популярны, особенно среди иностранцев, танцы девяти-, десятилетних девочек, но мне они понравились меньше. Танцевать с раннего детства учатся все балийские дети. Это считается даже более важным, чем обучение грамоте.
Интересны и мужские танцы: воинственный барис, сидячий танец посла, разыгрывающего целую пантомиму перед властителем, к которому он направлен. Великолепен массовый танец обезьяньего войска, готового штурмовать неприступный замок Раваны, чтобы освободить для Серп Рамы его похищенную жену красавицу Ситу Деви…
О балийских танцах можно рассказывать без конца, как и вообще о балийском искусстве.
Я никогда не думал, что может существовать народ, который бы в буквальном смысле слова жил в искусстве. Искусство пронизывает всю жизнь, весь быт красивых, жизнерадостных и очень приветливых жителей Бали. Вместе с тем это народ, который дольше всех других сопротивлялся иноземным захватчикам. Ведь Бали был окончательно завоеван голландцами только в 1917 году.
В конце экспедиции, когда мы работали близ западной оконечности Явы, в архипелаге Кракатау, до нас дошла весть об ужасной катастрофе, постигшей Бали. Главная вершина острова (по верованиям балийцев — центр земли и воплощение бога Шивы) вулкан Гунунг-Агунг, считавшийся много столетий потухшим, вдруг начал извергаться и унес более одиннадцати тысяч человеческих жизней. Количество жертв могло бы быть значительно меньшим, если бы множество людей не скопилось в главном храме острова — Пура-Бесакп. В то время как лавовые потоки устремились на этот храм, поклонники Шивы искали защиты у его алтаря и молились о спасении. Местные власти пытались уговорить и даже заставить их уйти, но это им не удалось. Извержением нежданно проснувшегося воплощения бога-разрушителя Шивы были уничтожены и храм, и искавшие в нем спасения богомольцы.
11
НА ВНЕШНИХ ОСТРОВАХ
Как ни грустно было расставаться со сказочным островом Бали, но мы не могли задерживаться на нем сверх положенного по плану срока, так как должны были торопиться на Северный Сулавеси, пока там не наступил период дождей. Как же мы были разочарованы, когда, вернувшись на Яву, узнали, что нам придется еще долго ожидать отъезда. В этом, впрочем, тоже была своя положительная сторона. Я заметил, что ребята в последнее время стали раздражительными, а главное, то один, то другой из наших молодых людей начинал порой жаловаться на боли в сердце. Да и я что-то чувствовал себя неважно. Мы решили, что всему советскому составу экспедиции нужно показаться врачам.
Поехали в Сурабайю, где были врачи-соотечественники. Они внимательно нас осмотрели и поставили всем один и тот же диагноз: нервное истощение и авитаминоз B1, а у Николая, Валентина и Альберта в довершение всего еще и вегетоневроз. Врачи отругали нас:
— Да разве можно в этом климате работать так, как вы!..
Мы смущенно отмалчивались, вспоминая свой режим, рсобенно на Бали, где, стремясь не упустить что-нибудь интересное, мы после полного рабочего дня ночами просиживали и простаивали на спектаклях вайангов, на музыкальных и хореографических вечерах.
В том, что у всех нас и даже у наших индонезийских спутников появился авитаминоз B1, я винил себя. Еще в Москве я знал, что, несмотря на обилие фруктов, на экваторе легко заболеть авитаминозом С, так как в тропических фруктах содержится очень мало этого витамина, а разрушается on там очень быстро. Поэтому, к удивлению наших хозяйственников («Вы ведь не в Арктику едете!»), мы взяли с собой большой запас таблеток с аскорбинкой и все время принимали ее сами и кормили индонезийцев, которые потребляли ее с удовольствием.
Но что мы будем испытывать недостаток и в витамине Bi, мне никак не приходило в голову. А должно было бы прийти. Ведь Юго-Восточная Азия, где основой пищи населения служит очищенный шлифованный рис, — родина страшной болезни бери-бери, которая возникает из-за отсутствия в рационе именно витамина В1. Позже в центральном госпитале Джакарты мне привелось видеть больных бери-бери — изможденных и словно одеревеневших людей, у которых не сгибались ноги. Страшное зрелище!
Врачи снабдили нас запасом витамина, строжайше прописали отдых и решительное изменение рабочего режима.
Перебравшись в Сурабайю, мы остановились в отеле со странной вывеской «L. М. S.». Впрочем, у него было и другое название — «Орание отель». Раньше он принадлежал голландскому владельцу, который своевременно, перед тем как отель должны были национализировать, успел продать его какому-то иранцу. Это здание, как нам рассказывали, вошло в историю национально-освободительного движения Индонезии. В дни изгнания с островов архипелага японской армии в 1945 году, когда Сура-байя была оккупирована англо-голландскими войсками, патриоты оборвали на трехцветном голландском флаге одну из полос и вывесили на фасаде отеля двухполосное красно-белое полотнище, прообраз будущего национального флага Индонезии — санг мера-пути.
Если судить по узкому фасаду отеля «L. М. S.», можно подумать, что он очень невелик. Однако его длинные веранды, куда выходят номера, тянутся далеко в глубь большого сада и замыкаются там в несколько каре. Стоял конец сухого сезона, со дня на день должны были начаться дожди, а пока жара и духота в Сурабайе достигли, кажется, апогея. Эту духоту несколько смягчали постоянно вращающиеся пунки на потолках номеров, просторные тенистые веранды и обилие зелени в саду. Выходить на раскаленные улицы не хотелось, и мы иногда выбирались лишь в консульство за свежими московскими газетами, в кино и зоопарк.
В тенистом зоопарке Сурабайи мы проводили довольно много времени. Там у меня даже завязалась дружба с жирафой, которая брала из рук свежие листья, ловко орудуя подвижным языком и щекоча ладони своими удивительно мягкими бархатистыми губами.
В зоопарке мы увидели прославленных «драконов острова Комодо» — гигантских четырехметровых варанов, о которых нам с увлечением рассказывали в Джакарте участники советской зоологической экспедиции на этот остров. Эти огромные хищные ящерицы сохранились только на одном маленьком островке Малой Зондской гряды, но в последнее время их там стало меньше. По просьбе Научного совета Индонезии советские зоологи, палеонтолог и ботаник, изучали условия обитания варанов и разрабатывали меры к сохранению этих уникальных пресмыкающихся.
G интересом, не только теоретическим, смотрел я на неторопливые (на суше) движения внушительного яванского крокодила, который обитает и на других островах Индонезии. А вот с этим узкорылым красавцем — крокодилом Шлегеля нам встретиться в природе не суждено, он живет только на Калимантане (индонезийская часть Борнео).
Шимпанзе вели себя, как шкодливые мальчишки. Выпрашивали у посетителей зажженные сигареты, забирались с ними куда-нибудь в укромный уголок и жадно втягивали дым, уставившись порочными глазами в одну точку. Эту скверную привычку усвоил и молодой орангутанг. В Сурабайе есть великолепный экземпляр взрослого, вполне развитого самца орангутанга. Ничего похожего на этого могучего атлета я не видел ни в одном зоопарке. На лохматой морде огромные мозолистые гребни, над ними маленькие глазки, которые смотрят сейчас с ленивым скепсисом и, пожалуй, даже добродушно. Но совсем не трудно представить себе, в какую ярость может впасть этот великан. Достаточно посмотреть на погнутую решетку из мощных железных балок.
Очень выразительны тонкие тела и невероятно удлиненные конечности черной обезьяны-паука. Нельзя без смеха смотреть на семью носатых обезьян кахау. Благодушный самец с длинным отвислым носом настроен явно философски, две же его жены представляют полную ему противоположность — сварливые мещанки с сухими, обтянутыми лицами и острыми носами кухонных склочниц. У детенышей индивидуальность еще не выражена.
Многих представленных в зоопарке птиц мы уже видели в домах, вернее, в клетках перед домами яванцев, но здесь подобрана богатая коллекция попугаев, которые на Яве почти не водятся.
У туканов такие огромные клювы, что, кажется, им неимоверно трудно держать голову поднятой. Как известно, самцы туканов замуровывают самок в дуплах, так что снаружи торчит только голова, и кормят их все время, пока те высиживают птенцов. Я не знаю ничего безобразнее птенца тукана — это какой-то бесформенный бурдюк с головой и лапами. Сквозь тонкую полупрозрачную кожу, начисто лишенную перьев, просвечивают внутренности.
Но вот наконец пришел дождливый сезон, и однажды вечером разразился ливень. Мы сидели на веранде и увидели перед своими глазами стену воды. По дорожкам забурлили потоки глубиной в десятки сантиметров, а из залитых в саду нор устремились во все стороны знаменитые сурабайские крысы. Я нигде раньше не видывал таких огромных, упитанных и нахальных крыс, как в этом городе. Недаром Сурабайя — единственный город на Яве, который иногда посещает чума.
Сразу резко снизилась температура. Валентин поеживается от холода. (Холода! Плюс двадцать шесть градусов.) Между прочим, как это ни странно, в знойной Индонезии мы в общем-то физически от жары не страдали, хотя ощущали ее постоянно и по два, по три раза в день меняли рубашки. Но стоило тридцатиградусной температуре, ставшей для нас уже привычной, понизиться на несколько градусов — после дождя или при подъеме в горы на две-три сотни метров над уровнем моря, — нас начинала бить дрожь и мы по-настоящему мерзли.
Наконец приходит долгожданное англо- индийское судно «Аронда», зафрахтованное Индонезией. Оно совершает регулярные пассажирские рейсы Джакарта — Сурабайя — Макассар — Манадо. Манадо — столица Минахасы, самой северной провинции Сулавеси. Туда лежит наш путь.
И вскоре позади остаются причалы и стоящие на рейде торговые суда. Проплывают мрачные остовы судов, потопленных во время войны. Идем узкой частью Мадурского пролива мимо многочисленных рыбацких шхун, мимо торчащих из воды шестов от сетей. Выходим в Яванское море, спокойное, как всегда, когда мы с ним встречались. Порой налетают кратковременные заряды дождя, но нам это не страшно, прогулочная палуба крытая. Иногда только приходится, спасаясь от косых струй дождя, переходить к другому борту. Море было то ослепительно синим, то при сплошной облачности приобретало стальную или зеленоватую окраску. Мы проходим мимо коралловых островков с белеющей каемкой пляжа и густой зеленью кокосовых пальм. В хорошую погоду синяя вода вблизи этих островков светлела и цвет ее над невидимыми рифами становился желтовато-зеленым. Иногда пятна такой же желтовато-зеленой воды были видны и над отдельными рифами, надводными и подводными.
У больших кораблей есть один недостаток. Их открытые палубы располагаются слишком высоко над водой для того, чтобы рассматривать все, что делается на поверхности моря, и почувствовать его жизнь. На маленьком суденышке мы, несомненно, увидели бы гораздо больше интересного.
Дождливым утром подошли к Макассару — столице Южного Сулавеси. Я устремился в город, который с детства всегда казался мне одним из самых экзотических городов на земле. И какая-то глупейшая, но тоже с детства запомнившаяся фраза, кажется из юмористического рассказа Джекобса:
— Если у кошки отрубили хвост, смажьте рану макассарским маслом, и хвост отрастет заново.
Мне так и не удалось узнать, что же это такое — чудодейственное макассарское масло, из чего его делают и как оно выглядит.
Макассар решительно ничем не отличается от большинства яванских городов и даже как-то скучнее их. У местных жителей, макассарцев и бугисов, иной, чем у яванцев, этнический тип: более широкие лица, обычно некрасивые, но выразительные, с очень яркими черными глазами. Совершили круг по городу, раза два переждали дождь, перекусили в китайском ресторане и вернулись на «Аронду».
На следующий день интересное зрелище развернулось на прогулочной палубе: молодежь танцевала танцы Минахасы, называемые мейнкет. Под ритмичные удары барабана-бубна юноши и девушки водили своеобразные хороводы и пели при этом очень мелодичные песни. Вот танец, напоминающий сербское коло, — танец постройки дома. Общий хоровод сменяется двумя, девичьим и мужским. Смысл танцев объяснил мне один целебесец. Между прочим, он сказал, что танцы эти исполняются очень редко, чуть ли не раз в год. Потом, живя и работая в городке Амуранг, мы с Сукарно имели полную возможность видеть эти танцы почти каждый день.
Между тем начался второй танец, свадебный. Танцуют его пары, держащие друг друга за пальцы и торжественно шествующие по кругу. Примечательно, что всеми танцами дирижирует двигающаяся в середине круга девушка.
Вскоре «Аронда» пересекла экватор, а еще через день мы подошли к Манадо и встали на рейде против города. Причалы здесь существуют только для мелких судов. Мы стоим у борта на полуосвещенной прогулочной палубе, смотрим на огни не знакомого еще города и гадаем, как он нас примет.
Наутро нас свозят на берег. Раскинувшийся на горных склонах Манадо очень своеобразен и не похож на яванские города. Совсем немногие дома построены из камня, деревянные же не оштукатурены и, как правило, располагаются на невысоких сваях. Город растянулся вдоль берега залива. Большинство домов окружено садами.
В ландшафте господствуют два цвета — цвет очень буйной здесь зелени и цвет побуревшей от частых дождей древесины домов. Совсем не видно типичных для Явы крыш из красной черепицы. Дома побогаче крыты железом, победнее, на окраинах — этапом, пальмовыми листьями. Много костелов и протестантских церквей. Девяносто процентов населения здесь — христиане. Протестантов больше, чем католиков. Почти нет бечаков. Они встречаются лишь в районе порта. Много конных шарабанчиков бенди, а также такси-фургончиков с моторами от мотоцикла. На многочисленных подъемах эти такси обычно останавливаются и шофер на время превращается в толкача. Жители более коренасты и широколицы, но менее смуглы, чем яванцы. Даже у нас теперь кожа, пожалуй, стала темнее.
Я долго пытался выяснить этническую принадлежность жителей Минахасы. Раньше они назывались аль-фурами, но это название очень общее, означающее, пожалуй, лишь, «не малаец». Позднее удалось выяснить, что это близкая к филиппинцам ветвь малайско-полинезийской расы.
Первыми колонизаторами Минахасы были португальцы, изгнанные голландцами еще триста лет назад. Однако следы португальского влияния сохранились и в языке, и в фамилиях, а иногда и во внешнем метизированном облике. Помню, как в глухой деревушке Капиту крестьянка с совершенно европейскими чертами лица говорила:
— Амуранг? Там все жители — португальские бастарды.
Само название «Целебес» — португальское, оно означает «острова», так как португальские мореплаватели приняли этот поразительно расчлененный остров за целый архипелаг. Даже теперь сообщение между отдельными районами острова поддерживается лишь морем и по воздуху. Индонезийское название Целебеса — Сулавеси, что на одном из местных языков означает «Железный остров». Индонезийцы любят говорить:
— Ява — остров прошлого, Суматра — настоящего, Сулавеси — будущего.
Нас привозят в кратковременный приют — какое-то офицерское общежитие, где мы пробудем только до завтра. Как раз вовремя. Полил сильный дождь, и мы наблюдаем, как прохожие срывают банановые листья и прикрываются ими, как зонтиками.
Вскоре к нам приезжают чиновники из канцелярии губернатора и несколько офицеров. Вооружившись картами, подробно обсуждаем перспективы и планы работ. Решаем, что мы с Сукарно перебазируемся в городок Амуранг к западу от Манадо. Там в заливе хорошо развиты коралловые рифы. Кроме того, в залив Амуранг впадает речка Ниманга, берущая свое начало на сольфатарных полях Сопутана. Эти поля будет изучать группа в составе Альберта, Михаила и добродушного, круглолицего суматранца Марданиса. Николай же, Валентин и Павел вместе с индонезийскими вулканологами отправятся на вулканы островов Санги-Хе, расположенных между Сулавеси и Филиппинами. Надо мной будет шефствовать симпатичного вида офицер, горный инженер Тиво. Недели через две-три мы все съедемся в Манадо и отправимся к конечной цели нашего путешествия — небольшому вулканическому острову Унауна, расположенному почти на самом экваторе в заливе Томпни Молуккского моря, между северным полуостровом Сулавеси и основной массой острова.
И вот лендровер господина Тиво карабкается по дороге, круто взмывающей над Манадо. Кокосовые и саговые пальмы сменились сахарной, над дорогой свисают плакучие стебли бамбука с торчащими кверху тонкими, редкими, но очень графичными листочками. А вокруг буйство тропической зелени превосходит яванское (если не говорить о Чибодасе). Стволы деревьев густо оплетены лианами и усеяны эпифитами.
На перевале останавливаемся у ресторанчика, с террасы которого развертывается совершенно великолепный вид на всю западную часть Минахасы, на залив Манадо, на гористый остров Маиадо-Туа («Старуха Манадо»). Город Манадо когда-то был расположен на его крутых отрогах, но из-за недостатка воды был перенесен на другое место.
Нам подают изысканные минахасские блюда из собачатины (собак здесь для этого даже специально кастрируют подобно каплунам и пуляркам), жареных мышей и другие деликатесы. Тиво посматривает, как я ко всему этому отнесусь. Собачатину я потребляю совершенно спокойно (не впервой!), мышки же заставили меня на секунду задуматься. Они, впрочем, оказались очень нежными и вкусными. Трогаемся дальше, проезжаем засыпанный цветами Томохон, заворачиваем в Тондано, расположенный на берегу большого одноименного озера с замечательным водопадом. Проезжаем мимо дымящихся сольфатарных источников Сопутана, где уже начали работать Альберт и Михаил. Дорога резко ухудшается, и трясет нас изрядно. Вскоре темнеет, как всегда очень быстро. И вот мы въезжаем в ночной Амуранг.
На следующее утро к нам явилось с визитом местное начальство — гражданское, военное, полицейское. В течение нескольких часов обсуждаем множество стоящих перед нами проблем, начиная от лодок и кончая нашим будущим меню. К сожалению, во всем Амуранге нет ни одного исправного катера. Работать нам придется на долбленках прау.
Тиво, уроженец этих мест, рисует мне схему расположения живых коралловых рифов. Они находятся довольно далеко от города. Договариваемся, что в дальние районы по западному берегу нас будут перебрасывать на машине. В восточной же части залива единственным нашим средством передвижения останутся прау, так как дорог там нет. А чтобы выйти на Томпаан и другие коралловые острова за пределами залива, Тиво постарается достать катер в Манадо и переправить его сюда на несколько дней.
Для лаборатории нам выделяют большую, просторную комнату рядом с канцелярией и небольшой сарай из гофрированного железа для нашего снаряжения. Жить же мы будем в половине маленького домика, состоящего из небольшой гостиной с непременными низкими креслами из ротанга, двух крохотных спален и, конечно, камарманди — умывальной комнаты. Электричества нет, водопровода тоже. Еду из ресторана и воду нам будут приносить бунги. У нашего жилья есть один существенный недостаток: окна выходят прямо на улицу, и перед ними уже теснится толпа глазеющих на нас ребятишек, к которой порой присоединяются и взрослые. Скрыться от этих взглядов можно лишь в спальне, окна которой наглухо закрыты ставнями. Все это искупается, однако, близостью к морю и месту стоянки прау.
Тиво ведет меня по городу и его ближайшим окрестностям осмотреться. Берег, как и в Манадо, сложен темным магнетитовым песком, почти лишенным фауны. Но уже в двух-трех километрах от нашего жилья, преодолев на лендровере непроходимую, казалось бы, пальмовую рощу, мы попадаем на берег коралловой лагунки. Шлепая по мелководью, благо сейчас малая вода, добираемся до вершины рифа. Он здесь, конечно, мертвый, иначе в самой внутренней части большого залива и быть не может. У меня разгораются глаза при виде разнообразных морских звезд. Здесь же длинные массивные голотурии, губки, похожие на украшения тортов, и сложные асцидии. Все это ютится на глубине полуметра (сегодня большой отлив), укрываясь в морской траве талассии, которую называют еще «черепашьей травой».
Тиво показывает мне руины португальского форта, построенного из больших коралловых глыб, — память о давнем непродолжительном, но оставившем много следов владычестве португальцев.
На следующее утро мы грузимся в длинную узкую прау, куда еле втискиваем все необходимое снаряжение. Похоже, что прау сделана из красного дерева. Кроме того, вся она изрядно вымазана рыбьей кровью. На другой прау нас сопровождают двое полицейских.
В каждой прау двое гребцов-рыбаков. Гребут они веслами с короткими рукоятками, сидя лицом к носу лодки. С места берут очень резво, но через пять-десять минут сбавляют темп и прау начинает двигаться еле-еле. Поэтому мы всегда норовили поймать ветер и двигаться под циновочным парусом. Для нас прау имеет ряд существенных достоинств. Ее низкий борт и расположенное под прямым углом к нему крепление противовеса очень удобны для выходящего из воды аквалангиста. Правда, два солидных бамбуковых бревна-противовеса в три раза увеличивают опасность стукнуться головой при выныривании. Когда я иду под воду, к нам часто подъезжают на лодках местные жители. Всем интересно посмотреть, что делает на дне белый туан в своем непривычном для них снаряжении. «Туану» же остается лишь помнить, что над его головой находится целый лес противовесов, креплений и узких лодочных днищ.
Осадка прау очень мала, и эта лодка может пробираться по самым мелким местам. Ходили мы обычно под парусом бесшумно, и поэтому не распугивали подводных обитателей. Часто у самого борта из воды выпрыгивал змеевидный сарган или красавец марлин, а однажды мы увидели распластавшееся на миг в воздухе огромное тело ската манты с двумя характерными выростами-рожками. Этого ската в одних местах называют морским ангелом, в других — морским чертом. Манта способна потопить даже очень большую лодку, свалившись на нее во время своих акробатических прыжков. В остальном же этот самый крупный из скатов вполне безобиден.
Марлин, или рыба-копье, похож в общем на своего родственника меч-рыбу, но отличается удивительно красивой синей окраской. Здесь марлин служит объектом промысла. Ловят его на удочку. Нередко рыбак проводит в ожидании добычи два или даже три дня в стоящей посреди залива на якоре прау. При удачном лове это искупается и размерами, и отличными вкусовыми качествами добычи.
Мне приходилось читать, что выскочивший из воды марлин насквозь пронзил своим копьем сидевшего в лодке человека, но это, конечно, следует считать роковой случайностью, а не сознательным нападением. В отличие от меч-рыбы марлину вовсе не свойственна агрессивность. Наблюдая за его стремительными прыжками и не менее изящными движениями под водой, пытаешься лишь подобраться к нему поближе и не думаешь о том, насколько остро его копье.
Бризовые ветры в районе Амуранга отличаются замечательной правильностью. По утрам от семи до десяти-одиннадцати часов дует ветер рануяпу, названный так по имени реки, в устье которой расположен городок. От одиннадцати до двух обычно царит безветрие, а затем задувает западный ветер барат, разводящий постепенно довольно крутую волну. Мы, как и все лодочники Амуранга, норовили пользоваться этими ветрами, так что работа наша протекала по еще более строгому, чем обычно, расписанию, когда мы принимали в расчет только светлое время суток и фазы отлива или прилива. Примечательно, что португальцы выстроили свой форт именно в юго-западном углу залива, там, где сходятся все ветры, дующие в заливе после полудня.
Когда ветерок ослабевал и еле-еле тащил прау, лодочники не только «насвистывали ветер», как это делается во всех странах, но и старались вызывать его особым пронзительным прищелкиванием: «тру-лю-лю-лю, рануяпу» или «тру-лю-лю-лю, барат». Интонация при этом напоминала накликание ветра беломорскими рыбаками, которые так же ласковы и фамильярно-почтительны с шалоником, встоком и обеднпком.
Во внешней части залива мы нашли великолепные коралловые рифы, где все дно на большом протяжении было сплошь покрыто живыми кораллами. «Мертвые» рифы с преобладанием мягких кораллов альционарий были здесь приурочены лишь к участкам с повышенной мутностью йоды. Вся сопутствующая фауна оказалась в обоих случаях очень сходной, и восхитительные коралловые рыбы в том числе. Впервые нам, пожалуй, встретился здесь лишь один из щетинозубов — ярко-желтый, по форме похожий на скаляра наших аквариумов, и еще два менее выразительных вида рыб.
Таким образом, почти все, что сказано было выше о фауне кладбищ коралловых рифов в Мадурском проливе, относится и к Амурангу, если не считать, конечно, самих кораллов, образующих здесь совершенно невообразимые живые ковры. Колонии одного и того же вида простираются на десятки метров, в то время как немногочисленные живые кораллы на мертвых рифах распределяются гораздо более мозаично.
На рифах Амуранга трудно было заставить себя выйти из воды по окончании работы. Хотелось смотреть и смотреть на великолепие подводных пейзажей, отыскивать еще не встреченные формы, отмечать все новые особенности жизни рифа.
Температура воды во время всех наших морских работ не падала ниже двадцати восьми градусов. Мы проводили в воде пять-шесть часов подряд и не испытывали переохлаждения. Если на суше, особенно в горах, нам нередко приходилось мерзнуть, особенно по ночам, то ни в море, ни выходя из него, мы ни разу не чувствовали холода.
Перед возвращением домой с ветром, который к этому времени становился попутным, мы обычно располагались для отдыха на берегу в тени развесистых баррингтоний, терминалий и других деревьев, которые продолжают жить, даже когда их подмоет и опрокинет прибоем. Они выпускают новые корни из любой точки ствола и растут, покрываясь листьями, цветами и плодами, в самых невероятных положениях. Этим подмытым и опрокинутым деревьям морских побережий, приспособившимся к жизни в условиях периодического омывания морскими волнами, я дал название полумангров. Па их стволах и ветвях развивается типично литоральная фауна: морские желуди, брюхоногие моллюски литторины, нериты и похожие и а плоские индонезийские шляпы морские блюдечки, а также устрицы и многочисленные крабы — все, как на мангровых деревьях.
Вообще, только попав на Сулавеси, мы поняли, что такое настоящие, не вполне еще окультуренные тропические ландшафты. Ява, конечно, тоже красива, и, любуясь ее видами, не всегда сразу соображаешь, что это по существу плантации. Да, при плотности населения четыреста человек на квадратный километр нельзя ожидать, что найдешь хотя бы маленький участок нетронутой природы по крайней мере на высоте ниже полутора километров.
Устроившись в тени, мои спутники извлекали пакеты из пальмовых листьев, в которые были завернуты рис и приправы к нему — кусочки мяса, овощей, а также рыбы, обычно настолько наперченной, что ее с трудом ели и привычные к перцу яванцы. Целебесский перец печет не только рот, но даже подбородок и щеки. Запивали еду соком молодых кокосов, а их нежная мякоть служила обычно десертом. Натуральный сок кокосовых орехов — кокосовую воду следует отличать от кокосового молока — густой и жирной выжимки из орехов. Между тем в географической литературе очень часто молоком называют именно кокосовую воду — прозрачную и на молоко вовсе не похожую. Никто из моих спутников — ни рыбаки, ни тем более горожане — не умел влезать на кокосовые пальмы. Крестьяне же, с удивительной ловкостью лазающие по пальмам, меня всегда поражали. Когда поблизости не было деревенских жителей, нас выручал полицейский, сбивавший орехи метким винтовочным выстрелом в плодоножку. Обычно все пальмы снабжены специальными зарубками, чтобы, взбираясь на них, было куда ставить ноги. А вот на Суматре, сказал мне Сукарно, зарубок на пальмах не делают, так как там живут обезьяны, которые умеют пользоваться этими зарубками.
По вечерам мы допоздна засиживались за разборкой собранных материалов, лишь иногда отрываясь ненадолго, чтобы посмотреть танцы где-либо на свадьбе. Впрочем, обычно исполнялся не только свадебный танец, но и танцы постройки дома и сбора урожая.
Из университета Манадо к нам прислали еще двух студентов. Мне — в помощь, им — поучиться. В течение двух педель мы каждый день колесили по заливу и были очень довольны успешной работой, но затем почти одновременно на нас начали сваливаться стихийные бедствия: испортилась погода и сильные ливни замутили воду в заливе, наступило рождество, продолжительно и со вкусом празднуемое в христианской Минахасе. Затем рождественские праздники, практически не прерываясь, перешли в новогодние.
За день до начала всех этих бедствий, к счастью хоть совпадавших по времени, случилась неприятность и со мной. Тепловой удар, и притом по собственной глупости. Слишком уж фамильярно я стал относиться к тропическому солнцу. Провалялся я пять дней, поднимаясь лишь для того, чтобы дать очередное задание Сукарно и студентам. Ребята были очень внимательны и заботливы, но ничем не могли мне помочь. Врача в Амуранге не было. На пятый день я понял, что если и дальше буду так лежать, то вряд ли увижу своих близких. Поэтому я попросил машину и в полузабытьи, не ощущая даже тряски, отправился в Манадо. Там меня выходила хозяйка пансиона и две ее дочери. Через три дня я был уже на ногах и направился восвояси, в Амуранг.
Встреча Нового года прошла грустно, несмотря на устроенные в нашу честь факельное шествие и салют из бамбуковых пушек, «заряжаемых» парами керосина.
У индонезийцев нет обычая собираться к двенадцати часам ночи за новогодним столом, и все аттракционы закончились часам к девяти. Даже электричество в городке выключили, как обычно, в одиннадцать вечера.
С острова Санги-Хе возвратились наши геологи. От них давно не было известий, и мы уже стали беспокоиться не на шутку. Побывали они в настоящем пекле: когда спустились в кратер вулкана, началось извержение, вернее, произошел взрыв, и сверху на них посыпались вулканические бомбы. Позднее Николай едва не утонул, уходя к шлюпке с заливаемого камня, вокруг которого бродили акулы. Валентин серьезно болел, и однажды все они чуть не угодили в холерный карантин. Но в общем все кончилось благополучно. Они обследовали и описали подводный вулкан, взяли на дне газы из кратера в момент их выделения и провели много других работ.
Им очень понравились жители островов, гостеприимные, жизнерадостные и симпатичные. Разводят они мускатные орехи и живут в общем неплохо.
По вероисповеданию жители Санги-Хе христиане, но в душе, конечно, язычники, поклоняющиеся вулканам. Так, при подъеме на один из вулканов нужно в определенном месте разбрызгать ароматические вещества, в другом — выкупаться в источнике, в третьем — надеть на голову повязку, в четвертом — положить деньги, дань дьяволу. Деньги, правда, кладут голландские и другие, не имеющие уже хождения. Когда-то вулканам приносили человеческие жертвы — красивых девушек, а скот, кажется, приносят в жертву и сейчас. Рассказывают вполне серьезно, как две деревни не могли поделить между собой для рыбной ловли бухту и как по молитве раджи вулкан справедливо разделил ее на две части лавовым потоком.
Нам предстоит еще последний бросок — поездка на вулканический островок Унауна в заливе Томинп Молуккского моря, лежащий на равном примерно расстоянии от берегов Северного и Центрального Сулавеси.
Что мы знаем об Унауна? Круглый, диаметром чуть больше десяти километров вулканический островок, лежит почти на экваторе. 0°10′ южной широты. Вокруг острова коралловые рифы.
Несколько лет тому назад на нем было небольшое землетрясение, и жители, боясь вулканической катастрофы, собирались покинуть Унауна. Туда прибыли индонезийские геологи и вулканологи во главе с «Нестором индонезийской геологии» профессором Катили, убедились, что вулкан извержением не угрожает, и уговорили жителей не поддаваться панике. Управляет островом раджа. К нему у нас есть рекомендательное письмо от Катили. Вот, собственно, и все, что нам известно.
На следующий вечер мы грузимся на небольшой железный катерок. Разместиться в двух небольших каютах мы не сможем. Спать почти все будут прямо на палубе под брезентовым навесом. Надо защититься еще только от волн, которые начнут заливать носовую часть даже при небольшом волнении.
Трехдневное плавание не отличалось комфортом. Самое неприятное — недостаток пресной воды. Всего одна-две кружки в день для умывания. Это тяжело и для нас, и для наших спутников-индонезийцев, привыкших всегда и при всех обстоятельствах мыться в проточной воде с головы до ног по нескольку раз в день. Во влажном тропическом климате это совершенно необходимо. Не случайно именно у моряков на малых судах особенно распространены кожные заболевания.
Зато здесь не в пример «Аронде» у нас тесные связи с морем. Оно плещется совсем рядом, и мы можем наблюдать за его жизнью. Взлетают, а порой и шлепаются на палубу летучие рыбы, оставляя на воде как бы график силовых векторов, словно на рисунке в учебнике. Рыба машет своими крыльями — длинными и широкими грудными плавниками, а взлетев, парит, расставив крылья и вытянувши тело. Но стоит ей, снижаясь, чуть заметно коснуться гребня волны, как, словно набравшись от воды чудодейственной силы, она снова взлетает и продолжает парящий полет. Порой неподалеку играют дельфины, но за нами они не увязываются, только раз или два прошли перед самым форштевнем. Торопливо плывет к борту неизвестно зачем краб-плавунец, быстро подгребая своими плоскими расширенными лапами.
По поверхности воды проплывает стройной цепочкой стайка аргонавтов — головоногих моллюсков, родственных осьминогам. Они покоятся в тонкостенных, спирально закрученных раковинах-корабликах и чуть шевелят высовывающимися щупальцами.
Голубой цвет воды сменился бурым, мы попали в поле бактериального цветения и плывем словно в супе. Простым глазом видны длинные бактериальные цепочки, похожие на какие-то разварившиеся волокна. А вот здесь, вблизи разрезающего воду форштевня, на поверхности видны брызги, будто идет дождь. Сукарно удивлен. Ведь над нами чистое небо.
— Погодите, вот стемнеет, и море будет светиться, притом мелким точечным свечением, — говорю я ему.
Так и есть, в темноте у форштевня вспыхивают голубые точки. Это мелкие рачки понтеллиды, живущие у самой поверхностной пленки, подпрыгивают и светятся от раздражения создаваемой судном водной струи. Вот проплыла, сверкая голубоватым светом, красивая большая медуза. Взлетающие в темноте летучие рыбы имеют какой-то призрачный вид.
Почти трое суток плавная мертвая зыбь сменялась жесткими толчками небольших, но крутых волн. Кое-кто заметно поскучнел. Но и платившие дань морю, и те, кто не укачивался, — все мы изрядно устали, когда наконец на горизонте показались пальмы Унауна. Из-за встречного ветра и волнения мы добрались сюда гораздо позже, чем рассчитывали.
На подходе к острову наш катерок налетел на коралловый риф, но его железному корпусу это было не очень страшно. «Полный назад» — и мы снова на чистой воде. Оборванные лодочники машут нам руками, указывая правильный путь. Катер на якоре, и мы готовы к высадке. Что-то ждет нас в этом затерянном уголке? Пока единственное желание — вымыться поскорее. Николай удрученно шепчет мне:
— Забыл в Манадо рекомендательное письмо Катили к здешнему радже…
— Что ж поделаешь?
На берегу толпа. Вокруг катера крутятся прау, несколько полуголых лодочников взобрались на борт и церемонно принимают угощение — сигареты. Угощают и нас местными сигаретами кретек, в которых к табаку примешана гвоздика. Их содержимое потрескивает при сгорании, а табачный дым имеет ароматный, но какой-то маслянистый привкус. Появляются официальные лица в мундирах цвета хаки, с погончиками — обычной форме индонезийских чиновников. Один из них — начальник администрации острова, бывший раджа, другой — представитель губернатора Среднего Сулавеси, прибывший из города Посо специально, чтобы принять нас. Мы не сразу разобрались, кто из них кто, тем более что оба они не говорят, хотя немножко и понимают, по-английски. Вероятно, раджа вот этот элегантный молодой человек со стэком, у него очень непринужденные манеры и породистое лицо. У второго же, более пожилого, повадки и внешность типичны для озабоченного чиновника. Он-то и оказался бывшим раджой.
На берегу нас сопровождает довольно многолюдная толпа. Двигаемся по чистенькому поселку мимо складов копры и плетенных из бамбука домиков к резиденции начальника администрации. В большой комнате нас усаживают в удобные ротанговые кресла. Большинство сопровождающих размещается в соседней комнате и на веранде, все окна заполняются любопытными рожицами ребятишек. В дверях вырастает стройная, подтянутая фигура молодого человека, тоже в мундире. Четко и громко, чтобы было слышно во всех помещениях, он рапортует, очевидно, о прибытии экспедиции и ее задачах. Уставшие от утомительного рейса наши индонезийские спутники ничего нам на этот раз не переводят. Разбираем только свои почти не перевранные фамилии и интернациональные слова, которыми богат современный индонезийский язык. Экспедиси, вулканологи, геолога, биологи. Улавливаем и кое-какие индонезийские слова: ильмиа — научный, лаут — море, гунунг-апи — вулкан, каранг-каранг — коралловые рифы. Потом произносит приветственную речь Мохаммад, начальник администрации, за ним — представитель губернатора из Посо и другой представитель другого губернатора, сопровождавший нас из Манадо. С небольшой речью по-английски выступает Николай, потом говорит старший из наших индонезийских спутников доктор Сурьо.
Снова выходит на середину открывавший заседание молодой человек, начальник службы информации острова господин Бакир Рента, и представляет нам собравшихся, затем вызывает по одному различных должностных лиц из соседней комнаты. Начальник правительственной конторы по заготовке копры, управляющий кокосовыми плантациями, диспетчер порта, начальник почты, учитель «первичной» школы, учитель «вторичной» школы, фельдшер, единственный на острове полицейский. Каждый из нас пожимает двадцать пять — тридцать рук. Наконец нас разводят по квартирам.
Мое жилище оказалось тут же рядом, в большом, несколько обветшалом доме с огромной верандой и еще более огромной кухней. Очень приветливый и смешливый хозяин в цветастом саронге. Он неплохо говорит по-английски, как и его сестра, вставляющая, правда, в речь и немецкие слова. Хозяин уже немолод, но у него обезоруживающая детская улыбка. Он хлопочет, чтобы создать мне максимум возможного комфорта.
Вскоре ко мне пришел Репга и сказал, что обеспечение гидробиологических работ поручено ему. Он уточнил время завтрашнего выхода в море, а пока предложил прогуляться по поселку. С гордостью показал мне стадион с футбольным полем и площадками для баскетбола и бадминтона, две школы, мечеть. Объяснил, что вся экономика острова основана на копре — сушеной мякоти кокосовых орехов, другие же отрасли сельского хозяйства и рыбная ловля служат лишь для обеспечения собственных потребностей островитян. На острове пять тысяч жителей, живущих здесь, в поселке Унауна, и в прибрежных деревнях-кампонгах Кололио, Урундаку, Бамбо-аву. На острове нет ни воровства, ни других серьезных правонарушений.
С утра началась обычная работа. Геологи отправились с ночевкой в кратер вулкана. Их сопровождала чуть ли не половина населения Унауна. Другая половина наблюдала с берега и с прау за подводными гидробиологическими работами на коралловом рифе, том самом, на который при подходе к острову напоролся наш катер. В последующие дни геологи работали на горячих вулканических источниках — фумаролах, а затем отправились на соседний архипелаг Тогиан. Мне же хватало работы и здесь: под водой, в сказочном коралловом саду, а также и на подводной фумароле, где похожие на бабочек коралловые рыбки плавали, не обращая внимания на окружавший их поток серебряных пузырьков. Была и «сухопутная» работа на литорали.
Всюду меня сопровождал оперативный и обязательный Ренга. Он организовывал то выходы на катере или на прау, то прибрежную поездку на грузовике, а в труднопроходимых местах — на быках зебу. Нашу походную лабораторию мы развернули на веранде. Здесь было прохладнее. Отсюда удобно наблюдать за неторопливой жизнью поселка, благо дом наш находился в самом его центре. Вот проехал на велосипеде, трубя в большую раковину, торговец рыбой, мальчишка провел на веревочке краба, как водят у нас на прогулку собачонок. Однажды появился на велосипеде Ренга. Он останавливался на каждом перекрестке и что-то кричал. Увидев, что я обратил на него внимание, он медленно повторил свою информацию по-английски, хотя было очевидно, что я ею не воспользуюсь. Объявлялось, что завтра необходимо привести на вакцинацию всех зебу.
Деревянный катер «Посо Данау» («Озеро Посо») был бы очень удобен для работы, если бы капитан его не боялся коралловых рифов. Он норовил бросить якорь где-нибудь в сторонке, и только к концу работ мне удалось одержать большую победу. Катер встал на якорь над самым рифом, именно в той точке, которая мне была нужна. «Посо Данау», присланный губернатором Среднего Сулавеси, нас очень выручил, поскольку единственное на Унауна моторное судно было отправлено на Сулавеси для ремонта и затем «натурой» отрабатывало стоимость этого ремонта, а на нашем железном катере геологи ушли на Тогиан, где в прошлом, судя по литературе, было гнездо пиратов, наводивших ужас на весь архипелаг.
Когда я погружался под воду не с катера, а с прау, то, как и в Амуранге, над местом погружения обычно останавливалось около десятка лодок с любопытными, и мне приходилось старательно лавировать среди них. Правда, и здесь Рента очень быстро навел порядок, заставляя все прау держаться на некотором расстоянии от подводного пловца.
Единственный на острове грузовик стоял до нашего приезда в бездействии из-за отсутствия бензина. Теперь он был в нашем распоряжении, и жители ездили вместе с нами по своим делам или просто прокатиться. Пассажиры располагались в ротанговых креслах, поставленных в кузове. Шофер неизменно останавливался у каждой лужи, чтобы долить воды в радиатор, а нередко приходилось вылезать всем, чтобы убрать заваливший дорогу ствол пальмы или фикуса. Путь до места работ и обратно протекал всегда очень оживленно, с шутками и песнями.
Деревни, в которых нам приходилось останавливаться, мало чем отличались от «столицы» острова. Те же аккуратные хижины на невысоких сваях со стенками из бамбука, окруженные зеленью кокосовых и сахарных пальм и гигантскими лопухами бананов. Внутри чисто, но обстановка, конечно, очень скромная. Здесь, на Унауна, крестьяне живут, пожалуй, несколько богаче, чем на Яве. Жители держатся просто, приветливо и с достоинством. Даже ребятишки не проявляют назойливого любопытства. Иногда кто-нибудь обращался ко мне. с речью, которую Ренга переводил всегда очень кратко и, увы, стереотипно: «Они очень рады, что вы приехали на Унаупа». Радушие действительно проявлялось во всем: и в мимике, и в жестах, и в готовности помочь. Очень быстро мы поняли, что когда крестьянин или рыбак приносит нам фрукты, попугая или рог из раковины, то не следует доставать кошелек, к чему мы привыкли на берегах Восточной Явы и особенно на острове Бали, где много туристов.
Работа нередко затягивалась дотемна. Иногда нас задерживал обед или ужин, который староста деревни устраивал в нашу честь. Поскольку фары грузовика не работали, на крышу кабины торжественно водружалась калильная лампа «Петромакс», дающая, к слову сказать, очень яркий свет. Эти лампы неоднократно выручали нас и во временных лабораториях, и при ночной работе на берегу.
Жители Унауна гордятся, и не без основания, двумя своими оркестрами. В одном играют взрослые, в другом — дети. Поют жители Унауна много и охотно. Песни их очень напевны и мелодичны. К сожалению, на Яве, да и на Сулавеси народные мелодии очень часто подвергаются безбожной джазовой инструментовке и синкопированию. Просишь иногда спеть или сыграть какую-нибудь национальную песню, но получаешь совсем не то. Какая же это индонезийская музыка? Оказывается, это все же песня Северного Сулавеси (или сунданская, или суматранская), но обработанная в американском стиле.
На Унауна, как и в некоторых других местах, национальные мелодии были почти совсем лишены этого американского налета и слушать их было очень приятно. Наряду с широко распространенной по всей стране «Бурунг какатуа» (птичка какаду) или известной и у нас песней «Страна родная Индонезия» (ее на каждом острове поют немножко по-своему) у жителей острова есть и свои собственные песни. Одна из них, песнь об Унауна, сочинена совсем недавно «начальником музыки» острова.
Во время одного из наших походов зашла речь о моем гостеприимном хозяине Саибе Ласахидо. Он, оказывается, наследный раджа острова, отказавшийся принять власть после смерти своего отца в 1939 году. Пришлось нарушить принцип наследования и назначить выборы нового раджи, который правил очень недолго. Затем был избран раджой Мохаммад, двоюродный брат Саиба и потомок рода Ласахидо, но по женской линии.
Когда в 1950 году во всей независимой Индонезии был введен республиканский образ правления, Мохаммад по желанию населения был назначен начальником администрации. Его и теперь по старой памяти называют раджой, а некоторые до сих пор оказывают и ему, и Ласахидо знаки высшего почтения. Этого я не замечал. Я только видел, как они опускали одно плечо с вытянутой вниз рукой, но это вообще принято у индонезийцев по отношению к старшим.
— В чем же заключаются эти знаки верноподданичества? — спросил я.
— А они делают вид, что очень боятся раджи, — гласил ответ.
Саиб Ласахидо остался холостяком, так как традиция разрешает членам этого рода жениться только на родовитых невестах. Может быть, Ласахидо и нарушил бы традицию, но отец, умирая, просил его не делать этого, и сын не захотел пойти против воли отца. Сейчас Ласахидо воспитывает племянников, родители которых, поехав получать образование, так и осели за пределами острова. Много энергии отдает он домоводству. Говорят, он большой мастер окрашивать батик — прославленную индонезийскую ткань.
Как-то, отдавая в стирку белье, я попросил, чтобы служанка зашила мне порвавшуюся о колючую лиану рубашку. Вернувшись на следующий день домой, я увидел милейшего господина Ласахидо за поистине художественной штопкой. Приди я чуть позже, то так бы и не узнал, чьими руками была она выполнена.
Оказывается, недаром мне сразу бросилось в глаза своеобразие большого и немного обветшалого дома. Это старый дворец раджи, а терраса, служившая нам лабораторией, была его канцелярией. Хотя банкеты устраивались для нас в доме Мохаммада, еда для них неизменно приготовлялась в огромной кухне — святилище старого дворца, под вдохновенным руководством самого Ласахидо. Мне запомнилось его сосредоточенное лицо, когда он лепил из крема какую-то птицу для парадного пирога, уснащая ее перышками из цветов и ломтиков фруктов.
Приближалось время отъезда. Было грустно расставаться с радушными и гостеприимными жителями Унауна, которые в свою очередь деятельно готовились к прощальной церемонии. Шли репетиции оркестра. Особенно оживленно стало в кухне дома Ласахидо…
И вот прощальный вечер. Снова мы сидим в канцелярии Мохаммада, и снова многолюдно в соседней комнате. Снова звучат речи всех официальных лиц, но в центре внимания на этот раз речь Николая. На беду он начал обычной фразой, что мы, мол, недостаточно еще используем богатства вулканов, вулканических источников итак далее. Не успел он кончить, как тут же посыпались вопросы: а как именно можем мы использовать такой-то или такой-то источник? а от каких болезней помогает их вода? Что скажешь тут, когда и материалы еще не обработаны, и нет заключений бальнеологов. Но к счастью, среди других источников наши геологи нашли один, который содержит почти чистую поваренную соль. Соль на остров завозится издалека, и было приятно отплатить гостеприимным хозяевам таким практическим подарком.
Речи и вопросы закончены, снова выходит вперед церемониймейстер Рента и просит каждого из присутствующих спеть. Вокальные данные в расчет при этом не принимаются. Вслед за безропотно солировавшим Мохаммадом поют поочередно участники экспедиции и жители Унауна. Местные песни сменяются русскими, яванскими, суматранскими. Хозяева в более выигрышном положении, они поют под аккомпанемент сидящего за дверью оркестра. Оркестранты торжественны и принаряжены — в белых рубашках и малиновых галстуках. Им пришлось аккомпанировать не только певцам, но и танцорам. Долго любовались мы изящными индонезийскими танцами, в которых дама и кавалер танцуют, не прикасаясь друг к другу, хотя и находятся все время рядом, почти вплотную, а движения их настолько согласованны, что, кажется, танцующие связаны невидимыми ниточками. Окончился прощальный вечер очень поздно.
Второе прощанье состоялось на следующий день на берегу, где собралось почти все население. К нам подошел один из жителей, служащий конторы по заготовке копры, и, протянув пачку газет, сказал:
— Вам предстоит долгий путь на катере, наверное, захочется читать, может быть, вам приятно будет почитать именно эти газеты.
Развертываем пачку. Это оказалась «Moscow News», московская газета на английском языке. Правда, последний ее номер более чем полугодовой давности, вышел в те дни, когда мы только еще вылетали из Москвы.
Три прощальных гудка, в воздух летят сигнальные ракеты, гул приветственных криков, и мы удаляемся от этого чудесного островка, на котором в стороне от морских дорог живут приветливые, любознательные люди, интересующиеся всем, что творится в современном мире и, в частности, в далекой Русии, как называют в Индонезии Советский Союз…
Забравшись в душной каюте на верхнюю койку, поближе к иллюминатору, я быстро заснул под монотонное жужжание кассет. Внизу Павел перематывал под одеялом пленку. Я не слышал, как он, испустив вопль ужаса, стремглав выскочил на палубу, не слышал, как судно легло в дрейф и через некоторое время двинулось дальше. А события разыгрались поистине драматические.
Оказывается, поздно вечером Павел, перематывая свои катушки, вдруг бросился на палубу, растолкал участников экспедиции, мирно спавших на капе (крышке) трюма, и, подняв доски капа, ринулся в трюм. И тут его смутные опасения подтвердились. Аккуратных металлических цилиндров с пленкой там не оказалось. Тогда он ясно вспомнил, что не вытаскивал их из тайника, устроенного под кроватью Мохаммада — самого, как ему казалось, надежного места на острове.
Недовольные и сонные Николай с Альбертом, слабо чертыхаясь, ждали, когда несносный Павел кончит свою возню в трюме и даст им возможность лечь снова. Но сонливость их мгновенно улетучилась, когда они услышали сдавленный голос Павла:
— Весь фильм… целиком… остался на Унауна!..
Разбудили доктора Сурьо и бросились к капитану. Он сказал, что вернуться не может, не хватит горючего. Придется дойти до Горонтало, там заправиться и лишь затем возвращаться.
В Горонтало почти весь день ушел на добывание горючего, и лишь к вечеру, оставив отдохнуть на берегу большую часть изнемогших от качки наших спутников-индонезийцев, мы снова отправились в южное полушарие — на Унауна.
На Павла жалко было смотреть. Он не находил себе места от беспокойства. Еще бы, уникальные кадры: подводный вулкан, красочные съемки на Синга-Хе, на Унауна, на Тогиане, живописная эпопея огромного сухопутного краба «пальмового вора», откладка сорной курочкой-большеногом яиц в своеобразный инкубатор — мусорную кучу… Сохранность всего этого зависела сейчас от каприза любопытной служанки, тем более что сам Мохаммад покинул остров вместе с нами, отправившись на некоторое время в Горонтало…
Как идеальный впередсмотрящий Павел стоял на носу и ждал появления острова. Не успели мы стать на якорь, как бедняга уже копошился в шлюпке, разбирая весла.
Набережная столицы была на этот раз пустынной. Нас никто не ожидал, тем более, что вернулись на остров мы в пятницу, день поминовения Магомета, когда почти все мужское население было в мечети. Мы стремглав мчимся к дому Мохаммада. Павел, естественно, впереди всех.
С обширного балея (веранды) нам радостно машет Саиб Ласахидо, но мы не можем остановиться.
Фильм, к счастью, цел. Нашедшая его во время уборки служанка, возбужденная, со счастливым лицом, рассказывает сбежавшимся женщинам, как она нашла эти коробки, но открывать не стала…
Павел проверил свои хитроумные завязки. Они не повреждены. Теперь можно и нанести неторопливый визит нашему славному Ласахидо и вволю освежиться в камарманди, куда уже заботливо накачан полный бассейн воды. Саиб заливисто смеется над нашим приключением, спрашивает, сколько нас вернулось, и исчезает на кухне. Через полчаса-час мы сидим за уставленным яствами столом.
Хотя на дворе ярко светит солнце, на столе горят свечи. Их пламя отгоняет назойливых мух.
Николай говорит:
— Ну, вспомните, кто еще что-нибудь здесь оставил. Что бы ни забыли, больше уж возвращаться не будем.
Сейчас мы допьем кофе и снова расстанемся с этим гостеприимным островом и с не менее гостеприимным последним потомком его прошлых владык. На этот раз надолго, очень надолго, вероятнее всего — навсегда!
12
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
«ВСЕ ВОДЫ ЗЕМЛИ» И КРАКАТАУ
На этот раз действительно начался путь домой. Различные его этапы совершенно несоизмеримы ни по длине, ни по времени. Вот сейчас мы протащимся двое-трое суток на катере до Манадо. Путь от Манадо до Джакарты занимает пять-шесть дней морем или восемь часов самолетом. А из Джакарты до Москвы всего одни сутки.
Официальный срок нашего пребывания в Индонезии истекает через шесть дней. С мечтой попасть на остров Флорес (Малые Зондские острова) придется, пожалуй, распроститься. Хорошо, если удастся попасть хоть на знаменитый Кракатау, благо он расположен не так уж далеко от Джакарты. Ребята вымотаны, издерганы. Двое уже всерьез выбыли из игры, состояние остальных тоже не блестящее. В непривычных тропических условиях мы слишком полагались на свою экспедиционную закалку, не считались со спецификой этих условий. Лейтенанту медицинской службы запаса то и дело приходится превращаться в лечащего врача, хотя по образованию он биолог, а медицинская его квалификация военных времен сводится лишь к лабораторным исследованиям.
Николай жалуется на конъюнктивит — сильную резь в глазах. Осмотревший его по прибытии в Манадо опытный окулист сказал, что еще неделя-две, и он мог бы потерять зрение.
В Манадо мы очутились снова в гостеприимном пансионе. Рейсовый пароход в Джакарту только что ушел, следующий ожидался недели через две-три, попутные же грузовые суда будут плестись до Явы дней двадцать.
Потекли тихие дни вынужденного бездействия. Однажды хозяева пансиона пригласили нас на воскресенье в свое загородное имение с рисовыми полями, рощицами кокосовых пальм, мускатных орехов, фруктовых деревьев и даже собственным минеральным источником, стекающим в пригодное для купанья озерко.
Запомнился завтрак-пикник в тенистой роще. На бамбуковый стол, покрытый вместо скатерти банановыми листьями, подавались тоже на импровизированных подносах и тарелках из листьев свежезажаренные окорока, куры, миниатюрные шашлычки-сатэ и, конечно, неизменный рис, спрессованный в пальмовых листьях, и на листьях же обычные острые приправы. В сосудах из бамбуковых стволов принесли пальмовое вино сагуэр, на этот раз очень хмельное и сладкое. О разнообразии и изобилии засыпавших стол фруктов нечего и говорить.
Я заинтересовался мускатными орехами, и мне тут же насшибали их целую кучу. Под мягкой оболочкой, похожей на оболочку каштана, но в отличие от нее гладкой, расположены скорлупа и ядро. Наиболее же ценится так называемый мускатный цвет — тонкая ярко окрашенная пленка между оболочкой и скорлупой.
Потом нас повели на старинное кладбище. На могилах каменные изваяния: примитивные человеческие фигуры со схематично очерченными, но странно выразительными лицами. Чем-то они напоминают физиономии наших скифских «баб», но отличаются от них большей отчетливостью черт. Расовый их облик, впрочем, остается для нас неясным.
— Кто здесь похоронен?
— Пахлаваны (богатыри).
— Кто они? Откуда?
— Никто этого не знает…
— Сохранились ли о них сказания, легенды?
— Да, кое-что сохранилось. Но очень разное. Одно противоречит другому. Вероятно, эти сказания более позднего времени. Народ не может не пытаться объяснить загадку…
Действительно, история минахасцев, как и других племен Северного Сулавеси и окрестных островов, еще мало изучена. По крайней мере в литературе я потом не смог найти ничего вразумительного. Путешественники и исследователи порой объединяют минахасцев, горонталов, талаудцев и жителей Молуккских островов под одним названием «альфуры», или «арафуры», что по существу означает лишь «инородцы», «немалайцы» или «немусульмане». Некоторые исследователи относят их к протомалайцам, лингвисты отмечают языковую близость к филиппинцам.
Сейчас минахасцы — один из самых культурных и развитых народов Индонезии. Поэтому трудно поверить тем авторам, которые еще сравнительно недавно обвиняли их во многих грехах: свирепости, стремлении к разбою и пиратству, охоте за черепами и даже каннибализме.
Всего сто лет тому назад Альфред Уоллес, который работал в таких центрах Минахасы, как Томохон и Тондано, вынужден был пробираться со своих зоологических экскурсий домой задворками и крадучись, так как многие жители, особенно женщины, в панике разбегались, увидев его рослую, бородатую фигуру. Теперь же приветливые и общительные жители не только этих, но и самых мелких городов и поселений Минахасы очень охотно заговаривают с иностранцами и с удовольствием обсуждают с ними самые свежие политические новости.
Нам удалось побывать на большом китайском празднике Чапгомэ, у которого есть и другое местное название — Типиконг. Китайцы съезжаются на него со всей Минахасы и даже из других провинций. Присутствует на празднике и все коренное население Манадо и его окрестностей. Уже за неделю до Типиконга о нем велось множество разговоров.
Павел был очень озабочен, что сейчас, в разгар дождливого сезона, ему не удастся заснять Чапгомэ при солнечном свете, да и вообще проливной дождь может разогнать праздничную процессию. Доктор Сурьо полушутя, полусерьезно говорил, что на какой бы сезон ни приходился Типиконг, дождя во время праздничной церемонии никогда не бывает. Дождевые тучи, мол, боятся дракона, которого несут во время процессии. Ведь это доброе и могущественное существо питается облаками и туманом. Самое забавное, что пророчество доктора Сурьо оправдалось. Хотя день праздника и начался проливным дождем, но к полудню дождь прекратился, а к трем часам — началу торжественного шествия — засияло солнце, не исчезавшее до самого заката, и лишь часов в девять вечера, когда мы пешком возвращались домой, снова полил тропический ливень.
Торжественное шествие, начавшееся от главного китайского храма, открыла кавалькада всадников — обнаженных до пояса мальчишек в белых с красными аппликациями шароварах. На голове у этих юных кавалеристов витые золоченые обручи, с которых на спину свисает пелена тонких шнуров, у всех разного цвета. Лица закрыты масками или сильно подгримированы. Затем под красным транспарантом с иероглифами шествуют с зелеными флажками в руках учредители празднества. Все они облачены в парадные костюмы, при галстуках (в эту влажную тропическую жару!). Далее следует духовой оркестр, играющий популярные индонезийские мелодии. Оркестров в процессии несколько. Инструменты каждого из них выкрашены в определенный цвет — синий, желтый, зеленый. Кроме медно-духовых оркестров европейского образца шли духовые оркестры с инструментами из бамбука и раковин. Один оркестр состоял исключительно из различных трещоток. Отдельно несли большие барабаны, в которые отчаянно лупили все время сменявшие друг друга мальчишки, так как никто из них не мог выдерживать такого бешеного темпа и напряжения больше пяти-шести минут. Вслед за первым оркестром на палках несли растянувшегося метров на тридцать желтого дракона. На ходу он колыхался своим вздутым матерчатым телом, а когда колонна останавливалась, начинал гоняться за пестрым бумажным шаром, тоже надетым на палку, а иногда, словно разыгравшийся щенок, ловил собственный хвост. За традиционным драконом шествовали два традиционных же льва. Голову льва несет один человек, наполовину в ней скрытый, а туловище из похожей на лоскутное одеяло попоны натягивает на себя другой.
На пышно убранных колесницах совсем маленькие детишки изображали «живые картины». Крохотная девочка неподвижно восседает верхом на рыбке. Рядом на велосипедном ободе застыл мальчик, загримированный и наряженный в духе китайской классики. На другой повозке маленькая девчушка сидит в двухстворчатой раковине, которую вскрывает мечом миниатюрный герой в костюме средневекового воина. Рядом девочка изображает взрослую даму с веером. Немного дальше еще одна малышка стоит в цветке лотоса, окруженном сидящими детьми. На следующей колеснице из ватного сугроба вырастает фигурка девочки в очень длинном платье, с нею мальчик-рыбак с замершей на удочке рыбкой. Все это застыло в полной неподвижности, и лишь на последней колеснице вертится деревянное «колесо обозрений» на четыре гнезда. Такие встречались у нас раньше на ярмарках. В колесе крутятся два маленьких мальчика в черных смокингах с галстучками-бабочками и с бриолиновыми проборами, словно взрослые франты, и две наряженные дамами девчоночки.
Празднество продолжается много часов. Процессия не менее пяти раз обходит весь город, и я не могу понять, как бедные дети выдерживают так долго эту процедуру, стоя или сидя в застывших позах, да еще в пышных нарядах и под густым слоем грима. Мне объясняют, что их начинают тренировать задолго до праздника, а последнюю неделю выдерживают на особой диете без мяса и рыбы. Участие в живых картинах почетно, и каждый ребенок обычно выступает в них три года подряд.
Взрослые участники шествия почти все одеты в белое и перепоясаны красными кушаками. Они несут разноцветные флаги, стволы бамбука, увенчанные листочками незажженные факелы, красные транспаранты с иероглифами и рисунками. И снова оркестры, и снова гремящие без умолку барабаны.
В окружении черных знамен и мрачно звучащих барабанов движется небольшая кумирня. Ее несут на руках. На крыше дымится курильница, над которой возвышается аскетическое лицо пожилого, коротко остриженного человека. На лице странное выражение какой-то экстатической невозмутимости. В руках его большой широкий обоюдоострый нож, которым он под барабанный бой проводит несколько раз сквозь клубы дыма над курильницей. Затем все так же в такт бьющим барабанам начинает полосовать лезвием ножа свою обнаженную спину, которая вскоре становится пунцовой, но все же не кровоточит.
Я высказываю предположение, что лезвие тупое, однако доктор Сурьо уверяет меня, что оно разрезает упавший на него волос. Все дело в том, говорит он, что само-истязатель — Инче Пиа — приводит себя в экстаз как особой тренировкой задолго до праздника, так и дурманящим дымом курений. Иногда Инче Пиа (дядюшка Пиа) прерывает самоистязание и сваливается со своего пьедестала у кумирни. Его тотчас подхватывают десятки рук (при этом возникает небольшая свалка) и через несколько минут водружают над другой кумирней. Временами, оставив нож, Инче Ппа вооружается толстым шилом и прокалывает себе щеку или язык.
Когда участники церемонии несут помост с пустой резервной кумирней, они нередко затевают возню. Передние носильщики толкают помост на задних, те на передних. Это похоже на балийские похоронные процессии, где носильщики погребальных башен с гиканьем и улюлюканьем вертят их в разные стороны. Но там это делается для того, чтобы дух умершего не нашел дорогу домой, здесь же, видимо, просто от избытка энергии. А впрочем, может быть, и в этой возне таится какой-то для нас непонятный смысл.
В сегодняшней процессии участвуют два Инче Пиа. Один из них, демонстрировавший свои таланты уже в течение многих лет, выступает сегодня в последний раз, другой, новичок, приходит ему на смену.
Все улицы, по которым движется шествие, заполнены плотной толпой. Мажорно звучит музыка. Слышны только индонезийские мелодии. Сквозь раскрытые двери китайских домов и лавок видны изукрашенные домашние алтари, где изысканные резные статуэтки соседствуют с аляповатой мишурой и фольгой. Перед алтарями зажженные свечи, увитые пестрыми лентами, иногда электрические лампочки. Здесь же возвышаются груды фруктов и сладостей.
Когда процессия проходила мимо нас во второй раз, я почувствовал, что устал от длительного стояния в жаре и духоте переполненной народом улицы. Я уже собирался уйти, как вдруг ко мне подошел какой-то офицер и пригласил подняться в его квартиру на втором этаже углового здания. Оттуда всю церемонию будет видно гораздо лучше. Приглашение пришлось как нельзя более кстати, и через несколько минут я уже сидел у окошка, вытянув усталые ноги. Вскоре здесь оказались и все мои спутники, кроме неутомимого Павла и его. верного оруженосца Марданиса, которые носились вдоль шествия, снимая его в разных ракурсах.
Шествие проходит в третий, в четвертый раз. Один из самоистязателей уже исчез, у второго все же появились на спине кровоточащие царапины. Детишки все так же недвижны в своих живописных позах, выглядят они очень усталыми. Впрочем, усталыми они показались мне с самого начала. Темнеет. Теперь у процессии совершенно иной вид. В глазах дракона и львов зажглись электрические лампочки, живые картины тоже иллюминированы. Декоративные жезлы превратились в факелы. Во многих местах колонны вспыхнули ярким белым светом калильные лампы. Их сугубо утилитарный вид как-то не вяжется с нарядными бумажными фонариками. Озаряются огнями и домашние алтари. Процессия, казавшаяся бесконечной, проплыла мимо в последний раз и исчезла. Мы благодарим хозяев, прощаемся и отправляемся домой.
Через несколько дней мы с Николаем и доктором Сурьо улетаем. Остальные отправятся через неделю-две вместе с коллекциями и снаряжением на японском пароходе «Королева Востока», который совершает рейсы между Токио и Джакартой.
Крупномасштабной картой разворачивается под нами Сулавеси. Чересполосица земли и воды. Забавно выглядят с высоты коралловые рифы. Желтая полоска надводной части окаймлена ядовито-зеленой водой мелководья, дальше начинается густая синева.
Летим над Западной Явой. Картины катастрофического наводнения, о котором мы уже читали в газетах, развертываются перед нами воочию. Водой залиты огромные пространства острова.
Пролетаем над Танджунг-Приоком, морскими воротами Джакарты. Множество судов у причалов и на рейде. По дороге из аэропорта в посольский городок мы уже можем оценить разрушительное действие дождливого сезона. Асфальт, такой гладкий несколько месяцев тому назад, теперь в сплошных выбоинах.
В посольском городке окунаемся в европейский комфорт, но мы уже настолько от него отвыкли, что, собственно, в нем и не нуждаемся. «Эр-кондишн» в нашей спальне целыми днями стоит невключенным.
Нам предстоит провести две отчетные конференции. Геологи будут заседать в «геологической столице» Бандунге, биологическая секция — в милом моему сердцу Богоре, в Национальном биологическом центре. Заключительное заседание намечается в Джакарте. Мне кроме формального отчетного доклада о результатах экспедиции нужно докладывать и об отдельных аспектах морской биологии, а также высказать свои соображения и дать рекомендации по дальнейшему развитию в Индонезии этой отрасли науки.
Поездка на Флорес не состоялась. Остается последний, заключительный аккорд нашей экспедиции — поездка на Кракатау на новом, только что полученном Индонезией по репарациям от Японии научно-исследовательском судне «Джаланиди».
Я спрашиваю, что означает в переводе его название «Джаланиди»? Узнать удается не сразу, так как слово это не индонезийское. В переводе с санскрита оно означает «Все воды земли».
— Эквивалент современного понятия «Мировой океан»?
— Нет, даже шире. Сюда включаются и пресные воды. Скорее, водная оболочка земного шара, гидросфера, — говорит мне знаток санскрита доктор Сурьо.
Через пять дней уходим в рейс. С утра пораньше я забрался на «Джаланиди» и мог подробнее познакомиться с судном, его лабораториями и палубными механизмами для научных исследований.
Длина судна пятьдесят метров, водоизмещение семьсот пятьдесят тонн. Ход не очень быстрый, до двенадцати узлов, но для научно-исследовательского судна больше ведь и не надо. Наоборот. При густой сетке станций, на которых производятся работы, слишком быстрый ход судна вызывает лишь нарекания исследователей. Не успеют они разделаться с материалами одной станции, как судно уже ложится в дрейф на следующей. Зато «Джаланиди» очень маневренна. Два ее независимо друг от друга вращающихся винта позволяют совершать любые повороты. Существенно, что она может двигаться и с какой угодно малой скоростью. Это очень важно при тралениях и драгировках.
Малые океанологические лебедки для взятия проб воды и планктона, для спуска таких приборов, как вертушки или батитермографы, и более тяжелые — для дночерпателей и геологических трубок, очень похожи на лебедки «Океан» «Витязя» и других советских судов. Но расположены все эти агрегаты на кормовой палубе, очень близко один от другого. Это значит, что работать они смогут не одновременно, как на «Витязе», а лишь поочередно, иначе тросы с приборами будут путаться под водой. А вытаскивать на одном тросе с нежной газовой планктонной сетью гроздь литых металлических батомеров, служащих для взятия проб воды, — врагу этого не пожелаю!
Зато очень удобно расположена траловая лебедка, снабженная дугами для промысловых тралов, со специальным закругленным скосом кормы слипом, по которому очень удобно вытаскивать наполненный рыбой или грунтом трал. Над слипом мостик, тоже очень удобный для наблюдений и манипуляций с поднятым над палубой тралом.
Очень хороши лаборатории, хотя и несколько загромождены аппаратурой. В одной из них вообще негде повернуться от приборов. Зато каждый прибор способен максимально облегчить труд исследователя. Дистанционная гидрометеорологическая станция позволяет определить, не покидая помещения, температуру воды и воздуха, направление и силу ветра. Здесь же находится установка для наблюдения над высоко летящими радиозондами, прецизионный эхолот для точнейших определений глубины. Наиболее же почетное место занимает телеасдик для поиска рыбьих косяков — «рыбное зеркало» или «рыбная лупа». Во время рейса я не раз буду наблюдать на светящемся ее экране стайки рыб. Их мерцающие изображения передают даже очертания тела отдельных особей.
В биологической лаборатории серия роскошных термостатных аквариумов, рентгеновская установка, на которой тут же в рейсе можно изучать и фотографировать скелеты рыб и других животных, приспособления для макро- и микрофотосъемки живых объектов и мечта каждого планктонолога — теневая лупа. В лаборатории гидрохимии отгорожен специальный бокс для изучения радиоуглеродным методом первичной продукции основного источника пищи для всего населения океана — мельчайших одноклеточных водорослей или фитопланктона. В самой лаборатории различнейшие потенциометры, потенциотитрометры, салинометры, фотоэлектроколориметры и другие хитрые автоматические и полуавтоматические приборы.
Кроме нас и индонезийских сейсмологов, магнитологов, зоологов в рейс идут и молодые ученые — участники тренировочного курса ЮНЕСКО по океанографии и морской биологии. С большинством из них мы знакомы, а с некоторыми нас связывают и недавние полевые работы. Всех размещают по каютам. Кроме сорока двух мест для команды на «Джаланиди» предусмотрено двадцать шесть мест для научного и вспомогательного состава. Я оказываюсь вместе со старыми моими знакомыми в четырехместной каюте и сразу же, имея некоторый опыт тропических плаваний, занимаю верхнюю койку и наставляю на подушку рожок вентиляции.
«Джаланиди» отдает швартовы и медленно движется вдоль причала, заваленного грудами ящиков с русскими надписями «верх», «осторожно», «не кантовать». Проходим мимо вереницы грузовых кораблей под флагами Австралии, Панамы, Индии, Японии. А вот и соотечественница «Красная Пресня». Порт приписки — Одесса. Вся ее палуба заставлена зелеными кузовами советских автомашин — хорошо знакомых нам вездеходов ГАЗ-69 и грузовиков. Немного дальше встречаем «Полтаву» и «Пугачева».
За внешним молом порта «Джаланиди» начинает слегка покачивать. Качка усиливается, когда мы покидаем Джакартинский залив и выходим в открытое море. Впрочем, в этой части благодушного Яванского моря ветру не так легко разогнать сколько-нибудь высокие волны. Они гасятся многочисленными островами и островками. «Тысяча островов» — так называется участок Яванского моря, по которому мы сейчас движемся к Зондскому проливу, пробираясь между островами, покрытыми пышными прибрежными лесами баррингтоний, а в более защищенных заливчиках и проливах — мангровыми лесами. На открытых берегах рощи всегда привлекательны своей стройной изогнутостью кокосовых пальм.
«Джаланиди» огибает северо-западную оконечность Явы и подходит к Зондскому проливу. Открываются берега Суматры, на которой нам так и не пришлось побывать.
Впереди — Кракатау, виновник самой большой вулканической катастрофы на всей памяти человечества. В 1883 году оглушительным взрывом был почти целиком разрушен остров Кракатау (по-местному Раката). Количество человеческих жертв превысило тридцать тысяч. Тридцатиметровые волны обрушились на берега Явы и Суматры. Вулканический пепел облетел земной шар несколько раз и вызвал в самых отдаленных местах необычайные атмосферные явления. В эти годы во многих странах можно было увидеть небывало яркие вечерние и утренние зори. Зондский пролив в течение нескольких лет был забит плавающей пемзой и стал непригодным для судоходства. На уцелевшем обломке Кракатау и на двух соседних островках Ланг и Ферлатен вся органическая жизнь была начисто уничтожена, выжжена раскаленными газами и лавой, так что островки стали полностью стерильными.
С тех пор зоологи и ботаники всего мира пристально наблюдали за восстановлением жизни, которое проходило довольно бурно. К сожалению, эти тщательные наблюдения охватили только наземную флору и фауну, литораль же и морское мелководье Зондского пролива почти не обследовались. Зато появление и смена растительного покрова, проникновение на островки насекомых и других беспозвоночных, рептилий, птиц, млекопитающих изучались очень тщательно и с относительно небольшими (два— четыре года) перерывами. При этом анализировались факторы расселения флоры и фауны: перенос спор, семян, цист, яиц, личинок ветрами, морскими течениями, плавающими в море древесными стволами, на лапках и в оперении птиц.
Впрочем, как и всегда, нашлись скептики, которые лет через двадцать после катастрофы стали утверждать, что гигантский эксперимент, поставленный самой природой и внесший в биогеографию ни с чем не сравнимый вклад, якобы но был достаточно чистым. Что будто бы даже на самом Кракатау сохранились убежища, где часть флоры и фауны могла в какой-то степени уцелеть.
Словно бы для того, чтобы опровергнуть этих скептиков, природа повторила свой грандиозный эксперимент. На этот раз не в столь драматичной форме. В 1928 году со дна пролива поднялся новый вулканический остров, получивший название Сын Кракатау или по-индонезийски Анак Кракатау (Дитя Кракатау). Анакнесколько раз размывался морскими волнами и снова возводился во время извержений подводного кратера. В конце концов Гефест оказался сильнее Посейдона, и вот уже более тридцати лет вулканический конус Сына Кракатау возвышается над водами Зондского пролива. Ботаники и зоологи получили новую возможность наблюдать за появлением наземной жизни на полностью безжизненном островке. На этот раз безупречность природного эксперимента и первичная стерильность заселяемого субстрата не могут быть подвергнуты ни малейшему сомнению.
Нам не терпится увидеть воочию места, о которых столько было прочитано и столько мечталось, но сегодня это уже не удастся. Тропическая ночь навалилась на «Джаланиди» еще на подходе к Зондскому проливу. Торопиться некуда, и мы решаем остановиться, «взять станцию» для обучения молодых индонезийских биологов и гидрологов — участников тренировочного курса ЮНЕСКО.
Пока приветливый норвежский эксперт по физике моря доктор Мпндгтун хлопочет со своими вертушками и батометрами, мы с профессором Сереном на самом малом ходу судна занимаемся драгированием. Металлическая сетка драги приходит на борт, наполненная чистой отмытой вулканической пемзой, среди которой почти нет ничего живого. Два-три лопатоногих моллюска денталиум, белые раковины которых похожи на миниатюрные слоновые бивни, три-четыре обломка раковин двустворчатых моллюсков — вот и весь наш скудный улов со дна, заваленного продуктами извержений.
Пока налаживаем планктонную сеть — большой конус из шелкового газа с металлическим стаканчиком в нижней части, у освещенного выносной лампой борта разыгрывается одна из бесчисленных морских трагедий. В пятне света от лампы собралось множество мелкой серебристой рыбешки, которая кишит в этом освещенном кругу, иногда даже подпрыгивает над водой. А на периферии светового пятна можно увидеть какие-то красноватые полупризрачные силуэты. Это привлеченные обилием добычи кальмары. В отличие от оголтело лезущей к свету рыбы (это свойство многих видов рыбы теперь широко используется при промысле) кальмары избегают освещенного пространства и предпочитают держаться в тени.
Временами то один, то другой кальмар врывается в кишащий рыбой круг, схватывает жертву и снова исчезает. Все это происходит настолько быстро, что глаз не успевает запечатлеть подробности, не улавливает даже очертаний тела хищника, а видит лишь траекторию его молниеносного движения. Впрочем, эта картина уже хорошо знакома мне по северной части Тихого океана и по Японскому морю.
В отличие от бентоса — донной фауны улов планктона оказывается богатым и разнообразным. В лаборатории мы долго разглядываем его в теневой лупе, и даже все случайные посетители надолго задерживаются у фосфоресцирующего экрана, на который проецируется увеличенное изображение пробы. Своеобразные крабьи личинки, похожие на шлем-шишак с длиннейшим выростом, не имеют ни малейшего сходства со взрослыми крабами. В этой же пробе мы видим крохотных, уже вполне сформировавшихся крабиков, у которых только хвосты еще распластаны, а не подогнуты под брюшко. Куда же они, бедняги, осядут, если на дне их ожидает грунт, какой подняла наша драга? А отнести их далеко в сторону течение уже не успеет, ведь эти малыши вполне готовы для перехода к донной жизни. Очень выразительны личинки лангустов. Они во многом похожи на своих усатых родителей, но только гораздо подвижнее. Вместе с крупными личинками раков-богомолов они занимают порой весь экран. Скачками передвигаются мелкие веслоногие рачки копеподы. Стремительно проносятся полупрозрачные стрелки-сагитты, чем-то смахивающие на оживший хирургический скальпель. Медленно проплывают солидные, тоже просвечивающие боченочники-сальпы. Лениво вращаются покрытые ресничками личинки моллюсков и многощетинковых червей, с трудом извиваются скованные своим плотным покровом круглые черви нематоды.
Переключаем теневой аппарат на самое большое увеличение, и экран заполняется причудливыми клетками фитопланктона, преимущественно закованных в панцирь, снабженных фантастическими отростками перидиней.
Между тем «Джаланиди» давно уже покинула станцию, вошла, судя по уменьшившейся качке, в Зондский пролив, а сейчас выключила ход и загрохотала якорной цепью. Выскакиваем на палубу. В непроглядной тропической тьме виден только один мерцающий огонек. Это оказалась лодка рыбаков. Она так и простояла на одном месте оба дня, которые мы здесь провели. Видимо, лов был неудачным.
Ко мне подходит капитан Ламанау. С ним мы подружились с первой же минуты знакомства. Оказалось, что он совсем недавно проходил стажировку на нашем «Витязе». «Витязь» вернулся домой уже. после нашего отъезда в Индонезию, и Ламанау, таким образом, явился для меня живым приветом от моих товарищей, которых я очень давно не видел. На «Джаланиди» сейчас собралось три капитана: собственно капитан, командующий судном, капитан-наставник и капитан Ламанау, в функции которого входит обеспечение работ экспедиции (высадок, тралений, драгировок). Это в отличие от капитана навигационного, так сказать, капитан научный, помимо которого есть, разумеется, и начальник экспедиции.
Что ж, может быть, следует подумать о том, чтобы и на наших больших научно-исследовательских кораблях ввести подобную должность. И другая особенность «Джаланиди»: хотя это сугубо мирное судно принадлежит Национальному научному совету (МИПИ), команда на нем состоит из военных моряков, с которыми из-за их особой подтянутости всегда бывает очень хорошо работать.
Утром, в час, когда еще мухи не летают — так говорят индонезийцы о предрассветном времени, — мы уже на ногах. «Джаланиди» движется к Анаку, темно-бурому конусу очень правильной формы. Остальные островки покрыты буйной тропической растительностью. На Анак Кракатау только с одной стороны виднеются две группы чахлых казуарин да желтые стебли каких-то злаков.
Высадка несколько осложняется сильным накатом волн. Погружаемся сначала в вельбот, который становится на якорь у линии прибоя. Через прибойную полосу переправляемся на маленькой шлюпке. Чтобы ее тут же не выбросило волнами на берег и не перевернуло, два человека с концом манильского троса отправились вплавь на берег. Шлюпка совершает свои рейсы между вельботом и берегом врастяжку на двух концах. Труднее всего выгружать сложную сейсмологическую аппаратуру. Но вот выгрузка закончена. Переволновавшийся Ламанау облегченно вытирает с лица пот и возвращается с вельботом на судно. Геологи устремляются наверх, к кратеру, а я принимаюсь осматривать приливо-отливную полосу.
Она почти безжизненна. Немногочисленные крабы-призраки, два-три мелких прыгающих рачка, называемых морскими блохами, несколько насекомых — гибкая уховертка и несуразные акриды, которыми питался в пустыне Иоанн Креститель, — и больше ничего. Но зрительному впечатлению верить нельзя, поэтому Сукарно с аспирантом Сутекно тщательно разбирают количественные пробы. Одна, другая, третья, десятая пробы. Результат один и тот же: биомасса (вес организмов на единицу площади) — ноль. Надеваю маску с ластами и пытаюсь обследовать верхнюю сублитораль (акваланг тоже выгружен и лежит наготове), но прибои так взмутил вулканический пепел, которым сложены берега, что в воде ничего не видно дальше собственного носа. Это в буквальном смысле слова. Я не вижу даже своих рук. Выбираюсь на берег разочарованный и слегка помятый волнами прибоя. Обхожу порядочный кусок берега, обследую выходы застывших лав. На них нет ничего живого. Остается удовлетвориться скудными штормовыми выбросами — обрывками водорослей, редко-редко попадающимися обломками кораллов. Все же и здесь нашел кое-что занятное: белые трубки, похожие на карандашные наконечники, но не острые, а закругленные на конце. Это раковины спирулы, небольшого головоногого моллюска, родственника кальмаров и каракатиц, живущего тоже в толще воды.
Возвращается на вельботе Ламанау, и мы, как было условлено заранее, обходим на моторе вокруг острова.
Однако с других сторон Анака Кракатау накат еще сильнее, там и думать нечего о высадке. Приходится ограничиться пассивным лицезрением открывающихся перед нами видов. А виды действительно великолепные. С одной стороны острова геометрически правильный конус вулкана несколько смят, край кратера как бы отвалился, и это позволяет нам заглянуть в его пасть. Видны ступенчато застывшие потоки вытекавшей в море лавы, желтые и белые утесы, покрытые слоями сублимированной серы и гипса, клубы вырывающегося из трещины пара, красный отблеск кипящей в невидимом нам жерле лавы, бурые нависающие кулисы неразрушенных кратерных стенок.
Павел изрыгает в бессильной злобе проклятия. Какие поразительные кадры пропадают! Наш вельбот так швыряет волнами, что на пленке получится мельтешение, способное вызвать у зрителей лишь приступ морской болезни. Тяжело вздохнув, он убирает свою громоздкую кинокамеру и берется за маленькую узкопленочную, для домашнего употребления. Вдруг все обитатели вельбота начинают дружно чихать. Это мы вышли на место, куда ветер дует прямо из кратера.
Снова прочесываю литораль и супралитораль в поисках чего-нибудь живого, но почти ничего не нахожу, кроме тех ракообразных и насекомых, которые были обнаружены еще до поездки вокруг Анака. Возвращаются со скудными трофеями «наземные» зоологи, а за несколько минут до наступления темноты, появляются и вулканологи с поразительной для меня находкой: в кратере вулкана под камнями на горячем грунте с температурой сорок — сорок пять градусов они нашли несколько наземных крабов геограпсус. Сейчас поздно, а вот завтра надо бы урвать часок-другой, чтобы подняться к местам их обитания самому.
В темноте возвращаемся на «Джаланиди». На берегу остаются ночевать дежурящие у своих аппаратов сейсмологи, да кое-кто из тех, кто не в ладах с морской болезнью.
Почти весь следующий день я провел с профессором Сереном и с молодыми индонезийскими учеными на острове Ферлатен. Нашли молодой коралловый рифчик, по работать на нем из-за мутной воды пока невозможно. Волнение по сравнению со вчерашним ослабело, и можно надеяться, что через несколько часов видимость улучшится. Пока же мы копаемся в каменистой россыпи, окаймляющей на пляже верхнюю границу воды во время прилива и волнения. Россыпь сложена все той же легкой пористой пемзой, которую волны без труда забрасывают в верхнюю часть пляжа.
Земноводная фауна этих россыпей не вполне обычна. Мы находим здесь такие виды моллюсков, крабов, многощетинковых червей, каких на Яве до сих пор не встречали. Может быть, это объясняется специфическими особенностями необычного субстрата, а может быть… Нет, это еще надо проверить.
Неподалеку от пас стоят по пояс в воде (ведь отлив еще только начинается) пышные развесистые стволы баррингтоний, терминалий и других «полумангров».
На древесных стволах собираем животных, которые обычно живут на камнях и скалах: морских желудей, устриц, морских блюдечек и других брюхоногих моллюсков, разные виды крабов. И здесь тоже наряду с обычными для Явы видами находим и такие, которые пока обнаружены только на берегах Азиатского материка или удаленных от Зондского пролива островах.
Идет отлив, обнажаются все большие участки осушной полосы. Вода становится светлее, скоро можно будет отправиться на риф. Вдруг мы видим, что к нам приближается «Джаланиди». Оказывается, наши внимательные хозяева решили доставить нам обед прямо к месту работы. Что ж, большое спасибо, терима каси баньяк!
Наскоро закусив, отправляюсь обследовать риф, сначала в маске с трубкой, потом в акваланге. Риф образован почти лишь одной молодой акропорой — оленьими рожками, но под бурно разрастающимися колониями акропоры нахожу и другие роды и виды кораллов, сплошь мертвые, погибшие, очевидно, во время извержений.
Ветвящиеся оленьи рога — великолепный субстрат для развития сопутствующей кораллам фауны, но очень многих ее представителей мы извлекаем и из мертвых колоний подстилающего слоя.
Как всегда, много рыб. И опять-таки среди примелькавшихся на других рифах видов встречаем кое-что непривычное… У профессора Серена есть с собой настой сильно действующего яда, извлеченного из нарезанных веток мангровых деревьев. Яд этот поражает жабры, заставляя рыб задыхаться и всплывать на поверхность, а волны выбрасывают их на берег. Серен просит меня проплыть к дальнему краю рифа и вылить там этот яд из полиэтиленового мешочка. Только что я плавал среди этих доверчивых стай, щелкал их японским фотобоксом, а сейчас вся эта симпатичная рыбья публика должна погибнуть от моей руки. Правда, сделано будет это черное дело не из хищничества, а для науки, но неприятное чувство от этого не проходит.
Выливаю яд. Профессор Серен засекает время. Яд должен подействовать через пятнадцать-двадцать минут. Мы сидим на берегу, разбираем пробы и одним глазом косимся в сторону рифа, не всплывает ли отравленная рыба. Проходит сорок минут, час. Ни на поверхности воды, ни на берегу ни единой рыбки не появилось. Идейный вдохновитель несостоявшегося массового убийства сконфужен. Все остальные делают вид, что ничего особенного не случилось. Но и без рыб в этот день мы набрали уйму материала. Даже с первичной его разборкой нам всем придется просидеть до поздней ночи.
Однако после ужина мои обычно очень аккуратные помощники почему-то в лаборатории не появились. Мы с профессором Сереном оказались там в полном одиночестве. А ведь завтра утром мы уже будем в Танджунг-Приоке, нужно успеть все разобрать и упаковать. Когда я через некоторое время пошел искать своих верных ассистентов, то обнаружил их в очень печальном состоянии. Один лежал на койке замертво, другой грустно примостился на палубе… Даже для Сукарно, неплохо выносившего качку на прау и маленьких катерах, плавное раскачивание большой «Джаланиди» оказалось фатальным.
Может быть, и лучше было в эту последнюю ночь экспедиционных работ посидеть над пробами одному. Я давно задумывался о том, почему некоторые виды морского происхождения, например идеально защищенные от высыхания крабы-призраки или раки-отшельники ценобиты, умеющие герметично закупоривать свою раковину, легко завоевали супралитораль, но не уходят дальше в глубь суши, скажем в лес. Вероятно, потому, что там они встречают жестокое сопротивление уже давно сложившихся сообществ наземных организмов. Назовем это биотическим сопротивлением среды. А там, где естественные ландшафты были нарушены вмешательством человека, эти выходцы из моря проникают на сушу гораздо дальше. Наши материалы очень отчетливо это демонстрируют.
Органическая жизнь может легко восстановиться после ее полного уничтожения, восстановиться благодаря обильному приносу организмов и их, говоря расширенно, «зародышей» морскими течениями, ветром и так далее. Но грандиозный естественный эксперимент Кракатау показал не только возможность восстановления жизни. Наземные ботаники и зоологи отмечали массовое развитие на Кракатау таких видов, которых нет ни на Яве, ни на Суматре.
Конечно, с морскими течениями пришельцы издалека сплошь и рядом попадают и на Яву, и на Суматру, но там им не дает укорениться именно это «биотическое сопротивление среды». А на стерильном после грандиозной катастрофы Кракатау сопротивления этого не было, что давало возможность проникнуть сюда и закрепиться тем видам, которым на Яву и Суматру с их сложившимися растительно-животными сообществами путь был заказан…
Утром на опустевшей после прихода в порт «Джаланиди» кроме вахтенных осталось лишь несколько биологов да перематывавший свои бесконечные кинопленки Павел.
Еще несколько дней прощальных приемов, неизбежной предотъездной суетни, и мы садимся в самолет Аэрофлота Джакарта — Москва. За восемь месяцев пребывания у экватора нам ни разу не пришлось испытать такой жары, как в этом накалившемся за целый день стояния на солнце самолете. Однако через полчаса после взлета температура в нем была вполне терпимой. В Дели мы уже немного поеживались от утренней свежести, а через сутки после вылета из Джакарты очутились в мартовской Москве, где термометр показывал в это время двадцать два градуса ниже нуля.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
INFO
Мокиевский, Олег Борисович
НУСАНТАРА. Записки биолога об экспедиции в Индонезию. М., «Мысль». 1967.
229 с. с илл., 8 л. илл. (Путешествия. Приключения. Фантастика).
91 (ИЗ)
Редактор Л. А. Деревянкина
Младший редактор В. А. Мартынова
Оформление художника Ю. К. Бажанова
Художественный редактор Г. М. Чеховский
Технический редактор Л. К. Уланова
Корректор Р. И. Андреева
Сдано в набор 10 октября 1966 г. Подписано в печать 4 февраля 1967 г. Формат бумаги 84х108 1/32. № 2. Бумажных листов 3,625 + 0,25 вкл. Печатных листов 12,18+0,84 вкл. Учетно-издательских листов 12,4 + 0.68 вкл. Тираж 30 000 экз. А03204. Цена 59 коп. Заказ Кг 627.
Темплан 1967 г. № 212
Издательство «Мысль».
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.
Баталов Л., Кияжинская Л. и др. Южная Индия. Экономико-географическая характеристика. 16 л. 1 р. 09 к.
Герасимов О., Машин Ю. В горах Южной Аравии. Серия «У карты мира». 4 л. 15 к.
Горнунг М., Уткин Г. Марокко. 18 л. 1 р. 25 к.
Илинич Ю. Польша. Экономико-географическая характеристика. 20 л. 1 р. 30 к.
Коновалов Е. Малави. Серия «У карты мира». 4 л. 15 коп.
Моисеева Г. Южно-Африканская Республика. 18 л. 1 р. 25 к.
Половицкая М. Запад США. Экономико-географическая характеристика. 30 л. 1 р. 80 к.
Степанов Л. Австрия. Серия «У карты мира». 4 л. 15 коп.
Уважаемые читатели!
Книги, заинтересовавшие вас, покупайте в ближайших книжных магазинах.
Антипов В. Индонезия. Экономико-географические районы. 16 л. 1 р. 20 к.
Блохин Л. Берег Слоновом Кости. «Экономико-географическая характеристика.
Булавин В. Ямайка. Серия «У карты мира». 4. 12 коп.
Волков А., Казин В. Государство Израиля. Серия «У карты мира». 4 л. 12 коп.
Гальперин И. Экватор рядом. Серия «У карты мира». 4 л. 12 коп.
Голубчик М. Камерун. Экономико-географическая характеристика. 18 л. 1 р. 33 к.
Длин Н. Кувейт. Серия «У карты мира». 4 л. 12 коп
Куракова Л. Бирма. Природные районы и ландшаф ты. 14 л. 1 р. 08 к.
Липец Ю. Страны Юго-Восточной Африки. Экономико-географическая характеристика. 22 л. 1 р. 59 к.
Талызин Ф. Под солнцем Мексики. Серия «Путешествия. Приключения. Фантастика». 8 л. 24 коп.
Шигер А. Новое на карте зарубежного мира. Справочник. 4 л. 14 коп.
За выходом в свет этих книг советуем следить по информациям еженедельника «Книжное обозрение».