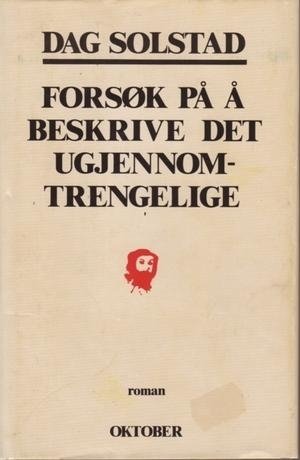
Forlaget Oktober A/S, 1984
На этот раз я сделал рассказчиком самого себя, и повествование мое — хотите верьте, хотите нет — начинается с того, что главный герой звонит по телефону писателю (то бишь мне), чтобы договориться о встрече и обсудить его (то бишь мой) предыдущий роман («Рассказ учителя гимназии Педерсена…»), который произвел на него неизгладимое (хотя и совершенно превратное) впечатление. Итак, герой набрал номер. Он ждет ответа. Прижав трубку к уху, слушает гудки: один, второй, третий. В это время у меня в квартире раздается звонок. Телефон! Я иду к нему и хватаю трубку.
— Да, — как всегда заинтригованный, говорю я, и на другом конце невидимого провода, который соединил нас и, без каких–либо усилий с моей стороны, будет поддерживать связь до окончания разговора, произносят мое имя.
— Кто это? — кричу я в трубку.
— А. Г., — отвечает голос, смущенно посмеиваясь.
— Ну да? А. Г.? Неужели это ты? Просто невероятно!
И тем не менее это был А. Г., Арне Гуннар Ларсен. Друг детства из Саннефьорда, с которым мы вместе росли и с которым вместе в буквальном смысле просиживали штаны сначала, в 1948 —1950 годах, в тамошней народной школе, еще за партой на двоих, потом, последние четыре года школы, на более модерновых одноместных партах, сидя в затылок друг дружке, а там было реальное училище, гимназия, да и позднее, в начале 60‑х, во время учебы в Осло, мы продолжали числиться приятелями, пока в шестьдесят пятом он тихо не исчез с моего горизонта, чтобы больше не подавать признаков жизни до этого звонка, нежданно–негаданно раздавшегося промозглым, ветреным и снежным февральским днем 1983 года в столице Норвегии Осло. Как мне было поверить, что это действительно А. Г.? Однако я предпочел поверить, тем паче что он перешел к делу и начал превозносить мой последний роман, а в конечном итоге предложил на другой день поужинать вечером в «Театральном кафе».
Меня это предложение, мягко говоря, не очень устраивало, поскольку я уже был одной ногой в Мексике, куда улетал через три дня, сроком на полгода. Т. е. пребывал в крайне напряженном, возбужденном, взвинченном состоянии, предвкушая самую важную и самую длительную в своей жизни поездку за границу. Конкретным ее выражением были здоровые чемоданы, что стояли в раскрытом виде посреди гостиной, готовые заполниться нашими вещами, моими и моей подруги. Дел перед отъездом нужно было провернуть уйму, а на проворачивание их оставалось всего три дня. Так что, по правде сказать, мне было некогда встречаться с А. Г. Кроме того, он предлагал для встречи субботний вечер, что вряд ли пришлось бы по вкусу моей подруге и спутнице, во всяком случае сейчас, накануне отъезда в Мексику. И все же у меня не повернулся язык отказать А. Г. Мне надо было повидаться с ним.
Поэтому я и выполз в такую холодрыгу из дома и теперь мерз на станции «Уллеволский стадион» в ожидании электрички из Хогнванна, которая бы доставила меня в центр, к «Театральному кафе». Заснеженный, стылый город, промозглый и горящий неоновой рекламой. Пожалуй, просто ради встречи с Арне Гуннаром Ларсеном я вряд ли вылез бы на улицу. А уж ради общения с каким–нибудь посторонним человеком, который бы позвонил и стал расхваливать мой последний роман, я и подавно не тронулся бы с места. Но сочетание того и другого оказалось неотразимым. От комплиментов, расточаемых старым другом из Саннефьорда, мне, я надеялся, предстояло испытать высшее блаженство, доступное писателю. Так что я, можно сказать, влетел в «Театральное кафе» как на крыльях, сдал в гардероб пальто, вошел в просторный приветливый зал этого ресторана в венском стиле и обратился к метрдотелю, который провел меня к столику, заказанному на имя архитектора Арне Гуннара Ларсена. Я опередил А. Г. и сел дожидаться его.
Итак, я ждал члена ВСА[1], архитектора Арне Гуннара Ларсена, то бишь А. Г., как он стал называть себя еще в гимназии, чем умудрился, несмотря на очевидную претенциозность имени, завоевать определенный авторитет. Образовано имя было в подражание радиолюбительской перекличке. «А. Г. вызывает О. П. Прием». Раньше он был просто Арне Гуннар. В своем повествовании я буду звать его то А. Г., то Арне Гуннар, а в случае необходимости буду прибегать и к фамилии, Ларсен. Я сидел в ожидании. Мы не виделись с ним семнадцать лет, тогда нам обоим было по двадцать четыре, теперь скоро исполнится сорок два. Мы родились в один год, в один и тот же месяц и сидели в саннефьордской школе за одной партой, макали ручки в одну чернильницу. Нас было не разлить водой, даже когда мы уехали из Саннефьорда и поступили учиться дальше, он на архитектора в-училище изобразительного и прикладного искусства, я на историко–философский факультет университета, где изучал историю общественной мысли, — и так продолжалось до самого лета 1965 года, когда, без всякой на то причины, пути наши разошлись и мы больше ни разу не видели друг друга. Сказать, что я радовался предстоящей встрече, значило не сказать ничего — если б я даже не предвкушал дифирамбов от старого приятеля, я все равно с нетерпением, хотя и разбавлен ным грустью, думал бы о том, что он с минуты на минуту появится в дверях «Театрального кафе» и подойдет ко мне. О его житье–бытье я был осведомлен довольно неплохо, поскольку время от времени нападал на людей, вращавшихся в его кругу, и всегда справлялся о нем. Пожалуй, даже удивительно, что за эти семнадцать лет я ни разу не натолкнулся на него самого: как–никак, мы жили в одном городе, с населепием, хоть это и столица, чуть больше пятисот тысяч человек и с центром, занимавшим весьма ограниченную площадь, а наши пути в повседневности разошлись не так уж далеко, во всяком случае, я то и дело встречал среди своих знакомых людей, которые общались с А. Г. Ларсеном и могли поделиться новостями о нем. Впрочем, то же самое справедливо в отношении многих из моих прежних знакомых, особенно начала 60‑х годов, когда я, будучи студентом Ословского университета, втайне от всех учился на писателя. Я их не вижу. Но вот наконец–то проявился А. Г. Ларсен, и я радовался встрече с ним. Здесь, однако, не мешает оговориться: если бы у меня хоть на секунду зародилось подозрение, что я дожидаюсь героя своего нового романа, радость моя, несомненно, померкла бы, поскольку Арне Гуннар Ларсен заведовал отделом планирования в ОБОСе[2], — а, положа руку на сердце, любой писатель предпочел бы на роль главного героя кого–нибудь поинтереснее. Если к тому же учесть, что мне доложили о его сравнительно недавнем разводе с Бенте Берг (Ларсен), то, заподозри я в нем литературного персонажа, да еще моего собственного, а именно героя данной книги, я бы сейчас предвкушал удовольствие (как частное лицо) и в то же время страшился надвигающейся катастрофы (как литератор).
Но вот и он. Несмотря на истекшие семнадцать лет, я мгновенно узнаю его. Вступает сидящий на балконе оркестр. «Театральное кафе» машет А. Г. белыми скатертями, устраивает ему овацию звоном посуды и всеобщим гомоном, салютует сигаретным дымом. Я поднимаюсь и приветствую его. Дружище! Долгие годы неразлучный приятель, который бок о бок со мной вел неравную борьбу против действительности, ныне столичный чиновник. Чиновник от архитектуры.
Я смотрю на него:
— Куда ты дел свою шевелюру?
Он смотрит на меня:
— Терье Викен! Раньше ты был просто чудак, а теперь чудак с сединой[3].
Мы здороваемся друг с другом. Добро пожаловать! Мы пьем за свидание. Смотрим меню: сегодня нам хочется воздать должное нашей дружбе праздничным ужином. Мы сидим посередине зала, в окружении стройных колонн, а также прекраснейших дам и нарядных мужчин, двое беглецов из китобойного городка Саннефьорда, вновь обретшие друг друга. Говори же, рассказывай! У нас над головой играет музыка, льются вкрадчивые звуки скрипок. К столику подходят аккуратные официанты и принимают заказ. О музыка, музыка! Со всех сторон улыбающиеся лица, мы же сидим в центре зала и смакуем свою дружбу. Нам подали отменное оленье филе, и я пользуюсь случаем хотя бы теперь, пусть запоздало, выразить благодарность шеф–повару, поскольку в тот вечер, по причинам, на которых я остановлюсь далее, мне не удалось этого сделать. Вино было недурное, но, конечно, не первоклассное (последнего не бывает в норвежских ресторанах в силу ряда обстоятельств, связанных с государственной политикой в отношении спиртного, о чем сходятся во мнениях самые различные партии, в том числе, насколько мне известно, и РКП (м-л)[4], тем не менее бутылки за нашим столиком откупоривались одна за другой — как и положено, облаченным в белое официантом (осмелюсь ли я подозвать тогдашнего кельнера сегодня?), который как нельзя лучше отвечал стилю этого шикарного заведения, избранного нами в качестве декорации для торжественного ужина.
Прошло семнадцать лет. Как я уже говорил, Арне Гуннар Ларсен стал архитектором и чиновником. Кому же из них он отдал предпочтение, собираясь на встречу со мной? Иными словами, под кого он оделся? Он предпочел выглядеть чиновником. А. Г. был одет просто и неприметно, как и подобает служащему в ОБОСе высокопоставленному социал–демократу. Никаких тебе «архитекторских» выкрутасов, во всем облике ни малейшего намека на художника, даже шелкового платка на шее — нет–нет, А. Г. Ларсен был при галстуке в белую и синюю полоску. Не приходилось сомневаться, что напротив меня сидит руководитель с социал–демократическими убеждениями. Он крайне ненавязчиво воилощал идеалы «умеренности», «порядка», «эффективного и в то же время демократического социализма». В глубине души я вынужден был сознаться, что чувствую себя более скованным, чем если бы он захотел предстать передо мной эдакой «художественной натурой», чисто случайно попавшей на службу в ОБОС.
А все–таки какими разными путями пошли наши жизни! Он — высокопоставленный социал–демократ (и архитектор) из ОБОСа, я — бунтарь, писатель–коммунист, т. е. он входит в систему, я же нахожусь вне ее. Да, А. Г. Ларсен был настолько «вхож», что в свое время удостаивался приглашений на изысканные правительственные приемы — правда, в качестве кавалера своей жены. Бенте Берг Ларсен, юрист по образованию, была довольно известным деятелем рабочей партии, занимала солидное положение в министерстве торговли, а не так давно, в пору недолгого пребывания у власти правительства Гро Харлем Брундтланд[5], даже поднялась до заместителя министра в министерстве потребления и управления. Теперь они, впрочем, расстались, и развод этот, как сообщил в ответ на мой прямой вопрос А. Г., прошел безболезненно. Мы с А. Г., родом из глухомани китобойного городка, в горе и в радости держались вместе. Он — живой и общительный, я — замкнутый в себе. Был ли я его нелюдимой тенью? Или скорее он был моим представителем в повседневной действительности? Трудно сказать, да и невозможно вдаваться в эти тонкости — во всяком случае, в рамках нашего повествования. Как бы то ни было, на меня вахнуло теплом мальчишеской привязанности, которая зашевелилась где–то в укромном уголке моей души.
Свидание после долгой разлуки. Двое мужчин, сорока двух лет, родившиеся в один месяц в одном городе. Он здорово полысел. И ссутулился. Но на здоровье, видимо, не жаловался. У меня создалось впечатление, что он увлекается спортом. И все же он был прежний, я узнавал его до мелочей, до того, что — не побоюсь громкого слова — испытывал к нему нежность. Мой бывший приятель, полысевший, сидел передо мной и, изображая скромного чиновника, нахваливал «Рассказ учителя гимназии Педерсена…». Мы встретились за праздничным столом, и тема, которую избрал для разговора за ним Арне Гуннар, как нельзя лучше соответствовала нашему настроению.
— Ты у нас теперь чуть не самый популярный писатель, — конфузливо начал А. Г. Кто бы мог подумать! А я всего лишь жалкий архитектор… но я люблю свою работу, и это самое главное, правда? — неуверенно прибавил он. (Твое здоровье, Арне Гуннар. Твое здоровье, Даг.) — Я, между прочим, слежу за твоими публикациями… по–моему, я прочел все… кроме одной книги, про войну, как она называется? (Видимо, «Война, 1940»! А может, «Хлеб и оружие».) Успех у тебя, конечно, заслуженный. (Твое здоровье, Даг. Твое здоровье, Арне Гуннар.) Но последний роман просто обалденный. (Обалденный??? Христа ради, только не это слово, я не выношу его.) (Твое здоровье, Арне Гуннар. Твое здоровье, Даг.) Роман потрясающий… Ха–ха–ха! (Ха–хаха?) Как он катается на велосипеде по воде… Фантастика. Ха–ха–ха… И едет на ежегодную конференцию в Швецию… Потрясающе… А девица, которая аж в постели кричит «Товарищ!», как ее там звали? (Нина Скотэй.) Фантастика. Ха–ха–ха. (Твое здоровье, Даг.) А сам учитель, этот горе–борец за рабочий класс! Как тебе такое пришло в голову? (Твое здоровье, Арне Гуннар. Твое здоровье, Даг.) И на велосипеде по воде. Фантастика.
И так далее и тому подобное. Короче говоря, вечер обещал быть на редкость приятным. Я, во всяком случае, совсем размяк от расточаемых комплиментов. Но вскоре я встрепенулся, уловив в речах А. Г. что–то не то. Больно странно он меня хвалил. Вовсе не так, как мне хотелось бы. Должен признаться, у меня есть к похвалам определенные пожелания, даже требования, в конечном счете меня не устраивают просто комплименты. А. Г. же не оправдывал моих надежд. Прежде всего он был излишне многословен. Это я, так и быть, простил ему, не желая производить впечатление выскочки, который еще разбирается, какими словами ему поют дифирамбы. Хотя не отметить это я про себя не мог. «До чего ж велеречивым сделал тебя комфортный социал–демократический образ жизни», — подумал я. Однако насторожило меня в его славословиях нечто другое. Я сообразил, в чем дело, когда А. Г. в третий раз вспомнил, как учитель Педерсен катался на велосипеде по воде, ха–ха–ха, и какой учитель Недерсен горе–борец за рабочих, ха–ха–ха, и как Нина Скотэй кричала в пылу страсти «Товарищ!» — ха–ха–ха, и ха–ха–ха, и еще раз ха–ха–ха! Только тут, сопоставив восхитившие А. Г. примеры, я понял, что в своих похвалах мне он исходит из ложных предпосылок. Нора вмешаться, решил я:
— Ну–ну, А. Г., я все–таки не фарс написал.
— Не фарс? — недоуменно посмотрел на меня А. Г. Я бы даже сказал, он уставился на меня в искреннем недоумении. А. Г. был совершенно сбит с толку. К своей досаде я обнаружил, что он считает меня юмористом. Он расточал мне комплименты как юмористическому писателю! Черт знает что такое! (Но это еще были цветочки.).
— И что же, скажи на милость, ты написал? — спросил А. Г., ошеломленный моим заявлением.
— Я написал книгу для мыслящих людей, которые хотели бы с толком распорядиться своей жизнью, — обиженно отвечал я.
— Что–то не похоже, — смущенно усмехнувшись, сказал А. Г.
— Нак не похоже?! — возмутился я. Ты–то откуда знаень?
— Но я читал ее, Даг. Ты написал остроумнейший фарс, и не пробуй отпираться. Взять хотя бы сцену, где гимназический учитель Педерсен ездит на велосипеде по воде (в четвертый раз!). Что же это, как не развенчание с помощью смеха революционной романтики? И такого у тебя полно. Один сплошной юмор. Я, признаться, обхохотался над твоей книгой.
У меня отнялся язык. Вот уж чего я никак не ожидал от А. Г. Я вовсе не за этим в холод и темень тащился на встречу с ним в «Театральное кафе». Я не нашел слов, чтобы выразить свои ощущения, и сделал то, что показалось мне в данной ситуации единственно приемлемым.
Поднялся на ноги и ВЗРЕВЕЛ. Я встал посреди «Театрального кафе», опираясь о стройную колонну возле нашего столика, и издал протяжный рев на весь нарядный зал. Музыка мгновенно прекратилась. Официанты замерли в самых нелепых позах, а метрдотель в черной паре просто оцепенел рядом со своей конторкой, в коридорчике при входе. Все посетители обернулись ко мне, в том числе те, что сидели спиной, они в особениости привлекли мое внимание, потому что им было неудобно: они сворачивали шеи, тараща на меня глаза. Все с застывшим любопытством наблюдали за моим ревом. Никто в зале не шевелился. Не двигалась ни одна вилка, ни один нож. Бокалы на столах оставались нетронутыми. Белые скатерти лежали ровно и покойно. Все взгляды были обращены ко мне. Я сел и попытался как ни в чем не бывало продолжить разговор с А. Г., но из–за воцарившейся гробовой тишины мои слова прозвучали слишком громко и отчетливо, и на весь зал разнеслось: «Нету меня никакого юмора!» После чего метрдотель на моих глазах шепнул что–то на ухо одному из кельнеров, и тот, торопливо пробравшись между замершими столиками, прочел мне нотацию. Во всеуслышание. Что и разрядило обстановку. Снова заиграла музыка. Зазвенели бокалы. Заскрипели по тарелкам ножи и вилки. Шум, гам, веселье.
Мы возобновили беседу. Этот эпизод, надо признаться, сблизил нас с А. Г., поскольку мы оба выходцы из Саннефьорда и в таком ресторане, как «Театральное кафе», не можем не чувствовать себя учениками, которые должны сдавать экзамен по хорошим манерам. Метрдотель вдалеке был для нас инспектором Антониуссеном из саннефьордской народной школы (а если метрдотель был гораздо массивнее — чтобы не сказать толще, — так это просто–напросто потому, что он перещеголял по корпулентности самого инспектора Антониуссена), официанты же исполняли роли учителей и бегали вокруг, разнося на огромных серебряных подносах экзаменационные билеты, а потом, так же на бегу, вскрывая темы сочинений, которые они раздавали нам, взволнованным испытуемым из Саннефьорда, чтобы в полночь щедро наделить всех свидетельствами о сдаче экзамена в виде отпечатанных на машинке счетов. Общие тревожные ощущения и спаяли нас с А. Г. Помимо всего прочего, именно А. Г. спас меня от провала на экзамене. Когда кельнер подскочил к нашему столику, А. Г. быстренько извлек из кармана кредитную карточку «VISA» и ненавязчиво выложил ее перед собой. Эта карточка послужила нам охранной грамотой. Я понял, что лучшего аттестата о сдаче экзамена не бывает, и решил непременно завести такую карточку себе.
Мы с А. Г. сидим в столичном «Театральном кафе». Двое мужчин, перевалившие на пятый десяток. Мы едим свое оленье филе и потягиваем свое вино. Мы ведем беседу. По–прежнему о «Рассказе учителя гимназии Педерсена». Не стану больше утомлять вас подробностями, скажу только, что А. Г. умудрился еще раз лишить меня дара речи. Он пустился в рассуждения о правдивости романа. По его словам, в книге были на редкость правдиво описаны десять лет моей жизни. Он превозносил меня до небес за мою искренность. Естественно, он воображал, будто льстит мне, я же воспринял его слова не как похвалу, но как глумление надо мной. Я достаточно пожил на свете, чтобы разбираться: если кому приписывают искренность, значит, его считают тупым, недалеким, ограниченным. Иначе говоря, А. Г. обвинял меня в том, что роман получился поверхностным. Мне было ни к чему такое обвинение. Я не желал, чтобы меня называли «искренним». А. Г. же знать не хотел ничего другого. Я, дескать, не думая о последствиях для себя, описал десять лет, проведенных, как он выразился, в тенетах сектантства и революционной романтики. Он восхвалял мой талант художника. Лишь крупнейшие дарования осмеливаются писать столь правдиво, разглагольствовал он. Это привело меня в бешенство. Я почувствовал, что настала пора действовать. И приступил к действиям. Я встал и ВЗРЕВЕЛ во второй раз.
Мой второй рев последовал примерно через полчаса за первым. Среди посетителей тем временем произошли некоторые замены, кое–кто расплатился и ушел, в полной уверенности, что больше одного рыка за вечер не будет, зато появились новые люди, для которых второй рев оказался как бы первым, и они, вероятно, недоумевали, почему администрация так жестко и так типично по–норвежски отреагировала на него. В остальном же все было в точности как тогда, даже сам рев продолжался ровно столько же. Единственное отличие состояло в том, что, усевшись на место, я в наступившей тишине вместо «Нет у меня никакого юмора» произнес другую реплику — «Никакой я не искренний», но фраза эта прозвучала не менее отчетливо, чем первая, и подскочивший официант был тем же самым. Впрочем, на этом сходство эпизодов кончается. Если в первый раз А. Г. ненавяззиво положил перед собой на стол кредитную карточку, теперь он не предпринял такой попытки. А официант на этот раз и не подумал отчитывать меня, напротив, он не проронил ни слова, однако мгновенно убрал наши бокалы, рюмки для коньяка и кофейные чашки (ужин был давно поглощен, и тарелки унесли еще на законном основании). Поспешно удалившись, он тут же вернулся и снял со стола белую скатерть. Одновременно примчался другой официант, который подал счет: мол, расплачивайтесь и уходите. И мы ушли. А. Г. даже не воспользовался своей кредитной карточкой: поделив расходы пополам, мы заплатили наличными.
Теперь на улицу, в зимнюю ночь. Осло. Промозглая метель. Зверский холод. И тьма. Мимо прогромыхал трамвай, с пассажирами за желтыми окнами. На здании по соседству с давно не функционирующим кинотеатром «Скала» светились часы. Сновали взад–вперед озябшие прохожие, ищущие столичных развлечений. Вдоль всей Стортингсгата, на одном светофоре за другим, зеленый свет сменялся на красный, а потом красный — снова на зеленый. Время от времени по улице проезжало одинокое такси с желтым фонариком на крыше. Вот кто–то побежал за ним и, как говорится, схватил его. Посреди всего этого стояли мы с А. Г. Пора было прощаться.
Сласибо за приятный вечер, Арне Гуннар, но я через два дня уезжаю в Мексику, так что мне, сам понимаешь, нужно домой, собираться. Но я даже не заикнулся об этом. Коль скоро нас обоих выставили из «Театрального кафе», и по моей вине, я не мог просто взять да смыться, как бы сильно мне того ни хотелось. А. Г. же вовсе не хотелось расставаться. Он объявил, что время еще детское, и спросил, куда мы пойдем. Мне наверняка известны злачные места, а? Вообще А. Г. казался чуть ли не довольным тем, что его выгнали из ресторана: он отпускал беспечные шуточки, пока мы в гардеробе дожидались своих пальто (нод присмотром официанта, которому поручили выпроводить нас). А. Г. явно примерял на себя эпизод «Изгнание». Теперь он утверждал, что время еще детское. И надо пуститься в загул.
Что мы и сделали. Мы пустились в загул в ночном Осло, прежде всего обойдя заведения, где я был своим человеком. Сквозь пургу и ветер — в «Hot House»[6], к роскошным стаканам с пивом или (если не сказать «и») изящным бутылкам красного вина, в зал, согретый множеством чудесных людей, которые по той или иной причине сошлись туда. Из «Hot House» — короткая пробежка до «П-17»[7], где нас снова ожидали стаканы с пивом и изящные бутылки красного вина, а также совсем другая, очень интересная публика. Оттуда на такси в «Jazz Alive»[8]. А оттуда, опять на такси, на неизвестную мне квартиру.
Мы гуляли. Как следует. Кутили вовсю. Гремела музыка. Кажется, даже были танцы? И А. Г., кажется, танцевал? Кругом рок и джаз, кругом ор и бас. А там, в уголке, не Юн ли это Мишлет? Сидит себе, доверительно беседуя с растрепанной темноволосой феминисткой, от которой исходит по–звериному терпкий аромат духов (О6 их уединении даже шептались). Ну конечно, это Мишлет! А вон вышагивает по залу Эдвард Хуэм, дружелюбно раскланиваясь направо и налево. А вот и я. Сижу перед высоченным стаканом с пивом, который мне предстоит осушить. Рядом со мной А. Г., он что–то рассказывает, склонившись к моему уху. Он разливается соловьем, Говорит о том, что я облегчил его душу. И облегчение ему принес мой последний роман. Потому что в нем идет речь о моем банкротстве. У А. Г. отлегло от сердца, когда он прочел эту книгу. Он понял, что ничего в жизни не упустил. Я физически и морально обессилен своим ревом. Я в загуле. Мы в загуле. А. Г. ничего не упустил в этом мире. Мы встаем. Ах, уже закрывается? Ну и пожалуйста, мы стоим в очереди. В «П-17». Чинно–мирно стоим. Но вот мы просачиваемся сквозь очередь и заходим внутрь. И все благодаря А. Г. Как это ему удалось? Меня никуда не пускают без очереди. А. Г., значит, понял, что ничего в жизни не упустил. Он хочет сказать мне кое–что по секрету. Он говорит мне по секрету: он сам чуть не попал под влияние РКП. Году примерно в семидесятом. (Можно подумать, я не знал. Мне тогда все о нем сообщали.) Он занимался в партийном кружке. Под руководством одного молокососа, слишком много о себе воображавшего. Какое–то у него было странное имя… Ага, Эллен. Эллен! Не может быть, Может, может. Руководителя звали Эллен. К счастью, у А. Г. оказалосьтаки довольно здравого смысла. Он вовремя остановился, Не бросился занимать место в вагоне. А вон опять Эдвард Хуэм собственной персоной! Он важно шагает по залу и дружелюбно раскланивается направо и налево. Поезд ушел без меня. (Это А. Г.) К счастью. Я стоял на перроне, но поезд ушел оез меня. И слава богу. Могу только радоваться. Здоровые у них тут стаканы! Их небось от стола не оторвешь, такие тяжелые. Попробуй. Ну, нам пора. Такси. Еще одна очередь. Перед «Jazz Alive». А. Г. и через нее ухитряется просочиться, не представляю как. Тут играет джаз. И я тоже тут. И еще А. Г., который болтает без умолку. Тараторит в самое ухо. Он хочет мне кое–что рассказать. Он рассказывает. Своей жизнью он доволен. Он твердо знает: я (т. е. А. Г.) приношу пользу. Я — частица Норвегии. Я понимаю основные проблемы так же, как большинство норвежцев. Кто это «я»? «Я» или «ты»? «Я». Значит, А. Г.? Ну да, А. Г. Я разбираюсь в том, в чем не разбираешься ты. Слушай, слушай! Я из тех, кто создал современную Норвегию. Из тех, кто преобразил Норвегию. Ты?! Да, я! Я служу силам, сотворившим эту страну. А. Г., говори громче, мне ничего не слышно из–за проклятой музыки. Ты что, рехнулся? Здесь же джаз — самое главное. Сюда приходят посреди ночи специально ради джаза. А. Г. утверждает, что каждый день трудится на винограднике Господа.
А кто Господь? И где его виноградник? Догадаться нетрудно. Можно, я скажу? Господь — это рабочая партия! Почти угадал. А. Г. только считает, что точнее сказать: социал–демократическая Норвегия, А виноградник — это…? ОБОС! Совершенно верно. Я не стал садиться на смехотворный поезд в утопическое будущее. Нарочно не стал. Сознательно. Все обдумав. Я предпочел посвятить себя карьере. Я стал чиновником. У меня ответственная должность. Я приношу пользу. Служу существующему порядку! Не так громко, у оркестра перерыв, давай потише. Я горжусь этим. Тем, что служу существующему порядку. Что такое существующий порядок? Это то, чего добивался народ, о чем он мечтал. Вернее, то, о чем он раньше не осмеливался мечтать. Вот она, сегодняшняя Норвегия. И я служу ей. Смотрите, опять Эдвард Хуэм. Он вышагивает по залу и дружелюбно раскланивается направо–налево. Мы потом завалимся куда–нибудь еще. Понятия не имею куда. Вон с той компанией. Я служу. А. Г. продолжает говорить. У самого моего уха, нет, у самого моего стакана с пивом, мое ухо за стаканом, вот так, и звуки проходят сквозь стакан и попадают мне в ухо. Я прекрасно все соображаю. Я физически и морально измотан. Сегодня я наконец–то взревел. Но А. Г. служит. Он старается, проектирует скромные квартиры, укладываясь в жесткие финансовые ограничения, которые ему ставит действительность. Никаких тебе витаний в облаках. Один трезвый расчет. В этом весь я (то бишь А. Г.). Я благодарю судьбу за то, что я — это я (то бишь А. Г.), а не ты (то бишь я). На самом деле народу служу я. Если уж воспользоваться пышной фразой, которой несколько лет тому назад так кичились вы. Теперь ты говоришь слишком громко, А. Г. Нет, это ты говоришь слишком громко. Я? Я вообще молчу. Ты? Ты не закрываешь рта. И что я такое говорю, А. Г.? Мне почему–то ничего не слышно. (Вслух или про себя произнес я эти фразы?) Вы никогда не служили народу. Нет–нет, ты уж помалкивай. Дай мне сказать. А. Г. говорит, А. Г. изливается. Он втолковывает: вы пытались ввести народ в заблуждение. Пытались ограбить народ. Лишить его здравого смысла, лишить способности отличать большое от малого, важное от второстепенного. Неужели вы не понимаете, что народ умнее вас? Неужели ты сам не понимаешь, что живешь в истинно гуманном обществе, одном из немногих в мире? Тем временем мы действительно заваливаемся куда–то еще. Совершенно новый антураж. Это частная квартира. А. Г. продолжает разглагольствовать. Склонившись к самому моему уху. Без передышки. Он не утихомиривается, даже когда приезжает Эдвард Хуэм, не видит, как тот важно шагает по дому и любезно раскланивается направо–налево, в том числе со мной, в том числе с А. Г. (с которым он не знаком). Я дую водку. И это мое последнее воспоминание о вечере. А. Г. еще доказывает свое. Подумать только, он продолжает в том же духе, даже когда я очухиваюсь в такси — за окном светло, мы едем по прекрасной автостраде, и я вдруг говорю ему:
— Привет!
А. Г. недоуменно смотрит на меня. И я чувствую, он знать не знает о моей отключке. А я, хоть и знаю о ней, в данный момент ничуть не беспокоюсь. Через некоторое время я уясняю себе, что мы едем по Тронхеймсвейен, и путем некоторых умозаключений прихожу к выводу, что сегодня воскресенье и мы сидим в такси, направляясь в столичный пригород Румсос, где собираемся позавтракать у Арне Гуннара Ларсена.
Я, значит, отключился и ничего не помнил. Но если поначалу я не очень переживал об этом, поглощенный неумолимо надвигавшимся ощущением похмелья, то потом провал в памяти заинтриговал меня. Ведь наше повествование боязано своим появлением на свет исключительно моему отпаду. Без него я бы не имел возможности ничего написать. Дело в том, что через полгода после описываемого вечера А. Г. Ларсен разыскал меня и весьма обстоятельно поведал о событиях, положенных в основу этого романа. Он обратился именно ко мне, чему я не вижу никаких разумных объяснений. Его доверие можно отнести только за счет моей отключки, во время которой я, очевидно, сказал или сделал что–то такое, от чего мы с А. Г. нашли общий язык, установили теснейший контакт, и он вспомнил об этом, когда ему понадобилось поделиться с кем–нибудь своими обстоятельствами. Что я такого сказал (или сделал), остается для меня загадкой. Я много раз пытался выяснить это, копаясь в тайниках своей души, но не обнаружил ничего, кроме потемок. Таким образом, ключ к появлению данного повествования утрачен. У меня есть кое–какие предположения о том, что я мог сказать или сделать (боюсь, что ничего хорошего), однако когда я, наедине с самим собой, перебираю эти возможности, я не обнаруживаю ключа, который бы подходил к замкнутой шкатулке сознания. Я твердо знаю одно: что у меня было выпадение памяти и я сказал или сделал нечто, чем, сам того не подозревая, завоевал глубочайшую привязанность А. Г. Ларсена.
Но пока что я как раз очнулся от своего забытья и, чувствуя подступающее похмелье, сижу вместе с А. Г. на заднем сиденье такси, направляясь по Тронхеймсвейен к микрорайону под названием Румсос. Скоро я уйду со сцены. Уйду из этого повествования как действующее лицо и сосредоточусь на роли рассказчика, Мы приближаемся к месту действия, и вскоре я вас покину. Но прежде мне нужно кое–что сообщить вам. Дабы ничего не скрывать, я хотел бы уточнить, что события, о которых пойдет рассказ, на самом деле никогда не происходили. Тот, кто не поверит мне и обратится к приводимым здесь источникам, не обнаружит ничего. Да и на месте происшествия не отыщется никаких следов событий, о которых я собираюсь поведать. Если попытаться проследить эти события каким–то другим способом, то и тогда поиски не увенчаются успехом. Если проверить упоминаемые в книге биографические данные, это заведет вас в тупик: от них не тянется следа к описываемым событиям. Где бы вы ни искали, к каким бы методам ни прибегали в своем расследовании, вам не удастся отыскать ни единой улики, достаточной для возбуждения дела. Я специально оговариваю это, поскольку у меня есть предчувствие, что кое–кто посчитает своим долгом поставить точки над i, и им мои объяснения могут показаться малоубедительными. Вполне вероятно, что такие читатели захотят обратиться к первоисточникам, и их ожидает кропотливая и совершенно бессмысленная работа. которая завершится весьма для них обидным выводом: ничего, nothing[9].
Такси въезжает в Румсос. Мы выходим у многоэтажного гаража, расплачиваемся и идем внутрь квартала, туда. где живет А. Г. С перепою — в Румсос. Современный норвежский пригород. Уже совсем рассвело, грядет новый день под хмурым норвежским небом, промозглый, ветреный, метелистый; сегодня воскресенье. Кругом выстроились корпуса домов. Когда я попадаю в окружение коробок в норвежском микрорайоне вроде Румсоса, меня пронизывает ощущение чего–то враждебного. Так они угнетают меня. И вот мы с А. Г. входим в один из корпусов — тот, в котором он живет.
Мы пришли завтракать. Мы попадаем в квартиру к А. Г., который, как было сказано, возглавляет отдел планирования в ОБОСе. Описание квартиры я отложу до другого раза, сейчас мы не задерживаемся в ней надолго, поскольку выясняется, что у А. Г. в запасах ничего съестного. Черствый хлеб и кусок старого сыра, нет–нет, он хочет предложить мне что–нибудь повкуснее. Он захватывает бутылку водки, и мы вместе — он впереди, я сзади — пересекаем лестничную клетку и звоним в дверь напротив.
Дверь с табличкой «Юнсен» открыла молоденькая женщина. Она смущенно улыбнулась А. Г., который, размахивая бутылкой, высказал желание позавтракать у них. Женщина украдкой взглянула на меня, стоявшего за спиной А. Г.
— Конечно, Ларсен, милости просим обоих, — сказала она и широко распахнула двери. А. Г. ввалился внутрь, я последовал за ним. Мы явно застали обитателей дома врасплох — семейство только что встало, еще не завтракало и по случаю воскресенья пребывало в разобранном состоянии. Откуда–то возник муж, на вид несколько старше жены, он расплылся в сердечной улыбке при виде А. Г. и протянул руку мне:
— Бьёрн Юнсен.
Представилась и жена. Илва. Я со своего похмелья чувствовал себя здесь лишним, и мне стало совсем худо, оттого что Арне Гуннар пытается организовать плотный завтрак — с яйцами, селедкой, выпивкой. Тем не менее его старания увенчались успехом. Арне Гуннар попытался также пробудить интерес к моей персоне, объявив, что я писатель, однако эти его старания оказались менее удачными. Бьёрн Юнсен спросил, знаю ли я Моргана Кейна[10], а когда выяснилось, что не знаю, разговор застопорился. Видел я и сына, который забавлялся на полу с электронной игрой. Ему было лет шесть–семь. Помню, я еще подумал, что Илва, видимо, довольно рано завела ребенка. Мне в моем похмелье действовал на нервы писк электронной игры. Завтрак с яйцами и селедкой. И небольшой интригой. Выпьет ли Бьёрн Юнсен стопочку за компанию или он, как намечалось, пойдет с сыном кататься на лыжах? Илва настаивала на втором варианте. Арне Гуннар соблазнял: выпить будет неплохо. Сам Бьёрн Юнсен. посчитал, что осилит и то, и другое — сначала немножко водки, а потом пробежаться на лыжах. Я видел Юнсенов в первый и последний раз. За завтраком, в воскресное утро, в феврале восемьдесят третьего, т. е. прошлого, года. Неторопливо тянущееся воскресенье. Илва, нарезающая за кухонным столом хлеб (она, кажется, чуть настороже?). Бьёрн Юнсен, который выпивает далеко не одну рюмку, время, которое еле течет, мальчик, который начинает канючить и которого в конечном счете отсылают кататься на лыжах одного, но он вскоре возвращается и садится за свою игру, издающую столь пронзительные звуки. Ларсен спрашивает, не собирается ли Бьёрн в следующую субботу на «Бишлет», смотреть чемпионат мира по конькам, потому что он, Ларсен, может достать билеты. Бьёрн Юнсен, однако, не собирается, у него есть телевизор, и он предпочитает смотреть конькобежные соревнования дома. По телевизору куда лучше. У Бьёрна с Ларсеном явно теплые, приятельские отношения. Илва иногда тоже вставляет реплики, но она, кажется, раздражена несостоявшейся лыжной прогулкой. Я был тут совершенно посторонним человеком. Я знал, что никогда больше не встречусь с ними, что попал сюда случайно, незваным? да еще в сильном похмелье, поэтому я лишь пригуоил свою водку, тем более что до меня наконец дошло: пора домой, к подруге. Была ли Илва красавицей? Не помню, чтоб она показалась мне красивой, но какое–то впечатление, видимо, произвела, раз и подумал: «Не томится ли ona адесь, взаперти?» Но мне нужно было домой, и я искал повода откланяться как можно незаметнее, м не мог улучить момент, м продолжал сидеть в гостях у этого незнакомого семейства из Румсоса, пока не перевалило за полдень потом начало смеркаться — тут только а сумел выдавить из себя: «Ну вот, уже темнеет, мне пора отчаливать», м, поблагодарив хозяев, попросил А. Г. вызвать по телефону таксы и уехал. Это была первая и последняя встреча с Юнсенами, так что мои личные воспоминания ограничиваются тем воскресным днем. Дома моя подруга с вызывающим видом сидела посреди гостиной на крышке запакованного чемодана. — Мы разве не едем в Мексику? — процедила она сквозь зубы. — Почему же, едем, — отвечал я, самое время. И мы поехали. Нас не было полгода. По возвращении я хотел немедленно привести в порядок свои заметки, чтобы описать происходившее со мной там — в Мексике, в Центральной Америке. Но тут раздался телефонный звонок. А. Г. Ларсен. Он просил о встрече, и я пошел повидаться с ним; тогда–то я и выпытал у него эту историю, давшую толчок моему роману. Обращаю ваше внимание на то, что сам я абсолютно непричастен к событиям, о которых рассказывается в книге. Все свершилось в мое отсутствме, когда я находился в другом полушарии. Я не имел никаких (или почти никаких) контактов с теми, кто тут замешан. Меня эти события коснулись лишь через друга детства, с которым мы накануне моего отъезда в Мексику целый день прокутили, отмечая первое свидание после почты двадцатилетней разлуки. Так что для меня случившееся — дело стороннее. Но это стороннее дело оказалось такого свойства, что отодвинуло начатые было записки о посещении Мексики.
Еслы вкратце, то события, о которых пойдет речь, начинаются с того, что руководитель отдела планировавия в ОБОСе, член ВСА, архитектор Арне Гуннар Ларсен, расставшись со своей женой, завотделом в министерстве торговли, кандидатом юридических наук Бенте Берг, переезжает в Румсос. и там у него, как ни странно, завязывается дружба с живущей в том же доме супружеской парой, Илвой м Бьёрном Юнсенами. Многое из поведанного мне А. Г. указывает ма то, что человек он весьма своеобразный, однако я не стремлюсь подчеркивать его своеобразие или странности. напротив, я булу стараться, по мере возможности, истолковывать его мысли, чувства м поступки как присущие не одному ему. Это, в частности, относится к тому, что он рассказал мне о разрыве с женой и переселении в Румсос.
Свою бывшую супругу. Бенте Берг Ларсен, он назвая «деловой женщиной», добавив при этом, что у него была «идеальная жизнь» и что в своем браке он стал «свидетелем идеальной жизни и идеального супружества» — свидетелем, поскольку А. Г. много лет наблюдал эти отношения и себя самого (как «одного из действующих диц идеального супружества») словно со стороны. Он чувствовал себя чужим, лишним в собственном браке и в собственной семье, состоявшей из жены и двоих детей, десятилетнего Мортена и восьмилетней Кари. с которыми он жил в центре Осло, в квартире возле парка, Санкт–Хансхёуген. Далее он обрисовал среду, в которой вращалась супружеская чета Берг–Ларсен. назвав ее «норвежской элитой, об утонченности, интеллектуальности и беспристрастности которой ходила молва по всей стране». Означенная элита включает в себя преуспевшую молодежь конца 60‑х годов, тех, кто теперь занимает теплые местечки в государственном аппарате либо же в единственной партим, обладающей достаточным влиянием, чтобы определять политическое и обществевное развитие Норвегни в нашем веке, то есть в Норвежской рабочей партны. А. Г. поделылся со мной своей радостью, оттого что порвал и с браком, и с этим кругом. Да–да, он до колик смеялся и дрожад от волнения, когда перебирался в свою новую четырехкомнатную квартиру в Румсосе. «Наконец–то можно начать жизнь сначала». При этом, подчеркивал А. Г., ом прекрасно понимал, что он всего–навсего «лысый стареющий мужчина сорока двух лет от роду». Да, он муниципальный чиновник, но, гордо и страстно заверял А. Г., ов в дальше будет отдавать свои сизы проектированию повых квартир м жилых районов, «хотя экономическая ситуащия становится все более напряженной и особенно требует благоразумия, умеренности и трезвости». Так что он сознавал, что за человек переселяется в Румсос co своим скарбом, и все же в глубине души почитал себя счастливцем, поскольку избавился от жены, «поглощенной собственным преуспеванием», и от своих «высокопоставленных детей» и поскольку перед ним открывалась новая жизнь.
Рассуждая о бывшей жене, об их бывшем совместном доме, об их прежнем круге знакомых, А. Г. не ограничивался привычными формулировками. Он говорил со злостью, чуть ли не с ненавистью и слова выбирал, не характерные для той среды, к которой он, пусть против воли, принадлежал сам. «Преуспевание». «Элита». Слово «идеальный» для выражения ненависти. Когда А. Г. рассказывал о своей прежней жизни в квартире на Санкт–Хансхёугене, его речь пестрела такими словами. А. Г. Ларсена вовсе не смущало то, что и сам он, как мы знаем, сделал неплохую карьеру, став одним из шефов ОБОСа, чего отнюдь не стыдился. Чем даже гордился. Он служил существующему порядку. Откуда же тогда эта злость по отношению к другим, кто тоже служит существующему порядку и придерживается тех же политических убеждений, что и он? По–моему, объяснение коренится не в чудачестве А. Г., а в тоске. Его противоречивость объясняется тоской, нередко встречающейся среди социал–демократов того слоя, к которому относится А. Г. Это тоска по отчему дому.
Норвегию и норвежское общество невозможно понять без учета тоски по родному краю. Вероятно, нигде больше нет такой сильной тяги домой, обратно, как у нас в стране, особенно среди государственных служащих, тех, что управляют, распоряжаются делами — от самого низкого уровня до самого высокого. И это не конкретная тяга назад, в детство, к труженице матери, к жару кухни, к промерзшим, заколенелым детским варежкам, — это абстрактное стремление домой. В нем выражена неудовлетворенность выбившихся в люди служителей порядка тем, что они попали в чуждую им среду. Мне кажется, это явление — одна из отличительных черт современной Норвегии. Как бы то ни было, нагляднее всего она проявляется в Осло, на стадионе «Бишлет», во время чемпионата мира по одному из самых замечательных видов спорта, хотя и мало распространенному в мировом масштабе: по так называемому скоростному бегу на коньках. «Бишлет» тогда заполняют двадцать тысяч зрителей, они стоят плечом к плечу и смотрят на двух одиноких конькобежцев, которые круг за кругом, пара за парой движутся по овалу ледовой дорожки. Люли стоят на улице, зимой, нередко в пятналцатиградусный мороз, стоят, чтобы было теплее, на пенопластовых плитах. а то и на старых газетах, похлопызают себя по плечам, пьют водку, а чаще особую смесь чая с волкой, из термоса, и стоят так по многу часов, ревом и криками подбадривая одетых в трико уникумов на ледовой дорожке и окоченелыми пальцами записывая результаты каждого спортсмена, каждого круга, которые объявляют репродукторы в оглушительной тишине, наступающей вслед за окончанием забега. Соревнования транслируются по национальному телевидению, и норвежцы наблюдают на своих экранах, как переполненные трибуны взрываются знаменитым бишлетским ревом. От кого же исходит этот столь популярный в Норвегии рев? Говорят, от народа. Потому и собираются здесь те, кто служит существующему порядку, — с радостью, как один, идут они сюда, чтобы затеряться в толпе, нет, чтобы слиться с народом и извлечь из своих глоток вопль, который, соединившись с воплями других глоток и усиленный бетонными стенами стадиона и самым низким атмосферным давлением в котловине Осло, образует рев «Славных стоячих»[11]. Здесь собираются Чиновники, Финансисты, Плановики, Экономисты из международных организаций вроде МОТ[12] или ЖМОТ, Референты, Тузы из Объединения профсоюзов и НРП, Университетские профессора и ассистенты, Заместители министров, Сотрудники газет, радио и телевидения, как оппозиционно, так и конформистски настроенные к существующему порядку, Бывшие и будущие члены Государственного совета — все они сливаются с народом в унисонном реве, который подгоняет одетых в трико уникумов по овалу «Бишлета», по молочно–серой глади хорошо подготовленного льда, со сладостным скрежетом разрезаемого сталью коньков. Но народа там, увы, почти нет, одна только фикция. Народа там как раз недобор. Народ сидит дома и смотрит тот же чемпионат по телевизору. Простой люд давно смекнул, что действительность в цветном изображении сама пожалует к нему в гостиную, и перестал таскаться из своего пригорода к черту на рога, в центр, ради того чтобы стоять и мерзнуть, да еще, возможно, напиться на потеху всем вокруг. Народ давно уяснил себе, что крупные мероприятия гораздо лучше смотреть но телевизору. На стадион ходят одни пижоны. По телевизору и видно лучше, и слышно, и сидеть куда уютнее в собственной гостиной, не говоря о том, что обходится дешевле, — в общем, по всем статьям никакое событие не может конкурировать с хорошим телевизионным репортажем о нем. Так что народа на «Бишлете» — кот наплакал, явный недобор по сравнению с теми, кто, движимый своей социал–демократической тоской, как один пришел сюда ради того, чтобы слиться с массами, чтобы встать плечом к плечу с ними на «Славных стоячих». Эта
самая тоска по дому и обуяла А. Г., заставляя его страдать. Из–за нее–то они переехал в Румсос в ноябре восемьдесят второго года, за несколько месяцев до нашей с ним первой встречи. Он утверждал, что из–за нее распалась его семья. Насколько я понял, сам А. Г. считал эту тоску чем–то особенным, присущим только ему, во всяком случае, выделявшим его из среды, к которой он принадлежал, но в которой был по сути дела чужаком. Ему, в отличие от меня, она не казалась бременем, втайне тяготившим всех представителей этого круга.
В общем, для А. Г. Ларсена в разрыве с семьей и переезде из Санкт–Хансхбугена в Румсос была своя привлекательность, свой интерес. Наконец–то он сможет реализовать себя. Наконец–то в нем смогут проявиться те его свойства, от которых он прежде получал удовольствие втихомолку и которые, между прочим, сам находил несколько смешными. Например, его притягивала служебная столовая в ОБОСе. Хотелось поболтать о том о сем с сотрудницами, что он и делал, причем довольно часто (на его взгляд, слишком часто), и извлекал из этого огромную радость, и ловил себя на том, что сравнивает обстановку в ОБОСовской столовой, с ее распущенностью языков, с ее сплетнями, и свое «идеальное» супружество. ОБОСовская столовая была его увлечением, его страстью, там он, ординарный и скучный на вид, да еще напустив на себя скованность, неловкость, застенчивость, присаживался к столу рядовых сотрудниц и на полном серьезе толковал с ними обо всем на свете. И подсаживался он не к молоденьким и хорошеньким, а к самым прозаическим дамам среднего возраста, к тем, что не питали более сногсшибательных надежд, а, примирившись, свели свою жизнь к будничным заботам, — этих–то дам он и любил слушать и с ними любил вступать в беседу.
А. Г. поведал мне о своем, как он его называл, «увлечении» несколько смущенно. И все же он рассказал о нем, хотя его никто не тянул за язык. Точно так же он рассказал мне, что у него часто возникало желание сесть, совершенно одному, в поезд до Саннефьорда, выйти на вокзале и побродить по тамошним улицам, никого не разыскивая, никого не зная в лицо, так, чтобы и его никто не признал, — посторонним вернуться к родным пенатам. Неужели нельзя было взять и съездить туда? Нельзя, потому что, если бы он заикнулся о своем желании Бенте, она бы загорелась: «Чудесная мысль, обязательно захвати детей». Она увидела бы тут возможность для сына и дочери приобщиться вместе с отцом к временам его детства. А. Г. же как раз этого и не хотел. Он хотел приехать в родные края «незнакомцем», «посторонним», «человеком без прошлого и настоящего», а вовсе не отцом преуспевающего семейства, стремящимся показать отпрыскам нищету своего детства.
В собственном доме у него было одно, очень сильное — и запретное — желание. Он мечтал сидеть на стуле и тупо смотреть в пространство, на виду у жены и детей. Они непременно должны были увидеть его. Увидеть и ужаснуться. Ведь в семействе Берг–Ларсенов не принято было попусту терять время, напротив, время (и жизнь) там употребляли с пользой. Все, начиная от отца с матерью и кончая Мортеном и Кари, тратили время на полезные занятия и расширяющее кругозор общение. Члены семьи постоянно соверщенствовались, в особенности дети, чем они несказанно радовали старших. Они жили полнокровной жизнью. Но в душе Арне Гуннара таилась мечта о том, что его дети войдут в гостиную и увидят своего отца: как он сидит на стуле и не сводит глаз со стены. Да–да, он такой, ваш отец. Забудьте все остальное, прочее лишь поза, маскарад, хотел бы он сказать им и в своих грезах наяву считал, что уже выложил это.
Так проявлялась социал–демократическая тоска власть имущих у преуспевающего начальника отдела, перевалившего за четвертый десяток. А. Г. же считал себя белой вороной и воспринимал свои желания как нечто постыдное, не переставая, однако, лелеять их и ее умеряя дикой злости на собственный образ жизни. Пора было кончать с ним. поэтому А. Г. развелся и переехал в Румсос, до колик смеясь, по его выражению, оттого что сумел–таки выпутаться.
Свою новую квартиру он обставил только новой мебелью. С Санкт–Хансхёугена не взял даже комода. Он купил все заново, и в первый же вечер, проведенный в Румсосе, на А. Г. снизошла удивительная благодать. Он был совершенно один. В окружении совершенно новой мебели. В совершенно новой для себя квартире. Он подошел к окну и выглянул на улицу. В других окнах горел свет. Мало кто задернул шторы. Он мог заглянуть в тысячу домов (ну–ну, без сантиментов). Он чувствовал себя счастливым.
А. Г. не случайно переселился именно в Румсос. Из всех пригородов Румсос был ему ближе всего. Объяснялось это тем, что там были воплощены (или, если угодно, погребены) его юношеские мечтания. В конце 60‑х он, — можно сказать, новоиспеченный архитектор — входил з состав группы. проектировавшей Румсос. Они задумали создать микрорайон, комфортный для человека. Им отвели одетый холмами участок в Лилломарка, угозо нетронутой восточнонорвежской природы, с елями, зесными озерцами, пригорками, пологими вершинами, болотами м скалистыми кручами. Там им предстояло спроектировать жилой комплекс на восемь тысяч человек. Это было больше, чем вего родном Саннефьорде, так что у А. Г. было совершенно особое ощущение от работы. Подумать только: сотворить на кульмане целый город, крупиее того, в котором прошло его детство. Конечно, он был еще желторотым, еще не завоевал авторитета среди проектировщиков, и все же… все же он тоже работал. То, что возникало у него в голове в виде идеи, если заслуживало одобрение группы, переносилось на бумагу и становилось эскизом. а потом могло войти в окончательный проект м воплотиться в действительность, т. е. определять жизнь восьми тысяч человек как некая совокупность, без которой им было не обойтись, как некая данмость, от которой зависела существенная часть их повседневной рутины, на многие поколения вперед.
Участок располагался к северу от Гроруда или, точнее, примерно в километре от чудища под названием Аммеруд. Архитекторы и хотели создать район, который бы стая протестом против Аммеруда. Альторнативой ему. Гигантские жилые кварталы Аммеруда, корпуса в двадцать этижей высотой, по сто метров в длину, с тысячью жителей в каждом, и все это в чистом поле, где нет ничего, кроме заполонивших округу домов серого бетона — вырвавшееся из–под контроля порождение холодного технологического века (так считали А. Г. и другие архитекторы). Их доводом в споре и должен был стать Румсос. Городок на восемь тысяч человек. На которых бы не давили бездушные жилые махины, куда они будут забираться по вечерам. Микрорайону предстояло раскинуться вокруг широкой луговины. Несколько обособленных кварталов. Архитектоническое целое из невысоких корпусов и домиков на одну–две семьи. С проходами между отдельными кварталами, с тропинками. Для автомобильного транспорта микрорайон был закрыт. Весь участок опоясывала кольцевая дорога, от которой ответвлялись подъезды к различным кварталам, к стоянкам, где положено было оставлять машины. Оттуда водители, перейдя на пеший ход, направлялись в глубь кварталов, к разбросанным на лугу домам — по замыслу проектировщиков, изобразивших все это на листе ватмана, район. должен был стать апологией Жизни, которая есть контакт между людьми. К каждому кварталу примыкали школа и детский сад. И школы, и Детские садики были небольшие, в двух шагах от вашего дома. Отводились участки и под промышленную зону. Жизнь в городке должна была бить ключом. Просторные лоджии при квартирах. И еще отдельная лоджия возле прачечной (помещения для стирки), где можно было развесить выстиранное белье. По соседству с домами намечалось соорудить вместительные сараи, которые бы также служили мастерскими. Здесь, между сараями, и рядом, на лугу, было приволье для общения. К вечеру тут должен был кишеть народ: женщины пьют кофе, мужчины переговариваются, стоя за верстаками, дети играют — картинка из итальянской жизни, перенесенная на норвежскую почву, всего в каком–нибудь калометре от этого чудовищного Аммеруда. Сама архитектура должна была петь осанну человеческим контактам. Здесь не могло быть речи об изолированности и одиночестве. С внешней сторовы многоквартирных домов проектировались вместительные лифты: даже такой ничтожный повод, как поездка в лифте, использовался тут, чтобы подтолкнуть людей к общению. Движутся вверх–вниз кабины лифта. Развовается на лоджии вывешенное для просушки белье, реет его многоцветье. Толпится на лугу народ. Смех и крики. И тут же, неподалеку — покой и тишь природы. Живописная местность с пешеходными тропами, которая всегда привлекает норвежцев.
Таким был Румсос на стадии замысла. На замысел этот столкнулся с действительностью, етолкнулся с администрацией ОБОСа, е его технолюгами, а потом еще и с подрядчиком. Столкновение, крайне болезненное для юного Арне Гуннара Лареена и для его единомызтленников, архитекторов. Просчитали затраты. Слишком низкая рентабельность. Кое–где добавили по, нескольку этажей зданиям. Тут и там всунули лишний дом. И вое изменилось. Прекрасный замысел был сведен на нет, от него остались рожки да ножки. «Попел наш Румеос» — так воспринял положение А. Г. Технологи. вносили поправочку сюда, поправочку туда. В целом идем вроде бы еохранились, но от поправок пострадала общая концепция. Автомобильные стоянки и пешеходные зоны остались, так же как идея строить школы и прочие учреждения в пределах микрорайона, но все это далеко не в тех масштабах, которые предусматривали проектанты и которые они считали единственно приемлемыми в данном случае. Взявигийся за дело подрядчик внес еще одну поправку: подъемник, указал он, имеет совершенно определенную конструкцию, которая не сочетается с некоторыми идеями молодых, радикально наетроенных архитекторов. Следовало либо сохранять идеи и конструировать новый (доселе неведомый) тип подъемника, либо учесть особенности имеющейся модели и соответственно модифицировать проект. Так создавался Румсос. От гравдиозного замысла осталось всего ничега Юный А. Г. Ларсен извлек для себя урок о том, что миром правят технология и капитал. Теперь он, правда, расценивал ситуацию несколько иначе.
Румсос превратился в его глазах в район, где новые, радикальные идеи оттачивалиеь требованиями действительности. Он видел в проектировании Румсоса плодотворное взаимодействие смелых идей и трезвого расчета, с ограничениями, налагаемыми резльными условиями (как–то: производственные ресурсы, конструкция подъемника, характеры людей, сложившиеся цены на цемент, существующий уровень дохода с капитала и т. д ит. п.). На этой основе был создан микрорайон, которого им, по мнению А. Г..Ларсена, можно было не стыдиться. Памятник современной Норвегии 70‑х годов, Румсос ведь и был современной Норвегией. Уж если искать конкретное воплощение Норвегии, которой с такой гордостью служил А. Г. Ларсен, лучшего образца, чем Румсос, было не найти. В этот самый образец он и переселился, когда пришла пора заново начинать жизнь.
Он переселился сюда, и его дети узнали нового отца. Более мрачного, более вспыльчивого, более разочарованного, чем отец, с которым они имели дело прежде. Отца, который мог рычать, как раненый зверь (выражение А. Г.), обижаться, как ребенок, быть крайне уязвимым — в общем, бомба замедленного действия на двух ногах. Человек, умудренный опытом, а потому раздвоенный, неуверенный в себе — и добродушный. Возможно, он испугал своих «высокопоставленных детей», и все же ему хотелось предстать перед ними именно в таком виде. Он как бы намекал Мортену и Кари на ошибочность того, что раныше сам старался внушить им: нельзя, дескать, разбазаризать свою жизнь, ведь это школа (говорят же, школа жизни), в которой каждый вечер приходится держать экзамен по рациональному использованию отмеренного нам недолгого срока на земле. Теперь он пытался подсказать им, что это неверно. Что жизнь нужно принимать такой, какая она есть, со всеми ее радостями и горестями, что жизнь содержит уйму всякого, в том числе неуловимого, как свет, и преходящего, утекающего между пальцев, за что она не выводит оценок, но чего все же не стоит упускать. Вот почему он ‘стал с прохладцей относиться к своим отцовским обязанностям. Подолгу спал утром, не старался как можно интереснее обставить встречи с детьми. Читал за столом газету вместо того, чтобы вызывать их на разговор, спорить, в конце концов, просто поддерживать беседу. Отсылал детей на улицу самим искать себе занятия, а в это время отдыхал, размышлял о жизни или тупо смотрел в стену. Скармливал им конфеты вместо морковки. Нроливал молоко на брюки. Пусть видят отца с пятнами на штанах. Пусть видят печального отца, чтобы потом вспоминать его как олицетворение жизни. Однако таким он бывал только с детьми — и наедине с собой. На людях он казался прежним. Заурядный ина вид начальник отдела планирования, сдержанный, дружелюбный, ровный в обращении. Правда, он теперь разъезжал в серебристо–сером «саабе». Этот его «сааб», в котором он каждое утро отправлялся на работу, стоял в румсосском гараже. Но в основном А. Г. не изменил своим привычкам.
В частности, бегу трусцой. Подобно большинству мужчин его возраста и круга, Арне Гуннар Ларсен был любителем бега. Учитывая круговорот жизни и пределы, которые он ставит осуществлению наших самых главных надежд, А. Г. заботился о своем теле. Каждый вечер, облачившись в спортивный костюм, он бегал возле многоэтажных корпусов Румсоса. Заведенный ритуал, во время которого он слышал биение своего сердца. Одетый в защитный костюм современного человека, А. Г. каждый вечер бегал от болезни и смерти по бесснежным тропинкам в Румсосе. Он также вступил в Гроруддаленское общество поощрения искусства: будучи архитектором, он, естественно, был не чужд изобразительных искусств, и его привлекало такое интересное и нужное дело, как приобщение к ним жителей новых районов, что поднялись после войны в узкой, протянувшейся на целую милю[13] долине и по бокам от нее. А еще в Румсосе было открыто местное отделение рабочей партии. В тот период, на рубеже восемьдесят второго — восемьдесят третьего годов, партию волновали три вопроса. Первый — размещение ракет, в связи с чем велись жаркие дебаты вокруг замораживания арсеналов и того, насколько далеко следует заходить в одностороннем разоружении. На повестке дня стояло также выдвижение кандидатов от этой партии на выборах в столичный муниципалитет. А в местном масштабе, в самом Румсосе, требовали разрешения социальные проблемы, вызванные высокой квартплатой. А. Г. Ларсен постоянно сотрудничал с рабочей партией, убежденный, что таким образом вносит свой вклад в очень важную деятельность, в контексте Норвегии приобретающую решающее значение. Их неболышая, но исполненная благоразумия партийная ячейка собиралась в зале «Б» культурного, общественного и торгового центра Румсоса и представляла как норвежский народ, с его здравомыслием и некоторой ограниченностью, так и победоносцев, тех, кто в силу исторических причин стал у кормила власти. Большинство членов ячейки отличалось крепкой народной рассудительностью, которую они, возможно, еще культивировали в себе — и правильно делали. Тем не менее поближе ни с кем из местных партийных деятелей А. Г. так и не сошелся, хотя какие–то отношения с ними были и он время от времени захаживал к ним в гости. Впрочем, вечерами он в основном сидел дома. Ставил хорошую пластинку и под лившуюся в комнату стереофоническую мелодию корпел над взятой домой работой: начальнику отдела не уложиться в конторские часы, с десяти до четырех. Иногда он занимался партийными делами, а то погружался в роман или в какую–нибудь другую книгу. Бывало, что в своей новой жизни он просто слонялся под проигрыватель по квартире. У него было ощущение, что он впервые за много лет нашел себя. Он словно наконец–то обрел дом. Чего ему недоставало, так это друга.
А. Г. вставал у окна квартиры и не сводил глаз с чужих окон, в болыпинстве своем ярко освещенных. Шторы не задернуты, и можно совершенно свободно заглянуть внутрь. Видно цветное свечение телеэкранов. Различимы и люди, которые сидят на диване или же, внезапно поднявшись, идут по комнате и попадают под люстру. А. Г. может, совершенно не скрываясь, наблюдать за ними. Открытые взору, они передвигаются в собственных квартирах. А. Г. заворожен. Вон они, за освещенными окнами, у него на виду, в корпусе наискосок или в домах напротив, на другой стороне. Время от времени кто–нибудь из людей возникает в окне, среди зелени комнатных цветов, и тоже выглядывает наружу, возможно, смотрит на него, А. Г., который наблюдает за ними. Там идет жизнь. И А. Г. мог быть там. Он безумно мечтал о друге! Вот что ему необходимо. Ему необходим друг! Человек, с которым можно дружить, на которого можно положиться и который мог бы положиться на А. Г. Ларсена.
Обо всем этом мне рассказал сам А. Г., несколько сконфуженный своими словами, однако не скрывающий, что сильнее прочего он страдал от скромного, немудреного желания иметь друга. Чтоб было на кого положиться и чтоб кто–то мог положиться на него. Но как завести друзей в Румсосе? Это оказалось невероятно сложно. Бегая, А. Г. поразился тому, насколько пустынны улицы норвежского пригорода. Жизнь, которая так свободно открывалась за окнами, была не более чем иллюзией, поскольку тут, на земле, рядом с домами, она не только не кипела, но была очень скудной, если не вовсе отсутствовала. Очевидно, современных норвежцев ни капельки не трогал внешний мир и они плевать хотели, если кто–то и увидит их, им даже в голову не приходило бояться этого, поскольку для них за пределами собственной квартиры были лишь безразличные кулисы (или природный ландшафт). В других странах, как известно, люди скрывают свою частную жизнь шторами, а то и солидными ставнями, прекрасно понимая, что за ними могут наблюдать. Здесь же — ничего подобного. А. Г. познакомился с безжизнеиным Румсосом во время пробежек. Я так и вижу перед собой нашего одинокого бегуна. В вымершем пространстве. Он одет в свой защитный костюм, известный под названием тренировочного. Вот он выскакивает из подъезда и по тускло освещенному проходу выбегает в вечернюю темень, трусит между светящимися корпусами и унылыми мокрыми елями (или — после январского снегопада — между елями стылыми и заиндевевшими). А. Г. бежит и слышит собственное дыхание, ощущает биение своего сердца. Кругом, можно сказать, ни души. Разве что попадется навстречу хозяин, выгуливающий собаку. Коротко взвывает ветер, и этот вой произительным эхом отдается между домами, под елями, унылыми и мокрыми (либо етылыми и заиндевевшими), на дорожках, по которым трусит наш одинокий бегун, с облачками пара изо рта, в этом странном безлюдии, составляющем одну из главных примет современного норвежского микрорайона. Принюхивающаяся собака слушает, навострив уши, а потом все же подчиняется зову хозяина, у которого, следовательно, есть друг, друг до самой смерти. Арне Гуннар Ларсен обегает Румсос, все его двенадцать кооперативов, каждый со своим вымпелом, развевающимся на флагштоке, на лугу, и своим именем, соответствующим первоначальным географическим названиям лесного массива, который располагался к северу от норвежской столицы, и А. Г. внезапно потрясает чувство Отверженности, охватывает неизбывная жажда общения с теми, кто живет в освещенных квартирах, кто ходит по ним, ничего не стесняясь, как ходили люди до грехопадения, пока А. Г. бегает внизу, чувствуя себя Отверженным.
Это чувство Отверженности не смягчалось, когда он возвращался к своему дому, входил в подъезд и поднимался по лестнице, с ее режущим глаза светом и холодными каменяыми стенами. Не слышно ли чего? Он прислушивался, но сюда не доносилось ни звука. Двери. Наглухо запертые. Таблички с именами. Почтовые ящики. Перила. Он шел к себе, за дверь с надписью «Ларсен». На двери через площадку стояло «Юнсен». На других этажах, выше и ниже, стояли другие фамилии, на некоторых современных, тщательно выделанных табличках могла быть надпись: «Здесь живут Хане Петтер и Вибеке Халл Сименсены и еще Томас и Лине». Но соседей он видел редко. И то мельком. Сталкиваясь с кем–нибудь из них, А. Г. каждый раз любезно здоровался. Они отвечали на приветствие, довольно сухо, и торопились исчезнуть за дверью. Он пробовал предлагать помощь: как–то помог жившей этажом выше молодой маме по имени Бьерклунн, Глория Бьерклуинн, спустить по лестнице коляску © ребенком. Он попытался завязать разговор — и по пути вниз, и когда они уже сошли с лестницы, но она только застенчиво улыбнулась, вежливо поблагодарила за помощь и поспешила прочь. Один в пустом подъезде. Двери с крепкими запорами. Редко–редко они открывались, чтобы быстренько впустить гостя, и тогда из–за двери доносилась громкая музыка. Однажды он слышал так музыку от Юнсенов: на площадке остановилась парочка и позвонила в дверь, которая тут же распахнулась, и из квартиры вырвались радостные голоса и музыка, после чего дверь была мгновенно заперта снова. Один раз ему довелось увидеть и самих Юнсенов. Утром, уходя на работу. Дверь тогда открылась, и появившаяся на пороге фру Юнсен закричала: «Бьёрн, ты забыл бутерброды». Она кинула сверток ему вслед, и Бьёрн изящным жестом, одной рукой, поймгл его на лестнице… и не удержался, бросил взгляд на А. Г.: видал, мол, наших? Обычно же здесь царила пустота. А. Г. мечтал о дружбе. Но мог только смотреть, как соседи, не таясь, расхаживают за своими освещенными окнами, до бесстыдства самоуверенные, понятия не имеющие о том, что их видно. Да ведь на его площадке живет за закрытыми дверьми семья Юнсенов. А у него кончился кофе! Ему нужен кофе! Вот возьму и позвоню в соседнюю кваргиру. Одолжите кофе! До завтра, фру, обещаю. Честное слово. Отдам вдвойне. Но он не пошел к ним. Что удержало его? У него нет молока! Он не может без молока, пропади все пропадом. Сходить к соседям за молоком. Будьте любезны, у вас найдется пакет молока? Я не могу по утрам без молока. Простите, что ворвался. Но он так и не ворвался. Почему ои не сделал этого? Он, А. Г. Ларсен, привыкший к общению на самых различных уровнях, привычный к тому, чтобы руководить, давать указания, оценивать ситуацию. Что его удерживало?
Да, может показаться загадочным. что начальник отдела планирования в ОБОСе, член ВСА, архитектор Арне Гуннар Ларсен, который так тянулся к дружбе, не осмеливался перейти через площадку и попросить взаймы несчастный пакет молока. Впрочем, для жителя Румсоса тут нет ничего удивительного, это в высшей степени естественно. Однако А. Г. такое положение, при всей его естественности, унижало. Он видел в нем угрозу своему достоинству. Он стыдилея своих «страстей», которые делали из него посмешище. Ну, не посмешище, еще не хватало, чтоб он был посмешищем. Во всяком случае, превращали его в Страдальца. Представьте себе, как это мучительно! Жить, тоскуя по дружбе, и наталкиваться на одни только закрытые двери — и на приличия, которые не позволяют их открыть. Одиночество. Будь А. Г. в юношеском возрасте, оно бы, может, и красило его. Но одинокий мужчина сорока двух лет от роду? В этом было нечто жалкое. Что затрудняло признание. Из всего поведанного мне А. Г. и легшего в основу нашего повествования мучительнее всего дался ему рассказ о том, как он, взрослый, солидный мужчина, сидел в своем одиночестве в Румсосе и испытывал столь жалкие порывы. Представьте себе, он смертельно томился без человека, с которым можно перекинуться словом! Можно быть вместе. Такая непомерная тоска по такой малости. Доводить себя до умопомрачения от недостатка дружеского участия! При его должности, с его требованиями к жизни это было нестерпимо. Перейди площадку и попроси пакет молока. Тьфу ты, нечистая сила! Ну что, скажите на милость, удерживает меня? Всех, кто попадался ему на глаза в Румсосе, А. Г. записывал в потенциальные друзья. И начинал фантазировать, придумывать, как они найдут общий язык, чем будут заниматься вместе, о чем говорить. Таким другом мог, например, стать Юнсен, сосед по площадке, который с горделивой миной поймал свой завтрак. Они будут ходить на лыжах, благо снега уже достаточно. Далеко, насколько хватит сил. И еще долго — до и после прогулки — обсуждать, чем лучше мазать лыжи. Как же А. Г. томился… Его мучительная, постыдная тоска безжалостно свидетельствовала об одиночестве стареющего мужчины. Не помогали и напоминания о том, что он сам избрал для себя одиночество. Что он до сих пор мог быть уважаемым членом норвежской элиты. Но он вырвался из этой среды и теперь сидел в Румсосе, не решаясь пересечь площадку и попросить пакет молока. Возьми себя в руки, А. Г.! Перейди площадку. Одолжи молоко. Если он не в состоянии пересечь площадку и спросить пакет молока, когда оно кончилось в доме, значит, он безнадежен. Он пропал. Ну же, наберись храбрости! Но он был не в состоянии. Чем больше он уговаривал себя набраться храбрости, тем очевиднее становилось ему самому, что он не может сходить за молоком, потому что дело вовсе не в молоке, не в молоке, не в молоке!
Несомненно, А. Г. оказался у опасной черты. Он настолько запутался, что не мог выпутаться без посторонней помощи, и его ожидал серьезный психический кризис, из которого, по–видимому, не нашлось бы иного выхода, кроме как отступить, вернуться в привычное окружение. Если этого не произошло, то лишь потому, что к нему уже спешили на выручку. А. Г. и не подозревал 0б установленной за ним слежке. За запертой дверью с табличкой «Юнсен» тронулся лед. Там заговорили о нем. О человеке, живущем за дверью с табличкой «Ларсен». С ним явно дело нечисто. Бьёрн Юнсен обнаружил в гараже, рядом со своей машиной, новенький «сааб». А кто может позволить себе новый «сааб»? Они много говорили об А. Г. Наблюдали за ним. Через глазок во входной двери. Эти замечательные устройства, которыми снабжена каждая квартира в норвежских пригородах, позволяют выглядывать наружу, самому оставаясь незамеченным. Соседи видели в глазок, как А. Г. выходит из квартиры в спортивном костюме. И видели, как час спустя он возвращается, вспотевший, но не задохнувшийся. И обратили внимание, что он бегает довольно часто, точнее, чуть не каждый вечер. Это они тоже обсудили. Новый «сааб». Регулярные занятия бегом. Нет ли тут связи? Сколько ему лет? Илва готова была держать пари, что ему за сорок, почему он так усиленно и бегает. Бьёрн же утверждал, что его тренировки связаны с новым «саабом». Сосед изнуряет себя ежевечерним бегом из–за машины. Чтоб не утратить форму.
Итак, А. Г. попал под наблюдение. Кто–то говорил о нем, перемывал ему косточки, интересовался им. В конце концов ситуация переломилась. Бьёри Юнсен сам завел с ним беседу. В гараже. Субботним утром в середине января. Норвежская зима. Хмурое небо с низкими тучами, слякотный снег, пронизывающая сырость. А. Г. собирался смотаться в центр и взошел на второй этаж трехэтажного румсосского гаража, в котором вы‚строились автомобили самых разных марок и годов выпуска, темного гаража с низкими потолками, в котором пахло бензином и маслом. Пройдя к машине, А. Г. уже полез за ключами, как вдруг почувствовал у себя за спиной чье–то присутствие.
— Приличная тачка, — услышал он голос сзади. Он обернулся и увидел Юнсена.
— Не жалуюсь, — довольный, отозвался А. Г.
Они постояли какое–то время, любуясь серебристосерым «саабом». Потом Юнсен подошел ближе и заглянул в окошко.
— Как же ты с такой машиной без стерео? — ужаснулся он. А. Г. ответил улыбкой: он догадался, что Бьёрн Юнсен заранее все проверил. После чего тот намекнул ему, что может достать стереокомбайн. Новенький. И по дешевке. Совершенно новый автомобильный кассетник вместе с радио, за полцены. Что на это скажет сосед?
— Новый? За полцены? — переспросал А. Г.
— Да, — подтвердил Бьёрн Юнсен. Он даже обещал достать комбайн сегодня же, только не раньше вечера, потому что сейчас ему надо в Бьерке[14], и вернется он не скоро.
— Ах, в Бьерке, — протянул А. Г. — Чтоб тебя там ободрали?
— Ну уж нет, — отвечал Юнсен. — Спасибочки. Обдирают пусть дураков да липку. А я там работаю. Подрабатываю, — уточнил он. — Нам ведь у себя в Беверли–Хиллз[15] тоже нужно как–то изворачиваться.
— А основная работа у тебя где? — спросил А. Г., пытаясь увести разговор в сторону от сделки со стерео.
— В «Клесмане». Я продавец, — сказал Юнсен. А ты?
— Я работаю в ОБОСе.
— Большой, значит, начальник?
— Да, начальник, — ответил А. Г.
— А вон моя колымага, — кивнул Юнсен. — Как видишь, когда–то она была не хуже твоей.
Он указал на «сааб», выпущенный лет шесть–семь тому назад, — машину довольно заезженную, но с массой дополнительных приспособлений, которыми обычно увлекаются молодые автолюбители. из чего А. Г. заключил, что он неверно определил возраст Бьёрна Юнсена. Он принял его за тридцатилетнего, но теперь сделал поправку — нет, Бьёрну не больше двадцати пяти.
— Сколько всяких штучек, — заметил А. Г., лишь бы что–нибудь сказать, и тут же пожалел о своих словах, поскольку сам перевел разговор обратно на тему сделки. Бьёрн Юнсен не замедлил воспользоваться этим.
— Давай посмотрим, — предложил он. Они перешли к старенькому «саабу» Юнсена, и он продемонстрировал все, что у него было понаставлено. Среди прочего и великолепную стереосистему.
— Лучший стерео на рынке. Я тебе предлагаю такой же. Абсолютно новый. За восемьсот крон. Считай, даром. Что скажешь?
А. Г. неопределенно хмыкнул в ответ.
— Я зайду к тебе вечером, часиков в восемь, сказал Бьёрн Юнсен. Можно будет сразу и подсоединить. Так тебя интересует?
— Ясное дело, интересует, — сказал А. Г., — но…
— Значит, договорились? — Юнсен протянул руку.
А. Г. поколебался… и кивнул: «Договорились». Он подал руку навстречу Юнсену. Тот ответил крепким пожатием.
— Вот и ладушки.
А. Г. вовсе не отличался наивностью. Он прекрасно понимал, что новую стереосистему предлагают по детевке вовсе не за красивые глаза, и его тревожило собственное положение.
Очередной скандал в ОБОСе. ОБОСовский начальник взят под стражу за укрывательство краденого. Трюгве Хегнар[16]: «Этого следовало ожидать!» Бенте Берг Ларсен: «Я разочарована своим бывшим мужем». Быстро же А. Г. влип в историю. Не успел расплеваться с идеальным браком и интеллектуальной элитой Норвегии, как заделался преступником. Укрыватель краденого. Ерунда, конечно. Но после обвинений, выдвинутых против руководителей ОБОСа журналом «Капитал», после связанного с ними судебного процесса и оправдательного приговора А. Г., вместе с остальной верхушкой ОБОСа, чрезвычайно болезненно воспринимал все, что могло быть использовано против него.
Тем не менее он согласился. Целый день А. Г. внушал себе, что жалеет об этом: он сглупил и вечером, когда Юнсен позвонит в дверь, надо отказаться от сделки. Достаточно объяснить свое положение, и Юнсен непременно поймет, что А. Г. не может рисковать. И говорить нужно с досадой, чтоб Юнсен уразумел: загвоздка вовсе не в сделке, а в его работе. Боже упаси, сделка фантастическая, только последний кретин может отказываться от нее. Юнсен ведь понимает про риск? Что он не может рисковать? Но, когда Юнсен позвонил в дверь и с заговорщицкой улыбкой сообщил о стереосистеме, которая дожидается у него в багажнике, А. Г. надел пальто и пошел с ним в Гараж. Они отперли ворота. Там, в полутьме, в сырости, замешенной на морозе, бензине, масле и цементе, выстроились в ряд автомашины общей стоимостью в миллионы крон. Юнсен с Ларсеном достали магнитофон из багажника и начали прилаживать его в серебристо–серый «сааб» А. Г. Чад головой нависал низкий потолок румсосского Гаража. Бьёрн Юнсен забрался в машину соседа, сам же А. Г. стоял рядышком и смотрел, как Юнсен ловкими движениями подсоединяет систему. Пока он возился, заскрипели ворота и в Гараж, ослепив людей, въехала мацтина с горящими фарами. Вдалеке, на другом конце Гаража, из машины вышли двое мужчин и направились к выходу, пройдя чуть не в метре от них. А. Г. боялся, что они подойдут ближе и спросят, в чем дело, но его опасения были напрасны. Юнсен тем временем вмонтировал стерео. Готово! Теперь ты повязан! Теперь тебе не выпутаться! Ты у соседа в руках! Они опробовали покупку. Сели на переднее сиденье и проиграли кассету, которая нашлась в машине у Юнсена. Все работало. Порядок. Лучшая стереосистема на рынке. А. Г. отсчитал восемь стокроновых бумажек и протянул Юнсену, тот запихнул их в карман брюк. Ладушки!
Они покинули Гараж. Заперли дверь висячим замком и пошли к своему дому.
— Ты заметил, что я приволакиваю ногу? — спросил Юнсен.
— Нет, — сказал А. Г.
— Старая травма колена, — продолжал Юнсен. — От хоккея. Я играл за «Манглеруд–Стар». Десять лет как, а колено до сих пор чувствую.
— Десять лет? — удивился А. Г. Ты что, вундеркиндом был?
— Нет. Просто я уже в девятнадцать бросил спорт.
Грустная история. Я тогда играл в первом составе и провел за него четыре матча подряд. Вроде закрепился. Ты ведь согласен, что можно так сказать, если человек сыграл за команду в четырех важных встречах подряд?
А. Г. был согласен. Они шли к светящемуся огнями дому. Зимний вечер. Холод. Снег. Плывущие в вышине облака, темные и неприветливые. У парадного Юнсен с Ларсеном потопали ногами, стряхивая снег, и двинулись вверх по лестнице. А. Г. думал о том, с какой стороны лучше подкатиться к Бьёрну. Но он мог бы и не волноваться: когда они поднялись и очутились каждый перед своей дверью, Юнсен пригласил его зайти. По случаю субботы. Если, конечно, у него нет других планов.
Так А. Г. Ларсен попал за закрытую дверь с табличкой «Юнсен». Субботний вечер он провел с молодой супружеской четой и их сыном. Этот удивительный вечер перевернул судьбу А. Г., вовлек его в отношения, которых он искал, только куда теснее, чем ему хотелось бы. В ту субботу А. Г. оказался крепко–накрепко связан с Бьёрном Юнсеном и его семьей. Он переступил порог простого норвежского дома — квартиры в Румсосе. Стандартной квартиры в 95 квадратных метров[17], с угловой гостиной и тремя крохотными спальнями, квартиры, которую он фактически сам когда–то проектировал, чего у А. Г., по собственному мнению, не было никаких оснований стыдиться. Просторное, функциональное помещение. Где еще народ живет в современных квартирах площадью чуть не в сто квадратных метров? А Юнсены, небольшое семейство из трех человек, жили как раз в такой квартире. И их дом можно было с первого взгляда назвать полной чашей. Тут было все, что положено: диван с креслами, стенка, обеденный стол, телевизор, видеомагнитофон — одним словом, все. На диване сидела Юнсенова жена, Илва. Очень молоденькая на вид и, обратил внимание А. Г., нарядно одетая и подкрашенная. Как будто собралась в гости. Но она сидела дома и смотрела телевизор. Рядом с ней прикорнул на диване Малыш, в пижаме и укрытый пледом.
— Вырубай своих Херадсбё[18], — велел Бьёри Юнсен. — У нас гости.
Илва послушно выключила телевизор Дистанционвым управлением и, встав с дивана, поздоровалась с Арне Гуннаром Ларсепом. Потом ona извлекла бутылки, рюмки и закуску, а ее муж за это время выбрал кассету и поставил на Видеомагнитофон. Все расселись вокруг журнального столика: Илва с Малышом на диване, Бьёрн и А. Г. в креслах. Юнсен взял Пульт дистанционного управления. И на экране появились первые кадры.
К Бьёрну Юнсену пришел в гости человек, которому он хочет кое–что показать. Он показывает ему небоскреб в Лос–Анджелесе. Прекрасное высотное здание, в возведении которых никто не может сравниться с Соединенными Штатами, когда они умеряют свою скаредность стремлением к эстетичности. Небоскреб! Сверкающий стеклом и сталью, стройный и изящный. Незабывземое зрелище! Но зданию суждено сгореть! Сидящие на диване в Румсосе видят, как камера задерживается на небоскребе, и знают, что скоро начнется пожар! Это невыносимо. Зрители видят, как внутри здания течет обыденная жизнь, видят, как люди входят и выходят из него, не подозревая о Неотвратимом. Камера останавливается на пребывающих в неведении (простодушных?) (невинных) людях. Элегантных мужчинах, красивых дамах. Они улыбаются и хохочут, они строят планы на завтра. Они поглощены пустячными заботами. Разгуливают по Небоскребу, поднимаются в лифте на разные этажи, элегантные, преуспевающие, невинные люди. Да–да, задержись на них, пробуди в нас сожаление по этой будничной жизни — в предчувствий скорого пожаpa! Дай нам все разглядеть! Запечатли на нашей сетчатке, что было до Неотвратимого, ведь нам уже показали дым, который сочится в пустой комнате от щитка с предохранителями.
Как непередаваемо медленно доходит до собравшихся в Небоскребе, до героев фильма правда, доходит то, что сидящие вокруг журнального столика в Румсосе знали давным–давно, с самых первых кадров. Один за другим действующие лица осознают горькую истину: им не спастись. Они в ловушке. А огонь подбирается все ближе. Пожар нарастает. Кого–то уже захватило. Его в буквальном смысле поглотил пожар. Люди становятся жертвой огня. Кто–то, в объятой пламенем одежде, выбрасывается из окна и, пролетая по воздуху, душераздирающе кричит. Все это наблюдают в Румсосе.
Напряженно вглядываются в экран Бьёрн, Илва и их гость, А. Г., хлопает слипающимися глазами Малыш — он сидит в пижаме и впитывает в себя новые впечатления.
Бьёрн Юнсен с помощью Дистанционного управления останавливает картинку. Он нажимает на «обратную перемотку» и прокручивает ролик назад. К тем кадрам, когда человека поглощает огонь. Они просматривают кусок снова. Вот мужчина выбрасызается из окна и стремительно, головой вперед, падает к земле — его лижут языки пламени, горит одежда, он кричит. Смотрите, смотрите! Будьте свидетелями! Ловите мгновенье!
Tem временем герои окончательно уяснили ‹себе происходящее. Каждый из этих невинных людей знает, что его настигла Судьба. Настиг Случай. Случай может настигнуть кого угодно. Один за всех, все за одного. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Они попали в ловушку. Огонь этаж за этажом пожирает здание. Сумеют ли спасти тех, кто остался наверху? На земле разворачивазотся спасательные работы. Но будет ли от них толк? Успеют ли ктасатели?
Люди, запертые в небоскребе, знают, что скоро сгоpat. Хотят они того или нет, их тело, в котором чувствуется жизнь и каким–то неясным образом воплощается их сущность, будет подвергнуто сожжению, и они умрут, испытав прежде неслыханные муки. Кто может понять такое?! Кто может постичь подобный ужас?! Но у румсосских зрителей есть возможность смотреть со стороны, наблюдать происходящее во всех подробностях, досконально изучать ero. Бьёрн Юнсен держит в руках Пульт управления и может прокрутить самые напряженные моменты еще раз. Это тебе не телевизионный «Обзор текущих событий». Это реальность, это подлинные Новости. Новости, от которых обычно стараешься быть подальше, но которые сейчас рядом, на экране, в виде фильма и когорые Бьёрн Юнсен, двадцатидевятилетний продавен и бывший хоккеист, хочет продемонстрировать тебе. В гостиной стоит тишина. Все заворожены происходящим на экране, зачарованы тем, как Случай расправляется с единственной дарованной нам жизнью.
Это был фильм для всей семьи, объединивший Юнсенов с их соседом и гостем в общем раздумье — когда спало напряжение от только что испытанной сопричастности Катастрофе, Превратностям судьбы. Это было своеобразное богослужение. совершаемое pater familias[19], который, собрав домочадцев и держа руку на пульте, читал проповедь — не о Муках ада, но о Превратностях судьбы. И вот служба кончилась. Малыш в своей пижаме мирно улегся на диван и закутался пледом. Илва принесла еще выпить. Убрала пустые бутылки, поставила на стол полные. Бьёрн Юнсен сменил видеокассету.
Хотя они почти не разговаривали, Бьёрн Юнсен, как понял А. Г., на всем протяжении фильма словно вел с ним беседу — уже одним тем, что пригласил в гости и показал эту картину. Ведь картину выбрал и прихватил домой именно Бьёрн, так что своим семейным богослужением Бьёрн Юнсен, по мнению А. Г. Ларсена, высказался полнее и откровеннее, чем было заведено в прежнем окружении А. Г., из которого он, как мы знаем, сумел вырваться. Это тем более наглядно проявилось в следующем ролике, прокрученном Бьёрном: на А. Г. новый фильм произвел впечатление исповеди, хриплого, взывающего о сострадании обращения к близкому другу.
Героем фильма был негр. Бьёрн называл его «ниггером» или «черномазым». Тем не менее он–то и выступал в картине от имени Бьёрна Юнсена. Ветеран вьетнамской войны, сержант, имеющий награды, он пытается не сгинуть к чертям в суровых условиях Америки. Сначала безработный, он потом получает паршивое место уборщика при бензоколонке, где моет нужники и подтирает пол в мастерской. Ему недодают его гроши, над ним куражатся, как могут. В конечном счете он не выдерживает и идет на службу к мафиози, помогать одному клану расправляться с другим, т. е. становится вооруженным бандитом, наемным убийцей. Враждебный клан промышляет наркотиками. Наш герой, вьетнамский ветеран, берется за дело. Он одного за другим косит этих дельцов от наркобизнеса и их подручных. В праведном гневе приканчивает их. Наводит порядок. И в финале, когда все уже позади, когда завершилась последняя, решительная схватка не на жизнь, а на смерть, он стоит на фоне девственной природы с любезной его сердцу белой женщиной и рассказывает ей про свои бесхитростные мечты о лучшем будущем, где будет любовь и материальная независимость. И тут она стреляет ему в спину. Мы давно подозревали, что она предаст его. Она была тайной любовницей одного из тех, кого наш вьетнамский ветеран убил в праведном гневе. Теперь она убивает его со спины, залучив в западню.
Да–да, с помощью этих кадров Бьёрн Юнсен явно изливал душу. Он говорил об окружающем мире. О суровом, грубом и жестоком мире, в котором можно прожить без унижений, сохраняя достоинство, лишь с оружием в руках. Так–то вот, Ларсен. Так–то обстоят дела, в том–то вся идея. Правда, хороший фильм? Впрочем, какое это имеет значение? Самое главное, что в нем есть идея. Идея — это все. Солдат возвращается с проигранной войны. Чтобы стать Никем. Чтобы им, честным трудягой, помыкали. Чтобы над ним, исполняющим самую поганую работу, издевались. А у него, между прочим, есть заслуги перед Родиной. Так–то вот, Ларсен. Идея в том, что, только взявшись за оружие, можно преодолеть все, навести порядок. Добиться справедливости. Через выстрелы обрести свободу. И что же потом? Потом тебя предают, предает эта красавица. Ты ведь давно раскусил ее, а, Ларсен? Предательство. Неверная женщина. Она стреляет в моего ниггера со спины.
На протяжении всей картины, отнюдь не шедевра с кинематографической точки зрения, А. Г. словно слышал хриплый голос Бьёрна Юнсена. Так–то вот, Ларсен. Человек распахивал душу, предлагая дружить! А. Г. был тронут и одновременно озадачен. Он не знал, чем отплатить за доверие. Сам он не мог так раскрыться. Не мог показать такого фильма. А Юнсен раскрывался с предельной откровенностью. Малыш тем временем заснул на диване. Выждав немного, Илва встала и отнесла ребенка в его комнату. Потом вернулась и снова села, на экране продолжали сменять друг друга кадры. Въетнамский ветеран не подозревает об этом, но мы–то знаем: она хладнокровно пристрелит его. Мир жесток. Ты предан, друг. Илва смотрит на экран. Ее фильм отнюдь не захватывает. Один раз она даже подносит руку ко рту, прикрывая зевок. «Пропгу прощения», — говорит Илва А. Г. Она лить по обязанности проявляет интерес к картине. К картине, которую ее молодой по сравнению с гостем супруг с потрясающей откровенностью демонстрирует ему. Неверная красавица. Убивающая того, кто в праведном гневе пытался навести порядок. Так–то, Ларсен. И вот он лежит и что–то лепечет, сраженный выстрелом в спину той, которую воображал своей возлюбленной. На этот раз он просчитался. Ты предан, предан. Юнсен с небывалым, потрясающим прямодушием открылся А. Г. Подумать только, он сумел сделать это лишь через негра. Настолько страшная была тайна, которую один мужчина поверял другому, настолько черная, что никто, кроме негра, не мог выразить идею Бьёрна Юнсена. Илва же сидела рядом. и только из чувства долга следила за картиной.
— Вот и все, — сказала Илва Юнсен, когда появилась наплывом сакраментальная надпись: «THE END».
Илва поднялась, унесла пустые бутылки и поставила новые, полные. Выкинула окурки из пепельницы. И завела с А. Г. ни к чему не обязывающий: разговор. Как ему нравится в Румсосе? А он женат? Надо же. А дети у него есть? Надо же, видеть их всего раз в две недели… Она, сообразил А. Г., пыталась выказать ему жалость. А. Г. рассвирепел. Он пустился в объяснения. Говорил, что лишь теперь обрел надежду на будущее. Что он испытывает трепет во всем теле. — это бродит неукротимая жажда жизни, которую он не дал подавить в себе. Он старался выражаться предельно ясно, но его все равно не поняли. Илва упорствовала в своей жалости. к нему. А. Г. коробило такое отношение. Черт бы побрал эту накрашенную девицу! Бьёрн Юнсен вообще пропустил его объяснения мимо ушей — он, как заметил А. Г., еще переживал фильм. Бьёрн подошел к панорамному окну и открыл дверь на лоджию, чтобы проветрить комнату. Он словно к чему–то прислушивался. Словно оглядывался назад и спрашивал себя, не слишком ли страстно он исповедовался, не ввел ли вн заблуждение А. Г., не спутал ли тот идею, которой Бьёрн хотел поделиться, с чем–то конкретным, личным. Только так можно истолковать его порыв, когда он внезапно, без всякого повода, попросил Илву принести «та самоех.
Илва мгновенно сообразила, что имеет в виду муж, и исчезла в спальне. Через некоторое время она вступила в гостиную. Исполненная достоинства, приблизилась к ним. Она явно рисовалась, А. Г. угадал это по ее жесту, е претензией на королевский: она выставила вперед руку, напрашиваясь на комплимент. Ну, дает накрашенная девица! А. Г. разглядел, что она показывает: серебряный браслет. Изящный, современного производства. Притом увесистый, издалека заметно. Наверняка обошелся в несколько тысяч.
— Мой подарок на рождество, — самодовольно объявил Бьёрн Юнсен.
— Правда, красивый? — спросила Илва. — Потрогай. Она сняла браслет и положила его ма ладонь архитектору „Ларсену. Тяжелый. А. Г. восторженно присвистнул.
Он присвистнул, не только ‘чтобы произвести впечатление человека молодого и беззаботного. Иросто он не придумал ничего лучше. Просто у него не нашлось слов. Бьёрн Юнсен‘гордился, что сделал ей такой подарок… А Илва радовалась, что его получила… У А. Г. не было слов. Чем он мог отплатить им?
— Я хочу вам что–нибудь подарить, — сказал он. На память о чудесном вечере. Подождите минутку.
Он пошел к себе. Застыл в нерешительности посреди комнаты. Подарок. Ему нужно преподнести подарок. Что же им, черт возьми, подарить? Снять со стены рисунок Видерберга[20]? Слишком изысканно, а потому глупо. Книгу? Ты что? Лучше уж пластинку. Он кинулся к своей коллекции пластинок и начал лихорадочно перерывать ее. Вот! Эту!
На пластинке был симфонический оркестр Венской филармонии. Вступление к «Новогоднему жонцерту». А. Г. вернулся в квартиру Юнсенов и вручил им диск.
— Это «Новогодний концерт», — пояснил он. — Тот, что передают по телевизору первого января. Перед прыжками с трамплина в Гармиш–Партенкирхене[21]. Знаете?
Конечно, знают. Как же, «Новогодний концерт»! Перед прыжками с трамплина! Спасибо большое. Мы его будем ставить перед соревнованиями на Холменколлене, для настроя.
— Теперь возьмем новый ролик, — сказал Бьёрн Юнсен. — Ты осилишь еще один, а? — спросил он А. Г. Давно перевалило за полночь, однако А. Г. был не из тех, кто не может осилить еще один ролик. А Илва пошла спать. Спокойной ночи, Илва, спокойной ночи. Бьёрн Юнсен зарядил кассету. Они откинулись зв креслах и приготовились смотреть. Щелчок… поехали.
Мы опять попадаем в Америку. На сей раз фильм исторический. Бьёрн Юнсен показывает Клинта Иствуда в «Джози Уэльсе»[22]. В тот вечер в Румсосе поставлены все точки над i. Окончилась гражданская война. Кровь и гангстеры. Клинт Иствуд вне закона. Его преследуют. Победители северяне объявили амнистию, но Клинт Иствуд никому не доверяет и не хочет амнистий. Он предпочитает оставаться в опале, зато с винтовкой в руках. Северяне преследуют его. Они охотятся за ним, в форме и вооруженные законом. Они травят Джози Уэльса, то бишь Клинта Иствуда. На стороне победителей история, закон, и все же они, как мы убедились, самые настоящие мошенники. Джози Уэльс, то бишь Клинт Иствуд, должен отбиваться от них. Он стреляет. Течет кровь. Лицо Клинта Иствуда непроницаемо. Мир беспощаден, Джози Уэльс в опале, но он умеет постоять за себя, его преследуют, гонят, но пока еще можно действовать, попробовать вырваться. В опале, вне закона. Над Румсосом ночь, городок в долине Гроруддален спит, не погасив огней — с оранжевыми фонарями вдоль кольцевой дороги. Герой Бьёрна Юнсена, в Америке стодвадцатилетней давности, четким силуэтом вырисовывается на фоне неба. Гонимый, затравленный. В опале, вне закона. Всадник с винтовкой. Каменное лицо. Теперь надо стрелять. Хладнокровно. За спиной у зрителей шоссе, протянувшееся по долине, оранжевый свет, прямоугольные фонари на невидимых столбах, подвешенные под таким углом, чтобы освещать дорогу и редких автомобилистов, которые несутся в ночи, скрипя покрышками на виражах. Опальный отстаивает свои права! На каменном лице высечена боль. Но она не мешает ему действовать, беспощадно и по справедливости. Он не произносит ни слова. И тем не менее высказывается — плевком. Клинт Иствуд плюет. Смачно плюет. Там, где другие говорят, Клинт Иствуд плюет. Такой ответ он дает преследователям. Смачным плевком он выражает наши сокровенные чувства. Точки над i поставлены. Скользит над землей темень ночи, в собственном отрывистом ритме уходят часы, и стрелка аккуратно отмечает это на циферблате, где секунда следует за секундой, из шестидесяти секунд составляется минута, из шестидесяти минут час, и так по гроб жизни. В опале, вне закона. Гонимый, затравленный. Клинт Иствуд дал свой ответ. Не приняв предложенное мошенниками помилование, он отвечает им сообразно обстоятельствам. Теперь можно приступать к действиям, вырываться на свободу. Он обезвреживает гангстеров. Одного за другим. Всех до одного. Он вершит в мире правосудие, восстанавливает основы. Гонимый, затравленный. Как это ни мучительно, нужно действовать, не ты одолеешь преследователей, они одолеют тебя, такова простая и безжалостная арифметика.
Под соответствующую музыку завершился и этот фильм, и на экране появилась соответствующая надпись: «THE END». Бьёрн Юнсен нажал кнопку на Пульте управления, магнитофон выключился. Вот и все. От начала до конца погони они просидели в полном молчании. Бьёрн Юнсен отдал все, что у него есть за душой, подумал А. Г. Растерянный, он встал с кресла, смущенно попрощался и пошел к себе, ложиться спать. Было полчетвертого. Так состоялось знакомство А. Г. с Бьёрном Юнсеном и его семьей.
С тех пор А. Г. нередко заходил в гости к Бьёрну и Илве Юнсенам. А. Г. называл соседа и его жену по именам, они же со своей стороны звали его Ларсеном. Малыш тоже обращался к нему по фамилии. А. Г. часто бывал у них, и, к его удивлению, хотя не сказать чтобы к огорчению, большинство визитов в точности повторяли первый. Бьёрн Юнсен крутил видео. Он чуть не каждый день приносил домой новую картину, а на выходные мог взять штук шесть сразу. Впрочем, одна–две из них предназначались для Малыша.
Бьёрн Юнсен, очевидно, испытывал неутолимую потребность смотреть видеофильмы. Он на опыте уяснил для себя, что не может жить без смотрения. Ему необходимо было смотреть. Еще и еще. Необходимы были новые и новые фильмы, новые истории, новые сюжеты, новые герои, которые бы затрагивали новые струны в душе того, кто выбирал эти картины и крутил их. Больше всего на свете он любил сидеть как приклеенный и смотреть свое видео. Из дома он отлучался только изредка. Бьёрн внимательно следил за положением «Манглеруд–Стар» в чемпионате страны и много раз думал выбраться в «Амфи»[23]', но так и не выбирался.
Он уже четыре года как не видел «живьем» ни одного хохкейното матча, признался он А. Г., бросив мимолетный вагляд ма свое до сих пор не зажившее колено.
В этот мирок и окунулся А. Г. Ларсен. Вероятно, точнее будег сказать, погряз в нем. Хотя, направляясь к Юнсену, али, как он его называл, Бьёрну, А. Г. не пытался преодолеть болото, а всего–навсего пересекал площадку, многое указывает на то, что слово «погряз» как нельзя лучше отражает смешанные чувства, сопровождавшие Арне Гуннара Ларсена на его жизненном пути в эти короткие зимние месяцы прошлого года. Он явственио ощущал свою сзязанность по рукам и ногам, во продолжал погружаться в новый для себя мир, состоявший аз Юнсеновой гостиной, зидеомагнитофона, телевизора и Илвы © Малыпюм на диване. Может, ему казалось, что он обрел наконец дом? Едва ли. Скорее У него было чувство, что он «влип».
А жизнь его текла своим чередом. А. Г. был по–прежчему увлечен работой, архитекторской и чиновничьей, занят поисками реальных решений а реальном мире, проектированием завтрашнего жилья для простого народа, он служил посредником, третейским судъей между идеалистами архитекторами и циниками производственниками. И еще А. Г. бегал. Бегал трусцой з удивительной тишине Румсоса. Все в том же неторопливоем темпе, так же одержимый идеей здорового образа жизни и радующийся своему зыносливому телу. В румсосском центре, в зале «Б», он присутствовал на собраниях рабочей партия. Он много думал о проблеме размещения ракет, по которой у А. Г. и его единомышленников были разногласия с руководством партии. Он считал ее важнейшей проблемой современности и с удовлетворением отмечал, что дебаты, проводившиеся зв небольших ячейках рабочей партии, оказывались существенными не только для Норвегии, но и для событий за ее пределами. Решения, принятые демократическим путем социал–демократической партией в одной из североевропейских стран НАТО, имели, неожиданно для многих, сильный резонанс. А. Г. тем более радовало другое: кажется, получали наконец признание политические взгляды его поколения — нохоже было, ош тольво тецерь постиг подлинную ценность движения, к которому когда–то совершенно осознанно примкнул.
Он придавал большое значение политическим спорам с товарищами по партии, в том числе неофициальным, происходившим до и носле собраний, и если бы его тогда спросили, какое из февральских событий 1983 года он считает самым важным, он бы без колебаний ответил: выборы делегатов на ежегодную конференцию рабочей партии в Осло, на которой эта партия, имеющая наибольшее представительство в муниципальных советах, должна была познакомить общественность со евоей позицией по ракетной проблеме. Одновременно А. Г. и «влип». То есть вступил в гостиную Юнсенов на правах друга семьи.
Он вступил туда в скромном, неприметном платье служащего. При неизменном галстуке. Худощавое лицо, на котором уже оставила свои отметины жизнь. Жидкие волосы с проплешиной. Но тело тренированное, выносливое. Кстати, описание его как человека ординарного, неприметного, выносливого принадлежит самому А. Г. — он не претендовал на большее. Пусть, мол, принимают его таким, какой он есть. Да! Пусть принимают его таким, какой он есть! Он стал вхож в Юнсенову гостиную. Довольно часто он приносил с собой букет цветов для фру Илвы. Или коробку конфет в Дом. Он из тех мужчин, что приходят е подарками. Юнсены принимали подарки, поначалу как будто с усмешкой (его светскость забавляла их), но потом подношения превратились в своега рода ритуал. Время от времени он заранее объявлял, что хочет устроить обед, и тогда сам покупал продукты. Вырезку. Салат. Красное вино. В дом вошел благодушно настроенный чиновник средних лет.
Семейной паре, к которой он «вошел в дом», было за двадцать. Продавец, бывший хоккеист, и его жена, домохозяйка. Бьёрн всегда был одет безукоризненно и в то же время раскованно — само собой разумеется, по последней моде. Даже в домашней обстановке он, как и Илва, носил модную. одежду. Тина «сегодня–вечером–мы–никуда–не–идем». Подчеркнуто небрежную и самую элегантную, какую могла предложить швейная промышленность массовому потребителю. А. Г. никогда, ни единого разу, не заставал кого–нибудь из них одетым неряшливо. То же относилось и к квартире. Она веегда была ухожена и в порядке. Вылизана. Чем разительно отличалась от той, чта запомнилась А. Г. со времен детства: ералаш, нищета, запах комбинезонов, зеленого мыла, сала… и постоянныи холод, которым тянет из окон и от невидимых щелей в стенах.
Итак, они собирались в гостиной вокруг журнального столика, раскованная молодая парочка и А. Г. со своим неизменным галстуком. Малыш тоже каждый вечер был тут: он лежал на диване, переодетый в пижаму и накрытый пледом, и засыпал под фильмы, которые показывал его отец. А. Г. в одном кресле, Бьёрн в другом, с Пультом управления в руках, Илва на диване, рядом с Малышом, как всегда, подмазанная — она листала иллюстрированные журналы или ходила туда–сюда, занимаясь мелкими хозяйственными делами. На экране вереницей плыли кадры.
Наконец–то Арне Гуннар Ларсен окунулся, вошел в гущу народа в Румсосе, но все получилось совершенно иначе, чем он себе представлял. Судьба свела его с человеком, беспрестанно крутившим видеофильмы. Отчего и сам он пристрастился к этим картинам, во всяком случае, создавалось такое впечатление. А. Г. привязался к тайным агентам, которые, будучи на службе либо у ЦБУ, либо у английской «Сикрет сервис», способствуют их борьбе против коммунизма. Разбросанные поодиночке по земному шару, но ко всему привычные,агенты, где бы они ни были, используют любые средства для защиты Свободы, что мы и видим на экране. Он привязался к уволенному со службы полицейскому, герою наших дней, который рыщет по улицам Большого города, дожидаясь своего Часа расплаты, бесчисленных Часов расплаты. Он пристрастился к катастрофам. К убийству. К смертному мигу. К праведной мести. Привязался к всаднику, который, спасаясь бегством или в погоне за кем–то, скачет по американской прерии с ружьем вместо друга. Привязался к ветеранам вьетнамской войны, снова рискующим своей жизнью, но уже не в непролазных тропических лесах Юго–Восточной Азни, а в беспощадных джунглях американского города. Вьетнамские ветераны — проблеск надежды в бездонной пучине, на загаженных улицах большого города. Вьетнамский ветеран, очередной кумир современного норвежца. А. Г. Ларсен сам когда–то ходил на демонстрации против войны во Вьетнаме. «Прекратить бомбардировки мирного населения. США — вон из Вьетнама!» И вот мы опять встречаемся с морскими нехотинцами. Они вернулись на родину, побежденные и готовые к новым подвигам. Они — герои многих и многих фильмов. Великовозрастный ветеран возглавляет банду юнцов–рокеров, противостоящую другой такой же банде. Кожаные куртки и рев моторов, а во главе — опытный вояка с проигранной войны. Боль целого поколения! Come back, come back![24]. Вот к каким фильмам пристрастился А. Г. Ларсен. Неужели он и впрямь увлекся этими картинами? Похоже на то. Но почему, почему? За компанию. Или он через фильмы приобщался к тому, к чему и хотел приобщиться? К суровой действительности. Суровой, но реальной.
А. Г. Ларсен, который после переезда в Румсос вступил в Гроруддаленское общество поощрения искусства и который, как архитектор, прекрасно знал историю европейского искусства, особенно живописи ХХ века (к примеру, он всегда носил в душе полотна Шагала, с их воздушностью и чистотой, и вряд ли хотел бы лишиться такого удовольствия), теперь проводил свободное время в новом увлечении, в пристрастии к соверщенно иным картинам. Ради Бьёрна Юнсена? Да, во имя дружбы. Дружбы с человеком, жившим реальной жизнью.
Объяснялось это тем, что Бьёрн Юнсен вызывал у А. Г. восхищение. Свободное время Бьёрн посвящал исключительно просмотру фильмов. Следовательно, для него они были самым главным. Он вел довольно–таки странный образ жизни. Можно смело утверждать, что у него был весьма узкий круг общения. Масса знакомых и почти никаких друзей. С ребятами из хоккейной команды он теперь не виделся: зная, где их найти, он никогда не искал встречи с ними. Приработок в Бьерке Юнсен получил через вполне определенных — хотя и неизвестных нам — знакомых, с которыми встречался, когда пробивал билеты за тотализатором, но его общение с ними ограничивалось инподромом. Не поддерживал Бьёрн контактов ни с друзьями детства из Оппсалы, ни с кем–либо со своей основной работы в магазине. Очевидно, у него были еще связи с «черным рынком», но и тут общение не выходило за рамки деловых операций. Более близкие отношения у Бьёрна и Илвы Юнсенов Установились только с Илвиным братом и его женой, а также с Илвиной сестрой и ее мужем: обе пары жили в Стовнере и время от времени приходили в гости к Юнсенам или же Бьёрн с Илвой выбирались в гости к ним.
Все это было тем более удивительно, поскольку Бьёрн Юнсен производил впечатление компанейского парня, который не лезет за словом в карман и должен иметь огромный круг друзей. Коль скоро он его не имел, значит, он по доброй воле избрал для себя такую замкнутость, такое ограничение контактов с норвежским обществом конца ХХ века. Нельзя сказать, что видео заменяло ему недостающее общение. Ведь у Бьёрна Юнсена были возможности для светской жизни и он не нуждался в каких–либо заменах. Просто увлечение видео отодвинуло все остальное на задний план. Все прочее стало ему неинтересно.
Бьёрн Юнсен предпочитал наводящих порядок ветеранов вьетнамской войны старым приятелям хоккеистам, игрокам «Манглеруд–Стар». Бьёрн Юнсен предпочитал «Грязного Гарри»[25] и его Час расплаты посиделкам с пивом вместе с ребятами, работавшими на бегах, — кстати, это обходилось дешевле. Бьёрн Юнсен предпочитал следить за Смертным мигом или сопереживать Катастрофе, он предпочитал извечную истину о женщине, всаживающей тебе в спину кинжал, и не менее основополагающую истину © том, что ни краснобайство, ни благородные взгляды не спасут тебя от преследователей, если нет в руке заряженной свинцом винтовки, — он отдавал им предпочтение перед всей светской жизнью, какую могла предложить норвежская столица в 1983 году нашей эры.
Благодаря видеомагнитофону Бьёрн Юнсен соприкасался с побудительными мотивами собственного существования, отчего все прочее казалось ему наделенным одним серьезным недостатком: не шло с этим ни в какое сравнение. Сидя в кресле с Пультом дистанционного управления в руках, Бьёрн Юнсен мог крутить ролики — и смотреть. В видеофильмах обнажалась ханжеская и унылая действительность — с нее не просто снимался покров, но сдиралась шкура, вместе с которой уходило пустозвонство. И проступала суть. Бьъёрн Юнсен был одержим страстью к наблюдению этой сути. Он был фанатиком. Ничто другое не имело для него значения. За что А. Г. и восхищался им. По мнению А. Г., Бьёрн Юнсен обладал глубокими экзистенциальными корнями. Он осмеливался жить без иллюзий. И не только осмеливался, но оыл одержим этим. Смотреть правде в глаза нелегко. С помощью видеофильмов Бьёрн Юнсен смотрел правде в глаза, и смотрел не мигая. Вечер за вечером.
Не случайно Бьёрн Юнсен был очень одинок. Хотя он не упускал возможности выразить свое презрение к Норвегии и норвежцам, называя последних «Ула–лопух» и высокомерно вспоминая в связи с ними то традиционный головной убор, известный как «дурацкий колпак», то овощ, ввезенный из Америки в конце XVIII века и ставший в Норвегии полезным добавком к рациону (овощ носит название картофеля, а соотечественников Юнсен величал «рохля–картохля»), а то и небезызвестный сосуд («У него башка из табачного горшка») — все эти наименования мелькали в потоке слов, направленном против его главного врага, национального телевидения, — тем не менее можно сказать, что Бьёрн Юнсен более чем кто–либо другой олицетворял норвежское одиночество, да–да, он был прямым наследником одинокого созерцателя с затерянной в горах усадьбы, который во тьме, за многие мили от ближайшего соседа, занят размышлениями над истинным смыслом полярной ночи и собственной судьбы с точки зрения этой непроглядности. Только наш норвежец перенесся в ХX век, в эпоху электроники, и был помещен в светлую квартиру площадью чуть не в сто квадратных метров, в микрорайоне, расположенном к северу от столичного центра. Помимо бессчетных вариаций своей судьбы, предлагавшихся видео, Бьёрн Юинсен интересовался исключительно семьей. Илва и Малыш составляли его мир, за пределы которого он выбирался, только чтобы зарабатывать деньги. И это, как уже говорилось, при: всей его общительности и живости характера.
А. Г. плохо представлял себе материальное положение Бьёрна Юнсена. Он понятия не имел, сколько получает продавец «Клесмана» — как бы то ни было, недостаточно, чтобы жить в румсосском кооперативе, с его высокой квартирной платой и не менее высоким вступительным взносом, осилить который можно, лишь взяв ссуду в банке. Правда, у Бьёрна Юнсена была еще побочная работа на ипподроме в Бьерке. Два вечера в неделю. Хватало ли им этого? Илва сидела без постоянной работы. Пока сынишка был маленький, она приглядывала за ним, но когда ему исполнилось три года, Илва попробовала найти работу. И не нашла. Работа, сами знаете, на дороге не валяется. Ни досталось только место подсобницы в местном супермаркете: ее призывали, когда требовались дополнительные руки, чаще всего по субботам, и тогда надо было нестись туда сломя голову. И Бьёрн, и Илва в один голос сокрушались, что у Илвы нет работы, однако А. Г. реакция Бъёрна казалась сплошным притворством. Как это ни парадоксально, Юнсен, пожалуй, был доволен, даже гордился своим статусом единственного кормильца в семье. А. Г. удивляло, что они ухитряются жить на такую широкую ногу на Бьёрново жалованье продавца плюс приработок за два вечера в неделю на ипподроме. Впрочем, Бьёрн, подобно многим молодым норвежцам восьмидесятых годов (из простого народа), делал еще нелегальный бизнес. О размахе этой его деятельности А. Г. мог только строить догадки (чем он заниматься не собирался, предпочитая закрывать на нее глаза: мол, не его забота).
Много внимания Бьёрн Юнсен уделял сыну, Бьёрну Эрику. Если Юнсен по своей охоте выбирался из дома, отрываясь от лицезрения собственной судьбы, то непременно прихватывал сынишку. Он ходил с ним гулять. Катался на лыжах. Мальчику хорошо кататься на лыжах с отцом.
— Мы ведь ради Малыша живем здесь, в Беверли–Хиллз, — говорил он. — Чтоб Малыш почувствовал дух природы. Мальчишкам полезно расти тарзанами.
Он водил его на Свартхьерн, Черное озеро. Давал покататься на коньках. Бьёрн наблюдал, как Малыш носится по льду, гоняет огромной клюшкой черную шайбу. Из него должен выйти толк!
С Илвой Бьёрна, кажется, связывали хорошие отношения. Не хуже, чем у других. Может, даже лучше, хотя Бьёрн был не прочь показать, кто в доме хозяин. Распоряжался тут он. Он говорил: сделай то, сделай это, нет, не так, а эдак. И так далее и тому подобное. Иногда, что греха таить (да простит мне просвещенный читатель вынужденное упоминание об этом), Бьёрн позволял себе выругать ее в присутствии А. Г. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что он накидывался и на Малыша. И каждый раз из–за ерунды. Что–нибудь стояло не на месте или куда–то запропастилось. Или, скажем, Илва заварила недостаточно крепкий кофе, или, разливая его, плеснула Бьёрну на блюдце. Тогда Юнсен мог накричать на нее. А. Г. был в таких случаях как на иголках. Он чувствовал, что должен бы вмешаться, и в то же время понимал, что вмешиваться нельзя. Приходилось сидеть в смущении и делать вид, будто ничего не происходит. К счастью, Бьёри Юнсен быстро остывал. Это были всплески задавленного хоккейного темисрамента. Способ заявить о себе. Илву вспышки словно не трогали. Она ходила по своей чуть не стометровой квартире, нарядно одетая, подкрашенная. Тени для век. Румяна. А то и помада. И не перечила мужу, когда он ругал ее. Только смеялась в ответ. Кстати, нет никаких оснований скрывать, что ее смех казался наигранным. Илва смеялась. Смеялась Бьёрну. Но не А. Г. Она никогда не пыталась привлечь А. Г. на свою сторону, против мужа. Она исполняла соло. Смеялась Бьёрну — по–видимому, кокетливо. Могла даже в такую минуту сделать несколько танцевальных па. Продолжая смеяться. Тогда злость отпускала Бьёрна Юнсена, и он мог вдруг обиженно сказать (как было однажды, вспоминал А. Г.):
— Я ведь ради тебя ишачу` до потери сознания. Не забывайся!
Эти слова навели А. Г. на мысль о том, что Бьёрн ценит свою Илву. О чем, впрочем, не мудрено было догадаться и по другим признакам. Еще когда А. Г. в один из первых вечеров пришел к соседям и все они смотрели в гостиной видео, Бьёрн тайком выразил свое мнение об Илве. Он совершенно недвусмысленно похвастался ею перед А. Г. за ее спиной. Илва встала, чтобы сходить за чем–то на кухню, и неторопливо прошлась по комнате в своих обтягивающих — по последней моде — штанах. Супруг проводил ее взглядом, едва не сворачивая шею, потом обернулся к А. Г. и, расплывшись в улыбке, театрально подмигнул ему, словно хотел этим коротким одобрительным движением сказать, как мужчина мужчине: «Хороша девка, а?»
— Фру Юнсен, таким образом, удостоилась высочайшей цохвалы. Похвалы своему телу, высказанной ее супругом другому мужчине — как и положено в таких случаях, у нее за спиной. А. Г. понял намек. И он смутил его. Он увидел себя со стороны — чужой мужчина, в неизменном галстуке, со своим выносливым, но все же сорокадвухлетним телом, и уловил, что Бьёрн, превознося жену, подсознательно имел в виду и это. А. Г. понял. Бьёрн Юнсен расхваливал жену, славил ее тело, как бы передоверяя А. Г. свою роль и тем самым защищая свой брак, в полной уверенности, что таков Закон жизни.
А. Г. задумался, чем для него чревато стать другом этой молодой семьи. Где Илва, значит, сидела дома. Вела хозяйство и приглядывала за ребенком (теперь, впрочем, сын был пристроен в детский сад, на сколько–то часов в день). Где Бьёрн уходил зарабатывать деньги. Приносил получку. Из «Клесмана». Из Бьерке. И еще откуда–то. Он берет напрокат видеоролик. Заряжает его в магнитофон, и на экране возникают картинки. Бьёрн в кресле с Пультом управления. Илва на диване. Малыш в пижаме, укрытый пледом, засыпает под фильм, под голоса с экрана, под шум. И тогда Илва переносит его в соседнюю комнату. А второе кресло пустует, или же на нем сидит А. Г. В ту зиму он очень быстро стал здесь кем–то вроде друга семьи. Другом Бьёрна Юнсена. Он словно помимо своей воли сделался приятелем молодых супругов. И теперь вечер за вечером сидит с Бьёрном Юнсеном и смотрит видео.
Не мешает уточнить, что, говоря «вечер за вечером», мы допускаем преувеличение. Бьёрн, например, каждую среду проводил вечера в Бьерке, там же он бывал`по субботам или воскресеньям (в зависимости от того, проходили ли заезды «Рикстото»[26], которые назначались на субботу, специально чтобы можно было передавать их в спортивной программе телевидения). По четвергам была занята Илва, которая, неизвестно зачем, посещала вечерние курсы испанского языка. А. Г., со своей стороны, тоже часто бывал занят. Раз в две недели к нему приезжали на уик–энд дети, да и вообще у человека его положения было мало свободных вечеров. Прибавим сюда румсосское отделение рабочей партии, заседания которого тоже проводились раз в две недели, по четвергам. Так что, summa summarum[27], А. Г. наведывался в гости к Бьёрну и Илве один, от силы два раза в неделю и тогда сосредоточенно следил за эмоциональным воплощением на экране того, что он называл побудительными мотивами в жизни Бьёрна Юнсена, — возможно, они двигали и его собственную жизнь, хотя последнее более проблематично.
Итак, зимой 1983 года А. Г. стал другом дома у супружеской четы Юнсенов в гумсосе. пак упоминалось выше, Арне Гуннар Ларсен вовсе не олицетворяет Писательскую мечту, его выбор на роль главного героя незавиден, посему нет ничего удивительного в том, что теперь, когда он утвердился в качестве друга семьи, его начинают посещать сомнения сексуального плана, и это поворачивает наше повествование в сторону мелодрамы, разыгравшейся в норвежском микрорайоме под названием Румсос. Печально, но факт. А. Г. воспылал страстью к молодой супруге Бьёрна Юнсена. К чести А. Г. Ларсена следует подчеркнуть, что он отчаянно сопротивлялся такому повороту событий, сначала не признаваясь даже самому себе в том, что испытывает вожделение к Илве, а потом, когда отрицать это стало невозможно, не предпринимая никаких попыток удовлетворить свою страсть. Трудно сказать, во что вылилос: бы наше повествование в противном случае. Как бы то ни было, когда А. Г. Ларсен в определенный период пытался помешать мелодраматическому развитию событий, он явно хотел воспрепятствовать тому, чтобы его собственная жизнь обернулась скверным романом. Разменявптий пятый десяток чиновный социал–демократ влюбляется в молодеяькую женщину из народа, в накрашенную девицу. Она замужем за его новым другом, продавцом, которому еще нет тридцати. Не исключено, что эти двое, молодая женщина и стареющий патрон из ОБОСа, наставят рога ее мужу, бывшему хоккеисту, у которого остались шрамы на коленках после незажившей травмы. Парочка вполне может втихомолку предать его. Какой писатель позарится на подобную завязку для романа? Ни один, кроме меня.
А я, как видите, позарился. Почему? Потому что эта мелодрама разыгрывается в Румсосе, одном из современных микрорайонов норвежской столицы. Должен честно признаться: после возвращения из Мексики до меня со всей очевидностью дошло, что жизнь сегодняшней Норвегии непостижима. Да, я считаю жизнь, которую ведут обитатели Румсоса, по сути своей непонятной. У меня нет ни малейшей возможности постичь ее. Жизнь в любом, взятом наугад районе Мехико кажется доступной пониманию, в том числе и моему, пониманию привилегированного норвежца, человека интеллектуального труда — она прозрачно ясна но сравнению с жизнью в этом районе Осло, что расположен к северу от центра, в миле от него. По–моему, я в состоянии понять мексиканцев, хотя их существование строится на совершенно иной основе, нежели мое, в состоянии уловить в их жизни взаимосвязи, которые бы высветили то, что остается неясным. Иначе обстоит дело с жизнью современного норвежца (из народной среды) в 1983 году нашей эры. Румсос представляется мне в высшей степени непонятным. Он даже не поддается описанию, я не могу изобразить его корпуса или деревья вокруг, хотя корпуса эти самые обычные, построены из привычных материалов и задуманы они (правда, только отчасти) моим другом детства Арне Гуннаром Ларсеном, а деревья — самые обыкновенные ели и сосны. Все равно я не в силах описать их. Возьмем к примеру главный квартал Румсоса, так называемый румсосский центр. Почему каждый раз, когда я попадаю туда, меня охватывает невыразимая печаль, от которой я лишаюсь дара речи? Это ведь привычный культурный и торговый центр: его спроектировали, исходя из многих хороших, передовых идей, и в нем присутствует множество архитектурных решений, отражающих эпоху его строительства. Может быть, потому что в нем царит запустение? Что в нием нет признаков жизни? Что после пяти он вымирает? Потому что люди, возвращаясь в час пик с работы, поднимаются на лифте из глубокой, ультрасовременной станции метро на первый этаж центра, а потом веером рассеиваются по всему Румсосу — и исчезают? Овощной базар на втором этаже, разместившийся посреди зала. Эти несколько палаток с овощами производят столь тягостное, столь гнетущее впезатление своей безрадостностью, что мне с большим трудом дается упоминание четырех помидоров, купленных там Илвой. Или огромный бассейн, предназначенный не только для Румсоса, но и для прилегающих районов, то есть рассчитанный примерно на пятнадцать — двадцать тысяч человек. Он тоже расположен здесь, в румсосском центре, а посещают его одни школьники, в учебное время. За исключением их, в бассейн не ходит никто. Он пустует. По вечерам хорошо видно, как он светится пустотой. Безлюдный бассейн, с левой стороны от ведущей к главному входу шеренги металлических фонарных столбов, справа от которой виден перемещающийся вверх–вниз лифт. Собственно говоря, виден не сам лифт, а его механизм: он движет кабину и идет наверх (когда кабина опускается под землю) или вниз (когда кабина выбирается из–под земли, от станции метро, наверх). Я еще не рассказал о компании подростков, что затерялись в этом огромном здании и апатично слоняются на втором этаже между эскалатором (неработающим) и обычной каменной лестницей, массивной и холодной, которую охраняет на третьем этаже вывеска «Полиция». Рядом с полицией — румсосская контора социальной помощи, а также библиотека, где соответственно размещаются библиотекари и книги. Не рассказал и о помпезном кафе, которое закрывается в пять часов, настолько оно, благодаря своему интерьеру, «популярно» среди посетителей, или о затесавшемся сюда магазине игрушек, или о Банкетном зале, о котором я вообще предпочитаю не распространяться. Все это и многое другое повергает меня в неизбывную тоску, ия утрачиваю дар речи. Самое печальное, что центр до известной степени функционирует. Открыта библиотека, открыт бассейн, открыто кафе, куда можно зайти и выпить кофе, съесть бутерброд или пирожное, на Овощном базаре можно купить овощи, а если вам захочется поплавать или даже прыгнуть с вышки, можно купить билет в Бассейн, так что все вроде бы обстоит превосходно. Сюда могут прийти и пенсионеры, обратиться в контору социальной помощи, сделать массаж, починить зубы и т. п., по вполне доступной цене пообедать в отведенном для них зале кафе, а по соседству с конторой, стена в стену, учатся старшеклассники, так что здесь подростки общаются со стариками — и тем не менее ничто из этого не возвращает мне дара речи, поскольку я по–прежнему вижу перед собой нечто абсолютно непостижимое. Город, выросший в эпоху Расивета! Целый город, построенный талантливыми архитекторами с самыми лучшими намерениями, в период самой высокой конъюнктуры, какую только знал свет (и какой может никогда больше не узнать), город, который предполагалось заселить рабочим людом, теми, кто считается самым обеспеченным рабочим классом в мире. Вот что внушает тревогу. Заставляет умолкнуть. Румсосская пустота, тишина. Безлюдье, которое взывает ко мне. Но не исключено, осеняет меня, что сами жители всем здесь довольны. При одной мысли об этом я цепенею от страха. Это ведь мой народ, моя страна. Поэтому я с жадностью ухватился за предоставившуюся возможность, и, когда А. Г. рассказал мне о своем подавляемом влечении к Илве Юнсен, я, как говорится, не сходя с места (в данном случае буквально) сделал его героем нового романа. ОБОСовский чиновник, тоже переживающий Расцвет, приударяет за женщиной — такая завязка, по моим предположениям, должна была развиться в мелодраму, что и требовалось мне, дабы беспристрастно и доступно изобразить мой непостижимый народ. Илву Юнсен, которую соблазняют. Бьёрна Юнсена, которого предают. Ахритектора Ларсена, пришельца, который соблазняет и предает одновременно, м то и другое против собственной воли. Муки Бьёрна Юнсена и его одиночество. Пропащий, погибший в Румсосе. Пока еще неясные чувства Илвы. В Румсосе, в непостижимом Румсосе.
Норвежское общество в 1983 году нашей эры. Пригород Осло, расположенный примерно в миле к северу от столичного центра. В холмистой местности, в окружении лесов, гор и водоемов — природного ландшафта. Зима. Сравнительно мягкая, но сырая и холодная, с лежалым смерзшимся снегом, сероватым или прослоенным черным. Температура в ту зиму держалась в основном около нуля, обычно на один–два градуса ниже. Расклад таков: чиновник яз ОБОСа, член ВСА, архитектор А. Г. Ларсен переезжает в этот район, так как под влиянием небезызвестного кризиса сорокалетних его невыносимо потянуло к народу и к реальной действительности. Он развелся, покинул прежнюю элитарную среду и считает, что сжег за собой все мосты. Тем не менее он остался самим собой. Он заводит друга, Бьёрна Юнсена, двадцати девяти лет, продавца по профессии, бывшего хоккеиста «Манглеруд–Стар», команды, выступавшей (выступающей) в первой подгруппе одной из самых слабых среди развитых стран хоккейных лиг (то есть норвежской), команды, из которой он вынужден был уйти, но причине незаживающей травмы колена, уже в возрасте девятнадцати лет. Главное пристрастие Бьёрна Юнсена — просмотр видеофильмов, отобранных им самим, благодаря которым между ним и новоселом района А. Г. Ларсеном возникают тесные дружеские отношения, поскольку последний проникается к Юнсену чувством уважения, даже восхищения: он воспринимает прокручивание вестернов, фильмов ужасов, остросюжетных, шпионских и детективных картин как откровеннейшее признание — можно сказать, исповедь — одного мужчины другому. Бьёрн Юнсен женат на Илве, которая младше его на пять лет, иу них есть ребенок, шестилетний сын. Сорокадвухлетний ОБОСовский чиновник мгновенно очаровывается Илвой, но всячески старается подавить в себе это чувство…
Вот как обстояли дела. Обнаружив свое влечение к Илве, А. Г. Ларсен пришел в ужас. Это было нечестно по отношению к Бьёрну! Поэтому он попытался заглушить желание. Однако какая–то демоническая сила вынуждала его признать положение вещей, и он испытал облегчение, когда наконец открылся самому себе. Он был одержим Илвой с первого дня. Да–да, с первого дня!
Она сидела у себя дома, в гостиной. Рядом с Малышом, который лежал на диване, укрывшись пледом, в то время как ее муж азартно предавался своей страсти, помогавшей ему уяснять побудительные мотивы собственного существования. А. Г. имел очень смутное представление об Илве. Знал только, что ей двадцать четыре года, что у нее шестилетний сын, которого она, следовательно, завела в восемнадцать — другими словами, в семнадцать она забеременела и вышаа замуж за двадцатидвухлетнего Бьёрна. А. Г. никогда ни о чем не расспрашивал ее. А сама она никогда ничего не рассказывала. Она просто присутствовала. Сидела рядом. Но, очевидно, сознавала производимое ею впечатление. Она была предметом его желаний, и предметом самым неоднозначным из всех, с которыми А. Г. приходилось сталкиваться. Никогда, ни единого раза она не прыбегала перед Арне Гуннаром Ларсеном к уловкам своего пола, она словно нарочно выставляла себя перед ним прозаической домохозяйкой. И все же не могла не воздействовать на него. Хотя бы своим присутствием. Накрашенная молодая особа. И в будни одетая со всем тщанием.
Он сидел и мучился. В доме Илвы и Бьёрна. Оба ничего не подозревали, то есть не должны были ничего заподозрить. А. Г. ни единым жестом, ни единым намеком или взглядом не должен был выдать себя комунибудь из них, особенно Илве. Он не позволял себе даже украдкой, краешком глаза подсматривать за ней, когда она никак не могла этого заметить. Ведь на него мог обратить внимание Бьёрн. Или она сама могла поймать А. Г. на месте преступления, исподволь наблюдающим за ней. Он запретил себе подсматривать за ней. Запретил вообще глядеть на нее — кроме тех случаев, когда этого было не избежать.
А. Г. был гостем. Гостем желанным и частым, и Илва обращалась с ним соответственно. Как с другом
Бьёрна, своего мужа, его, можно сказать, поверенным, о чем она, конечно, знала. На глазах гостя разыгрывалась их повседневная жизнь, с некоторыми ограничениями, естественными в присутствии третьего лица. Если Илва проявляла какие–либо чувства, то лишь к нему, Бьёрну. Но не к А. Г. Если она кокетничала, то лишь с Бьёрном, ни одного взгляда в сторону А. Г., даже искоса. Несмотря на присутствие Ларсена, Илва рисовалась перед Бьёрном, словно по забывчивости или вынужденная обстоятельствами. Она изображала хозяйку. «Поставить кофе?» — спрашивала, например, Илва из–за журнала. Она подавала пиво и что–нибудь перекусить. Выбрасывала окурки. Уносила кофейные чашки. Ставила кружки. Говорила о разных разностях. И только. Ее, похоже, не задевали довольно частые вспышки Бьёрна, когда тот открыто показывал, кто в доме господин, — в таких случаях она, как упоминалось раньше, выказывала что–то вроде кокетливого смирения (вероятно, с долей протеста), но исключительно по отношению к Бьёрну, а не к А. Г. Возможно, своим смирением она хотела сгладить их размолвку в присутствии гостя; в общем, если А. Г. и влиял на поведение Илвы, то как гость, как посторонний, и ее кокетство (которое А. Г., между прочим, находил очень обаятельным) было рассчитано на Бьёрна и ни на кого больше. На долю А. Г. оставалось по–воровски выслеживать эти редкие (сладостные) мгновения, в которые находило выражение ее сокровенное, предназначенное не ему, то, что А. Г., по здравом размышлении, всегда суждено было лишь наблюдать со стороны, чем он безумно тяготился.
Но возбуждала она А. Г. не этими украденными мгновеньями, они скорее служили мучительным подтверждением невозможности, запретности его страсти. Влечение А. Г. возникло и с каждым днем все крепло оттого только, что она была рядом. От одного ее присутствия. Двусмысленный объект вожделения. Как многих сорокалетних мужчин, Арне Гуннара Ларсена притягивали молоденькие женщины. Но почему именно Илва? Неужели А. Г. не мог порезвиться на работе, в административном корпусе в Хаммерсборге? Неужели оя не мог удовлетворить свою тягу к Прекрасному полу, найдя себе симпатичную сотрудницу? Или придумав что–нибудь еще? Существует ведь масса способов, которыми преуспевающий сорокалетний бюрократ может утолить свою жажду жизни, получить подтверждение того, что юность по–прежнему готова отдаться ему со всеми потрохами, душой и телом. Но А. Г. это не устраивало. Ему требовалась Илва и никто другой.
Потому что она была. Сидела рядом. В ее поведении таилась некая загадка. Илва сидела нарядная, словно собралась куда–то бежать — на званый ужин, который никак не состоится. Подмазанная молодая женщина с шестилетним сыном. При юном виде Илвы ребенок казался не ее сыном, такой он был большой. Она сидела рядом. Накрашенная молоденькая женщина. Одетая как подросток, взаперти в собственной гостиной. С журналом, за которым скрывалось ее лицо. Вот она протягивает руку к блюду с чипсами (оно часто появлялось на журнальном столике у Юнсенов). Ее тонкое запястье. Илва ест жареный картофель, нимало не тронутая бурей чувств, которую это вызывает у сидящего напротив мужчины: она просто–напросто не подозревает о ней. О молодость, молодость! Обтянутый зад Илвы, когда она встает. Как непринужденно и вызывающе, притом со скукой на лице, одевается наша молодежь… А. Г. томился по Илвиному телу, упрятанному в тесные джинсы и так много сулившему из–под грубой материи. И тут же: целомудренный абрис Илвиной щеки, умело подчеркнутый гримом, румянами, свойственный бесконечно слабым, беззащитным, доверчивым созданиям, тем, что одеваются во все белое, сверху донизу — белые трусики, белые чулки, даже белый пояс и белый лифчик. Ностальгическое воспоминание о давно утраченном, целомудрие, написанное на щеке, такой нежной в своей беззащитности, и Илвина рука, протянувшаяся к блюду с жареной картошкой, пока Бьёрн крутит на экране свою горькую Правду.
Доведись Илве узнать о тех муках и том вожделении, которые охватывали А. Г. Ларсена всякий раз, когда она тянулась рукой к блюду с чипсами, или когда вставала, чтобы отнести сына в соседнюю комнату, или когда просто сидела на диване — неподвижно, безропотно, как истукан, и откровенно скучая, — она бы чрезвычайно удивилась. Хотя Илва явно уделяла много времени своей внешности: косметике, прическе и, конечно же, одежде, то есть была неравнодушна к впечатлению, которое производит на окружающих, хотела нравиться, она пришла бы в ужас, если 6 узнала, что тем самым вскружила голову сорокадвухлетнему другу семьи. А. Г. понимал это. почему он и увлекся ею. Илва была для него загадкой, тайной. Тайна заключалась в ее юной практичности. Находиться в одной комнате с этой таинственной особой, которая, не заигрывая, оставаясь самой собой, умудрялась в будничных заботах производить такое потрясающее впечатление и словно не замечать его, было невыносимо. Илва относилась к своей молодости беспечно. Была эффектна, но не задумывалась об этом. Она протягивала руку за чипсами не потому, что стремилась кого–то приворожить, а потому, что ей хотелось картошки — так подсказывали ее органы чувств. Она вставала и шла по комнате не затем, чтобы произвести впечатление на А. Г., но потому что у нее были какие–то домашние дела, надо было, скажем, поставить кофе. Ох, уж эта подмазанная девица! Время от времени она ощущала где–нибудь зуд, например за ухом. Тогда она поднимала руку и чесалась. И была в этом движении женщиной до мозга костей. Вот Илва чувствует, как у нее за ухом начинает чесаться, и, не трогая остального тела, поднимает руку, равнодушно, машинально поднимает узкую руку с красными ногтями и чешет у себя за ухом. Не подозревая о собственной чувственности, даже не думая о ней. Для Илвы это тривиальная потребность: раз у нее где–то зудит, она просто берет руку (с красными ногтями) и чешется там, где ощущает зуд, — за ухом. В этом вся женщина. В этом вся Илва, как она воспринимает саму себя. А. Г. же при виде такого загорается страстью с ее потаенными муками. Муками, которые усугубляются сознанием того, что Илва ничего не знает про них. Насколько он понял, Илва воспринимала собственное тело лишь в связи с его жизнедеятельностью. Все прочее было абстракцией, обычаем, социальными условностями, которым она следовала в одежде, но которым была не в состоянии следовать и в поведении, во всяком случае перед А. Г. Ей тело служило для дыхания, ходьбы, сидения, возни по хозяйству. Для нее с телом были связаны зуд, опорожнение мочевого пузыря и желудка, менструации, стертые ноги, ноющие мышцы и страх болезней. Такой она воспринимала себя как женщину. Самое обыкновенное тело, приспособленное для повседневных хлопот: мытья посуды и полов, готовки, стирки белья в машине и т. п., но вовсе не для того, чтобы вызывать страсть у мужчины, когда женщина своим хрупким, изящным корпусом склоняется над стиральной машиной. Такой Илва воспринимала самое себя: обыкновенное утомленное тело, в котором все прочее зачастую бывает только обузой. И тем не менее Илва красилась. Тем не менее она натягивала на себя тесную одежду, выпячивала все, что могло воспламенить мужчину. Да, она слышала о воздействии подобного на мужчин, но, честно говоря, не понимала его. Совсем не понимала. Ей хотелось быть «привлекательной девочкой». Быть привлекательной очень важно. И Илва старалась быть как можно привлекательнее, это оправдывало себя. Она старалась изо всех сил. Она была практична. Она просто сидела. Практичная особа, которая чешет себя за ухом. Практичная особа с туго обтянутым задом. Нрактичная особа с небольшими острыми грудями, бутоны которых угадывались под блузкой. Когда Илве хотелось, она ела с блюда чипсы.
Это было невыносимо. И все же А. Г. держался. Он терпел, зная, что долго продержаться невозможно. Не ждал ли А. Г. знака от Илвы? В таком случае он ждал напрасно: знаков она не подавала. Она просто сидела. И А. Г. сидел рядом, по–прежнему горя страстью. Не совершал ли он предательство по отношению к Бьёрну, своему другу? Зачем он продолжал искать его общества? Ради дружбы? Ради того, чтобы поддерживать и углублять возникшую между ними своеобразную доверительную связь? И ради дружбы тоже, говорил он себе. Да, именно ради дружбы, все остальное чистое безумие, с которым пора кончать. А. Г. предвкушал намеченную на начало февраля поездку в Стокгольм, на общескандинавскую конференцию по жилищному строительству, куда его пригласили с докладом. Он хоть на несколько дней вырвется отсюда, а там, глядишь, и насовсем вырвется из этого порочного круга, вернее, тайного треугольника.
Пришел день отъезда в Стокгольм. Накануне вечером он предупредил соседей:
— Меня несколько дней не будет. Уезжаю в Стокгольм. Делать доклад на крупной скандинавской конференции по жилищному ‘строительству.
Он заметил, как его потрясли собственные слова, точно он принял бесповоротное решение и теперь объявляет, что все кончено. Из–за некоторой приподнятости настроения А. Г. только позднее задумался над тем, как, наверно, смехотворно выглядел, позвонив в дверь, чтобы торжественно сообщить об отъезде, и не куданибудь, а в Стокгольм, надолго, он даже похвастался докладом на «крупной конференции».
Уже по пути в Стокгольм, в самолете, А. Г. словно вмиг исцелился. Он собрался с духом и решил вычеркнуть семейство Юнсенов из своей жизни. Так будет лучше для всех, пусть даже А. Г. станет скучать по Бьёрну и дружбе с ним. Иного выхода нет. Это оставалось ясным для А. Г. все три дня, проведенных в Стокгольме. Конференция называлась «Жилищные кооперативы к 2000 году», и одним из докладчиков на ней был норвежский проектировщик Арне Гуннар Ларсен. В своем докладе он, воспользовавшись случаем, нанес сокрушительный удар по идеалистам.
«Нам пора избавляться от предрассудков, — заявил А. Г.,потому что они отражают лишь наши собственные представления о том, как должен жить народ. Пора заняться выяснением вопроса, как он в действительности предпочитает жить. И тогда нам, возможно, придется вообще отказаться от старой концейции жилищного строительства. В ее основе, в частности, лежит мысль о том, что люди предпочитают жить в тесном контакте друг с другом, поэтому проект признается удачным, если в микрорайоне предусмотрены широкие возможности для общения за пределами квартир. В своих проектах мы исходили из идеи коллективного дома как оптимального варианта для массовой застройки, а когда такая идея не встретила достаточной поддержки, мы отнесли это за счет компромиссов, на которые нас толкают экономические и политические соображения. Признаем, что многие из нас с нежностью вспоминают сороковые и пятидесятые годы, «золотой век» коммунальной прачечной. Признаем, что многие из нас считали весьма плодотворной дальнейшую работу в этом направлении, чтобы после коммунальной прачечной появилась коммунальная кухня, а там и столовая для целого дома — такое решение казалось нам наилучшим, поскольку в нем учитывалась бы большая занятость современного человека и его потребность в общении. Когда же нам не удалось воплотить эту идею в сколько–нибудь крупном масштабе, мы свалили все на неготовность потенциальных жильцов: идея, дескать, оказалась слишком передовой и время еще докажет нашу правоту. По–моему, настала пора серьезно подумать и отказаться от этой затеи. Когда–то она, возможно, и имела право на существование, но только не сегодня. Надо отдать себе отчет в том, что сегодня развитие пошло совсем в другом направлении. События в экономической, социальной, технической и психологической областях вовсе не способствуют расширению контактов за пределами четырех стен собственной квартиры. Наоборот. Технический прогресс, который привел в дом телевизор и видеомагнитофон, а вскоре приведет и компьютер, превратил квартиру в наиболее привлекательное место жилого комплекса и значительно сократил потребность в традиционном социальном общении, от которой мы отталкивались и которая, по–видимому, имелась раньше. Если не сделать из этого выводов, мы, проектировщики и архитекторы, того гляди окажемся в состоянии прямой конфронтации с теми, для кого призваны строить жилища, Довольно воображать себя господами будущих квартиросъемщиков, пора стать их слугами. Напрашивается вопрос: а не возник ли уже давно конфликт между проектировщиками и теми, на кого мы работаем? Проектировщики всегда были уверены, что их замыслы совпадают с истинными устремлениями народа. Мы считали, что народ хочет жить в микрорайоне с разнообразными возможностями для совместной деятельности за пределами дома, поэтому мы придавали большое значение роскошным банкетным залам, помещениям для собраний, клубам по интересам, торговым центрам, спортивным залам и бассейнам, однако, если поинтересоваться, используются ли все эти площади и стал ли микрорайон живым организмом, каким мы его планировали, ответом будет категорическое «нет». Народ напрочь отверг наши предложения. Теперь надо извлекать уроки. Надо отказаться от прежних представлений о том, что такое массовое жилищное строительство. Люди хотят главного — места для жилья, квартиры, где можно проводить большую часть свободного времени, посвящая себя тем видам досуга, которые предпочитает каждый. Еще им нужен удобный подъезд на машине туда, где находятся прочие излюбленные ими развлечения. Большинство норвежцев предпочитает также жить в близком соседстве с природой. Насколько я понимаю, это означает, что нам, проектировщикам и архитекторам, следует учесть все эти пожелания. Следует обратить внимание на расположение жилого массива. Обратить внимание на планировку квартиры. Обратить вмимание на то, чтобы было легко подъехать к дому и уехать из него. Что касается дополнительных учреждений внутри микрорайона, внимания заслуживают исключительно те из них, которые имеют практическое значение, то есть бесспорно облегчают жизнь населению, а именно детские сады, супермаркеты, школы, бензоколонки с Торговыми точками, а также общественный транспорт. Вее прочее следует отмести, поскольку наши теперешние проекты отражают взгляды проектировщиков, а расплачиваться за них вынуждено в конечном счете население, хотя, во–первых, оно может быть не согласно с ними, а во–вторых, они бьют по карману потребителя.
Другими словами, если нам Удастся избавиться от наших старых — закоренелых — предрассудков о том, какой должна быть массовая застройка, это разрешит изначальный конфликт между взглядами проектировщиков и потребностями населения, а кроме того, поможет строить квартиры более удобные и гораздо более дешевые. Народ получит жилье, болыше его удовлетворяющее, а платить за него станет менышпе, чем сегодня».
Конференция продолжалась три дня, которые прошли для А. Г. с большой пользой. В частности потому, что выраженные им взгляды породили горячие споры, как в прениях, так и во время неофициальных бесед между участниками конференции. Нет необходимости скрывать, что А. Г. Ларсен многих ошеломил (как говорили в кулуарах, «шокировал») и в его адрес было высказано множество критических — по мнению А. Г., излишне эмоциональных — замечаний. Один ОБОСовский директор даже посчитал нужным выйти на трибуну и сообщить, что начальник отдела планирования поделился с коллегами не политикой ОБОСа, но дискуссионными идеями, которыми он хотел положить начало столь важной сейчас полемике. Несмотря на суровую критику, А. Г. торжествовал. Он нащупал больное место и знал, что кое–кто из участников конференции усмотрел в его докладе не только осуждение, но и подсказанный путь к свободе. Вот почему А. Г. Ларсен в таком прекрасном настроении ехал с ОБОСовским директором Коллбергом в Арланду, чтобы там сесть на самолет до Осло.
А дальше? В самолете ему стало ясно, что выполнить бесповоротное решение, принятое им по пути в восточном направлении, то есть из Осло в Стокгольм, будет непросто, и ощущение это не только не отпустило А. Г., когда он на стоянке в Форнебу пересел в свой серебристо–серый «сааб», но продолжало нарастать по мере приближения к Румсосу. Он поставил машину в Гараж, добрел до своего дома, отпер дверь в квартиру. Как тут было пусто! Уединенно! Он сходил в Супермаркет, купил продуктов, сварганил обед. Нрисел отдохнуть, взяв хорошую книжку и поставив такую же пластинку. Ближе к вечеру А. Г. надумал как следует побегать, что и исполнил в привычном размеренном темпе. Потом принял душ и снова погрузился в книгу под включенный проигрыватель. Он не находил себе места от одиночества. Попытавшись еще раз проанализировать ситуацию, он пришел к тому же здравому выводу, который сделал тремя днями раньше. А. Г. побрел в ванную, посмотрелся в зеркало. Увидел себя со стороны: осунувшееся лицо, с широким лбом и зачатками лысины. Ему захотелось надеть свитер с высоким воротом. Он опять сел за книгу, в пиджаке и свитере. Не далее как вчера А. Г. был неортодоксальным архитектором и проектировщиком, способным всколыхнуть строительную общественность Скандинавии, а сегодня стал всего лишь робким мужчиной, которого тянет через площадку, к определенной двери. Случилось так, как должно было случиться. Он послушался голоса своего сердца, и оно привело его через площадку, к двери с табличкой «Юнсен», куда он, по обыкновению, и позвонил.
Открыла ему Илва… и застыла в замешательстве, отметил А. Г. про себя, и сердце его подступило к горлу (да–да, именно к горлу, очень верно сказано).
— У нас гости, — проговорила она по–прежнему в нерептительности. Мой брат с женой. Но ты проходи, проходи, — спохватилась она, увидев, что в нерешительности уже он.
— Нет, мне не хочется мешать, — отвечал А. Г.
— Ты не помешаешь, — сказала Илва. — Не глупи, Ларсен, проходи.
Но Ларсен отнекивался: он не хотел бы вторгаться. Илва улыбнулась на это слово — «вторгаться».
— Входи же, а то я тебя силком втащу, — пригрозила она.
И А. Г. дал себя уговорить. Он вошел в переднюю, где Илва вдруг обронила:
— Странный ты человек, Ларсен.
Он с удивлением — и некоторой грустью — взглянул на нее. Показалось ему или нет, будто в ее голосе прозвучал подлинный интерес? Этого он не знал. Но он понимал, что в его положении можно любую мелочь истолковать превратно.
Он прошел в гостиную.
— А, наш босс пожаловал, — радушно приветствовал его Бьёрн. Это Ларсен, продолжал он, — директор из ОБОСа. — Бьёрн произнес слово «директор» с ударением, принятым у образованных норвежцев, а не у простого народа. Гости с любопытством посмотрели на А. Г. У Юнсенов сидели Джим, Илвин брат, и Лайла, его жена. Джима представили как водителя погрузчика на складе импортных товаров, каком именно, осталось неизвестным. Лайла работала в нарвесеновском киоске[28] на Восточном вокзале.
— Говоришь, директор? Из ОБОСа? — переспросил Джим.
— Я не самый главный директор, — уточнил А. Г. — Заведую отделом планирования.
— Как ты понимаешь, Лайла, — вставил Бьёрн, — нас почтила своим присутствием Важная птица. Он ухмыльнулся, скорее всего добродушно.
— Очень хорошо, — холодно заметил Джим. У меня как раз накопилось несколько вопросов к такому человеку.
— Пожалуйста, — отозвался А. Г. .
А спросить Джим хотел вот что: имеет ли Ларсен понятие о том, до чего стало сложно сводить концы с концами? За квартиру надо платить столько, что, того гляди, по миру пойдешь. И не об одних безработных речь — даже люди, имеющие вполне приличную работу, и они вынуждены обращаться в Контору социальной помощи за пособием на квартиру. Знает ли об этом Ларсен?
Еще бы Ларсен не знал! Что–что, а это он знал прекрасно. Впрочем, он знал и кое–что другое, в чем не собирался открываться Илвиному брату: братец Джим спас его. Услышав, как его, то ли добродушно, то ли нет, отрекомендовал Бьёрн, А. Г. приготовился к тягостному сидению вокруг стола в Юнсеновой гостиной, где его, при пиджаке и уютном свитере, выставляют напоказ в виде некоей диковинки: ОБОСовский директор и важная птица, заглянувшая со смехотворным визитом в простой рабочий дом (насколько смехотворен этот визит, Ларсен тоже отлично понимал, в отличие от Джима и К°, куда входили и Юнсен с молодой женой, — им он, конечно, кажется смешным, но знали бы они истинное положение вещей, которое мучительно ясно осознавал А. Г., вступая в гостиную в качестве директора и привлекая к себе всеобщее внимание; вы и не подозреваете, насколько я смешон, вы понятия не имеете, на какие унизительные поступки, в том числе перед самим собой, толкает меня Голос сердца).
— Я забежал просто по–соседски, сказал А. Г., усаживаясь на диван рядом с Джимом и Лайлой и отчаянно пытаясь сгладить неловкость своего посещения — перед тем как Джим начал нападать на него из–за высокой платы за жилье. Но теперь А. Г. спасен. Теперь он отобьется. Да, он был начальником, но он еще состоял в рабочей партии и мог все объяснить. Он прекрасно знал, что каждая пятая семья в Румсосе обращалась за социальной помощью: заведующий конторой был его приятелем и соратником по партии, так что А. Г. был хорошо осведомлен. Он знал, что работающий по найму получал в среднем около пяти тысяч крон в месяц и что расходы семьи, включая плату за квартиру, налоги и вычеты из жалованья, составляли около семи тысяч крон, то есть в каждой семье, живущей на одну зарплату, не хватало двух тысяя в месяц. Но его ли в том вина? — вопрошал А. Г. Ларсен. Рабочая партия в свое время пыталась противостоять такому развитию событий. Но сейчас у власти в стране партия правых, Хёйре, и в столичном муниципалитете, увы, заправляют они же. Так что это горькое лекарство прописано вам Хёйре. Правые свели на нет «Хусбанкен», Жилищный банк. Он задумывался как банк, в котором простые люди могли бы на льготных условиях получать кредит на покупку дома или квартиры. Теперь же он превратился в самый обычный банк, пожалуй, даже хуже многих коммерческих. Знаете ли вы, что выгодно погасить кредит в «Хусбанкен», взяв ссуду в обычном банке? А ведь так оно и есть. Мы У себя в рабочей партии все подсчитали. В отдельных кооперативах это позволило бы снизить ежемесячный взнос на пятьсот крон. Невероятно, но факт. Так что со своими претензиями пожалуйте в другое место.
А. Г. был спасен. Он выступал от имени рабочей партии. Само собой разумеется, он состоит в их партии. Какой А. Г. Ларсену интерес с того, что народ обирают до нитки за право жить в микрорайоне, который он сам когда–то проектировал? Нет, братец Джим не по адресу со своими претеизиями. Вовсе не по адресу. И Джим признал его правоту. Сколько же осталось быть у власти Хёйре? — спросил он. Два года? Слишком долго, сделал вывод Джим и стал расписывать, до чего они уже докатились. Подумать только, приходится обращаться за социальной помощью. Притом тем, кто имеет нормальную работу. Как можно подвергать такому позору людей, совершенно очевидно приносящих наибольшую пользу? Нет, парировал А. Г., так это воспринимать нельзя. Если положение безысх одное, нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться в Контору социальной помощи. Это ваше право.
И А. Г. принялся излагать свое политическое кредо. Он гордится норвежским Обществом благоденствия. Которое создано рабочим движением. Это лучшая в мире система гарантий, основанная на солидарности. Это ваша система. Плод ваших трудов. Ваша порука. И ваша защита. Но и ваше законное право. Так что пользоваться пособием вовсе не унизительно. Только справедливо. И, коли так сложились обстоятельства, нечего стесняться. Не надо стоять с протянутой рукой, но надо указать обществу, что оно совершило ошибку, за которую ты требуешь компенсации. Если взрослый, обеспеченный работой человек не в состоянии справиться со своими материальными обязательствами, он не только вправе, но обязан пойти в Контору социальной помощи, и указать на это, и получить возмещение за ущерб. Виноват тут не он, а общество. Пусть власть имущие стыдятся, когда взрослый работающий человек не может свести концы с концами: сам он и так страдает достаточно.
Это была дерзкая, крамольная речь, и присутствующие вытаращились на А. Г., с трудом веря собственным ушам. Они сидели вокруг журнального столика. А. Г. даже взмок от напряжения. Посредине стояли кофейные чашки, блюдо с чипсами. Илва обошла всех, разливая кофе. Работал телевизор с прикрученным звуком. Общенациональная программа сменялась первой, первая — второи и спова национальной, в зависимости от того, чему отдавал иредиочтение Бьёри, нервно переключавший каналы Дистанционным управлением, А. Г. вошел в раж, он высказывал мысли пастолько крамольные, что присутствующие не успевали следить за ними, не улавливали, к чему клонит этот человек в пиджаке и вышедшем из моды свитере с высоким воротом, Труднее других это давалось Илве, тем не менее она–то и преподнесла А. Г. сюрприз, перебив его и выдвинув чудовищные возражения, которые задели А. Г. Ларсена за живое.
Илва заговорила о том, в чем разбиралась она, но не он. О том, что унизительно, а что нет. Она хочет объяснить ему про Позор. Идти в контору за социальной помощью — это Позор. Ларсену, вероятно, невдомек, как обстоят дела. Но она знает: это Позор. (Илва говорила о Позоре. Илва, Илва! Она, не стесняясь, обсуждала с ним Позор. Впервые, впервые.) И, обращаясь к нему, смотрела прямо на него. Ни на кого больше.
— Про такое позорище и людям–то боишься признаться, а если кто узнает, готов сквозь землю провалиться. Мужчине и вовсе остается сгореть со стыда, потому что виноват тут он. Знаешь, что я думаю о таком мужике?
А. Г. молчал. Даже головой не мотнул в ответ на обращенный к нему вопрос, настолько он был ошарашен («Господи боже мой! — подумал он. Она же дура! Вот влип так влип!»). Но Илва сама прозрачно намекнула, что она думает о таком мужчине. Она вытянула вперед болыпой палец, повернула его книзу и, скорчив гримасу, выдавила из себя:
— Фи–и–и!
И, не удовлетворившись этим, продолжала:
— Такого мужика и мужиком–то не назовешь. Тот, кто не в состоянии прокормить семью, не мужик. Его можно называть чем угодно, только не мужиком. Хочешь — тряпкой, хочешь — дерьмом, хочешь — кобелем или даже сукой (она засмеялась). Но только не мужиком (она снова засмеялась, и ее смех перешел в деланное, и потому звучавшее издевательски, хихиканье).
Разглагольствуя, Илва не сводила глаз с А. Г. Она смотрела прямо на него и позже — когда хохотала, когда заканчивала свою речь (первую перед ним) издевательским хихиканьем. Накрашенная девица. Вся из себя практичная, с обтянутым задом. Странныи человек Ларсен не знал, как реагировать, растерялся и Илвин братец Джим, по–видимому, удрученный высказываниями сестры; на высоте оказался один Бьёрн. В продолжение Илвиной тирады он сидел с Пультом управления в руках и нажимал клавиши, переключая с канала на канал, пока его, очевидно, не устроила вторая программа, где шел немой концерт рок–группы — искрящееся световыми эффектами музыкальное представление, которое сопровождалось дикими телодвижениями, но было безмолвно как могила. Отвернувшись от подмостков, Бъёрн коротко и безапелляционно проронил:
— Заткнись, Илва. Не приставай к Ларсену. Он твоего мнения не спрашивал. (После чего Бьёрн включил звук, и каскады света и дикие телодвижения обрели голос: в комнату выплеснулся грохот музыки.)
«Что дальше?» — думал А. Г., сидя поздно ночью у себя дома. В разгоряченном мозгу крутились мысли, перебирались варианты. Разберись, пойми! Во время своей тирады Илва смотрела прямо на него, но слова ее предназначались отнюдь не`ему. Верно? И верно ли, что она и раньше поступала так же? Смотрела на одного, а обращалась к другому? В таком случае чего только она не пыталась рассказать ему! А он пропустил все мимо ушей! Стоп–стоп–стоп, никаких измышлений, странный человек. Она обращалась к нему. Стоп–стоп–стоп. Ясно было одно: она невыносимо глупа. И сам он исходит страстью, причем страстью недозволенной. Ее наглое тупоумие. Ограниченность. Она даже не представляет себе собственной тупости. Такие люди хуже всего. Сердце разрывается смотреть на них. Однако не бунт ли это против Бьёрна Юнсена? И что он может значить? Но к чему тогда смех? И это хихиканье, неестественное хихиканье, в которое она ударилась, — оно было подобно плевку. У А. Г. до сих пор мурашки по телу. В общем, ясно одно: так больше продолжаться не может.
И тем не менее все продолжалось. На следующий же вечер в дверь Ларсену позвонил Бьёрн с камерой в руках. :
— Смотри, — сказал он. Видишь, что это такое?
— Да, кинокамера.
— Именно, и не какая–нибудь, а потрясающая. Новая и самая современная. Полностью автоматическая. Последняя модель.
— Замечательно!
— Я подумал, может, ты на нее соблазнишься? Отдаю за полторы тысячи. Полцены. Что скажешь?
— Здорово, — отозвался А. Г. Очень дешево. И, говоришь, совсем новая?
— Да. Берешь?
Бьёрн протянул руку А. Г. Тот пожал ее: «Сговорились».
— Ну, тебе повезло, — продолжал Бьёрн. Задарма отдаю.
— Задарма? Ха–ха–ха! Точно.
Здесь вели большую игру. А. Г. позволил втянуть себя в компанию, где играли по крупной. И сделал это с открытыми глазами. Он оказался опутан роковыми отношениями, на чужих условиях. На Бьёрновых условиях. Провалится Бьёрн, провалится и Ларсен. Причем для Ларсена провал будет серьезный, окончательный. Если Бьёрн попадется, Юнсенов постигнет тяжкий удар. Ларсену же это грозит катастрофой. Попадется Бьёрн, и на А. Г. можно ставить крест. Из–за несчастной камеры, которой он не просил. Да, он погряз, окончательно и бесповоротно, он повязан. Зачем Бъёрн сотворил с ним такое? Не замешана ли тут Илва? Конечно, замешана, все ведь делается ради нее, и А. Г. это прекрасно знает. Но сам ли Бьёрн додумался прийти? Неужели А. Г.«Золотая рыбка»? Бьёрнова «3олотая рыбка», его крупный выигрыш? Или Юнсены в сговоре, двое против одного? И А. Г. — их общая «Золотая рыбка»? Может, оставшись наедине, они и зовут соседа «Золотой рыбкой»? У него еще не прошли мурашки от вчерашнего хихиканья Илвы. «Подкатись–ка ты к «Золотой рыбке»!» Неужели тут замешана Илва? Или Бьёрн сам придумал обратиться к нему, поскольку не видел иного выхода? Как бы то ни было, идет крупная игра. Бьёрн (вместе с Илвой?) использует его в своих интересах, и это может дорого обойтись А. Г. Может означать его падение. Если возьмут Бьёрна, полетит и А. Г. Глубоко. Окончательно. Бесповоротно. Ему будет крышка. Из–за того, что связался с ними. Тем не менее А. Г. пошел на это. Хотя решил подстраховать себя. Расплатиться наличными. Бьёрн намекнул, что Ларсен может выписать чек (у него, мол, вряд ли найдутся дома полторы тысячи), но А. Г. настоял, что расплатится завтра, наличными.
А ведь ему ничего не стоило отказаться. Объяснил бы Бьёрну свое положение, втолковал, что риск слишком велик. Мог бы в виде компенсации предложить Бьёрну ту же сумму взаймы, глядишь, не обеднел бы. А он согласился на сделку. Ударил с Бьёрном по. рукам. Совершенно сознательне. Но А. Г. Ларсен не мог поступить иначе. По каким–то, ему самому неясным, признакам он понял, что таковы правила игры. Take it or leave it[29]. Отказавшись ударить по рукам с Бьёрном, он бы выдал себя.
Назавтра А. Г., приняв меры предосторожности, передал Бьёрну пятнадцать стокроновых бумажек. Одновременно они договорились о воскресной прогулке. Бьёрн предложил съездить в район Холместранна, половить рыбу на льду залива: прошлой зимой он уже возил своих — замечательная поездка для выходного дня.
Поехали в серебристо–сером «саабе» А. Г.
— Не хочешь повести машину, Бьёрн? — внезапно спросил в гараже А. Г., когда вставлял ключ в дверцу. Что ж, Бьёрн ничего не имел против. А. Г. отпер дверцу, и Бьёрн забрался на водительское место. А. Г. сел рядом, на переднем сиденье, а Илва с сыном разместились сзади. И они покатили. Бьёрн Юнсен за рулем серебристо–серого «сааба». Из Румсоса — на Тронхеймсвейен, у развилки Синсеткрюссет на Кольцевую и по ней до Люсакера, где они выехали на Е-18. А там в два ряда до самого Драммена. И дальше дорога тоже вполне приличная. Машину вел Бьёрн. А. Г. сидел рядом и крутил кассеты, которые Бьёрн захватил с собой. В небольшом пространстве, ограниченном ветровыми стеклами и дверцами, гулко отдавались стереофонические звуки диско, под которые машина как на крыльях летела по шоссе, оставляя позади неподвижный пейзаж. Бьёрн с упоением отдавался езде. Он мягко и нежно поджал педаль, и «сааб» мгновенно разогнался до ста тридцати. Сказка. Бьёрн молодой, у него впереди целая жизнь. Дорога уже освободилась от снега, но на полях вокруг он еще лежал, холодный и белый. Леса. Дома и амбары. Бензоколонки. Равнины полей. Все белым–бело. Небо затянуто мрачными тучами, однако свет зимнего дня настолько ярок, что режет глаза, приходится опустить козырек от солнца на лобовом стекле. Сидя рядом с водителем, А. Г., хозяин машины (странвый человек), крутил диско. Илва с сыном на заднем сиденье. Илва подпевала. А подпевая, могла, если ей того хотелось, разглядывать макушку Арне Гуннара Ларсена, на которой вместо буйной поросли юношеских лет маячила удручающая плешь. Хотелось ли Илве разглядывать ее? Малыш сидел притихший, по–видимому, испытывая благоговейный трепет перед выпавшим ему приключением. Новый «сааб». Папа ведет новый «сааб». Бьёрн мягко управлял машиной, и она послушно скользила вперед. Грохот дискомузыки. Яркий свет с небес. Огромная скорость и радость для всех.
После Санне Е-18 идет до Холместранна вдоль фьорда. На этом отрезке шоссе Бьёри затормозил и поставил машину на примыкавшую к дороге стоянку. Они прихватили вее необходимое для подледного лова и вышли на лед залива. Посреди фьорда виднелось разводье, тнирокое разводье для прохода судов. Вырубили во льду две полыньм. В одной ловил на блесну Бьёрн с сыном, в другой — А. РГ.; Илва же отправилась к разводью, погулять на просторе. В заливе собралось человек сто, а может, и все двести. Кто–то рыбачил, кто–то гулял по льду или катался на финских санях. Отсюда было рукой подать до Холместранна. На той стороне шоссе круто вздымались скалы, по обыкновению темные и влажные. Изгибаясь, уходила вдаль береговая линия. Поблизости стояли на приколе три супертанкера. Высились громады их металлических корпусов. С Е-18 доносился гул от неослабевающего потока машин. Вдоль залива протянулась и железная дорога. По ту сторону фьорда, за разводьем, дымили на суше трубы бумажного комбината в Санне. Толстый лед.
Множество народу. И Илва вдалеке. А. Г. ловил рыбу в провале полыньи. Малыш, уменьшенная копия Бьёрна, льнул к отцу, повторяя все его движения. Ловили на блесну. Впрочем, безуснешно. Мимо красиво прошел по своей колее поезд, лишний раз демонстрируя удивительное действие центробежной силы. Внизу зияла вода. Темная. Зыбкая. Пахнущая гнилью. Они стояли с леской в руках, поджидая рыбу; полынья обдавала их холодом. Минуты текли за минутами. Илва вдали. Бьёрн и Малыш проявляли завидное терпение, но А. Г. уже начал тяготиться довлей. Хоть бы одна завалящая рыбешка. А. Г. достал новую камеру. Принялся снимать. Снял отца е сыном перед прорубью. Газеты вокруг, походный стульчик, на котором сидел Бьёри. Лед. Снял громады танкеров. Утесы, темные и влажные, круто спускавшиеся к Е-18. Лед. Людей на льду. Машины на шоссе — стараясь поймать в кадр и свой «сааб», припаркованный в отдалении. Снял небо с бегущими облаками, а у самого горизонта — дым из фабричных труб на бумажном комбинате в Санне. Еще А. Г. снимал Илву. Вон она как далеко. Добралась до открытой воды, а теперь идет обратно. Илва уверена, что ее не видно. Но у него в руках чудокамера. Которая берет крупный план даже на большом расстоянии. А. Г. снимает Илву. Она идет по льду в его сторону. Легкой, небрежной походкой, в высоких сапожках, узких брюках и дутой куртке, купленной в магазине «Хеннес и Мауриц». А. Г. ловит ее на ходу. Илва в движении. Вот какой кадр он поймал. Вот что ему удалось схватить. То, от чего у мужчин занимается дух. То, от чего мы влюбляемся. Влюблен, по уши влюблен. Ее лицо. Крупным планом. Она уверена, что ее не видно. А. Г. снимает ее. Но вот он прекращает съемку, опускает камеру, искоса смотрит на Бьёрна. Бьёрн поглощен рыбной ловлей. Видел ли он, как А. Г. снимал Илву? Плевать я на него хотел. Сам же всучил мне эту камеру. Плевать. Да, Бьёрн Юнсен, я снимаю твою молодую жену, улучив момент, когда она не подозревает об этом. Твою молодую жену с ее тайной. Илву, которая направляется обратно.
— Смотри, мама идет, говорит А. Г. Малышу и тычет пальцем в маячащую вдали Илву.
— Беги встречать, — велит Бьёрн. Малыш срывается с места и несется к маме, которая еще не видит его. Бьёрн по–прежнему пытается что–нибудь поймать. А. Г. тоже. Хоть бы какая завалящая рыбешка…
— Толстый лед, — сказал Бьёрн, наподдавая его ногой. Но сам Бьёрн сейчас, как он выразился, ступал по тонкому льду. На работе у меня, Ларсен, черт–те что творится. — И пока Малыш бежал навстречу Илве, а опа еще не видела его, и потом, когда уже заметила, и схватила на бегу в свои объятия, и они вместе пошли назад, к проделанным во льду прорубям, Бьёрн поведал А. Г. грустную историю человека, который в нежную пору юности был подающим надежды хоккеистом и которого спортклуб пристроил на работу в «Клесман», продавцом. Приличная работа, с приличным окладом и приличными условиями, откуда свободно, по первому требованию, отпускали на тренировки и соревнования. Бзяли его туда с расчетом, что многообещающий игрок окупит себя, когда начнет привлекать в магазин покупателей. «Эту рубашку я купил в «Клесмане» на Стургата. И знаешь у кого? У самого Бьёрва Юнсена, защитника «Манглеруд–Стар». А тут травма. Которая так и не зажила. Его хоккейная карьера была кончена. Но работу Бьёрн сохранил. Два года он надеялся залечить травму, однако из этого ничего не вышло. В «Клеемане» тоже надеялись. Потом надежда лопнула. А Бьёрн Юнсен остался. Продавец «Клесмана». Молодожен, новоиспеченный отец. Через некоторое время его забыли как хоккеиста. Теперь ни один из клесмановских покупателей не знает его. А продавец он совсем неплохой. Можно даже сказать, хороший. Но сегодня это не имеет значения. Сегодня не из–за чего стараться. Хорошо ли ты работаешь, плохо ли, товаров продается одинаково. Они ведь все сложены пачками, выбирай — не хочу. Как бы ты ни лез из кожи, намного больше не продашь. В том–то и была загвоздка. И в «Клесмане» это смекнули. Зачем держать солидного семейного человека, которому приходится платить довольно много, если можно взять на его место молоденьких девочек, сразу после школы, и платить куда меньше? Ларсен понимает, как обстоят дела? Ну и отлично, тогда Бьёрн не будет вдаваться в подробности. Поставить его во главе отдела они не хотят. Кто их знает почему — им кажется, он не потянет. И он оказался на работе лишним. Ему дали понять, что он не стоит своего оклада. Заведующий пытается выжить его. Никакого уважения к тому, что Бьёрн в магазине самый опытный. Работу, которой положено заниматься ему как старшему продавцу, поручают первой попавшейся девице, только вчера со школьной скамьи. А ему подсовывают дела, вовсе не рассчитанные на старших продавцов. Этот заведующий — форменная свинья. Негодяй, каких мало. Клесмановский вариант аятоллы Хомейни. Аятолла Пратт.
— Не могу я больше терпеть, Ларсен. Надо увольняться. Не могу день за днем сносить издевательства, И все проглатывать. Я должен дать сдачи. Пусть Пратт получит по заслугам. В присутствии всех. А потом можно и уходить. С поднятой головой. Так я и сделаю, Ларсен. Вот увидишь, сделаю!
Это сбивчивое признание встревожило А. Г. Он начал увещевать Бьёрна, просил не терять рассудок.
— Ради бога, не поддавайся на провокацию. Если ты взыграешь, ты погиб. От тебя только того и ждут. Они же будут довольны. Ну, дашь ты Пратту пару оплеух или лягнешь в пах в присутствии всех, он же про себя порадуется. Потому что спихнет тебя с рук. Зато ты останешься без работы. В наше–то время, Бьёрн. Нельзя, ни в коем случае нельзя. Потерпи. Что бы они ни творили, ты должен терпеть. Должен держаться. Это ведь не может продолжаться до бесконечности. Со временем в магазине поймут, что тебя не выжить, и тогда им каюк. Тогда все станет на свои места. Запомни: тебя не могут вышвырнуть без каких–либо оснований.
— Но можно устроить реорганизацию. Пратт уже говорил об этом… А у вас в ОБОСе не нашлось бы для меня работы? — спросил Бьёрн. — 'Я бы взялся за что угодно.
— Бьёрн, — самым своим задушевным голосом произнес А. Г. — Я бы с удовольствием устроил тебя на работу, но не могу. Никак не могу. Если ты потеряешь самообладание, на меня не рассчитывай. Пожалуйста, пойми! (Но я буду иметь Бьёрна в виду, обещал он себе. Наведу справки и буду иметь его в виду, только сейчас лучше парня не обнадеживать. Впрочем, А. Г. огорчило то, что Бьёрн слишком уж полагается на него.)
Подошли Илва с Малышом. Илва пожаловалась на мороз, у нее закоченели ноги. Ничего удивительного, коль скоро она поехала на подледный лов в легких сапожках, едва ли предназначенных для этой цели. Решили возвращаться. Но прежде А. Г. запечатлел семейство Юнсенов на рыбалке. Вот Бьёрн с Малышом ловят рыбу в проруби, а Илва смотрит на них. Вот Бьёрн вытаскивает леску — без ничего, а Илва каждый раз восклицает: «О!», как будто на крючке громадная рыбина. Вот Бьёрн обнял Илву, Малыш прижался к ним обоим, и А. Г. включил камеру. Бьёрн прошептал что–то на ухо Илве, и Илва улыбнулась в камеру, которую А. Г. держал наготове и как раз в эту: секунду включил, и Илвина улыбка на камеру, после слов Бьёрна, почти убедила А. Г., что они в сговоре. Семейство Юнсенов на воскресной прогулке смиренно позировало человеку, которого они называли «Золотой рыбой», поенольку он вошел в их жизнь вроде крупного выигрыша по облигации. Они стояли вплотную друг к другу, как бы образуя единый фронт против А. Г., или Арне Гуннара, или, если угодно, Ларсена. Заговор, сговор, думал А. Г.; конечно же, Бьёрн и Илва заодно!
Они доехали до Холместранна, покружили по нему, заглянули не только на главную улицу, но и в переулочки, и в предместье с особняками, то есть побывали там, куда редко попадает кто–нибудь, кроме местных жителей, и под конец вскарабкались на гору, с которой открывался вид на залив. Ближе к вечеру они тронулись в обратный путь. Машину и теперь вел Бьёрн. «Ты ведь хочешь сесть за руль?» — спросил А. Г., и Бьёри занял место на переднем сиденье. А. Г. уселся рядом и начал, как утром, крутить кассеты. Илва с Малышом на заднем сиденье. В Санне они остановились у придорожного кафе, чтобы пообедать.
Найдя, куда поставить машину, Бьёрн запер «сааб», и они направились к кафе: Бьёрн, Илва, Малыш и Ларсен. Народу в придорожной харчевне было битком! Их встретили гомон, чад, звон тарелок и пар, подымавшийся от сырой одежды. Перед стойкой выстроились люди с подносами, заполненными едой, очередь потихоньку двигалась к кассе. Бегали взад–вперед дети, лаяли собаки, ходили уборщицы с огромными подносами, на которые они собирали объедки, торопились в туалет женщины со своими сумочками, пахло свиными отбивными и кислой канустой. Поискав, нашли свободный столик. Расселись.
— Сегодня `угощаем мы, тут же заявил нам Бьёрн.
— Да–да, радостно подхватила Илва. А. Г. показалось, что их лица светятся самодовольством. Ах, они хотят угостить его? Изображают, значит, что могут себе это позволить? Так сказать, услуга за услугу? Самонадеянные кретины. Лицемеры. Безумцы. Снимите свои маски, противно смотреть.
— Плачу я, — коротко бросил А. Г.
— Но теперь наша очередь, — запротестовал Бьёрн, сохраняя на лице то же самодовольное выражение, что у фру Илвы.
— Нет, отрезал А. Г.,сегодня плачу я. Кажется, ясно сказано: плачу я. И точка! — Он произнес эти слова довольно тихо, но внушительно. Настолько внушительно, что Бьёрн и Илва дрогнули. Они присмирели и больше не пытались возражать. — Что будем есть? — несколько успокоившись, спросил А. Г. Три свиные отбивные и детский стол, устраивает?
Да–да, замечательно. Супруги выглядели смущенными. Никакого самодовольства на лицах, никакой фальши. А. Г. встал и пошел занимать очередь.
Очередь понемногу продвигалась вперед. Все чинно стояли, подталкивая перед собой подносы. А. Г. смотрел на сидящее за столом семейство Юнсенов. О чем они разговаривают? Любопытно было бы узнать. Он подошел к раздаче. Получил еду (пришлось взять второй поднос) и вместе с очередью стал двигаться к кассе. Когда он уже расплачивался, подскочила Илва. Вызвалась помочь.
— Извини, Илва, я погорячился, — как можно проникновеннее сказал А. Г.
— Не надо ничего объяснять, Ларсен. Я все равно тебя не понимаю, — ответила она, взяла один из подносов и понесла на другой конец зала, к их столику. А. Г. последовал за ней. Илва впереди, он сзади. Каждый со своим подносом. В эту минуту их вполне можно было принять за пару влюбленных на воскресной прогулке. Сорокалетний мужчина с симпатичной молоденькой подружкой. Но вот все собрались за столом. Бьёрн и Илва Юнсены, Малыш… и А. Г. Ларсен. «Золотая рыбка».
Когда они вышли и направились к машине, уже стемнело. В двух шагах от них проползала колонна автомобилей, фары за фарами, фары за фарами.
— Теперь, пожалуй, я поведу сам, — сказал А. Г.
Как знаешь, пожал плечами Бьёри и, порывшись в карманах, протянул ему ключи. А. Г. заметил на лице Илвы усмешку, или вернее выразиться иначе: Илва замкнулась в себе, ничем не выдавая своих мыслей, и А. Г. мог истолковать это лишь как язвительность с ее стороны. Они сели в машину. А. Г. за руль, Бьёрн рядом, с неизменными кассетами, Малыш и Илва на заднее сиденье. А. Г. вел. Он спокойно, без спешки, выискал место в колонне и придерживался его. Бьёрн силел сбоку от А. Г. Вее молчали. Слышался только грохот диско. И вдруг Малыш разревелся. Он плакал не переставая. Плакал перед Драмменом, плакал на мосту через Драмменсэльв и в самом Драммене, плакал у шлагбаума в Лиере и в Лиерском тоннеле. День, можно сказать, позади, воскресная прогулка завершается, приключениям — конец, и Малыш плачет.
А. Г. больше не в состоянии слышать ни сам плач, ни нервозные попытки Илвы успокоить ребенка, ни раздраженные призывы Бьёрна заткнуться. Он останавливает машину у бензоколонки, заходит внутрь и покупает шоколадку.
— Ну–ка, что у меня в руке? — спрашивает А. Г., протягивая шоколадку мальчику. Смотрите, помогло! Ларсен спасает положение. Он щелкает пальцами, появляется шоколадка, и Малыш перестает плакать. Уметь надо!
Назавтра был понедельник, и А. Г. с утра пораньше уехал на работу. В десять часов он отправился с инспекцией в Грюнерлёкка: на месте этого обветшавшего квартала у реки Акерсэльва предполагалось возвести по ОБОСовскому проекту современный жилой комплекс. Побродив по нему вместе с будущим подрядчиком и представителем «Хусбанкен», А. Г. сделал коекакие прикидки и подсчеты, которые в целом подтвердили перспективность квартала. Потом А. Г. вернулся в контору, но лишь затем, чтобы сообщить, что у него деловая встреча и до конца дня его не будет, после чего он поехал в Румсос. А. Г. задумал это во время инспекционной поездки. Ему требовалась ясность.
Итак, он поставил машину в Гараж и знакомой дорогой направился к дому. Было около двенадцати. Он вошел в подъезд, поднялся по лестнице и решительно нажал звонок у соседей. То есть у Юнсенов. Дверь открыла Илва. А. Г. поспешил объясниться.
— Я был рядом, с инспекцией, сказал он. И подумал, почему бы не забежать. Страшно захотелось кофе. Угостипть?
Илва пригласила его войти. Он поймал на ее лице улыбку, которую она мгновенно спрятала. Илва, значит, язвительно улыбается? И деланно прячет усмешку, чтобы он все же успел ее заметить? Или это улыбка ликования, которую Илва и впрямь торопится скрыть от него? Не заговор ли тут? Не ждала ли она А. Г.? Не соблазняла ли несколько недель своим присутствием рядом, уверенная, что рано или поздно он клюнет, — отвратительная уверенность женщины, что мужчина, движимый странностью своей натуры, нет, просто глупостью, позволит увлечь себя и безвольно попадется на такую банальную приманку, как ее тело? Не ловушка ли это? Не хотят ли они его окончательного падения, чтобы еще крепче привязать к себе? Заговор, сговор?
Пока неизвестно, но сейчас он это выяснит! Докопается до истины — всеми правдами и неправдами, не мытьем, так катаньем заставит Илву раскрыться. Дома никого кроме нее. Малыш куда–то делся (ушел в детский сад?).
А. Г. много раз приходил в эту квартиру. Но сегодня он впервые остался с Илвой наедине. Наконец–то: он и она. Одни. Он очень долго выжидал, исключая саму возможность такой встречи. Она не должна была произойти! И вот она происходит, потому что А. Г. должен раз и навсегда убедиться в ложности или справедливости ужасного подозрения. Теперь или никогда!
Илва пошла варить кофе. На обеденном столе в гостиной (там, где она примыкала к кухне) были разложены учебники испанского языка. Так вот чему Илва посвящает свободное время! Испанскому.
— Как твой испанский? — спросил А. Г., чтобы с чего–то начать.
— Хорошо, — отвечала Илва из кухни. Нет, плохо. Я совершенно неспособная, хуже всех в группе. Но для себя я кое–чего добилась. (Она подошла к обеденному столу, заглянула в учебник под названием «Езо ез».) Я пытаюсь объяснить Бьёрну про свои успехи. А он все равно услышит меня и давай возмущаться, что я ничего не знаю. Просто бесится, говорит, мне пора кончать с этими курсами. Зачем бросать деньги на ветер, если толку никакого? Он считает мой испанский только предлогом уходить из дома.
— Значит, он не прав? (Ну же, ну!)
— Нет, отвечала она. Я хочу учиться. Мне очень хочется выучить испанский. А потом поехать в страну и разговаривать. Неужели я так много требую? Скажи: неужели так много?
— Нет, отозвался А. Г. .
Илва вернулась в кухню. Выключила кофеварку (она варила кофе не на плите). Достала чашки. Сейчас! Сейчас! А. Г. спросил: .
— Как тебе, собственно, живется, Илва?
В ее углу все стихло, установилась напряженная тишина.
— Что ты имеешь в виду? — Илва замерла, он чувствовал, что она застыла на месте.
— Ничего, кроме того, что я сказал: как тебе, собственно, живется?
Она схватилась за чашки, зазвенела ими. До него донеслось бульканье кофе. Илва молчала.
А. Г. часто бывал в Этой квартире. Но тогда все было иначе. Ему был знаком здесь каждый уголок. Но сегодня она выглядела по–другому. Дневной свет, лившийся в болыпие окна, выхватывал стоявшую на буфете дурацкую фотографию человека в хоккейной форме, с клюшкой и шлемом в руках. Тут же новобрачные: Илва и ее муж сняты после церемонии в ратуше. Какие–то безделушки, фигурки зверей — свидетельство дурного вкуса, во всяком случае с точки зрения архитектора Ларсена. Впрочем, на них можно было не обращать внимания. Снимки Малыша. Диван и кресла, сегодня непривычно пустые. Телевизор, выключенный, без единой пылинки. Обеденный стол (где сидел А. Г.) и кухня (где была Илва). А. Г. Ларсен дождался своего часа. Он попал сюда.
Она принесла кофе. НПоставила кофейник на стол, но наливать не стала. А. Г. воспрянул духом. Спасибо тебе, Илва, что ты обращаеться со мной не как с гостем. Разве он неверно истолковал ее жест? Конечно, верно. Он налил кофе себе и протянул кофейник Илве. Она уже села. Налив кофе, переспросила, о чем он ее спрашивал. Он ведь, кажется, о чем–то спрашивал?
— Да. Как тебе, собственно, живется?
— Неужели тебе в самом деле любопытно, как мне живется?
— Да, отвечал А. Г. Представь себе.
— Но почему? .
— Нотому что… ты интересуешь меня.
— Интересую? Каким образом?
— Ну, я тут мало кого знаю. А с тобой я знаком.
— И только–то?
— А ты что думала?
— Да нет, ничего. Не бери в голову. Я просто не поняла.
— Как же тебе живется, Илва?
— Ты хочешь знать? Действительно хочешь?
— Да! — выпалил А. Г.
— Неужели? Разве кто–нибудь может интересоватья моей жизнью? Вот уж не подозревала. Это для меня большая радость.
— Ты радуешься такому пустяку, Илва?
— Да! — с жаром подтвердила она. Я не избало
И пошло–поехало. Илва открылась перед ним, выложила без утайки, как ей живется.
— Дерьмово, сказала она. Хуже некуда.
Ей невыносимо скучно, продолжала Илва. Она тоскует. Кругом, куда ни повернись, одни скоты. И дерьмо, которое нужно за ними убирать. Кому, как не ей, приходится мыть загаженные тарелки? А чего стоит унитаз? Ты когда–нибудь заглядывал в немытый унитаз? Кому достается подтирать все дерьмо? Конечно, Илве. Об этом ли она мечтала? Нет. Ее просто–напросто обвели вокруг пальца. Посадили в дерьмо и велели разгребать. С шишом в кармане и с кобелем в постели.
Илва Юнсен разговорилась. Наконец–то она может в красках описать жизнь, которую вынуждена вести. Рассказать обо всем дерьме, что приходится ежедневно вывозить. Чужом дерьме. Которым ее щедро наделяют, считая, что одаривают драгоценностями. Она убирает загаженный пол. Моет загаженную посуду. Подтирает загаженную уборную. Живет в чужом дерьме. По утрам Илва просыпается в зловонии. Она начинает чувствовать его со звоном будильника, поднимающего ее с постели. Приятно, а?
Все кругом загажено. Она по уши в дерьме. Увязла в нем. Илва Юнсен расписывала свою жизнь. Выкладывала все как есть. Не стесняясь в выражениях. Без обиняков. Пусть–ка А. Г. послушает о видениях, что преследуют ее.
— Я тебе признаюсь, Ларсен: если повидать дерьма с мое, начинаешь видеть его загодя, когда ничего такого еще нет. Я вижу дерьмо в Супермаркете. Представь себе, Ларсен, мясной прилавок, всякие там колбасы, котлеты, свинина, фарш. Прямо слюнки текут. А для меня на витрине сплошь дерьмо. Я загодя вижу, во что это все превратится. Меня тошнит от мысли о том, чем станут котлеты через некоторое время. Что бы мы ни ели, все идет в одно место. И сочная котлета, и аппетитный кусок свинины, от которого так чудесно пахнет в духовке. Что такое вкусная еда? Вкусное дерьмо, и ничего больше. Ты когда–нибудь задумывался над этим, Ларсен?
— Нет, — отвечал он.
В чем дело? Неужели Ларсен испугался? Он и сам не знал. Он только видел перед собой молодую, прифранченную, загадочную Илву, она рассказывала о своей жизни и повторяла: дерьмо, дерьмо и еще раз дерьмо. Ее узкие ладони. Тонкие запястья. Хрункие плечи, задрапированные легкой блузкой, которая подчеркивала их хрупкость. «Дерьмо». Целомудренная линия щек, от которой А. Г. столько ночей пролежал без сна — она придавала Илве вид юного, простодушного, доверчивого, неопытного создания, сообщая всему свету, сдержанно и в то же время весьма настойчиво, что у нее впереди целая жизнь.
Жизнь со множеством сюрпризов. Неужели возможно приобщиться к этому простодушию, прикоснуться к Илве, погладить ее? «Я вижу дерьмо загодя». Ее соблазнительное тело. Фривольный объект желаний. «Чужое дерьмо в унитазе». Как женственны, как нежны и шелковисты, невероятно шелковисты Илвины волосы, немыслимым водопадом ниспадающие по щекам.
— Мне ли не знать, что представляют собой продукты, которые я покупаю на обед? Еще немного, и они станут дерьмом. Я варю и жарю будущее дерьмо, а он пихает его в себя. «Спасибо за обед», — говорит он, когда бывает в настроении и хочет подать хороший пример Малышу. Ему бы сказать: «Спасибо за дерьмо». Ему нужна вовсе не еда. Еда его не волнует, его волнует, как бы поскорее нагадить…
— Ну вот, излила душу. Больше не нытай меня, — сказала Илва, поднимаясь из–за стола. — Если хочешь какого–нибудь дерьма к кофе, у меня где–то завалялось печенье.
— Ты имела в виду дерьма к ссакам? — уточнил А. Г.
Илва рассмеялась. Она хохотала и хохотала, не в силах остановиться. .
— Ох, Ларсен, Ларсен! — вскричала она наконец. — По–моему, ты меня понял!
Илва получила удовольствие от собственного рассказа. От того, что поведала историю своих отношений с «дерьмом». Она отлично представляла себе, зачем пришел А. Г. во всяком случае, не затем, чтобы расспрашивать ее о житье–бытье. И ей приятно было показаться в истинном свете перед этим человеком, который, как она догадывалась, пылал страстью к ее девическому телу и юному личику. Приятно продемонстрировать, что за очаровательной внешностью, за умопомрачительным телом скрывается существо, в фантазиях которого котлеты предстают дерьмом, и еще посмаковать свои видения. Она выложила все как есть! Излила душу. Больше не пытай меня!
— Да, больше ты ничего не допытаеться. Вообщето ты понятия не имеешь, кто я такая. Я живу здесь только по обязанности. И то, что ты видишь, вовсе не Илва. Илва совсем другая. До нее тебе никогда не добраться. И не пробуй. У меня тоже есть свои мечты. Ты бы обсмеялся, если бы узнал их.
— Что ты, Илва, — сказал А. Г. Я бы не стал смеятЬся.
— Рассказать тебе о моих мечтах? Небось очень хочется услышать? А я не расскажу, и не надейся. Я их лучше оставлю при себе. Чтоб не погрязнуть в дерьме. Только они меня и спасают, понял? Они мои. И ничьи больше.
— Расскажи о них, Илва! — попросил А. К.
— Ну, ты даешь! «Расскажи о них, Илва». Илва, значит, должна рассказать тебе о своих мечтах? Илва должна быть паинькой и все рассказать Ларсену? А почему, собственно?
— Потому что я желаю тебе добра.
— «Потому что я желаю тебе добра». А раз ты желаешь мне добра, ты имеешь право на мои мечты? Зачем они тебе? Может, хочешь словить кайф на том, о зем мечтает кошечка Илва? Нет уж, тут я тебе не помощница.
— Но я желаю тебе добра, Илва. Хочу узнать тебя поближе. Я ведь тоже одинок.
— Ты тоже одинок. Это я заметила — слава богу, не слепая. Кровь стынет в жилах смотреть на тебя. Знаю–знаю, Ларсен. Но мои мечты все равно тебе не достанутся, понял? Да я и сглазить побоюсь.
— Илва, я хочу дружить с тобой.
— Это одни слова. А хочешь ты того, чего я не хочу. В общем, про свою жизнь я тебе рассказала. Может, теперь успокоишься?
— Нет. Я хочу узнать тебя.
— Ларсен, Ларсен, — безнадежно вздохнула Илва. Чего ты добиваешься? Ты можешь сказать прямо?
— Я напишу тебе письмо. Хочу, чтобы ты ответила. Если у тебя будет письмо, ты доверишься мне. И ответишь.
— Нет, — отрезала Илва. — Написать ты, конечно, можешь, а отвечать я вряд ли стану. Что из этого выйдет хорошего? Но ты все–таки напиши, раз ты такой храбрый, — прибавила она.
А. Г. поднялся.
— Напишу, сегодня же. А завтра, перед уходом на работу, опущу в почтовый ящик, и ты возьмешь письмо, когда будет удобно. Ответишь ты или нет, я напишу тебе.
Вечером А. Г. Ларсен сел за письмо к Илве Юнсен. Как архитектор, он всегда изводил довольно много бумаги, но никогда он не мог бы с большим основанием присвоить себе звание оптового потребителя норвежской бумаги, чем в тот вечер, в конце февраля. Он отправлял в корзину один черновик за другим. Сложности начались уже с обращения. «Дорогая Илва». Слишком банально. «Привет, Илва!» Нет, это слишком дерзко, слишком панибратски. «Дорогая фру Юнсен». Возможно, но такое обращение, пожалуй, задаст письму юмористический тон, к которому он в данную минуту не был расположен. В корзину его! «О Илва». Чересчур моляще, а следовательно, навязчиво. «Моя дорогая Илва». Не нойдет, учитывая характер адресата, кроме того, не хочется изображать из себя доброго дядюшку. «Илва, милая моя Илва». Опомнись! «Илва!» Возможно. Такой клич, такой призыв, пожалуй, его бы сейчас устроил. Но не слишком ли откровенно для адресата? «Илва, Илва!» Нет, так не годится — в корзину! «И.» Или «И.» Ну как? Это ей должно понравиться. «И.». То есть Илва. «И.», то есть Илва, какая она есть. «Дорогая И.». Нет, просто: «И.».
Итак, он собрался писать «И.», но о чем писать? Вариант за вариантом. Страница за страницей. А. Г. задумал честно и открыто рассказать ей о своей жизни с тех пор, как он встретил «И.» и, помимо своей воли, пленился ею, стал, можно сказать, одержим ею. СтраДания мужчины в годах, повстречавшего недоступную для него молодую женщину. Да–да, это он ей и обрисует! Лаконично и с чувством. Без всякой надежды. Но с достоинством. В общем, так, как подсказывают его чувства.
Перенортив гору бумаги, А. Г. остановился иа следующем варианте:
«И. Обуреваемый страстями, я тем не менее пытаюсь сохранять здравомыслие взрослого, солидного мужчины. Хочу заверить тебя в одном: я всегда буду оказывать тебе уважение, которого ты достойна. Прими от меня эти простые слова, и не оудем говорить о моей измученной душе. Л.
P.. S. Письмо уничтожь немедленно по прочтении. Он же».
А. Г. вложил письмо в конверт и надписал: «Илве». Наутро, отправляясь на работу — как всегда, чуть позже Бьёрна, он прошел мимо ряда одинаковых зеленых ящиков для почты. И опустил письмо в щель ящика, на котором стояло «Юнсен». Итак, жребий брошен, А. Г, быстрым шагом добрался до гаража, сел в серебристосерый «сааб» и поехал к Небоскребу в Хаммерсборге, где размещался ОБОС.
Целый день А. Г. был занят важными совещаниями, и письмо ничем не напоминало о себе (если, конечно, не считать неясного томления под ложечкой, ни на минуту не отпускавшего А. Г.), пока он снова не сел в машину и не поехал обратно в Румсос. Невыносимо медленное движение до развилки у Синсенкрюссет, он тащится в веренице автомобилей в своем серебристосером «саабе», по обеим сторонам торчат доходные дома с заснеженными крышами, еще светло, не то что какихнибудь две недели назад, день теперь прибавляется. Ответит ли Илва? А. Г. не рассчитывал на это. Но он хотя бы высказал накопившееся у него за последние недели. Излил душу! Объяснился начистоту! А там будь что будет. Он поставил машину в Гараж, прошел к своему корпусу. Привычно открыл почтовый ящик в подъезде и забрал корреспонденцию, даже не взглянув на нее. Только войдя к себе в квартиру, он осмелился просмотреть почту. Есть! Илва ответила! С дрожью в руках он вскрыл конверт и прочитал:
«Л. Я стремлюсь к одному — вырваться отсюда. Но меня никто не знает. Появившись, он запросто проскочит мимо, потому что не знает, кого он ищет. Как мне подать знак, что ему нужна я? И.
P. S. Немедленно уничтожь письмо. Выбрось его в сортир, обгадь его. Она же».
Кто такой «он»? Вот в чем вопрос. А. Г. оставили об этом в неведении, «Он» — это «он», и более ничего. Так что придерживайся фактов. Если человека обуревают страсти, надо придерживаться фактов. Отступи А. Г. на долю секунды с узкой тропы доподлинно известного, и он тут же попадет в смешное, унизительное положение, вообразив себя первым любовником в единственной драме, в которой ему хотелось бы сыграть.
А. Г. приготовил обед. Он ел в одиночестве, но с ощущением праздника. Свершилось нечто грандиозное. Около шести он, чтобы развеять смятение, отправился бегать по дорожкам между не поддающимися описанию домами Румсоса, перед тысячами безмолвных светящихся окон, в тишине, нарушаемой лишь гавканьем собак. Сегодня вторник, рассуждал А. Г. Завтра среда, и Бьёрн уходит на ипподром. После среды четверг, а по четвергам у Илвы курсы. Значит, осенило его, надо заглянуть к Юнсенам сегодня: до пятницы еще далеко, а пробуждать дремлющие в Бьёрне подозрения ни в коем случае нельзя.
Попозже вечером А. Г., в своем ординарном, унылом костюме, при неизменном галстуке, позвонил к Бьёрну и Илве Юнсенам. Пройдя в гостиную, он расположился в привычном кресле, и Бьёрн пустил видеофильм, который прихватил по дороге с работы. Все как обычно. Бьёрн в одном кресле с Пультом управления в руках, А. Г. в другом, оба не отрываясь следят за жизнью американского города: улочки портового квартала, моросящий дождь и «дворники» на машине, в которой преследователи поджидают свою жертву, но вот машина срывается с места и жертва пускается бежать: — к спасению или в тупик, которым, может быть, заканчивается улица? На диване лежит, прикрытый пледом, Малыш в пижаме, он сонно смотрит на экран. Рядом сним Илва. Накрашенная девица. Неоднозначный предмет желаний. Деловая особа с обтянутым задом. Мальчик заснул, и она отнесла его в соседнюю комнату. Вернувшись, опять села с журналом на диван. Подала кофе. Налила сначала Бьёрну. Потом А. Г. Потом себе. В фильме улица действительно привела в тупик, и четверо мужчин выходят из автомобиля и приближаются к жертве. Час расплаты. Или все против одного. Бьёрн зачарованно смотрит на экран. Илва подавляет зевоту. А. Г. сидит у них, потому что сейчас так нужно.
Вернувшись в свою квартиру, он написал новое письмо «И.». Вот оно: «И. Только перешагнув порог первой молодости, начинаешь безмерно ценить преходящее, ценить красоту. Ты не представляешь, какой страстью может воспылать мужчина к тому, что воплощает собой женщина в расцвете юности. Как мне хочется, не таясь, говорить о твоих роскошных волосах, ниспадающих по щеке, о блеске твоих глаз. Я хотел бы живописать твой рот, твою шею. Смею ли я воспеть твое тело? Все то, чем я восхищаюсь со стороны? Лицезрение тебя причиняет мне боль, но я вынесу любые муки, лишь бы видеться с тобой. Л.».
На следующее утро — бросить письмо в почтовый ящик. Потом — в Хаммерсборг, где А. Г. Ларсена ждал рабочий день начальника планового отдела в крупнейшей норвежской компании по жилищному строительству. И домой, с пробкой на Тронхеймсвейен, когда А. Г. намертво застрял, пытаясь проскочить через развязку у Синсена. В тот день шел снег. В воздухе носились легкие снежинки, опять похолодало. После Синсена машин на дороге убавилось, и А. Г. на приличной скорости доехал до Гроруда, откуда свернул к Румсосу. Вот он добрался до дома. В толстом зимнем пальто, в перчатках, не снимая которых он открыл ящик и выгреб почту. Уже в квартире А. Г. просмотрел ее: и сегодня письмо от Илвы.
«Л. Ты видел меня в разных нарядах, не стану скрывать, что одежда мне небезразлична. Но тебе бы поглядеть на меня в дорожном платье, которое я еще ни разу не надевала. Я сижу тут вовсе не по своей охоте. Не смейся надо мной, если я скажу, что мои чувства несовместимы со здешней обстановкой. Потому что это истинная правда. И.
P. S. Не забудь выбросить письмо. В сортир его. Она же».
Итак, свершилось. Вчера промучившись неведением, ответит ли Илва, А. Г. и сегодвяшний день провел в не меньшем напряжении. Если она ответит, это будет означать, что между ними налажена связь. Связь в самом деле наладилась. С тех пор обмен письмами происходил ежедневно, кроме выходных. Перед работой А. Г. бросал конверт в ящик с надписью «Юнсен», Илва забирала его до прихода почтальона, прочитывала письмо и писала ответ, который опускала в ящик с надписью «Ларсен», то есть соседний со своим; к вечеру А. Г. забирал письмо вместе с прочей корреспонденцией и писал ответное, которое опять–таки опускал на следующее утро к соседям, чтобы Илва вытащила его до прихода почтальона. у
Писем этих болыше не существует. Условие об их немедленном уничтожении свято соблюдалось, не только самим А. Г., но и Илвой, в чем он убедился в определенный момент повествования, до которого мы еще ие дошли. Но А. Г. пересказал их мне. Он помнит их содержание иногда даже дословно, поэтому я сумел восстановить их. Сами понимаете, А. Г. нелегко дался его рассказ.
И мы начали переписываться. Каждый день я опускал письмо к ней в почтовый ящик, а вечером находил в своем ящике письмо от нее. Я писал Илве: «И. Меня обуревают страсти…» и «Смею ли я воспеть твое тело?..» и так далее и тому подобное, а она отвечала: «Тебе бы поглядеть на меня в дорожном платье, которое я еще ни разу не надевала».
Да, А. Г. нелегко было рассказывать и 0б обстоятельствах дела (своеобразной игре, в которой двое соседей обмениваются через почтовый ящик пылкими посланиями), и о самих письмах, в которых слышался призыв одинокой души; такие письма в сложившейся обстановке не подлежали огласке, но кто в своей жизни не писал писем, боящихся огласки, почему я и уповаю на то, что все понимают, как мучительно было для А. Г. вспоминать пережитое да еще рассказывать мне. Так что своей откровенностью он вызвал мое уважение.
В письмах А. Г. превозносил Илву. Хотя он попрежнему стоически заверял ее, что сознает безнадежность положения и лишь выражает восторг сорокалетнего мужчины перед молоденькой женщиной. Однако удержаться на этой достойной позиции он не сумел. Его начало прямо–таки трясти от вожделения. А. Г. иачал питать надежды. Он старается скрыть перемену, утверждая, что надежды его несбыточны, что они не более чем сослагательное наклонение, химера, порожденная его воспаленным мозгом, и все же он выставляет свои надежды напоказ, как бы говоря: «Видишь, я надеюсь. Смотри, я надеюсь (я знаю, это невозможно, но я надеюсь)».
Ов писал: «И. В моем положении далеко ие просто высказывать заветные чувства. Я не считаю себя вправе говорить о них. Нас разделяет барьер. И тем не менее я часто думаю: «Если бы только была надежда!» Тогда я бы вскричал на весь свет: «Я счастливейший из норвежцев нашего века!» О, если бы только была надежда! Л.» На что Илва отзывалась: «Л. Я скоро уезжаю. Одна. За границу. Попробуй понять меня. И.» Что она хотела сказать? И дала ли она ответ на его письмо? А коли так, что же она ответила? Он ие знал. И он пытался вернуться на исходную позицию и стоически, с достоинством держаться ее, однако он уже не мог не делиться своими головокружительными мечтаниями: «И., я не имею права задавать тебе какие–либо вопросы. Я ничего не прошу у тебя, кроме позволения выражать свое безнадежное чувство. Но совсем без надежды нельзя. Мне кажется, я могу, даже обязан тебе это сказать. А там разбирайся сама. Л.» Илва же писала А. Г. о своем намерении бежать из Румсоса, об ожидании избавителя, «его», о терзающей ее неуверенности в том, узнает ли он, кого ищет, к этой излюбленной теме она возвращалась снова и снова. «Конечно, он узнает меня, когда появится. Было бы нечестно, если бы он промчался мимо. И.» Где тут ответ? Кто такой «он»? Арне Гуннар Ларсен был заинтригован. Разобравитись в этом, он понял бы все. Но задать прямой вопрос он не решался: ему могли не ответить, могли вообще перестать писать.
Итак, зима 1983 года в норвежском пригороде Румсос. А. Г. каждый день переносит на бумагу крик своей души и опускает письмо в почтовый ящик к молодой соседке, которая вынимает его, читает и пишет ответ, высказывая, в духе иллюстрированных журналов, тоску по «рыцарю», по «нему», и А. Г. забирает ответное письмо, возвращаясь с работы. Его страсть не утихла: получив словесное выражение, она только усилилась. Жизнь А. Г. была теперь сосредоточена вокруг этой тайны. Вокруг конверта в почтовом ящике. На улице слепило глаза зимним светом, иногда ночью выпадал снег, и А. Г. оставлял на нем следы, когда шел к Гаражу, чтобы ехать в Хаммерсборг — там у него, как у начальника ОБОСовского отдела планирования, был кабинет на одном из верхних этажей стеклянного небоскреба. В ОБОСе ему, прямо скажем, приходилось выкладываться. Будущее крупного предприятия по жилищному строительству казалось особенно трудно предсказуемым, поэтому от А. Г. требовалось умение жонглировать несколькими мячами сразу и в качестве начальника отдела восторженно и в то же время с долей скепсиса выслушивать многочисленные авторитеты. Это он умел. К собственному удивлению, А. Г. не нужно было изображать увлеченность работой. По–прежнему с жаром он отдавал себя и румсосской ячейке рабочей партии. В прессе активно обсуждалась проблема ракет: рабочая партия достигла компромисса, который, в случае если женевские переговоры ни к чему не приведут, открывал возможность для замораживания ядерного оружия в Западной Европе на уровне сегодняшнего дня. Каким бы половинчатым ни было решение проблемы, А. Г. сейчас выступал за него, поскольку считал единственно приемлемым с политической точки зрения. Сам он предпочел бы более радикальные меры, однако после достижения компромисса не только лояльно поддерживал его, но и защищал от нападок более нетерпеливых товарищей по партии. Одновременно проходило выдвижение кандидатов для ежегодных муниципальных выборов, в котором А. Г. также принимал деятельное участие. Он стоял за разбюрократизацию партии и предлагал вносить в списки новые имена — тех, кто хорошо зарекомендовал себя на работе. А вернувшись с собрания в зале «Б» румсосского центра, А. Г. писал: «И. Я не могу равнодушно смотреть на твои руки, на то, как ты держишь их, жестикулируешь ими. Я весь дрожу. Твои руки… и твоя шея. Я без ума от твоей шеи. Мне идет пятый десяток, ты же находишься в самом расцвете. Берегись моих слов… и чувств. Л.»
Раз в две недели к нему приезжали на выходные дети. Мортен и Кари жили в идеальном доме у парка Санкт–Хансхбуген, в окружении благополучных семейств и не знали ничего, кроме заботы, трезвого подхода, доброго здоровья, правильного воспитания, полезных увлечений, питательной еды, здравых и благотворных суждений и критериев, а по приезде сюда, в Румсос, встречали своего (как он надеялся, переродивщегося) отца, который окунулся в гущу народа и погряз там. Он выставлял себя перед ними легкомысленным и равнодушным. Конечно, он ходил с ними кататься на лыжах и иногда вывозил гулять на машине, но в основном они сидели в румсосской квартире, предоставленные сами себе. Нередко они заставали отца веселым и жизнерадостным. Ведь он был страстно влюблен. Знали бы дети, что он сохнет по сексуальной молоденькой особе, которая была его соседкой и к тому же замужем за его единственным другом!
Итак, начальник отдела планирования в ОБОСе, член ВСА, архитектор Арне Гуннар Ларсен жил в Румсосе. Он дружил с Бьёрном Юнсеном и его женой. Вечерами, отдышавшись после долгой пробежки, А. Г. запросто звонил к ним в дверь. Открывал ему кто придется. Часто это была Илва. Она впускала Ларсена. Утром она, по обыкновению, получила и прочла письмо от него, сочинила ответ, а теперь стояла и вежливо улыбалась Ларсену или, бросив на него серьезный взгляд, вела за собой в гостиную. Илва, Илва! Она даже не могла подать ему никакого знака. В гостиной сидел Бьёрн. Он радостно приветствовал А. Г. Бьёрн явно дорожил визитами Ларсена. Возбужденный, он ставил видеокассету. Садился с Пультом управления в руках. «По–моему, должна быть отличная лента», — говорил он, пристально глядя на экран телевизора, где возникали первые кадры. Приезжает домой ветеран вьетнамской войны. Преданный всеми, он пытается навести порядок. В небольшом американском городке убили негра, который был во Вьетнаме его лучшим другом. Да–да. И такое случается. Негр тоже может быть моим лучшим другом, поэтому я собираюсь отомстить за него. Смотри же, Ларсен, смотри. Противопоставив себя Обществу, вьетнамский ветеран скрывается в неприступной местности: густые леса, крутые утесы, речные стремнины. Его преследуют. В этой борьбе за выживание нужно призвать на помощь весь опыт, накопленный многолетней войной в джунглях. Тебя в любую секунду ожидает смерть. Пока ты еще жив, но не успеешь перевести дух, как можешь оказаться мертвым. А. Г. сидел рядом с Бьёрном и следил за развитием событий. За реальным миром. Побег. Обман. Погоня. Предательство. Обманут, предан. Надо вырываться из окружения. Час расплаты. Миг откровения. А. Г. чуть дышал, боясь, как бы Бьёрн не догадался, чем обернулась действительность за его спиной. Но Бьёрн все говорил и говорил, считая себя в безопасности в собственной гостиной. Слушай, Ларсен, смотри, Ларсен. Вот оно как бывает, Ларсен.
Когда Илва отлучилась в кухню, он коротко сообщил:
— На работе все по–старому. Нет больше сил терпеть. День за днем — сплошные издевательства. Мне нужно поднять голову. Понимаешь? Нужно показать этому Пратту, что я не намерен терпеть черт знает какое обращение.
А. Г. умолял его крепиться, ему во что бы то ни стало надо держаться.
— Да–да, — отвечал Бьёрн, — я знаю. Неужели ты думаешь, я не знаю?
А потом, вернувшись в свою квартиру, А. Г. написал Илве. «И. Я без ума от тебя. Услышь меня! Арне Гуннар». Вот он и открылся: Арне Гуннар. Арне Гуннар из Саннефьорда выдал себя с головой. Впрочем, отступатр было поздно. «И. Я без ума от тебя. Услышь меня!»
В ответ она написала, что ей хочется света, музыки — и танцевать с «ним». По–видимому, в этом желании для нее воплощались мечты о роскоши: «Он пригласит меня в шикарный ресторан. И мы будем танцевать. Я буду танцевать с ним и вести приглушенный разговор».
Неужели это приглашение? Но для А. Г. было бы слишком рискованно повести куда–нибудь Илву. Или ей хотелось сейчас риска? Хотелось, не скрываясь, танцевать в ослепительном свете, не скрываясь, вести приглушенный разговор? Не было ли Илвино письмо вызовом на рискованный поступок? На безрассудство? Или же «он» — вовсе не А. Г.? И Илва понятия не имеет, что А. Г. претендует на его роль?
А. Г. не знал. Тем не менее он зашел в универмаг «Стеен ог Стрём» и купил Илве довольно дорогую блузку, решив, что это самое подходящее. Не слишком экстравагантную, дабы не показаться смешным, однако вполне приличную, изящную блузку — для начала. В среду вечером, когда в Бьерке, ко всеобщей радости, проводились бега, А. Г. возник перед дверью с табличкой «Юнсен» и нажал звонок. Под мышкой — красиво завязанный пакет. Явно подарок. Но Илва не впустила А. Г. в квартиру. Подарок она взяла, а в квартиру не пустила. Сказала. что в гостиной лежит Малыш, который еще не заснул. Так что впустить Ларсена для вручения подарка она не может. Вот и все. Он отдал ей пакет, пожалуйста, и она приняла подарок, но тут же закрыла дверь за собой, вернее, перед носом у А. Г. Вот и все.
Неужели его отвергли? Многое как будто указывало на это. А. Г. отвергнут. Мужчина средних лет отвергнут молоденькой домохозяйкой из Румсоса. С каким выражением она отвергала его, с каким странным взглядом… Может, она не ожидала от него такой прыти? Может, она столь поспешно захлопнула дверь, потому что боялась рассмеяться? Вдруг она стоит сейчас в прихожей и хохочет над ним? Нет, не похоже на Илву. Она посмотрела на А. Г., но странный у нее был взгляд или не странный, неизвестно. Растолковать его можно по–разному. Тем не менее она не впустила А. Г. Не достиг ли он предела? Подарок она все–таки приняла. Подарок она не отвергла. Что это значит? Но самого А. Г. Илва не впустила. Так ведь из–за Малыша! Ее можно понять. Она же сказала. Она же объяснила.
Однако говорить приглушенным голосом в шикарном ресторане Илва, очевидно, собиралась не с А. Г., иначе она подала бы ему знак, что он — это «он». А она не подала никакого знака. Почему? Не играст ли она сА. Г.? Не потешается ли, завлекая немолодого друга семьи за спиной у мужа? Или тут весь интерес — что за спиной у мужа? Но ведь не впустила! Не впустила же!
Зато однажды, когда А. Г. зашел вечером навестить Юнсенов, она сама бросилась ему на шею. Это случилось в передней. Илва открыла А. Г. дверь, и он вступил в узкий коридорчик, откуда должен был пройти в гостиную, к Бьёрну. Они остановились друг против друга, и А. Г. встретил ее спокойный, непроницаемый — возможно, даже равнодушный — взгляд. И вдруг она кинулас к А. Г. Совершенно неожиданно для него. Он почувствовал, как пылает ее щека, прижатая к его щеке, ощутил потрясающий жар, исходивший от ее хрупкого тела. Однн–единственный раз довелось ему испытать такое. Он оцепенел, зная, что в гостиной сидит Бьёрн, и боясь, как бы тот без предупреждения (и паче чаяния) не появился в прихожей, чтобы самому принять гостя, ликующий по поводу друга, с которым можно поделиться кадрами жестокой реальности. Не появился и не увидел эту сцену… Зачем ты играешь со мной? Зачем всдешь свою ужасную игру? И все же А. Г. долго не мог отделаться от ощущения ее близости. Забыть короткий миг, когда к нему прижалось вожделенное тело, горячес, по–девически стройное, обдавшее его своим жаром. А. Г. изведал ее прикосновение. Она сама кинулась ему на шею. А. Г. писал: «И. Теперь мне безразлично все, кроме одного. Я рабски привязан к тебе, к твоему бытию. Л.» И правда, теперь, после удивительного соприкосновения с Илвой в прихожей, ее узкая рука, протянутая во время фильма к блюду с чипсами, вызывала у А. Г. еще горшие муки, чем прежде, и во взгляде, который он тайком, за спиной Бьёрна, бросал на Илву, читалось неизгладимое отчаяние. «И. Я не могу разорвать свои цепи. Но у меня нет и надежды. Л.» Она отвечала: «Произошло важное событие. Он дал знать о себе».
Зима приближалась к концу. Наступил март. Как–то в четверг Бьёрн, очень встревоженный, позвонил в дверь А. Г. Илва не вернулась с курсов! Она уже час как должна была прийти! Что делать? Небось заглянули куданибудь развлечься после курсов, высказал предположение А. Г. Не волнуйся, Бьёрн. Но Бьёрн не был настроен не волноваться. Он сходил с ума от беспокойства. 428
— 'Гакого никогда не было, — уверял он. Она всегда идет прямо домой. Что случилось?
— Расслабься, Бъёрн, уговаривал А. Г.,ее наверняка соблазнили выпить где–нибудь пива.
Однако Бьёрна этот довод вовсе не утешил, скорее еще больше обеспокоил. Бьёрн собрался в центр, искать Илву.
— Да где ты будешь искать? — спросил А. Г., стремясь доказать ему бессмысленность этой затеи.
— Я найду ее, коротко бросил Бьёрн. И уехал. СА. Г. было взято обещание последить за квартирой — на случай, если Илва появится в отсутствие Бьёрна. Кроме того, он будет звонить. Как только доберется до центра. Вдруг она уже придет? Так что А. Г, надо быть поблизости от телефона (у себя в квартире, поскольку у Юнсенов телефона не было),
А через полчаса после отъезда Бьёрна появилась Илва. А. Г. поджидал ее в дверях своей квартиры. Он рассказал о Бьёрне: тот поехал в город искать ее. Илва скорчила презрительную гримасу. Бьёрн какой–то встревоженный, чуть не волосы на себе рвет, прибавил А. Г. Она снова скорчила гримасу.
— Нще бы, — сказала Илва. Я ведь развожусь с ним.
— Разводишься? — переспросил А. Г. А Бьёрн об этом знает?
— Да, — отвечала она. Думаешь, иначе он сорвался бы искать меня? Наконец–то все разрешилось. Я свободна!
В ту же секунду раздался телефонный звонок. Звонил Бьёрн.
— Она пришла, — сообщил А. Г.
— Еду! — прокричал Бьёрн.
— Это Бьёрн, — сказал А. Г. Он едет обратно.
Илва кивнула. Они стояли перед дверью Ларсена.
— Значит, разводишься? — еще раз спросил А. Г. Так надо понимать?
— Наконец–то я свободна, — повторила она.
А. Г. смотрел на Илву. Вот она, рядом. Стоит на площадке. В пальто и высоких сапогах. Без шапки, Как всегда, подмазанная. Она разводится. Решилась. Говорит, что будет свободна. А. Г. смотрел на нее. Ему так много нужно было сказать Илве, но он не мог произнести ни звука. Он знал, что от него ждут каких–то слов, но ничего не мог выдавить из себя. Он попробовал, нет, не выходит… и продолжал стоять, не сводя с нее глаз.
— Илва! — еле выговорил А. Г. Одно это имя он и сумел произнести, может быть, потому что только его в глубине души он и хотел вымолвить. Ничего больше. Илва. Илва.
— Да? — отозвалась она.
— Илва, — повторил А. Г. Она удивленно глядела на него. Теперь нужно что–то добавить! Он раскрыл рот… и сказал:
— Скоро уже приедет Бьёрн.
Бьёрн оказался легок на помине. Не успел А. Г. закончить фразу, как Бьёрн взлетел по лестнице на их площадку.
— Вернулась! — воскликнул он. — Наконец–то, Илва! Где же ты пропадала?
— Пропадала? — переспросила Илва. — Мы просто зашли выпить пива, компанией с курсов.
— Кто именно? — допытывался Бьёрн.
— Ты их не знаешь, — отвечала Илва и, пройдя мимо него, пересекла площадку, отнерла квартиру с табличкой «Юнсен» и скрылась внутри. Бьёрн поспешил следом. А. Г. остался одии.
Чем А. Г. занимался в тот вечер, он не помнит. Может быть, достал письмо, которое написал Илве и, вероятно, уже вложил в конверт, собираясь наутро опустить в почтовый ящик, — достал и разорвал на мелкие кусочки, потому что положение внутри их треугольника изменилось и писать надо было по–новому. Скорее всего он переписал послание к Илве, просто теперь ему трудно в этом признаться. Впрочем, неважно, чем он занимался. Для нашего повествования важно то, что происходило в квартире напротив, а случившееся там затронуло, в свою очередь, и А. Г. Часом позже, ближе к полуночи, в дверь позвонили ик А. Г., прямиком в гостиную, ввалился Бьёрн со словами: теперь ему как никогда необходим в жизни друг.
Час назад, войдя вслед за Илвой в их общую квартиру, где, кстати, спал их общий ребенок, Бьёрн приступил к жене с расспросами о том, почему она вернулась так поздно и с кем она была. С кем? С кем? Бьёрн требовал ответа. С кем? С кем? Но Илва только смеялась вад ним. А потом рассердилась, носкольку считала его вопросы неуместными. Бьёрн талдычит одно и то же, потому что не хочет посмотреть правде в глаза. А правда такова: Бьёрн не имеет права допытываться. Ни о чем, Илва больше недели назад объявила, что подает на развод. Неужели он забыл? В таком случае пусть попробует вспомнить.
Но Бьёрн настроился на семейную сцену. Он качал права. Какие права, когда их отношения изменились? Бьёрн утверждал, что ничего не изменилось. С кем, с кем?
— Тебя это не касается, — сказала Илва. Пошел в задницу со своими вопросами!
Она хочет развода, повторяла Илва, хочет разойтись с Бьёрном. Забрать Малыша и переехать. Пока ято к сестре, в Стовнер.
— Почему, почему? — настаивал Бьёрн.
— Сколько раз тебе объяснять? — раздраженно отвечала Илва. — Я больше не могу. Мне нужен развод.
— Почему? Почему?
— Я больше не могу. Вот почему.
— Но почему? Почему?
— Потому что мне противно.
— Противно? Что противно?
— Быть замужем за тобой.
— Значит, тебе противно? Значит, я такой противный?
— Сам разбирайся, что противно. Во всяком случае, я не выношу тебя.
Она повторила эти слова тысячу раз, но ему хотелось слышать их снова и снова, Бьёрн словно крутил обратно видеофильм, с помощью Дистанционного управления снова и снова проигрывая один эризод. Я не выношу тебя. Я не выношу тебя. Илва говорила: «Я не выношу тебя». Илва, его жена, говорила: «Я не выношу тебя». Снова и снова. Крути назад. Илва говорит: «Я не выношу тебя».
Эти слова принадлежали его Илве. Его жене в течение шести лет, его возлюбленной с тех пор, как ей испол. нилось шестнадцать. Илва с Бьёрном делили стол и постель. Они сжились, выработали общие привычки, как–то перебивались — благодаря ему. Он любил ее. Любил женщину, которая стояла перед ним, твердя: «Я не выношу тебя. Не выношу». Он считал, что ей не на что жаловаться. Они справлялись. Совместными усилиями. А теперь она повторяет: «Я не вынощу тебя. Мне нужен развод». Бьёрн не мог уразуметь этого. Это не укладывалось у него в голове. Он догадывался, что жизнь сложилась для Илвы иначе, чем она предполагала, но у кого жизнь складывается по заранее намеченному плану? Ниу кого. Илва должна понять: никто не желал себе жизни, которая ему досталась!
Непонимание этого Бьёрн расценивал как предательство со стороны Илвы. Она не выносит его! Раз ее путь не был устлан розами, она уже не выносит своего мужа. Того, кто сделал все возможное, чтобы они прижились в Румсосе и существовали более или менее безбедно, справлялись. Он ли не надрывался, он ли всеми правдами и неправдами не старался наскрести столько, чтобы они ни в чем не нуждались?! Разве они в чем–нибудь нуждаются? Нет, они живут прилично.
На работе Бьёрна каждый день подвергали унижениям. За жалкие гроши он позволял Пратту втаптывать себя в грязь. Ради нее. Ради Илвы с Малышом. И вот чем она ему отплатила: сама втоптала в грязь каблуком. Хороша справедливость!
Он отказывался что–либо понимать. Илва твердила, стоя перед ним: «Я не выношу тебя». Она хотела уйти от него. Забрать Малыша. Порвать со всем, что у них было общего и ради чего Бьёрн только и жил.
Это выходило за пределы его разумения. Как он допустил? Как она — могла стать такой? Что с ней произошло? Илва словно переродилась. Он узнавал выражение ее лица, ее манеру говорить, вести себя. Но она была бесконечно далека от него. Что с ней случилось? Что он ей сделал? Какой бес вселился в нее с тех пор, как она изменилась?
— Что я тебе сделал?! — выпалил Бьёрн. Скажи мне, и я постараюсь исправиться.
Но она лишь горько усмехнулась.
— Ничего. Просто я не выношу тебя. Мне надо расстаться с тобой. Вот и все.
— Наверное, я чем–то не угодил тебе, — взмолился он. Скажи мне, и я постараюсь все исправить. Ты не можешь просто уйти.
Илва вздохнула. Неужели он принуждает ее и далыше жить с человеком, которого она не может тернеть? Неужели он добивается этого?
— Илва, — сказал Бьёрн. Я не понимаю… Подумай о том, что нас связывает. О Малыше, обо всем другом.
Илва встретила его слова презрением. Они набили ей оскомину. Бьёрн повторялся: за последнюю неделю он каждый вечер приводил одни и те же доводы. Как ему не надоело? Ей, во всяком случае, больше невмоготу его слушать. Она знает эту пластинку наизусть. Теперь он, судя по всему, начнет грозить ей. Сначала угрозы, затем посулы. Он будет запугивать ее, а потом улещивать, уже до конца пластинки.
Илва глумится над ним. Бьёрн умоляет ее, а она поднимает его на смех. Бьёрн уговаривает ее остаться, потому что для него это вопрос жизни, она же насмехается над ним. Она бьет лежачего. Он валяется в ногах, потому что молит ее. Но Илва беспощадна: раз он валяется и молит, значит, он не отпустил ее. Она еще не разделалась с ним. Она не смягчается, даже когда он заклинает ее ради прошлого, ради того хорошего, что у них когда–то было.
— Неужели я всегда был тебе безразличен? — вопрошает Бьёрн.
— Да! — отрезает Илва. Я никогда не питала к тебе никаких чувств. Только делала вид, от растерянности, потому что сама еще не выросла, а уже ждала ребенка. Да, черт возьми, я вынуждена была притворяться, что люблю тебя! Куда бы я иначе пошла? Но я никогда не любила тебя!
Однако Бьёрн не верит ей. Ни один мужчина не поверит в такое лицемерие. Каждый мужчина знает, что женщина умеет притворяться, но не настолько же. Не может она быть насквозь проникнутой ложью, не может обманывать мужчину в тот миг, когда на него вдруг нисходит счастье. Значит, и тут обман? Нет, все в нас восстает против такого вывода. Жизнь и без того не слишком балует нас, а если она в кои–то веки предлагает счастье, значит, и тут тебя ждет надувательство?
Но Илву в эту минуту едва ли занимало — или ужасало — собственное лицемерие. Ее волновало одно: он и теперь не отпускает ее. Даже после чудовищного признания в семилетнем обмане, в притворной любви, в цинично заключенном браке и ежедневной неискренности перед человеком, с которым ее связывают самые тесные узы, даже теперь он не согласен отпустить ее.
А Илва жаждет вырваться от него. Мы знаем, что она воспринимает замужество как рабство, как каторжный труд на человека, которого она ни во что не ставит. Но признаться в этом — значит, снова закабалить себя, поскольку тогда Бьёрн отменит каторгу. И Илва не добьется своей цели.
Илва же решилась. Так называемая накрашенная девица приняла решение, от которого круто менялась жизнь трех заинтересованных сторон — мужчины, женщины и ребенка — и которое нельзя было осуществить, не нанося ран по крайней мере одному из причастных лиц. Илва хотела освободиться. Что далеко не просто для домохозяйки из Румсоса. Тем более когда тебе двадцать четыре года и у тебя нет ни образования, ни работы, ни какой–либо опоры в жизни, зато есть ребенок. Требуется недюжинная смелость, чтобы говорить: «Мне нужен развод, я не выношу тебя, я хочу стать свободной», когда ты сама ничего собой не представляешь, когда ты лишь молоденькая женщина, носишь фамилию мужа и живешь на его иждивении. Вдобавок Илва не считала себя семи пядей во лбу: она, например, утверждала, что ей никак не дается испанский. Не было у нее и твердых политических убеждений, почему она не могла черпать силы и вдохновение для своего разрыва из какой–нибудь феминистской теории эмансипации. В довершение всего, привязанная к мужу и ребенку, она вела крайне замкнутый образ жизни: Юнсены общались только с Илвиными братом и сестрой (с супругами), а у них Илва едва ли нашла бы поддержку в отчаянной попытке вырваться на свободу. Бьёрн был человеком легким в обращении и примерным семьянином, его жена и сын жили как за каменной стеной. Теперь же, предпринимая окончательный и бесповоротный бунт против него, Илва фактически оставалась без поддержки. Она проявила рисковаяную смелость.
Откуда она набралась такой смелости? Во всяком случае, ясно, что она должна была черпать ее из какого–то источника. Но из какого, это уже другой вопрос. Ответить на него сложно. Тем не менее есть весьма правдоподобное объяснение Илвиной готовности идти на риск. А именно, ее внешность. Да, Илву подтолкнуло к действиям привлекательное личико. Оно подсказало ей, что она живет в Румсосе на положении домашней рабыни. Подумайте, сколько взглядов она притягивала к себе! Они–то и заставили ее, увидеть Несообразность. Когда Илва с полными сумками выходила из Супермаркета, любезные, предупредительные мужчины распахивали перед ней двери, номогая постигать Несообразность. Вон какая Илва важная персона! И какое существует Несоответствие между ней и ее жизнью! Мужчины заглядывались на Илву. Галантно раскланивались, пробегая мимо, пытались кадриться, подступая с самыми удивительными вопросами, стоило ей только появиться на румсосской улице. Свист и мелкие непристойности, которые выкрикивали ей вслед юнцы, свидетельствовали о том же: она чего–то стоит. Она принадлежит Другому Миру. Такие, как она, красовались на ярких плакатах, в рекламе диско, на разворотах газет и журналов, олицетворяли жизнь, к которой она тянулась. Илва была хорошенькой. Что каждое утро подтверждали незнакомые мужчины, когда она отправлялась за покупками в румсосский центр. Илвина красота и привела ее к заносчивым мечтаниям, а погруженность в эти мечты подтолкнула к безрассудному и бесповоротному решению. Итак, Илвой движет красота. Ее внешность. То, что видно всем. То, что видит в эту минуту Бьёрн. Красота придает Илве самостоятельность, которую в ней трудно, почти невозможно заподозрить, красота же пригвождает Илву к ее мечтам, к ее запросам, сообщает ей мужество и решимость. Красота подстегнула се к действию. Обворожительная внешность иргвратила Илву в бунтаря–одиночку.
Может, ее еще поддержала тайная переписка с живущим через площадку чудаком соседом и Илва оттуда почеринула силы для безрассудной попытки вырваться из нереального? Солидный мужчина, член рабочей партии и крунный начальник, он в своих письмах превозносил Илву, таким образом подтверждая ее ценность. Версия виолие вероятная. Тогда Илвины послания к нему можно рассматривать как своеобразную тренировку: Илва словно практиковалась, прежде чем раскрыться и стать самой собой, на кого ей теперь, в полном одиночестве, только и придется рассчитывать. (Нельзя закрывать глаза и на то, что Илву, возможно, уже тяготило и отчасти пугало странное поклонение архитектора Ларсена: пожалуй, оно становилось несколько назойливым. Не оно ли подгоняло Илву с отъездом, пока она, так сказать, на коне? Уехать к сестре, в Стовнер, вместе с Малышом.
Освободиться. Начать все заново. Подальше от мужа, Бьёрна, но, с другой стороны, и подальше от не первой молодости Ларсена с его требовательной страстью. В этом случае тайный обмен письмами сыграл роль катализатора, однако настаивать на непреложности нашей версии нельзя. С таким же успехом все могло обернуться иначе, то есть по переезде в Стовнер Ларсен наскучил бы Илве без своих писем и странный триумвират — Б.+ И.+Л. распался бы сам по себе. Или же: задумав перосхать от Бьёрна в Стовнер, Илва как раз рассчитывала поддерживать связь с Ларсеном, но уже не таясь. Последнюю возможность нользя сбрасывать со счотов, хотя представляете, в какой трепет она привела бы А. Г. Ларсена, который в это вромя сидел, погруженный в размышления, у себя в квартире?)
Утверждать можно одно: Илва осталась одна. Наедине со своим решением, принятым абсолютно самостоятельно, с дерзкими поступками, которые сй предстояло совершить, со своим планом раскрепощения, со своей рискованной смелостью. Вооружениая исключительно красотой, чего очень мало и что очень ненадежно. Илва, слабая, беспомощная Илва была прижата в угол, пытаясь вырваться от человека, не желавшего отпускать ее. Резонно будет предположить, что она впала в отчаяние. Одинокая и отчаявшаяся, она уже пе была уверена, выдержит ли. Она наверняка понимала, какая пропасть разделяет ее замыслы и объективную возможность осуществить их. Вероятно, Илва испугалась. Иснугалась, что поддастся угрозам Бьёрна — и останется. Испугалась, что поддастся его мольбам — и останется. Испугалась, что растрогается его душераздирающим призывом: «Скажи, чем я не угодил тебе, и я все исправлю» — и останется. Даже Илвино признание в том, что она никогда не любила мужа, не даровало ей свободы. Как же быть? И Илва поставила на новую карту: задумала разыграть спектакль, который бы принес ей раскрепощение. Ради своей мечты она была готова на все, и она дала волю фантазии. Сказала, что в ее жизни появился другой мужчина, ее освободитель и — с гордостью объявила она — любовник.
У нее есть любовник. Человек, которого она любит и который любит ее. Во время тайных свиданий с ним она познала настоящую любовь. Он зажег Илву. Прежде она была вроде незажженной свечи. Теперь он зажег ее. Теперь она светится. Что Илва светится, Бьёрн видел собственными глазами, потому что она вошла в роль. Она пела хвалу любви. Показывала Бьёрну, что такое любовь, всем своим существом. Своим лицом, телом. Любовь — это нечто неописуемое, уверяла Илва сияющим взглядом, влажными губами. Она самозабвенно внушала Бьёрну, что через любовника изведала чудо любви. Да, это чудесно! Это замечательно! С ней поделились огромным богатством. Наконец–то она вкусила любовь, То, что она испытывала прежде, было лишь крохами от Хлеба Насущного, который есть любовь, И вот не крохи, а сам Хлеб. Илва расплылась в восторженной улыбке. Илва закрыла глаза. Провела языком по губам. Она была в экстазе. Сражена любовью, не в силах и сейчас совладать с ней, как прекрасно видел Бьёрн, Ничего из того, что изображала Илва, ни восторга, ни всепоглощающей страсти, ни полного самоотречения, Бьёри за Илвой раньше не знал, и он понял, что любовь для нее действительно нечто не поддающееся описанию, и поверил, что навсегда потерял Илву.
Однако никаких доказательств, что у Илвы был любовпик, не существует. Все проверки однозначно утвержкдают обратное. Где ей было найти любовника? На курсах испанского? Но после них она всегда сразу отправлялась домой, за исключением того случая, когда с болышой компанией завернула выпить пива, а потом в одиночестве пошла к метро. Может быть, курсы служили лишь ширмой? Нет, проведенное расследование показывает, что Илва таки посещала их, причем без пропусков, и обратила на себя внимание крайней застенчивостьо: она едва осмеливалась произнести слово, даже в перерывах болышей частью молчала. Может быть, однажды ей довелось встретить в Румсосе незнакомого мужчину, она пригласила его домой и он стал приходить к ней по утрам в качестве любовника? Тогда странно, что ничего не заметили соседи: они ни разу не видели у дверей Илвы Юнсен посторонних мужчин, а вряд ли это могло ускользнуть от них, если визиты были регулярными, чем только он и заслужил бы наименование Любовник. А как насчет вечеров, когда в Бьерке устраивались бега? Но тут мгновенно заподозрил бы неладное Илвин наблюдательный корреспондент, А. Г. Ларсен. Короче говоря: от мужчины, который, по утверждению Илвы, сделал ее счастливой, не осталось никаких слеДов.
Однако Бьёрн поверил в Илвиного любовника и в то, что, заключив ее в объятья, этот мужчина теперь вертит ею как хочет. Действительно ли любовь не поддается описанию? Бьёрн Юнсен понятия не имел о существовании какой–либо иной любви помимо ему известной. Он не представлял, что такое возможно. Но теперь Илва раскрыла ему глаза, и он не сомневался, что его жена переродилась и находится вне пределов досягаемости. Она бросила его. Обманут, предан. Удар в спину от женщины, которая подлезла к другому мужчине и наслаждается с ним «неописуемым» да еще со сверкающим взором рассказывает об этом Бьёрну.
Кто он такой? Кто, кто? Бьёрн выведывал у Илвы имя. Он не требовал ничего более, однако имя он знать хотел. В голове свербила одна мысль. Выкладывай. Кто, кто? Но Илва не желала назвать имя. Это ее тайна. Уж не кто–нибудь ли из знакомых? Она рассмеялась. Что значил ее смех? Илва смеялась. Она обещала показать его Бьёрну. Когда приедет в Румсос за вещами. «Он» привезет ее на своей новой машине. Чтобы помочь уложить вещи. Тогда Бьёрн и увидит их обоих: Илву и ее любовника. Вместе. Здесь. Наберись терпения!
Она отняла у него все. Так оно, впрочем, и бывает. Просто теперь наступил черед Бьёрна Юнсена. Он не допустит этого. Надо что–то предпринять. Но что же тут предпримешь? Можно только уйти.
— Я ухожу, — объявил он. — Оставайся жить здесь. Я уезжаю. Сейчас, сию минуту. Поеду к Джиму (ее брату). В Румсосе мне болыпе делать нечего. Кончен бал. Я пошел. Спасибо за все. Поцелуй Малыша.
Он вышел из гостиной, а потом Илва услышала, как открылась и с силой захлопнулась за ним входная дверь. Он ушел. Илва обрела свободу.
Однако Бьёрн не ушел. Этот отчаявшийся человек только приоткрыл дверь и хлопнул ею. И теперь не двигаясь, затаив дыхание, стоял в безмолвии прихожей и ждал — чего он ждал? Что Илва побежит за ним? Что до нее дойдет случившееся и она помчится за ним по лестнице, в зимнюю ночь, догонять, мириться — а он стоит себе в передней, и она, запыхавшаяся, радостная, восклицает: «Я думала, ты ушел!», и Бьёрн говорит: «Нет, я не сумел. Я не мог уйти от тебя, Илва». Но Илва не появлялась. Бьёрн стоял не шелохнувшись, он затаилея в прихожей, как мышка. Илва прошлась по гостиной, завозилась в кухне. Пустила воду. Достала банку с кофе. Она хочет варить кофе! Он затаился в узком коридорчике — ни то ни се, не дома и не на улице. Тссс! Тссс! Не двигайся, не шевелись. Нужно выскользнуть из передней, тихонько повернуть замок, прокрасться на площадку, а там прикрыть за собой дверь — ик Джиму, на боковую. Здрасьте пожалуйста! Этого еще не хватало! На полу валялся Илвин шарф. Как человек аккуратный Бьёрн нагнулся, чтобы поднять его и повесять на место. Нет, какого черта, он сначала покажет ей, до чего она распустилась! Он прошел в гостиную, оттуда — в кухню.
— Вот! — с победоносным видом сказал он, протягивая шарф. — Ты его просто швырнула на пол.
Она расхохоталась. Под веселое бульканье кофеварки Илва стояла, прислонившись к кухонному столу, и ждала, когда будет готов кофе. До чего же она смеялась над Бьёрном, который вернулся и принялся отчитывать ее за то, что она, такая неряха, не повесила шарф на вешалку! Почти как в тот раз, при А. Г. Ларсене, когда она заявила, что, если мужчина не в состоянии платить за квартиру, его можно называть чем угодно, хоть сукой, только не мужиком. Ее безудержный легкомысленный смех перешел в вымученное, натянутое, манерное хихиканье. Презрительное и в то же время жеманное. При всей издевке в нем чувствовалась искренность. С одной стороны, ее мягкое, нарочито кокетливое хихиканье передавало сущность Илвы, а с другой, было ненатуральным, наигранным, вызывающим по отношению к тому, кого она стремилась высмеять. Бьёрну претил этот смех! Надо остановить его! Бьёри хотел помириться! Хотел поцеловать ее. Он подошел к Илве, схватил ее в объятья, прильнул к губам, к обиженным губам, которые она не желала раскрыть, а лишь сжимала еще крепче,— он хотел добиться поцелуя! Но она сжимала губы, она сопротивлялась, отстраняла его упрямо сомкнутыми губами, а Бьёрн хотел поцеловать ее, поцеловать обиженные губы, которые она сжимала, и тут он заметил шарф у себя в руке и, обмотав его вокруг Илвиной шеи (где ему и положено быть), потянул… опа забилась в конвульсиях, а потом притихла, и он сказал себе, что теперь сам попал в нечто неописуемое: он понял, что убил ее, и опустил обмякшее тело на пол.
Чуть погодя он и ввалился к А. Г. со словами, что ему необходим в жизни настоящий друг, верный товарищ в радости и в горе. Что–что, а это А. Г. помнит хорошо: как Бьёрн позвонил в дверь, как он пошел открывать, как Бьёрн ввалился в квартиру и сказал, что ему нужен верный друг. Бьёрн, видимо, расстроен из–за Илвы, которая собирается бросить его, решил А. Г., но Бьёри с ходу выложил:
— Я — убийца. Я убил ее. Что будет с Малышом?
А. Г. не был склонен принимать такое сообщение на веру, поэтому он заставил подняться на ноги присевшего было Бьёрна и повел его обратно к Юнсепам, где собственными глазами увидел, что Илва безжизиенно лежит на полу между двух кухонных столов. Он думал (надеялся), что она не умерла, в лучшем случае просто упала в обморок и ее можно будет спасти, если подоспеет помощь, но один взгляд на распростертое тело убедил его: это не живое существо, а вещь, по неодушевленности не уступающая полу, на котором она лежит, только гораздо менее естественная, поскольку полу и следовало находиться тут, в современной румсосской квартире, тогда как эта вещь понала сюда в высшей степени неестественным путем. И А. Г. поиял, что случивиеосся действительно случилось.
— Давай убирать труп, — сказал он.
Он натянул резиновые перчатки, обнаруженные рядом с посудомоечной машиной, вышел в коридор (переднюю), схватил с вешалки ее пальто (шубу) и прикрыл им Илву: теперь он мог вздохнуть.
— Давай убирать труп, — повторил оп.
Бьёрн продолжал стоять, тупо глядя в пространство. А. Г. пронзительным шепотом велел ему взять собя в руки, потому что, если он не возьмет себя в руки, на нем можно ставить крест, но Бьёри только пробормотал: «Малыш», и А. Г., пропустив это мимо ушей, сиросил, найдется ли в доме большое шерстяное одеяло, в которое хорошо бы завернуть тело. Бьёрн кивнул и пошел в спальню за одеялом. А. Г. тем временем открыл дверь на лоджию, чтобы выветрить сопутствующий таким происшествиям запах. Кроме того, он поискал у Илвы пульс — на всякий случай, сознавая, что если он его обнаружит, то придет в не меньший ужас, чем если бы держал в руке камень и почувствовал бьющееся под его гладкой поверхностью сердце. Когда Бьёрн вернулся, А. Г. накинул одеяло на труп и подоткнул с боков.
Тут–то Бьёрн и начал свой длинный бессвязный рассказ о происшедшем, рассказ, который он, не без перерывов, продолжал до самого рассвета, а к тому времени произошло много всякого другого. А. Г. нащел еще пару перчаток, для Бьёрна, и повел его к себе в квартиру, где он (А. Г.) переоделся в тренировочный костюм, хвастаясь Бьёрну, как он ловко все придумал: ведь если кто–нибудь увидит одного из них в обычной одежде, а второго — в спортивном костюме, это не вызовет подозрений, поскольку никто не подумает, что они знакомы друг с другом, случайный прохожий помогает кому–то тащить тяжелый груз. Обратно в квартиру Юнсена. Предстояло вынести труп, но Бьёрн наотрез отказался прикасаться к нему. Он не в состоянии. Он согласен делать все, что угодно, только не это. Ни за что на свете. А. Г. териеливо объяснил Бьёрну, что без него ему просто–напросто не справиться. Ни за что на свете. Так вот: если Вьёрн хочет, чтобы труп был убран, он должен помочь. Или — или. «Ты нанрасно считаешь, что мне приятно этим заниматься», — вынужден был сказать А. Г. В конце концов Бьёри признал, что без его участия не обойтись. Они обвязали тело одеялом, подняли сверток и вынесли из квартиры, спустились по лестнице в подъезд, где горел свет (что грозило разоблачением, если бы им че сопутствовала удача и они бы кого–нибудь встретили), и на улицу, в ночь.
Зимняя ночь в Румсосе. Ночь на пятницу, 4 марта 1983 года. Двое мужчин несут сверток, мягкий и тяжелый, во тьме между домами, по дорожке, ведущей к Гаражу. Мягкость свертка невыносима, но иа улице темно, и А. Г. напряженно вглядывается вперед, стараясь ие думать об этом. Ночь. Тишина. Румсосские корпуса. Они возвышались вокруг, обступали их — огни везде погашены, только брезжут освещенные лестничные клетки, да время от времени мелькает невыключенный свет в ванной, и еще слабо, почти неприметно горят фонари у входов. Деревья. Снег, скрадываемый темнотой. И сама темень. И снова дома. Все кругом было сущим. Все пребывало в одном состоянии, состоянии бытия, и через это бытие они несли свою тяжкую ношу. В направлении Гаража — и багажника в старом автомобиле. Полный порядок. Никаких поводов для беспокойства. Убрать труп из Румсоса — плевое дело, никто даже внимания не обратит. Они шли куда–то, один (тот, что в спортивном костюме) настороже, вглядываясь в ночь, второй (тот, что в обычной одежде) дробным, мелким нтагом.
Они открыли проржавевший замок, вошли в кромешную тьму Гаража, отыскали Бьёрнову машину и запихнули сверток в багажник. Потом повернули обратно. «Надо замести следы в квартире, уничтожить все Улики», — объяснил А. Г. Бьёрну. Сказано — сделано. По приходе в квартиру А. Г. поручил Бьёрну на всякий случай как следует вымыть пол на месте преступления. Он буквально заставил его взяться за работу, вынужден был заставить. Бьёрна необходимо было чем–то занять, от этого зависел успех предприятия. Сам А. Г. довольствовался ролью контролера, который принимает или не принимает готовую работу. Он обошел квартиру. Не надо ли захватить с собой что–нибудь еще из Илвиных вещей? Конечно, сумку. Еще? Что–нибудь еще? Пожалуй, ничего, Илва ведь пришла вечером без шапки, так без шалки ее и нужно похоронить.
Куда они поедут, спросил Бьёрн. Он точно не знает, ответил А. Г., куда–нибудь за город, подальше. Бьёрн сказал, что не может бросить Малыша. Вдруг тот проснется и обнаружит, что дома никого нет? Он перепугается, а там, глядишь, оденется и пойдет на улицу, искать.
— Бывает, что он просыпается по ночам? — спросил А. Г.
— Нет, ответил Бьёрн, но такое не исключено.
— Придется рискнуть, — сказал А. Г. Риск — благородное дело, а одному мне не справиться.
Они снова переоделись. Теперь в лыжные костюмы. Взяли с собой лыжи, санки для катания с гор (детские, Малыша, но большие), лопаты, Илвину сумку, карманный фонарик и незаменимые в данном случае перчатки. Опять прошли к Гаражу, не встретив ни души, отперли замок и забрались в автомобиль Бьёрна. Бьёрн хотел, чтобы машину вел А. Г., но тот не поддался на уговоры. Нет–нет, только ты сам. Так что Бьёрн сел за руль, и они выехали. А. Г. вылез из машины, запер Гараж, и они тронулись в путь. Дорогу выбирал А. Г. По его указке Бьёрн поехал в противоположную от центра сторону, через Нурмарка, по шоссе, которое вело на восток, к Евнакеру, мимо Ниттедала и затем в Хагеланн. За рулем Бьёрн явно взбодрился и вел машину быстро и ровно. Встречных автомобилей попадалось мало, и можно было милю за милей катить по дороге с ее высоченными елями и сменяющими друг друга крутыми поворотами (типичное норвежское шоссе государственного значения), не щурясь то и дело от слепящих глаз фар и не снижая скорости. В районе Харестуа А. Г. начал высматривать подходящее место для стоянки, и, когда такое место нашлось у развилки дорог, они остановились. Вылезли посреди ночи из машины, открыли багажник, погрузили сверток на санки (А. Г. подпихнул в него сумку), надели лыжи и двинулись в глубь студеного леса, запорошенного, заснеженного, с его бескрайней белизной. Они шли около получаса, волоча санки по ночной целине, в незнакомои местности, не видя ни зги впереди и различая лишь туманную белизну под ногами — зажигать фонарик они без особой надобности не хотели. У небольшого горного уступа они встали и начали раскапывать снег под огромной мокрой елью. Докопавшись, как им показалось, до основания, они размотали одеяло и опустили тело в могилу, после чего с лихорадочной поспешностью забросали его снегом. Теперь все шито–крыто. Теперь тело спрятано под елкой.
Они двинулись обратно к машине, немного поплутали, но в конечном счете нашли ее, и Бьёрн помчался назад, в столичный пригород Румсос. Он гнал машину почем зря, жал, что называется, на всю катушку, летел как сумасшедший, так что А. Г. пришлось несколько раз просить его не играть с огнем: в этом нет нужды. А. Г., между прочим, сообразил, что можно было принять дополнительные меры предосторожности, чтобы отвести подозрения от Бьёрна, скажем, инсценировать убийство на сексуальной почве, однако это уже было слишком даже для А. Г. Он и так сделал более чем достаточно. Например, проявил предусмотрительность и захватил обратно одеяло: оно лежало в пластиковом пакете на заднем сиденье, и по приезде в Румсос он переложил его к себе в багажник.
— Спасибо, что помог, — сказал Бьёрн, когда они, завершив операцию, направлялись от Гаража к дому.
А. Г. невольно улыбнулся, хотя и грустной улыбкой.
— Мы еще не кончили, — сказал он,
Поднявшись в квартиру, где стоял жуткий холод из–за открытой балконной двери, которую они теперь закрыли, А. Г. велел Бьёрну ложиться: завтра ему предстоит трудный день, надо хотя бы несколько часов поспать, прежде чем все закрутится–завертится. Сам он просмотрит Илвины вещи: вдруг что–нибудь привлечет его внимание. Если найдет что–то интересное, положит на обеденный стол. О’кей? Бьёрн кивнул и пошел в ванную чистить зубы. Очень разумно, продолжай в том же духе, подумал А. Г., сейчас самое главное вести себя как ни в чем не бывало. Пройдя в спальню, А. Г. начал рыться в шкафах и ящиках. Вошел Бьёрн и залез в постель.
— Нашел что–нибудь? — спросил он.
— Нет. Пока нет. Спи. Тебе нужно поспать.
А. Г. искал. Сначала в спальне, потом в гостиной,
перерывая один шкаф за другим. Он обыскал всю квартиру, кроме комнаты Малыша, но там, решил он, Илва не стала бы ничего прятать. В ту ночь А. Г. куда лучше прежнего познакомился с Илвой, но коль скоро теперь это неважно, мы не будем описывать, что именно он обнаружил в ее шкафах и ящиках. Достаточно сказать, что никаких секретных писем он не нашел. Значит, Илва, со своей стороны, выполняла уговор. Впрочем, он не ожидал ничего другого, хотя не мешало все же удостовериться самому. Он посмотрел на часы. Полшестого. Надо идти к себе и, если получится, урвать пару часов сна. Выключив свет в квартире Бъёрна Юнсена, А. Г. тихонько, чтобы не разбудить Малыша, вышел за дверь и вернулся домой, где, по несколько утрированному выражению, рухнул в постель. .
Так и не сомкнув глаз, А. Г. в урочное время поднялся, однако завтракать не стал, поскольку его, честно говоря, не привлекала мысль о еде. В обычное время он запер квартиру, спустился по лестнице и прошел через вестибюль с почтовыми ящиками — заурядный мужчина чиновного вида, с привычным «дипломатом» в руке. В его «дипломате», скрытые от постороннего взгляда, лежали две пары перчаток, каждая в отдельном полиэтиленовом пакете. Он дошел до Гаража, который стоял раскрытый настежь, уселся в серебристо–серый «сааб» и поехал по Тронхеймсвейен к центру Осло, в хаммерсборгскую контору. Рабочий день в конторе. Настольный календарь с назначенными делами. Селектор и телефоны. Стенографистки. Столовая (кофе с бутербродами). Встречи, совещания. Архитектор, член ВСА. Старина Ларсен. Начальник отдела планирования. Кофе с бутербродами в столовой. Заседания. Перспективные планы. И вот день окончен. Пока, до завтра! А. Г. спустился к машине и поехал, но не домой, а на стоянку у Туллинлёкка, поскольку теперь–то и начинались его главные дела на сегодня. В багажнике лежало упакованное в пластиковый мешок (возможно, запачканное) одеяло. А на переднем сиденье, в «дипломате», находились два пакета с перчатками. От всего этого А. Г. предстояло избавиться.
Прежде всего он запасся продуктами в магазине «Лоренцен», потом вернулся на Туллинлёкка и, достав из «дипломата» перчатки, положил их сверху покупок в пластиковый пакет. Пакет от «Лоренцена». Затем А. Г. в самый час пик отправился бродить по центру Осло.
Промозглый день начала марта, когда зима в городе еще не желает отступать и под ногами хлюпает снежное месиво, а из–под колес проезжающих машин тебя обдает слякотью. Люди, сгрудившись, стояли на остановках в ожидании трамвая и автобуса или же спешили к станции метро на площади Йернбанеторгет либо на Восточный вокзал, к пригородным поездам. А. Г. под шумок отделался от двух пакетов с перчатками, бросив один в урну с надписью «Держите город в чистоте» возле трамвайной остановки на Стурторгет, а второй — в такую же урну на «Стрёгете» (пешеходной улочке) по соседству со Стургата. Быстро и незаметно, в тамошней сутолоке. Самый обыкновенный мужчина в зимнем пальто, с пакетом от «Лоренцена» в руке, одетый неплохо, но довольно ординарно, безлико, уныло. Будучи преемником норвежских Победоносцев, тех, кто определил, в какую сторону вертеться Колесу Истории в нашем веке, будучи служителем Существующего Порядка, А. Г. одну за другой выбрасывает две пары компрометирующих его перчаток, чтобы позднее избавиться еще от одеяла (возможно, запачканного). Почему этот преуспевающий человек средних лет занимается такими делами? Потому что у него нет выбора. А. Г. уверял меня, что у него не было выхода. Чисто теоретически перед ним открывались две другие возможности. Он мог бы уговорить Бьёрна сознаться, даже набрать для него номер полицейского управления, или он мог сказать: «Нет уж, уволь, из этого тебе придется выпутываться самому», однако обе возможности были чисто теоретические, лежали за пределами его понимания. А. Г. оказался связан по рукам и ногам, он настолько сжился с семейством Юнсенов, настолько сросся с ним, что не мог поступить иначе. Он слишком давно сел в поезд, который со страшной скоростью понесся вперед, и соскочить с него было немыслимо. Поэтому для А. Г. было совершенно естественно вернуться на Туллинлёкка и теперь изобретать, как бы избавиться от одеяла (возможно, запачканного).
Способ, который изобрел А. Г., вызвал у меня восхищение. Как именно он от него отделался, я раскрывать не стану. У нас не детективный роман, а повествование совсем иного плана, почему я не считаю себя обязанным раскрывать, как именно начальник планового отдела, член ВСА, архитектор А. Г. Ларсен избавился от одеяла (возможно, запачканного). Кто знает, вдруг я когда-нибудь ни с того ни с сего засяду за детектив, так что лучше приберечь эту хитрость на потом. Могу только сказать, что он уничтожил одеяло. Оно исчезло, испарилось, не оставив после себя ничего. Потом А. Г. поехал домой, в Румсос.
Опустился вечер, вастроение у А. Г. было не самое радостное. Он сознавал, что, помогая убийце, стал с юридической точки зрения его сообщником. А. Г. удивляло, что он оказался не в силах избежать соучастия в преступлении, но он уже тогда понимал, что иначе поступить не мог. Бьёрн Юнсен был его другом, и А. Г. обязан был помочь ему. Не помоги он ему, это грозило бы катастрофой. Тогда он (А. Г.) был бы разоблачен, раз и навсегда.
Входя в подъезд, он не увидел света в окнах Бьёрна: аначит, либо его нет дома, либо он спит — А. Г. больше устроил бы второй вариант. Размышлять над первым сейчас не имело смысла. А. Г. тоже надо было выснаться, и он пошел и лег. Он крепко спал, когда разхался звонок в дверь, но мгновенно вскочил и открыл Бьёрну. Он (то есть Бьёрн) выглядел значительно бодрее. Худо ли, бедно, он пережил этот день. Бъёрн рассказал. как провел его. А еще он хотел кое–что показать А. Г. Бьерн сходил к себе в квартиру и вскоре вернулся с бтузкой.
— Посмотри, возбужденно заговорил он, — ты только посмотри, что я отыскал! Я такой кофты не дарил, и сама Илва ее тоже не покупала, иначе бы обязательно похвасталась. Она получила ее в подарок от кого–то постороннего и пыталась скрыть от меня. Это улика!
— Да, — согласился А. Г..непременно покажи ее полиции. Такими вещами нельзя пренебрегать. Она может привести к «нему». Вполне может. Будем надеяться, что кофточку купили в модном салоне, а не универмаге вроде «Стеен ог Стрём». Боюсь, в универмаге, где каждый день проходят тысячи, продавщицы не вспомнят покупателя в лицо.
— Хорошо бы его нашли, — сказал Бьёрн. — Я очень надеюсь, что его найдут! Тогда ему придется кое за что ответить.
А. Г. взглянул на Бьёрна. Тот явно обрел прежнюю живость и был теперь настроен на одно: разыскать любовника жены. Объяснив, что почти двое суток не спал и ему надо отоспаться. А. Г. выпроводил Бьерна за дверь и опять лег. Но больше не заснул.
Если А. Г. Ларсен впутался в эту историю из–за рокового, по его мнению, стечения обстоятельств, то подобное объяснение едва ли применимо в елучае Бьёрна Юнсена, поэтому сомнительно, чтобы в то утро будущее рисовалось ему в радужном свете. Никто не хотел бы оказаться в его шкуре, или, как говорят норвежцы, в его штанах. Напротив, все могут почитать себя счастливцами, раз они избавлены от этого. Посему давайте понаблюдаем за его пробуждением и тем отрезвляющим мигом, в который Бьёрну становится яено, что вчерашние события вовсе не ночной кошмар (как он, вероятно, надеялся в полудреме) и что в соседней комнате спит Малыш, и он скоро проснется и прибежит в спальню, где рассчитывает найти маму. Бьёрн сидит на краю кровати, погруженный в размышления, и натягивает свои штаны. Бьёрн Юнсен — единственный человек на свете, которому надо сейчас влезать в Юнсеновы штаны, хочешь не хочешь, а надо. Какие бы штаны он ни надел, он окажется в штанах Бъёрна Юнсена. Он натягивает штаны. В пятницу, 4 марта 1983 года. И тут в спальню вбегает маленький мальчик в пижаме, босиком, и Бьёрн с наигранной веселостью говорит:
— Привет, Бьёрн Эрик! Ну и заспался ты сегодня!
— Где мама? — спросил Малыш… И все завертелось. Бьёрн рассказал Малышу, что мама вчера не пришла домой, что она пропала и что они постараются найти ее и вернуть (или что–нибудь подобное). Он нослал Малыша одеваться, а потом приготовил ему завтрак, по крайней мере дал молока и бутерброд с токоладным маслом или малиновым вареньем, — так я себе представляю. Затем они выкатились на улицу, и вот они идут вдвоем к румсосскому центру, взрослый мужчина с маленьким сыном шагают по снегу, которому в этом году ни за что на свете нельзя растаять.
Из румсосского центра Бьёрн сделал два телефонных звонка. Сначала на Стургата, в «Клесман», где попросил к телефону Пратта. Он сказал, что заболел и пойдет утром к врачу за справкой. Что именно его беспокоит, он не уточнял, заболел, и все, но Пратт стал допытываться, очень недоверчиво. Бьёри повторил ту же фразу: он заболел. И ничего больше. Спокойно, хладнокровно. Его не волновали сейчас ни Пратт, ни работа в магазине, он болыше не дрожал за свое место, не боялся, как бы в приступе ярости не совершить опрометчивого поступка.
Потом он позвонил на работу Джиму, узнать, не ночевала ли у них сегодня Илва, а когда Джим ответил, что не ночевала, Бьёрн рассказал, как она вчера вечером ушла на курсы испанского и с тех пор не появлялась.
— Я сейчас съезжу к Крошке (Илвиной сестре, которая жила в Стовнере), может, она там. А что мне делать, если ее там нет? Заявить в полицию? Обратиться к легавому?
— Подожди, — сказал Джим. — Куда баба денется?
— Но с ней такого ни разу не было, — возразил Бьёрн.
— Все равно погоди. Она… она… в общем, подождем еще немного.
Бьёрн повесил трубку, прервав разговор, и теперь стоял в телефонной будке в румсосском центре, с Малышом, который жался к его ногам. Толстые бетонные стены, неработающие эскалаторы, диковинное красносинее сооружение из сварных труб — словно «центр Помпиду» в миниатюре, выросший здесь, на севере Осло. Еще закрытые магазины, пустующий бассейн. Бьёрн с Малышом дошли до лифта, спустились к подземной станции метро, а там по металлическому мостику перебрались на платформу, мимо высвеченной прожекторами скалы, которая служила как бы напоминанием пассажирам, что они живут в ХХ веке, когда транспорт ходит глубоко под землей, даже сквозь гору. Они дождались поезда на Стовнер, сели в него и проехали две остановки, чтобы зайти к Крошке.
Крошка понятия не имела об Илве, и Бьёрн, всерьез обеспокоившись, спросил, не заявить ли в полицию, что она пропала. Но и Крошка пока не советовала этого делать.
— Подожди, она обязательно появится. Небось загуляла на какой–нибудь вечеринке. Скоро придет, надо думать, без задних ног.
Они еще поболтали, потом Бьёрн взглянул на часы: не исключено, что она уже дома. Пожалуй, съезжу проверить.
— Ты оставь Бьёрна Эрика, — предложила Крошка.
— Нет–нет, он поедет со мной, — твердо сказал Бьёрн.
— Но приходите обедать, если она еще не вернулась.
Обратно в Румсос. Дойти до дома, в котором они живут. В подъезд, вверх по лестнице, найти ключ, отпереть. Стоило ёму открыть дверь, как Малыш проскользнул мимо и влетел в квартиру, громко и радостно крича: «Мама, мама!» — в каждой комнате, через которую пробегал, в гостиной, в спальне, даже в своей собственной комнате, но в квартире по–прежнему царила пустота. Бьёрн стоял в передней, когда сын примчался из своей разведки и доложил, что мама еще не пришла, и Бьёрн прочел на лице Малыша разочарование, да и сам он, можно сказать, был разочарован.
— Хочешь лимонада или чего–нибудь? — спросил он. Давай сходим в Центр, и я угощу тебя в кафе кока–колой. Купим самый большой стакан, — прибавил он, довольный.
Кафе в румсосском центре. Малыш получил свою кока–колу и с наслаждением выпил ее. Потом они опять поехали в Стовнер, к Илвиной сестре. Там они пообедали. Ближе к вечеру появились Джим с Лайлой; отослав Малыша гулять, взрослые принялись обсуждать положение. Раза два Джим и Бьёрн делали вылазки в Румсос, проверить, не вернулась ли Илва, и, не обнаружив ее там во второй раз, Джим тоже забеспокоился. Бьёрн посчитал своим долгом рассказать им (Джиму, Лайле, Крошке и ее мужу), что у него с Илвой были последнее время нелады и она поговаривала о разводе. А еще он поделился с ними своим подозрением, чтоу нее есть другой мужчина. Это неприятно поразило всех, а Илвин брат с сестрой до того разозлились, что позволили себе весьма нелестные высказывания в ее адрес. Поздно ночью Бьёрн с Малышом приехали домой, в Румсос.
Хотя Бьёрн снизу указал на их окна и объяснил: раз они не горят, значит, мамы еще нет — Малыш все равно проскользнул в темную квартиру, как только открылась дверь, и с криком «Мама, мама!» помчался по пустым комнатам. Бьёрн уложил Малыша на диване, под пледом, а сам слонялся по квартире, заглядывая в шкафы и ящики, пока не подошло время переносить Бьёрна Эрика в постель. Тогда–то ему и попалась на глаза неизвестная блузка, которая настолько вывела его из себя, что он должен был немедля переговорить с Ларсеном.
В субботу он с утра пошел в Полицейский участок, располагавшийся на третьем этаже румсосского центра, и заявил об исчезновении жены. Полицейский неторопливо записал анкетные данные и прочие сведения, имеющие отношение к делу, однако Бьёрну показалось, что его не приняли всерьез: дескать, встревоженный супруг заявляет о пропавшей жене, а она просто закатилась куда–нибудь на уик–энд. Выходные Бьёрн провел с Малышом. Сын не отпускал его ни на шаг, даже на лыжной прогулке льнул к нему. Обедали они в грорудском центре — Бьёрн отказался от приглашений на обед, которые получил от Джима с Лайлой и от Крошки. Но Илвины родственники и в субботу, и в воскресенье сами наведывались к нему, узнать, не вернулась ли Илва. Их тревога варастала. Особенно смутила всех неизвестная блузка, предъявленная Бьёрном в качестве доказательства или, во всяком случае, сильного довода в пользу того, что в Илвиной жизни был другой мужчина.
В понедельник дело развернулось не на шутку. В газеты и на телевидение была разослана фотография Илвы Юнсен, и в 12.30 радио передало в программе новостей первое объявление о розыске. В Осло пропала женщина. Одновременно началось дознание. Бьёрна допрашивали в здании Полицейского управления в Грёнланне и вопросы ему задавали самые разные. Он откровенно признался, что Илва требовала развода и что у нее был любовник. Полицейские поехали с Бьёрном в Румсос и попросили разрешения осмотреть квартиру. Они также, с его разрешения, забрали для экспертизы машину, поскольку нужно было проверить все возможные версии. Присутствовать при обыске ему не позволили, и он поехал к Крошке в Стовнер, где находился Бьёрн Эрик. Кроме того, двое агентов в штатском, обойдя квартиры в его подъезде, сняли показания с жильцов. Впоследствии они охватили допросами весь дом. Расследование шло полным ходом.
В прессе появились большие материалы. Две крупнейшие утренние газеты преподнесли происшествие как главную новость дня. С фотографией пропавшей женщины на первых полосах. Не только во вторник, но и в последующие дни. Высказывалось множество предположений и вопросов. Но доброй ли воле покинула Илва Юнсен свой дом и если так, то почему? Или она все же пала жертвой преступления? Стало известно, что она ходила на курсы испанского языка, а после занятий с большой компанией слушателей завернула в ресторан. Но оттуда она ушла рано и трезвая, поскольку выпила всего кружку плзеньского. Она собиралась поехать на метро домои. никто из слушателей не покинул ресторан вместе с ней, да никто Илву толком и не знал. Все считали ее очень стеснительной и, честно говоря, .удивились, когда она поддержала их компанию. Попало в газеты и сообщение о том, что в ее жизни, возможно, был другой мужчина. Кто он такой? Напасть на его след не удалось. Существовал ли он вообще? Но: «Кто купил блузку в „Стеен ог Стрём“?» Это тоже осталось невыясненным, однако газеты много писали о покупке. Были обнародованы и сведения о разладе, наметившемся в отношениях между Илвой Юнсен и ее мужем.
Поступали сообщения от свидетелей, которые видели Илву в нескольких разных местах. В частности, в день исчезновения ее приметили вечером на Восточном вокзале, она была одна и, как утверждал кассир, покупала билет на электричку до Лиллестрёма, но тут ее следы обрывались. Одновременно сообщили, что Илву видели у бензоколонки на Е-6, в районе Вестбю, вдвоем с мужчиной в красной «тоёте», которую так и не сумели найти, несмотря на неоднократные объявления © розыске. Однако обнаружилась также свидетельница, которая утверждала, что в тот самый вечер видела Илву в поезде метро на румсосской линии, причем по времени ее наблюдение удивительно хорошо согласовывалось с тем, когда Илва ушла из ресторана, собираясь ехать на метро домой. .
Хотя последнее сообщение осталось недоказанным, допрашивать мужа стали строже. Следователи, казалось, что–то затаили против него и время от времени давали понять, что не верят показаниям Бьёрна Юнсена. Они пытались поймать его на противоречиях, переиначивали его слова. Расспрашивали о крайне незначительных подробностях и энизодах, и, если его ответы не полностью совпадали с тем, что он утверждал ранее, указывали на несоответствие. В то же время следователи умалчивали, было ли обнаружено что–нибудь подозрительное в его машине и квартире. Почему он об этом спрашивает? Потому что такое впечатление, будто вы подозреваете меня. А что, разве есть основания подозревать его? Нет? Тогда непонятно, о чем он беспокоится. Настораживает одно: он фактически не противоречит себе в отношении каких–либо важных эпизодов, что очень редко встречается у тех, кому нечего скрывать. И еще: если фру ММ права и действительно видела в тот вечер вашу супругу в метро, если мы на минутку предположим, что это так и ваша жена действительно ехала в метро и сошла в Румсосе, куда она, по–вашему, могла деться? Но расколоть Бьёрна Юнсена им не удавалось.
— Кажется, они считают меня крепким орешком, — не без горделивости признавался он А. Г. «Хитрый змей» — таким он, по собственному мнению, представал в глазах следователей.
И все же Бьёрн, наверное, боялся. Он подозревал, что находится под подозрением. Пусть следователи не высказывали ему недоверия прямо, а в ответ на вопросы Бьёрна даже отпирались, их намеки, недомолвки наводили на тревожную мысль о том, что его подозревают. Или все это мерещится ему из–за помутившегося рассудка? Кто знает? Разобраться было невозможно.
Бьёрн старался вести привычный образ жизни, однако это давалось ему с трудом. Илвины родственники, желая помочь ему, приезжали в Румсос каждый день (если не каждый час, как сетовал Бьёрн в разговорах с А. Г.). И сидели у него со своими опасливыми раздумьями. С затаенным осуждением Илвы, которому они то уступали, то пытались воспротивиться, особенно когда их тянуло на обличительные речи. Ведь можно было предположить, что Илва стала жертвой преступления. И предположить небезосновательно, хотя ни развить эту идею до конца, ни тем более выразить ее вслух они не решались. Бьёрна угнетало повышенное внимание Илвиной родни, но он не мог уклониться от встреч с ними. Самому ему хотелось видеть только Ларсена. Заметив это, А. Г. стремился по мере сил поддерживать Бьёрна. А. Г. Ларсен, например, уговорил его сновз приступить к работе в магазине.
— Тебе сейчас вредно оставаться наедине со своими мыслями, — сказал А. Г. Того гляди, получишь нервный срыв. А это никому не нужно.
В беседах с А. Г. Бьёрн постоянно возвращался к теме любовника, и, судя по всему, в раздумьях наедине с собой она также чрезвычайно занимала его. А. Г. томился, слушая Бьёрновы рассуждения о том, что нет для него ничего хуже неизвестности. Бьёрну требовалась Ясность.
— Где может быть «он»? — вопрошал Юнсен. — Почему не заявляет о себе? Что ему скрывать? Тут явно дело нечисто.
Мы не знаем точно, что творилось в это время в голове Бьёрна. Но совершенно очевидно, что он попал в довольно сложные условия, когда, с одной стороны, важно было двигаться в правильном направлении, а с другой, в темном лесу, через который день за днем, час за часом продирался двадцатидевятилетний продавец из «Клесмана», его кругом подстерегали опасности. Думы и видения грозили в любую минуту одолеть его, повергнуть наземь. Слишком многое надо было объявить запретным для себя, о многом не допускать и мысли. Ведь такие мысли парализуют, а ему надо было действовать спокойно, хладнокровно, тщательно взвешивая обстоятельства. Малейший неверный шаг — и все будет кончено. Волосы встают дыбом от сознания этого, Бьёрн же не мог позволить себе такого. Малыш! Рядом с ним! Они вдвоем, вместе. Допросы. Неизвестность. Подозревают ли Бьёрна, допрашивают ли как подследственного или отправляют пустую формальность? Он не понимал, а следователи ничем не обнаруживали это.
Вдобавок еще необъяснимое поведение любовника. По словам А. Г., оно интриговало Бьёрна, присутствовало во всех его размышлениях. А размышлял Бьёрн в исключительно сложных климатических условиях, в разреженной атмосфере, с перевозбужденным мозгом. Почему любовник не объявляется? Почему не дает о себе знать, если он невиновен? Или у него все–таки рыльце в пуху?
Темное дело. Непонятное. Почему любовник не объявляется, он ведь невиновен? Разве что?.. Что разве что? Тогда додумывай до конца: что разве что?
Что разве что? Этот вопрос час за часом, день за днем грыз Бьёрна Юнсена всю первую неделю после исчезновения жены, за которую стало ясно, что жизнь больше никогда не будет прежней, а прежняя жизнь (о ней следовало размышлять в прошедшем времени, что само по себе было невыносимо) представлялась теперь безоблачной и светлой. Он безумно тосковал. Пустая квартира. Малыш уже не зовет маму всякий раз, когда они приходят домой, однако стоит Бьёрну отпереть дверь, как он проскальзывает внутрь и обегает комнаты, шаря по ним глазами и опять–таки не произнося ни слова. И Бьёри вынужден спокойно смотреть на это, помня, что находится под подозрением. Бьёрн так не хочет! Бьёрн не желал случившегося! Почему, почему? Почему он не объявляется, если ни в чем не виноват? Разве что? Что разве что?
Как утверждает А. Г. Ларсен, Бьёрн сам позвонил в «ВГ»[30]. Вернее, к нему и раньше подкатывался их корреспондент, но Бьёрн отказался дать интервью. Вскоре он, однако, передумал и позвонил в редакцию: так и так, он согласен на беседу. «ВГ» мгновенно отреагировала, прислав репортера и фотографа. И в Румсос пришла газета рабочего класса, чтобы взять интервью у горюющего продавца. Получившийся материал можно увидеть в номере за пятницу, 11 марта. Вся первая страница посвящена Бьёрну Юнсену и его малолетнему сыну, Бьёрну Эрику. Большая фотография Бьёрна и Малыша (с врезкой уже примелькавшегося лица Илвы). Заголовок, аршинными буквами: «ВОЗВРАЩАЙСЯ ДОМОЙ, ИЛВА!» На снимке Малыш сидит на коленях у отца, тот крепко прижимает его к себе, а сам добродушно и беспомощно глядит на читателей. На первой полосе, в предваряющей интервью заметке говорилось, что у пропавшей в Румсосе женщины по имени Илва (24‑х лет) есть муж, Бьёрн Юнсен (29 лет), и маленький сынишка, Бьёрн Эрик (6 лет), которые, не имея вестей об Илве, тоскуют и волнуются за нее. Бьёрн Юнсен просит Илву — если ей попадутся на глаза эти строки, — вернуться домой. Он не держит на нее зла и умоляет возвратиться, ради него и ради сына. У них все опять будет хорошо. Малыш каждую минуту спрашивает, где мама. МЫ СКУЧАЕМ БЕЗ ТЕБЯ, ИЛВА! (Продолжение на с. 144 и 15. О расследовании см. также с. 22 и 23.)
Интервью имело для Бьёрна Юнсена огромное значение, став на ближайшее время его евангелием. Он снова и снова перечитывал статью вслух, сопровождая ее своими комментариями. Он показывал сыну фотографию и читал ему заголовок и все, что было написано о Малыше, кончая словами: «МЫ СКУЧАЕМ БЕЗ ТЕБЯ, ИЛВА!» Так же Бьёрн поступал и перед Илвивыми родственниками, и перед А. Г. Есть основания полагать, что он еще не раз читал интервью самому себе. Он возбужденно расписывал А. Г., как много корреспондент и фоторепортер снимали у него в квартире, щелкали не переставая, чего–чего, а пленки они не жалели! Бьёри перечислял их вопросы, приводил собственные ответы. Он позволил себе несколько критических замечаний по адресу репортеров. В частности, он рассказал им о своей хоккейной карьере, о незажившей травме, даже дал фотографию, на которой был снят в 1974 году при полном боевом параде, в форме «Манглеруд–Стар», но они практически ничего не использовали. Коротенькая фраза о том, что он играл в хоккей, и все. Снимок в газете не напечатали. А могли бы, между прочим. В общем, Бьёрн был разочарован и не скрывал этого. Да, что ни говори, спорт принадлежит сегодняшнему дню, назавтра все уже забыто.
Однако, насколько понял А. Г., интервью было важно для Бьёрна по другой причине. Он предстал тут «крепким орешком», «хитрым змеем». Благодаря этой публикации он выходил из подозрения. Трудно поверить, чтобы виновный стал афишировать себя, у кого, скажите на милость, хватит на такое смелости и душевного спокойствия, в конце концов, нахальства? Он отводил страшное подозрение, то есть отрывался от преследователей, получая при этом возможность собственными глазами видеть напечатанные черным по белому единственные слова на свете, которые ему хотелось сейчас прочитать: «Возвращайся домой, Илва! Мы скучаем без тебя!»
Вот с кем была связана судьба А. Г., да–да, Бьёрн и его поступки определяли, что ждет А. Г. Ларсена. И тот не мог не признать, что Бьёрн преподнес ему приятный сюрприз. Он действительно оказался «крепким орешком», поскольку готов был на любые уловки, только бы вырваться из окружения. Ему поручили в фильме главную роль, и он исполнял ее мастерски, с увлечением. А. Г. наблюдал за ним. Понимая, что теперь все зависит не от него самого, а от другого, от Бьёрна.
Со страниц газет на А. Г. смотрели фотографии Илвы, с первых полос и с последних, не говоря уже про развороты. Предположения, догадки, броские заголовки. К нему наведались двое полицейских в штатском, расспрашивали об отношениях с соседями по площадке. Он любезно ответил на все вопросы, подчеркнув, что прекрасно ладил и с мужем, и с пропавшей женой. Да, они были добрыми соседями, и он весьма ценил эти отношения, тем более что они помогали ему в работе. Поверьте, для человека, занимающего ответственный пост в ОБОСе, хорошие отношения с типичными жильцами кооперативного дома стоят десяти самых замечательных семинаров на фешенебельном горном курорте. Не заметил ли он чего–нибудь особенного в четверг, 3 марта? Нет, ровным счетом ничего. Как жили соседи между собой? Вроде хорошо, нормально. Знает ли он, что у них шло к разводу? Да, он прочел в газете, уже потом, и очень удивился. Как мало мы все–таки разбираемся в чужой жизни… Короче говоря, были основания считать, что визит двух сотрудников в штатском окончился благополучно.
Что представляло для него опасность? Только те два раза, когда он навещал Илву одну. Во–первых, утро, когда он заглянул к ней после инспекции, и еще вечер в среду, когда Бьёрн был на ипподроме и А. Г. позвонил Илве в дверь, чтобы вручить свой незадачливый подарок. Не засек ли кто–нибудь его посещений? Скажем, сосед, этажом выше? Вот чего ему следовало опасаться, хотя вероятность этого едва ли была велика. Однако дело, как известно, решает случай, и, когда А. Г. посреди дня входил в подъезд, кто–нибудь вполне мог стоять у окна и потом, тихонько приоткрыв свою дверь, поймать А. Г. на том, что он не пошел к себе в квартиру, а звонит соседке напротив. Неужели так и было? Тогда его скоро поставят перед фактом.
Ну и что? Он в кои–то веки вернулся пораньше с работы, чтобы в тишине и спокойствии обдумать сложную проблему перспективного жилищного строительства, ау него в доме не оказалось кофе. Почему он не сходил за кофе в румсосский центр? Да потому, что он уже поставил греться воду! И ему не хотелось идти на улицу, проще было попросить у фру Юнсен. Конечно, ему могут не поверить, но брать его под подозрение только потому, что однажды его застали у дверей фру Юнсен, это, честно говоря, не лезет ни в какие ворота.
Нет, у них против него абсолютно никаких улик. Что бы ни случилось, им не удастся ему ничего прищить. Если происшедшее выплывет наружу, он будет все отрицать. Начальника отдела планирования Ларсена связывали с Бьёрном Юнсеном исключительно соседские отношения. Он все отрицает. Один свидетель против другого. Что ж, придется им выбирать, кому они больше верят. Предъявите доказательства. Улики, улики!
Значит, начнут доискиваться улик. И А. Г. принялся за дело. Он развинтил на части свою прекрасную кинокамеру, сложил детали в два пакета и выбросил в два разных общественных мусоропровода. Цозднее он разобрал и стереосистему. Динамики он разломал и, размонтировав все, что можно, сложил вместе с другими частями в пакеты, от которых тоже избавился. Что еще? Отснятая пленка, которой он сам ни разу не видел, — ее
А. Г. обратил в пепел. теперь он был во всеоружии, он мог уберечься от Падения, настолько чудовищного, что норвежская публика поначалу просто не поверила бы в него. «И была бы права!» — угрюмо думал А. Г.
Он оказался замешан в события и обстоятельства, соучастие в которых А. Г. Ларсена было неправдоподобно, а потому любой здравомыслящий человек подверг бы его сомнению. Это была последняя карта А. Г., его козырь. Не ведут ли какие–нибудь следы от Бьёрна к нему или от него к Бьёрну? Весь воирос был в этом. Если следов нет, значит, в худшем случае остаются только показания Юнсена. Он внимательно следил за Бьёрном, с которым был связан, с которым и хотел быть связанным, но совсем иначе, чем теперь. Не подумайте, что А. Г. не испытывал к нему сострадания. Зная о происшедшей Трагедии, А. Г. было тяжко видеть Бьёрна, встречаться с ним, разговаривать, быть ему другом. Настолько тяжко, что за избавление от этой повинности А. Г. отдал бы несколько лет жизни. Но он вынужден был встречаться с Бъёрном. Поддерживать его. Ларсен был его единственной опорой. Только при общении с ним Бьёрна Юнсена не обволакивало страхом, и А. Г. тоже приходилось играть в рискованную игру, ставкой в которой была жизнь, проявлять змеиную изворотливость, бояться сделать малейший неверный шаг, оступиться на ерунде. Бьёрн мог рассчитывать только на Ларсена. А. Г. же должен был наблюдать за ним, хладнокровно и рассудительно, и спрашивать себя: есть ли какие–нибудь следы от него ко мне, от меня к нему?
Он старался подбодрить Бьёрна. Веди нормальную жизнь. Делай то, что привык делать. Надо жить дальше, Он часто заходил к несчастному соседу по площадке. Заглянул к нему и в воскресное утро 13 марта. Как много раз прежде, он позвонил в дверь с табличкой «Юнсен» и сказал, что через час начинаются соревнования на Холменколлене. Прыжки с трамплина, пояснил А. Г., неужели Бьёрн забыл?! Ставь пластинку, помнишь, Венский симфонический? Ставь–ставь, нам надо настроиться. Сейчас будут прыжки с трамплина! Бьёрн достал пластинку, поставил ее. Они сидели каждый в своем кресле, как в былые времена. Слушали. Настраивались. Малыш тоже был с ними, он сидел на диване, поминутно вскакивая. Почему он не идет гулять в такую чудную погоду? Он тоже хочет посмотреть прыжки с трамплина. Они слушали музыку. Скоро уже весна, а они сидят в помещения. С улицы доносился звон капели. Часады домов подмокли от таящего снега. На пригорках появились островки голого асфальта, которые с каждым днем понемногу росли — совсем рядом с домом, по дороге к румсосскому центру. Они сидели перед телевизором — Бьёря Юнсен и Ларсен. И еще Малыш, который не хотел идти играть на улицу. Бьёрн Юнсен и его сообщник. Бьёрн
Юнсен со своим добрым помощником. Конечно, Бьёрн был очень благодарен Ларсену, конечно, он высоко ценил его преданность и неоднократно давал это понять. Тем не менее он как будто не видел в действиях Ларсена ничего выдающегося, ничего невероятного. Ему, очевидно, казалось вполне естественным, что они сидят вместе, будучи соучастниками свершившегося кошмара, в который Ларсен, строго говоря, вовсе не обязан был ввязываться. Похоже, что мысль об абсолютной непостижимости Ларсенова соучастия не приходила Бьёрну в голову. Похоже, что он считал непонятное, даже самоубийственное поведение Ларсена вполне естественным, чуть ли не само собой разумеющимся между друзьями. Ларсен поступил, что называется, порядочно. А. Г. удивлялся такой реакции, она была неприятна ему, делала его связь с судьбой Бьёрна особенно невыносимой. И все же они сидели рядом, в своем невыносимом согласии. И вот начались прыжки. Как по заказу, стоило только смолкнуть пластинке. Они смотрели соревнования. Бьёрн и Ларсен, а с ними Малыш. Я не стану ни вкратце, ни подробно описывать соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, происходившие на Холменколлене в 1983 году. Пожалуй, упомяну лишь один небольшой эпизод (сам я не видел его, поскольку, как известно, находился тогда в Мехико). Соревнования ознаменовались сенсацией, однако эту сенсацию невозможно вычитать в таблице результатов, поскольку из протоколов она изъята, так что ее как бы и не было, хотя легенда о ней скорее всего сохранится надолго. Поэтому мне и хочется рассказать о ней. На экране в румсосской гостиной неизвестный прыгун под номером шесть оторвался от края трамплина и полетел, не очень чисто, но полетел, а потом парил, парил, парил, летел все дальше и дальше, и камеры недоверчиво следили за этим удивительным полетом, пока лыжник не приземлился в самом низу горы. Так далеко с всемирно известного холменколленского трамплина не прыгал еще никто. Новый абсолютный рекорд. Поставленный, можно сказать, мальчишкой из Гроруда, о котором никто раньше не слышал. Юнсен с Ларсеном, довольно вяло наблюдавшие за первыми прыгунами, результаты которых всегда бывают посредственными, просияли. Вот это да! Надо же, нежданнонегаданно они стали свидетелями Чуда. Все трое — и Убийца, и его малолетний сын, и его сообщник — пришли в восторг. Убийца напрочь забыл дурной сон, в котором пребывал наяву, его малолетний сын забыл то, о чем последнее время помнил каждую минуту, а соучастник на миг забыл ужасное положение, выпутаться из которого он мог, только приложив всю свою изворотливость. Однако прыжок не засчитали. Судьи собрались вместе, соревнования были приостановлены и попытка не засчитана. Началась новая серия прыжков, с более низкой точки. Но интерес к соревнованиям угас. Произошло величайшее событие, и если его можно было изъять из протокола, то нельзя было изгладить из мыслей обреченных, что сидели в румсосской гостиной. Бьёрн пообещал купить Малышу прыжковые лыжи. Дал честное слово, и Малыш помчался гулять или, скорее всего, поделиться потрясающей вестью с игравшими поблизости приятелями.
Соревнования окончились.
— Вот и все, — сказал Бьёрн и с помощью Пульта управления выключил телевизор. А. Г. спросил, что нового. Новостей у Бьёрна не было. Сообщение о том, что Илву видели в Хамаре, не подтвердилось. «Опять все сначала», — устало сказал он. А. Г. собрался уходить. Но перед уходом попросил разрешения взять с собой пластинку, ту, с Венским симфоническим, ему сейчас хочется послушать как раз такую музыку.
— О чем разговор? — откликнулся Бьёрн. Конечно, забирай, ты же знаешь, я не любитель.
— Я возвращу, — заверил А. Г., а Бьёрн то ли не сомневался в этом, то ли ему было все равно. А. Г. держал в руках пластинку. Наконец–то! Разделался! Расквитался! Попрощавшись, он прошел с драгоценной пластинкой от Юнсена к себе, аккуратно протер ее и поставил на полку с другими пластинками, туда, где и было ее законное место. Так просто оказалось порвать последнюю ниточку, причем человек, от которого А. Г. таким образом отделался, ничего не заметил, словно для него это было в высшей степени несущественно!
Впрочем, Бьёрн Юнсен только выгадал на этом, поскольку теперь мог еще неделю прожить, не испытывая по крайней мере острого одиночества. Однако перед самой пасхой произошел инцидент в гараже. А. Г. пришел в гараж и сел в серебристо–серый «сааб», чтобы ехать на работу, как вдруг услышал стук в боковое стекло. Он поднял глаза. Рядом с машиной стоял Бьёрн. А. Г. опустил стекло: что такое? Бьёрн просился подъехать с ним в центр, ему надо на работу, в «Клесман». Обычно он ездил на метро, но сегодня ему невмоготу, мерещатся косые взгляды, он не в состоянии больше выносить, как на него пялятся, это действует ему на нервы. (Поехать на своей машине Бьёрн не мог из–за проблем со стоянкой.) А. Г. перепугался. Еще не хватало подвозить Бьёрна. Он лихорадочно соображал, какой бы найти предлог отказать ему. Он не хотел впускать Бьёрна к себе в машину. Можно было, конечно, настоять, чтобы Бьёрн переборол страх перед взглядами, почему бы и нет, вдруг ему удалось бы убедить Бьёрна? Но он почувствовал, что так нельзя. Так продолжаться не может. Будь что будет. А. Г. распахнул дверцу, и Бьёрн влез на переднее сиденье, рядом с ним. И тут же обнаружил пропажу.
Сначала он онемел от изумления.
— Где стерео? — спросил он наконец.
Не найдясь, А. Г. промычал что–то нечленораздельное. И сосредоточился на дороге: они ехали по Тронхеймсвейен, к центру города.
— Нету, произнес он через некоторое время, не отрываясь от мокрого после дождя шоссе, что виднелось из–за «дворников», смахивавших со стекла весеннюю изморось.
— Нету? — разочарованно протянул Бьёрн. Такая замечательная система.
— Я убрал ее, сказал А. Г.
— Убрал. Ты что, спятил?
А. Г. только пожал плечами.
— Но почему, почему? — недоумевал Бьёрн.
А. Г. не отвечал. Бьёрн тупо смотрел на пустое место, оставшееся от стереосистемы. Но вот до него, кажется, дошло.
— Ага, — обронил он. — Понимаю. — И не прибавил ни слова. Дальше они ехали молча. А. Г. нечего было объяснять, Бьёрн и без того сказал, что понимает. А если так, значит, он понял достаточно. Понял, что надеяться не на кого. А. Г. высадил Бьёрна у Анкерторгет, и тот, поолагодарив, двинулся по Стургата — до «Клесмана» было подать рукой.
Тротуары уже освободились от снега. Снова проглянул асфальт, лишь в укромных уголках сохранились почернелые снежные залежи, короче, наступало самое отвратительное в Норвегии время года: весна, когда вся прошлогодняя грязь вылезает на свет божий. В глубине Нурмарка, ближе к Хагеллану, тоже была оттепель, во всяком случае, сразу после пасхи двое ребят, катаясь на лыжах, обнаружили торчащие из–под елки ноги. В выходных брюках, в каких не катаются на лыжах в Харестуа. Вот и поставлена точка. Газеты сообщили: «НАЙДЕН ТРУП ИЛВЫ».
Теперь оставалось только ждать. Вернувшись в тот день домой, А. Г. не увидел у Бьёрна света. Его окна оставались темными и около шести, когда А. Г. отправился на свою ежевечернюю пробежку, и через час, когда он прибежал обратно. В телевизионном обзоре текущих событий не прозвучало ничего нового по сравнению с тем, что уже появилось в газетах. Зато наутро А. Г. прочел, раскрыв «Арбейдербладет»: «Супруг сознался в убийстве пропавшей женщины. Это произошло вчера поздно вечером. С утра Бьёрна Юнсена вызвали на допрос и предъявили кое–какие улики, обнаруженные экспертизой в багажнике его автомобиля. После многочасового допроса муж раскрыл свои карты».
А. Г. оставалось только ждать. Проходил час за часом. В вечернем выпуске «Афтенпостен» была помещена фотография Бьёрна Юнсена, которого вводят в помещение суда по уголовным делам (обычная процедура для того, кто оказался в его положении). На снимке Бьёрн спрятал лицо, прикрыв голову курткой. Истекал час за часом. Наступил вечер, потом ночь, потом утро. Проходил час за часом. День за днем. Время хотя и медленно, но двигалось. И ничего не случалось. Так прошло несколько недель. По–прежнему ничего. Никто не звонил А. Г. в дверь. Или по телефону. Никто не наведывался к нему в контору, не звонил на работу, кроме как по делам, связанным с ОБОСом. Никаких намеков в печати на возможное сенсационное сообщение. Никаких намеков на неизвестного Соучастника. Никто не звонил в дверь. Никаких неприятных разговоров по телефону. Не появлялись двое сотрудников в штатском, чтобы предъявить ему обвинение. Ровным счетом ничего не происходило. Постепенно до А. Г. дошло, что он может вздохнуть с облегчением.
Он понял, что выпутался. Он даже ни капельки не испугался, когда начался судебный процесс. А. Г. был уверен, что Бьёрн ничего не скажет. И Бьёрн не сказал. Он ни единым словом не обмолвился о Ларсене, не попытался преподнести неправдоподобную историю о том, как уговорил соседа, начальника из ОБОСа, помочь ему избавиться от трупа. Он ни единым словом не выдал А. Г. Напротив, он, судя по сообщениям печати, весьма обстоятельно описал, как глухой ночью выволок тело из квартиры. Как хладнокровно подогнал машину в запретную для автомобилей зону, подвел к самому подъезду, потом стащил тело по лестнице и запихнул в раскрытый багажник.
После всего случившегося А. Г. не мог больше жить в Румсосе. Он довольно дешево уступил свою квартиру и переехал в один из стандартных домиков на южной окраине Осло, в Холмлиа, где проходит шоссе, ведущее через Швецию в Европу. Этот переезд был весьма благоразумен и с профессиональной точки зрения. Жилье в Холмлиа плохо раскупалось, и пример переселившегося туда ОБОСовского начальника мог повысить престижность района.
В последний раз я виделся с А. Г. сразу после его переезда в Холмлиа. Я зашел к нему в контору. Он давным–давно досказал мне свою историю, но мне требовались кое–какие уточнения. Я задал ему несколько вопросов. Он звонил мне в августе, после моего возвращения из Мексики, ну да, я услышал звонок, как раз когда вошел к себе в квартиру, возле стадиона «Уллевол». А. Г. уже тогда не сомневался в исходе дела. Но мог ли он быть абсолютно уверен? Например, почему было Бьёрну, сидя в камере и размышляя о «нем», то есть о любовнике, внезапно не связать «его» с А. Г., не догадаться, как догадывались многие до него? Об этом ли я хотел спросить А. Г.? Не помню. Впрочем, неважно. Я только еще раз подчеркиваю: описанный мной случай не происходил в действительности и тот, кто пойдет по моим следам, не обнаружит ничего. Nothing. Это не документальный роман, не публицистика. Это роман старого образца, назовем его социально–критическим. Тем не менее, когда я собрался уходить, А. Г. спросил меня:
— Ты не надумал ли писать об этом?
Приближалось Рождество, в витринах уже выставили рождественские подарки, так что, видимо, было начало ноября, а может, начало октября, нет, в октябре шел суд, значит, скорее начало ноября. Застигнутый врасплох таким вопросом от человека, которого я в самом деле прочил в герои своей книги, я ответил:
— За кого ты меня принимаешь?
А потом взревел, в третий раз на протяжении нашего романа. Смею уверить читателей, что этот бесподобный рев произвел большое впечатление в оплоте социал–демократии, расположенном в центре Осло по адресу: Хаммерсборгторг, 16.
Об авторе
Dag Solstad. Forsok pa a beskrive det ugjennomtrengelige.
В самом начале публикуемого романа его автор Даг Сулстад (р. 1941) изображает свою встречу в ресторане с вымышленным героем — земляком и однокашником, которого он не видел много лет и который стал за это время преуспевающим архитектором, чиновником я бюрократом, словом, всем тем, во что мог бы превратиться и автор, сложись его судьба по–иному. Автор романа, в свою очередь, рассказывает другу детства о своих писательских успехах, и тут его подстерегает сюрприз — друг детства в восторге от его последнего романа «Рассказ учителя гимназии Педерсена», который он воспринял как злую сатиру, каковым он на самом деле не является.
Действительно, в 1982 году Даг Сулстад написал роман, полное название которого — «Рассказ учителя гимназии Педерсена о великом политическом пробуждении, которого сподобилась наша страна», В книге на самом деле описываются комические приключения писателя, молодого человека только что с университетской скамьи, искренне уверовавшего зв маоистскую утопию и скорое пришествие в социалдемократическую Норвегию «революционной бури». Иное дело, что сатиру романа 1982 года никак нельзя назвать злой, в гораздо большей мере это грустное расставание с былым оптимизмом и иллюзиями — попытка критического анализа утраченных убеждений и одновременно их оправдания. Ведь не кто иной, как сам Сулстад, в 60‑е годы входил в «Группу 66», объединявшую вокруг журнала «Профиль» леворадикальных писателей–новаторов, а также редактировал в 1970‑е годы крайне левый журнал «Классовая борьба», и он же был автором романа «Арильд Аснес. 1970 год» (1971), который принес писателю широкую известность и стал в свое время «библией» для леворадикальной молодежи, не принимавшей ни буржуазного образа жизни, ни советской модели социализма.
«К 1980 году энергия левого движения в Норвегии сошла на нет. Критика наших утопических мечтаний была необходима и полезна», — признал в одном из интервью Даг Сулстад в 1983 году. Какие же взгляды пропагандирует ныне этот ставший маститым писатель, автор, кроме перечисленных уже книг, романа о борьбе норвежской общественности против вступления страны в Общий рынок «Площадь 25 сентября» (1974) и трилогии о движении Сопротивления в Норвегии: «Обман. Предвоенные годы» (1977), «Война, 1940 год» (1978), «Хлеб и оружие» (1980)? Одним из мировоззренческих принцинов норвежских «марксистов–ленинцев» 1970‑х годов был своего рода антиинтеллектуализм, сознательное сведение противоречий жизни до контраста черного с белым. В публикуемом романе, вышедшем в свет в 1984 году, также описывается попытка «опрощения» или же приобщения интеллектуала к жизни простого народа, хотя предпринимает ее теперь не безусый юноша–идеалист, идущий в рабочую среду ради пропаганды своих псевдореволюционных идей, а немолодой многоопытный архитектор–чиновник, которому опостылел буржуазный быт в его привычных семейных рамках; преследуемый одиночеством, он ищет друзей среди народа, населяющего спроектированные им дома, он их находит, но попытка его оказывается такой же неестественной, как и у безусого юноши, более того, она приводит его к соучастию в преступлении. Содержание романа этим не ограничивается. В нем представлена довольно широкая панорама жизни современной Норвегии в самых непоказных ее формах: простые люди этой страны оказываются не такими простыми, хотя и не чересчур сложными: сама простота и даже примитивность их поступков и мечтаний воспринимаются с удивлением, они действительно неожиданны; об этих людях Даг Сулстад, опровергая литературные стереотипы, говорит без ложной романтизации, сочувственно и честно.