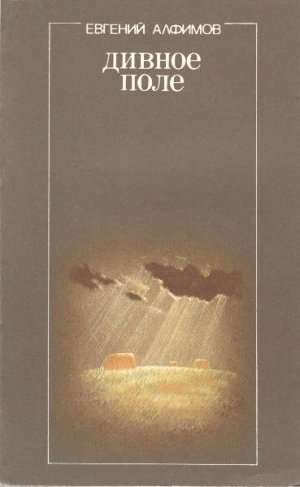
Дивное поле
У артиста областной филармонии Алексея Жребенцева умерла мать. Схоронили ее в родной деревне, на сельском кладбище — так пожелала покойница. Вернувшись в город, он три дня не выходил из своей тесной, душной квартирки, лежал на потертой тахте и тупо глядел в потолок. А утром четвертого дня позвонил на работу и попросил, чтобы его немедленно послали куда-нибудь в поездку. На слове «немедленно» его голос истерически зазвенел, и Ева Григорьевна, администратор, поспешила сказать, что его желание вполне осуществимо: автобус с артистами отправляется в дальний район, и он может присоединиться к бригаде.
Пускаясь в путь, он хотел забыться, развеяться, избавиться от тихой, но упорной боли в сердце, от мыслей, раскалывающих голову, но, едва усевшись в автобусе, на заднем сиденье, подальше от коллег, уже пожалел, что напросился на эту поездку. Все его раздражало: и неприятно-знакомая старая, разбитая «Кубань» с грязными стеклами окон и густым слоем пыли на дерматиновых креслах, и устоявшаяся бензиновая вонь в салоне, и круглый рыжий затылок водителя Миши, похожий на подсолнух, выраставший из стебля тонкой мальчишеской шеи.
Всего же больше раздражали его коллеги, которые после недолгого, подчеркнутого красноречивыми вздохами молчания в знак сочувствия горю товарища как-то вдруг и сразу оживились, загалдели, заговорили и, конечно, не о предстоящем концерте и не об искусстве вообще, а о всякой мелкой житейской всячине. Сергей Лунный, артист так называемого оригинального жанра, и Марк Груздьев, баянист, обсуждали качество бритвенных лезвий «Восход», и, хотя сходились во мнении, что лезвия хорошие, оба почему-то неприлично горячились и размахивали руками. Клара Солодовникова, пожилая исполнительница эстрадных песен, во всеуслышание жаловалась на закройщицу из ателье, которая загубила ее бархатное вечернее платье. Шушукался тихо, не разобрать ни слова, прыскал в узкие ладошки дуэт — вокалистки Ирочка и Зиночка. Жребенцев не сомневался, что девушки пересказывают друг другу свежие анекдоты. Ирочка и Зиночка, хотя и молоденькие, были тощенькие и некрасивые.
Жребенцев морщился, поглаживая ладонью челюсть, будто у него ныли зубы, и размышлял о несправедливости судьбы, которая его, выпускника столичной консерватории, обладателя чудесного голоса, повязала с провинциальной филармонией и этими вот людьми.
До захолустного колхоза — цели их путешествия — они добрались в два часа пополудни. Наскоро пообедали в сельповской столовой и поехали на ток, где выступили перед десятком механизаторов, чистивших и сушивших зерно. В пять вечера давали часовой концерт в Доме культуры. В зрительном зале потолок и стены подтекли грязно-желтыми пятнами, а пол на сцене зиял щелями и упругими волнами колыхался под ногами.
— Пренебрегаете культурой, — сделал замечание сопровождавшему их колхозному председателю чтец Иван Бортников, мужчина степенный и рассудительный, примерный семьянин и общественник, никогда не проходивший мимо недостатков.
— Дел, дел, не знаешь, за что хвататься, без преувеличения сказать, — вздохнул в ответ председатель.
В клубе народу собралось больше, чем на току, однако публика была сплошь какая-то несолидная. Маленькие детишки чуть ли не детсадовского возраста уселись в первом ряду и, раскрыв рты, уставились на сцену. О чем-то мирно беседовали в дальнем углу два старика инвалида, один кривобокий, другой с костылем под мышкой. Школьники, устроившись компаниями, вразброс по всему залу, сразу же принялись грызть семечки, сплевывая лузгу под ноги. Жребенцев пел и чувствовал, что никогда еще он не пел так плохо. Возникало странное ощущение, будто вовсе нет его в этом зале, будто поет за него кто-то другой — бескрылый, бездарный, безрадостный человек. В такие мгновения губы его шевелились с механической монотонностью, машинально выговаривались слова, не касавшиеся его сознания. И досадно было слышать аплодисменты, не по заслуге дружные, не выражавшие на этот раз ничего, как он думал, кроме обычного деревенского радушия, уважения к артистам из города.
Жребенцев вздыхал с облегчением, выходя из клуба на волю, в теплое тихое предвечерье, сулившее скорый покой и отдых. Но когда они уже садились в автобус, откуда-то прибежал запыхавшийся председатель (на концерте в клубе его не было) и остановился, ничего не говоря, лишь обегая их умоляющим взглядом. «Сейчас ужинать потащит», —с раздражением подумал Жребенцев, хорошо знавший порядок пребывания артистов на селе. Но на этот раз он ошибся. Отдышавшись, мазнув по бурой потной шее комком носового платка, председатель заговорил отрывисто, очень тихо, почти шепотом, для пущей убедительности прижимая ладонь к сердцу:
— Такое тут дело, без преувеличения сказать... Вы уж простите, я понимаю, конечно. Но женщины, старушки точнее...
Жребенцев с неприязнью разглядывал председателя, тщедушного, узкоплечего, маленького росточка. Одет будто пастух, собравшийся в поле: на ногах — резиновые сапоги, поверх мятого кургузого пиджачка — брезентовая куртка неопределенного серовато-зеленоватого цвета, на боку — не то планшетка, не то сумка. Только кнута в руке не хватало. Не было в нем ничего от начальника, громкоголосого и уверенного в себе, имеющего право и умеющего распоряжаться людьми. «Вот ставят таких... неподходящих, а потом удивляются, почему хромает сельское хозяйство, почему в магазинах ни мяса, ни колбасы», — желчно размышлял Жребенцев и устало закрывал глаза, чтобы не видеть невзрачной председателевой фигуры.
— Так что же все-таки вы хотите от нас, милейший Андрей Иванович? — спрашивал председателя конферансье Родион Загурский, выполнявший в этой поездке роль старшого. — Ну женщины, ну старушки...
— Да ведь это какие старушки? Золотые, без преувеличения сказать. — Председатель поддернул вверх слишком длинный рукав куртки и посмотрел на часы. — Сейчас вот почти семь, а они все еще работают и не уйдут с поля до темноты... А ведь совсем старенькие, некоторые — ветхие, можно сказать.
— Нашли чем хвалиться, — мрачно прогудел в бороду чтец Иван Бортников. — А где трудовые законы, где охрана труда?
— Так это ж по собственному их желанию... В том-то и суть, — заторопился объяснить председатель, и его красное, обожженное солнцем лицо покраснело еще больше. — В том-то и суть, что хотят они посильно помочь колхозу в горячую пору уборки. Высокая сознательность. Но и они не обижены, на льне у нас установлена двойная оплата. А старушке тоже деньги требуются, без преувеличения сказать, — платок там какой купить, кофту.
— И все-таки, любезнейший... — морщился конферансье, который, видимо, уже давно догадался, куда клонит председатель.
— Прошу порадовать престарелых тружениц. Очень прошу! — Взгляд у Андрея Ивановича был отчаянно-умоляющим, казалось, еще мгновение — и он бухнется Загурскому в ноги.
— Однако же, — строго сказал конферансье, — однако же, дражайший... Мы должны были дать у вас два концерта и дали, третий же не предусмотрен... Потом, мы тоже люди, мы устали, мы домой хотим, мы голодны в конце концов...
— Насчет ужина я распорядился. Вот сходим в Дивное поле, вернемся и сядем за стол.
— Это что еще за Дивное поле?
— Деревня так называется.
— А почему «сходим»? У нас автобус...
— Дороги туда нет, чтобы на автобусе... Разве что с другой стороны подъехать, так это крюк огромнейший, к тому ж мостик там через речку обвалился... А так мы напрямки, тропкой.
— М-да, — промычал старшой и крепко потер ладонью к вечеру заросший черной щетиной подбородок. — Как будем решать, товарищи?
«Неужто останемся?» — подумал Жребенцев, но как-то отстраненно, чувствуя странное безразличие к тому, что решат коллеги. Клара Солодовникова с полуоткрытым от усталости большим крашеным ртом тронула мизинцем морщинку на виске у глаза и печально улыбнулась. Сергей Лунный и Марк Груздьев в это время, как всегда, о чем-то спорили и вряд ли поняли вопрос старшого, однако на всякий случай бодро крикнули: «Конечно же, об чем речь!» Иван Бортников сказал, что дома его ждут не дождутся жена и дети, но из этого вовсе не следует, что он не желает выступать перед старушками. Ирочка и Зиночка, со свежими оживленными личиками, будто и не было утомительной дороги и двух выступлений, сказали, что они готовы идти когда угодно и куда угодно.
— А вы, Алексей Ильич? — обратился старшой к Жребенцеву.
Жребенцев только рукой махнул: делайте, мол, как знаете.
На всем пути он ощущал тревожный и чистый запах полыни. Ее бледные кустики, пригретые днем невысоким скупым солнцем, теперь, к вечеру, пахли по-предосеннему горьковато. И были тенистые кустарники, были светлые рощицы, были неяркие, с приглушенными красками, будто подернутые сизоватым пеплом усталости лужайки. Цветы на них — не сравнить с майскими да июньскими, поскромнее цветы, но и они были хороши. У Алексея Ильича, лишь вступили они на сухую уютную тропу, потеплело на сердце, оттаял взгляд, он узнавал цветы, знакомые еще с детства. Сбившись в плотные островки, дружно росли тут и там мелкие голубенькие незабудки, клонились долу венчиками вниз лиловые колокольчики, желтели кое-где кульбабы, уже закрывшие в этот предвечерний час свои корзинки, застенчиво прятали в траве беловатые, совсем уже крохотные лепестки невзрачные ясколки и зубчатки. И только бесстрашный, напористый кипрей, поселившийся на вырубках и пустырях, видно, не боялся осени, буйно разливался вокруг, пенился скопищами розовато-сиреневых, пропитанных летним жаром цветков...
«А вот это калужница, а это ярутка, а это татарник...» — подсказывал кто-то Жребенцеву мягко акающим певучим голосом мамы. Она шла по лугу босая, в белом платочке, узелки которого крылышками пластались к ее тонкой шее. Тогда он впервые приехал в деревню. Мама была счастливая и молодая, а ему, Алеше, шел восьмой годок, по осени собирался в школу.
— Нет, вы смотрите, смотрите, какая прелесть! — кричали и хлопали в ладоши Ирочка и Зиночка. В мелком частом березняке они нашли белый гриб. Крепкий, бокастый, с коричневой шапкой чуть набекрень, он был словно нарочно поставлен кем-то на моховой подушке. Все кинулись с тропы к грибу, постояли в умилении, созерцая чудо-чудное, будто никогда в жизни не видели в лесу грибов. Председатель с тропы не сошел, он снисходительно улыбнулся и кивнул на солнце — оно все ниже, мол, и надо поторапливаться.
Минут через десять они спустились в низину, тропа запетляла среди густого высокого ольшаника, вершины его образовывали почти сплошной полог и приглушали солнечный свет. Под ногами зачавкало, заблестелилужицы, их обходили стороной или перепрыгивали, а Ирочка с Зиночкой сняли босоножки и зашлепали по тропе розовыми ступнями, мало заботясь о том, чтобы выбирать путь посуше. Очнувшийся от воспоминаний и неприятно удивленный, что председатель осмелился вести их по таким гиблым местам, Жребенцев с сожалением посматривал на свои модные, недавно купленные в Москве туфли — носки их темнели, наливаясь низинной сыростью. Ольшаник кончился, и тропа выскочила к настоящему болоту — с жесткой осокой, черными окнами воды, выпускавшей на поверхность таинственно булькавшие пузырьки, русалочьими чарусами, предательски заросшими невинными с виду розовыми цветочками. Шедший впереди председатель остановился и виновато посмотрел на вереницу приунывших артистов. Тропы дальше не было, было подобие мостков, узенькая дорожка из тонких, жидких, плохо пригнанных друг к дружке ольховых стволов:
— Ого-го-о... — озадаченно прогудел старшой Загурский. — Это как в той песне: кабы знала я, кабы ведала...
— Извините великодушно, — засуетился председатель, однако без должного смущения, похоже, не прочувствовав своей вины до конца. — Клади — всего метров сто, можно и жердочкой подпереться... Берите, пожалуйста!
И он стал совать им длинные ореховые палки, с полтора десятка которых лежало, видимо специально приготовленных для общего пользования, у начала мостков. Жердями вооружились конферансье Загурский, солистка Солодовникова и чтец Бортников, остальные понадеялись на свою ловкость. Правда, этим, в их числе и Жребенцеву, пришлось пережить несколько неприятных секунд, когда ненадежность кладей под ногами вынуждала останавливаться и по-цирковому балансировать, вихляясь всем телом и чувствуя себя на волоске от некрасивого, шумного, со всплеском грязной воды падения в болото. Но все обошлось благополучно, никто не шлепнулся в хлябь; а Лунный и Груздьев ухитрились даже, продвигаясь по кладям, провести короткую и жаркую дискуссию о болотах, причем Груздьев был за их повсеместное тотальное осушение, а Лунный спорил со строго научных позиций, болото болоту, мол, рознь и некоторые трясины нельзя трогать вовсе.
Как бы там ни было, успешное преодоление естественного препятствия подняло настроение артистов. Ступив на твердую землю, они заулыбались, заговорили, бросая на председателя взгляды бывалых людей, которых не испугаешь каким-то паршивым болотцем. Андрей Иванович, тоже повеселевший, довольно поквохтывал, словно наседка, уберегшая цыплят от опасности.
— Вот и хорошо... Вот и замечательно... Вот и страхи все...
Прошли еще с полкилометра. Внезапно кусты раздвинулись перед ними, как занавес, в обе стороны, и в свете предзакатного солнца увидели они обширный косогор, некруто взбегавший к горизонту.
— Дивное поле!
Голос Андрея Ивановича прозвучал на высокой торжественной ноте и дрогнул взволнованно. Он широким жестом повел перед собой, будто экскурсовод, показывающий полотно прославленного художника. Артисты переглянулись: им непонятен был пафос председателя.
— А где же деревня? — спросил Загурский.
— При чем тут деревня? — по лицу Андрея Ивановича пробежала тень обиды.
— Ведь ехали мы в деревню.
— Ее отсюда не видно, лес загораживает. И название свое она получила от этого поля...
Видимо, в старину здесь прополз ледник, оставив после себя россыпи валунов. Люди очистили поле — низкие, заросшие бурьяном гряды камней темнели по обеим сторонам его. А между грядами желтело обширное льнянище, среди снопов, заметил Жребенцев, сиротливо копошилось с десяток женских фигурок.
— Это и есть наше Дивное поле, — повторил председатель. — Место историческое, без преувеличения сказать, уголок древней русской земли, где испокон веков селились и жили наши далекие предки... Почему«дивное», спросите вы. Конечно, многое тут лежит в области догадок, но все же можно кое-что предположить с большой долей вероятности...
— Послушайте, — прервал председателя Бортников. — Вы прежде не работали в музее?
— А что? — смущенно обернулся Андрей Иванович к чтецу, который, поглаживая бороду, сверлил его темными, глубоко запавшими глазами. — Это вы по тому судите, как я говорю?.. Нет, в музее я никогда не работал, а вот учительствовать довелось, десять лет, до председательства, историю детишкам преподавал.
— Ясно, — сказал Бортников. — Тогда ясно. В здешних местах учительствовали?
— Да помолчите вы, Иван Иванович! — вскричали Ирочка и Зиночка. — Человек так интересно рассказывает, а вы перебиваете... Просим, Андрей Иванович, просим! — И они захлопали в ладоши, чем еще больше смутили председателя.
— Я совсем коротко, — заторопился он, нервно одергивая полы своей брезентовой куртки. — Ей-богу же, все это любопытно. Видите плоский, низкий холм, замыкающий косогор по горизонту? — Теперь он обращался только к Ирочке с Зиночкой. — Похож на сундук, не правда ли? Такую правильную форму холм приобрел не без помощи человеческих рук. Примерно тысячу лет назад, а может, и больше, здесь было городище. Маленькие холмики вдалеке справа — это курганы, могилы, где жители городища погребали своих покойников. Ну, а поле было святилищем, сюда приходили молиться языческим богам, оно все было уставлено идолами — каменными и деревянными, без преувеличения сказать...
Андрей Иванович помолчал, улыбаясь каким-то своим мыслям.
— А вы, собственно, откуда знаете, что именно здесь стояли идолы? — не удержался и снова задал вопрос Бортников.
— Да ведь тут раскопки велись! — воскликнул председатель, словно бы удивляясь непонятливости бородатого артиста. — Из самой Москвы археологи приезжали. Откопали много любопытного. Правда, нам ничего не оставили, все с собой увезли, однако ж руководитель их, профессор, обещал книжку написать про наше Дивное поле. Оно так изначально называлось, дедами еще и прадедами... Вот какая у нас древняя земля!
«Земля-то у вас древняя, а порядка на ней маловато, — подумал Жребенцев. — Лучше б распорядились тот же самый мостик рухнувший исправить, чем торчать на раскопках и глазеть на поднятых из праха идолов». Впрочем, впервые за это время подумал без неприязни к председателю, в круглом простоватом лице которого сейчас явственно проглядывали и ум, и деликатность, и доброта.
— Так-то вот, — вздохнув, сказал Андрей Иванович Ирочке и Зиночке и развел руками, прося за что-то извинения. — Однако пойдемте к старушкам. Вон, они выпрямились, сердечные, наверно, заметили нас...
В самом деле, темные фигурки стояли тут и там неподвижно, некоторые, определил зоркий зрением Жребенцев, смотрели из-под ладоней.
— Кончай работу, милые! — закричал им еще издали Андрей Иванович. — Сейчас культурно отдыхать будем!
Льняному полю не было конца и края, а старух было всего семь. Андрей Иванович с каждой поздоровался за руку. Особенно долго и почтительно держал он в своем красном жилистом кулаке сухонькую коричневую лапку совсем седой бабули в пестром платочке, аккуратно завязанном под полупустым мешочком старушечьего подбородка, с белым горошком по синему полю фартуке.
— Это Ефросинья свет Васильевна, — сказал председатель артистам, и снова в его голосе зазвучали торжественные нотки. — Она у нас за звеньевую. Замечательная, без преувеличения сказать, женщина. Еще до войны медаль за лен получила на Сельхозвыставке в Москве... А орденов у нее... Сколько у тебя орденов, Васильевна?
— Да ну тебя, Иваныч, — застенчиво потупилась бабуля. — Чем меня конфузить, лучше б сказал, кого привел к нам, каких таких людей?
— Артистов привел... Что, не ожидали? Самые настоящие, из области.
— Вот за это спасибо. Сердечно благодарны, — наперебой загомонили старушки. — Да только стоило из-за нас-то...
Что-то дрогнуло в сердце Жребенцева, когда он увидел обращенные к нему лица. Не то чтобы в ком-то из старух повторялся облик его матери, но в каждой сквозили мамины деревенские черточки, вернее, мама была бы среди этих крестьянок совсем своей, подругой в кругу подруг, если бы довелось ей сейчас быть здесь, на Дивном поле. Лица усталые, грустные, но ни одного равнодушного. Светились они таким простодушным любопытством, такой неподдельной приветливостью, что Жребенцев почувствовал, как отступают от него боль и скорбь, мучившие его весь этот тяжелый длинный день, и что-то похожее на улыбку увидели на его губах Ирочка с Зиночкой, которые весь день исподтишка наблюдали за ним.
Женщины, убиравшие лен на Дивном поле, были разные по возрасту, хотя все, пожалуй, перешагнули уже порог пятидесяти. Жребенцев никак бы не назвал старухой вон ту — коренастую, крутобедрую и с такой могучей грудью, что, казалось, положи на нее льняной сноп — не свалится. Еще тлеет не совсем сгоревшая юность в глубине бедовых озорных глаз вот этой, что полуприсела наворох снопов и смуглотой щек, иссиня-черной волной волос похожа на цыганку. А эта вот, что справа, и постарше Васильевны будет — согнутая в пояснице, трясет головой, взгляд покорно уставлен в землю. «Бедная, бедная, — с родственной, почти сыновней жалостью к незнакомой старухе подумал Жребенцев. — Тебе бы на печи сидеть или внуков нянчить... Неужто не отходила свое в поле?»
И подхватил и понес его поток странного чувства. Почудилось ему вдруг, что все это уже было с ним, стоял он, где сейчас стоит, с теми же людьми, и те же самые мысли тревожили душу, которая и теперь вот томится, вспоминая, когда же и где это было. Может, голос глубинной крови заговорил? От человека к человеку, от поколения к поколению несет она с собой подспудную память о минувшем времени. Он, Жребенцев, — семечко, он — ветка дерева, выраставшего здесь из глубины веков. Иначе откуда это узнавание, знобящее ощущение своей причастности к этому полю, этим людям на нем?
— Садитесь, садитесь, милые, — весело распоряжался Андрей Иванович. — На снопы и садитесь. Начинать будем!
Губы председателя шевелились, но слов Жребенцев не слышал. Он смотрел в ширь Дивного поля и старался представить себе, каким оно было десять столетий назад. Пустынным, с парящим в небесной выси одиноким коршуном? Или шумным, многолюдным, уставленным, как утверждает Андрей Иванович, кумирами? Жребенцев вспомнил уроки в школе. Как их называли, славянских богов? Перун, Велес, Дажбог, Хорс, Стрибог... И был еще краснорожий, в желтых завитушках вокруг лобастой головы, оскалившийся в широченной улыбке податель солнечных лучей Ярило. Сиреневое марево, висевшее над Дивным полем (то собиралась дождевая туча), начало ткаться в нечто зыбкое, волнообразное и, кажется, живое. Это были даже не призраки, а слабые тени того, что остается от плоти, когда она достигает нас, преодолев путь в десять веков, — это увидишь лишь зрением сердца, да и то не в любую минуту.
...От городища, по широкой натоптанной тропе, вся в цветах и ветках берез, к деревянному, ярко раскрашенному кумиру Леля, возвышавшемуся в центре Дивного поля, двигалась праздничная, но молчаливая процессия. Важно задрав к небу бороды, молитвенно полузакрыв глаза, шли впереди древние старики в белых рубахах до пят. В вытянутых прямо руках они несли расписные блюда с золотыми россыпями ядреного зерна, медные чаши с янтарным медом, подовыми пирогами, румяными хлебными караваями, тушками диких уток, задравшими вверх кургузые ножки. То были дары Лелю. Веселый сын солнца, огненно-желтый, он, видно, принимал от людей снедь только желтого цвета. За стариками шествовали крепкие мужи в летах зрелости, умельцы-мастеровые, несшие Лелю кувшины и кубки, огромные ложки, покрытые затейливой росписью, колчаны с калеными стрелами, мечи булатные, щиты червленые... Как выразительны лица парней с русыми челками над соболиными бровями, с прямыми прядями волос вдоль худых щек, с пронзительной синевой глаз, взгляд которых благожелателен и тверд!.. Нет, никому не возбранялось идти в этой процессии, и, возможно, все население городища было теперь на Дивном поле. Перед Жребенцевым — он и сам не знал: спит ли, бодрствует — чередой проходили молодые женщины и девы в разноцветных сарафанах, кокошниках, расшитых жемчугами и бисером, величавые старухи в чепцах, юркие отроки в рубашках с яркими вышивками на груди.
Он напрягался, стараясь остановить мелькание предметов, одежд, лиц. От кого-то из этих людей, может быть, начинался их, Жребенцевых, род. Разве вот этот из процессии — простоватый на вид, в лаптях мужичок с самодельными гусельками на боку — не похож на его покойного отца Илью Парамоновича, потомственного пахаря, нежно любившего музыку, мастерившего на досуге скрипицы и балалайки? И есть что-то от мамы, терпеливой и доброй Анны Егоровны, в той, которая с потупленным взором идет в толпе женщин, шевеля губами, творя беззвучную просьбу к Лелю, чтобы были благополучны все ее близкие, весь их род, те, кто живет рядом ныне, и те, кто будет жить после... А кто этот парень — высокий, худой, с ямочкой на упрямо выпяченном подбородке, покашливающий, тихонько пробующий голос, собирающийся запеть? Не сын ли он тех двоих и разве не похож на него он сам, Алексей Жребенцев, артист областной филармонии?..
— Артист областной филармонии Алексей Жребенцев! — в третий раз объявил его выход Загурский и, не выдержав, закричал: — Это вас, именно вас касается, Алексей Ильич! Вы что, спите? Проснитесь, просим, вас все!
Только тут Жребенцев очнулся. Еще раз посмотрел в даль Дивного поля. Ничего там, конечно, не было: ни идолов, ни толп народа, идущих к Лелю. Вместо мужичка с гусельками на боку был председатель Андрей Иванович с его то ли сумкой, то ли планшеткой, вместо женщины, творившей молитву-просьбу, была звеньевая Васильевна, сидевшая на снопах и в грустной рассеянности жевавшая льняной стебелек. И не было никакого парня с ямочкой на подбородке, певца гимнов в честь Леля, был молодой тракторист, прикативший из деревни на своем колеснике с прицепной тележкой, чтобы забрать льняные снопы. На него-то и смотрел Жребенцев, когда пригрезился ему тот, живший десять веков назад...
Оказалось, что отключившийся от действительности Алексей Ильич пропустил мимо ушей и глаз всю первую часть концерта и теперь был должен начинать вторую, целиком отданную ему — выпускнику консерватории, ведущему солисту филармонии и, несомненно, будущей знаменитости. Наверно, так, как и всегда, представил его конферансье — на этот раз старушкам льнянщицам. Аккомпаниатор Марк Груздьев посматривал на Жребенцева не то что с нетерпением, а уже с нескрываемой досадой, сердито встряхивая баян и нажимая на клавиши самого низкого регистра.
Алексей Ильич начал с песни «Среди долины ровныя», будто забыв, как не удалась она ему в клубе, три часа назад. Теперь ему не казалось, что поет вовсе не он, а некто безликий и безучастный, стоящий рядом. Он погружался в песню с незнакомой прежде отрадой, как если бы рано утром входил, разгоряченный, в прохладную реку, чтобы отдаться воле сильного и плавного течения. И пел сейчас он сам, Алексей Жребенцев, — мудрый и добрый, хотя и одинокий, но не сломленный бедами, не потерявший веры в счастье, как тот дуб из песни, — высокий дуб, развесистый, в могучей красоте. Каждое слово слетало соколом, сплывало лебедью с его губ, каждая нота больно и сладко звенела в сердце. И вскипели в нем слезы, овеяло холодком восторга, когда течение песни выносило его к просторному зеленому берегу — «мне родину, мне милую, мне милой дайте взгляд».
Первое, что он заметил, окончив, удивление коллег: мол, не ожидали от тебя, брат, этакой прыти. Ирочка с Зиночкой так и застыли с вытянутыми шейками, точно Жребенцев только что сотворил чудо — воспарил в воздух над Дивным полем или, на худой конец, поднял одной левой камень-валун. Он знал, что кое-кто из артистов не любил его, считал заносчивым не в меру таланта. В другое время он обиделся бы, но сейчас не мог — еще жило в нем настроение песни. Тем более внимание артистов тут же переключилось на старух: когда Жребенцев поклонился им, они поднялись со снопов и в свою очередь низко, поясно поклонились ему. Это было так неожиданно, что вызвало легкую оторопь, мгновенное замешательство.
— Бабоньки, милые! — закричал растерявшийся было Андрей Иванович. — Да кто же кланяется артистам? Им хлопать надо... Ну давайте, дружно... вот так!
Жребенцев спел старушкам еще пять песен — всё, что он исполнял в сопровождении баяна, и не без сожаления отвесил прощальный поклон. Загурский объявил об окончании концерта, все посмотрели на председателя, ожидая команды на обратный путь, но подошла к Андрею Ивановичу звеньевая Васильевна, отозвала его в сторону и что-то зашептала на ухо.
— А стоит ли? — отвечал старухе председатель. — Устали они, да и не принято это...
Васильевна настаивала, уже сердясь будто, и председатель, успокаивающе тронув ее за плечо, обернулся к артистам.
— Тут такое предложение поступило. — Он гулко покашлял в красный кулак. — Спеть вам хотят женщины, вроде бы в ответ на ваши песни, без преувеличения сказать... Конечно, если вы того пожелаете.
— Любопытно! Весьма! — мрачно сказал Загурский, поглядывая на совсем уже низкое солнце, норовившее сесть поудобней на зубчатую кромку недалекого леса.
— Роса пала, — вздохнула Клара Солодовникова, печально озирая по-вечернему затуманившееся Дивное поле. — Это правду говорят, что лен расстилают обязательно под августовские росы?
— У них что, хор фольклорный? — спросил любивший во всем определенность чтец Иван Бортников.
— Да какое там!.. — махнул рукой председатель. — Поют иногда, возвращаясь с поля... Опять же, ужин ждет.
— Послушаем, конечно, послушаем, о чем речь! — решили за всех Ирочка с Зиночкой. Жребенцев знал, что они никогда не спешили домой — в скуку и одиночество своей крохотной комнатушки, где жили вдвоем. Впрочем, ему тоже не хотелось уходить.
Старушки тем временем выстраивались в ряд, тихо споря, где кому стоять, поправляли платки, ощупывали на кофтах пуговицы — все ли застегнуты, одергивали и оглаживали, поплевав на ладони, припорошенные пылью, забитые льняной шелушинкой юбки. А потом враз затихли, посерьезнели, побледнели и будто дышать перестали, готовя себя к радостному и торжественному — началу песни.
— «Уж мы сеяли, сеяли», — вполголоса сказала товаркам Васильевна, видно руководившая тут не только работой. И женщины бойко повели веселую, удалую, с притоптыванием, уханьем, высоким подголосьем песню о том, как сеяли они зеленый ленок на белую кудель, как потом обмолачивали, чоботами приколачивали. Спето было дружно, умело, однако без особого воодушевления.
— Это у них профессиональная, — объяснил Андрей Иванович. — Вроде того же «Марша трактористов», без преувеличения сказать.
По-настоящему сроднились старухи с песней, когда та, что была похожа на цыганку, начала скорбно глубоким сильным альтом:
И все подхватили надтреснутыми, звенящими, как разбитое стекло, сопрано:
— Браво, браво, — поощрительно заулыбались Ирочка с Зиночкой. — Хорошая песня, старинная, и поете вы ее с чувством.
— А ведь и в самом деле хорошо! — обрадовался похвале Андрей Иванович. — Складно!
— А как же, — благодарно кивнула ему Васильевна, — песня ладом красна. — И приказала коренастой толстухе с могучей грудью: — Теперь ты запевай, Петровна.
У Петровны был мальчишеский дискант и, по ухватке видать, легкий характер, хористки повеселели, приосанились, когда она грянула шуточную:
Жребенцев слушал, смотрел, и снова ему казалось, что он знает этих старух, словно бы помнит их, по дням своего детства, пригожими и молодыми. И снова думал о матери. Жившая последние двадцать лет в городе, она до самого смертного часа была деревенской, свято блюла сельский уклад, бережно хранила сельские привычки. Бывало, он еще сладко посапывает в постели, а она, поднявшись с рассветом, хлопочет по дому — моет полы, шьет, стряпает. Она вообще не могла без работы, искала и находила дело там, где его, похоже, вовсе и не было. Однажды принесла из магазина мешочек риса, кило этак пять, про запас, и, обнаружив в нем черные не то камушки, не то семена мелкие, три вечера сидела на кухне, перебирая рис по зернышку. Алексей заглянул к ней, покачал головой, а она призналась, вздохнув: «Боязно мне, сынок, в твоей домине каменной, вот и ищут руки, чем бы душу утешить...»
В редкие свободные минутки и отдыхала мать по-деревенски. Как на завалинку возле избы, садилась на скамейку в сквере, чинно складывала на коленях узловатые руки. К ней подсаживались другие старухи. Городских она стеснялась, на попытки завязать разговор отвечала односложно — «да», «нет». Но если рядом была тоже деревенская, своя, взгляд Анны Егоровны, согретый дорогими сердцу воспоминаниями, становился задумчивым и добрым, на щеках проступал румянец и начинались бесконечные беседы с обязательным присловьем: «А вот у нас в деревне...»
Уже давно нет деревушки, где родилась мама, хирела она постепенно, сходила на нет. После войны оставалось в ней дворов пятнадцать, потом было пять, потом и последнюю избу бросили, даже не заколотив окна. Люди подавались в город, уезжали в теплые места — на Кубань, Украину. Избы на дрова разобрали, но остались яблоневые сады, быстро дичавшие, сажалки с крохотными карасиками и полчищами расплодившихся не к добру лягушек, остались груды седоватого, в лишаях, булыжника, привезенного с полей на лошадях еще дедами и служившего фундаментом изб... И кладбище еще ясно обозначалось на бугре, полоскались на ветру зеленые косы берез, что-то шептали листья покосившимся крестам да жестяным памятничкам со звездами на макушках. А были могилы и вовсе не помеченные, безымянные — потерявшиеся в густой траве бугорки да впадинки. Впадинки там, где земля опустилась, потому что и гроб внизу сгнил, и косточки истлели...
Три года назад ездил Алексей Ильич с матерью в родную деревню. Анна Егоровна молча посидела на пенушке, где когда-то было их подворье, побывала на кладбище, поплакала скупо над могилками родителей и мужа. К удивлению Алексея Ильича, картины запустения и смерти, увиденные на родине, словно бы и не запечатлелись в ее душе. Вернувшись в город, она по-прежнемуговорила о своей деревеньке так, как если бы с ней ничего не случилось, стоит себе, родимая, такая же, как встарь, веселая и многолюдная. Вероятно, был тут инстинкт самосохранения, отторгавший от ума и сердца слишком тяжелые, гибельные мысли и чувства.
Умирала мать в полном сознании. Что-то томило и мучило ее, видел Алексей, сидевший подле. Тень, легшая на ее лицо, была еще не тенью смерти, а посюсторонней, земной заботой. «Ну что ты, мама, что хочешь сказать?» — наклонялся над ней Алексей, и она наконец заговорила прерывисто и нерешительно, виновато прикасаясь холодеющими пальцами к его руке: «Сынок, вот если б можно было... если б можно...» — «Ну что, мама, что?» — спрашивал он уже нервно, нетерпеливо. «Вот если б... да где уж... везти-то не близкий путь, а ты занят, некогда тебе... где уж...» Он понял, о чем просила мать, но все в нем заныло горестно, когда представил себе, где будет лежать она, — жуткое в своей заброшенности деревенское кладбище, к которому, наверное, и тропки теперь не найдешь...
Жребенцев вспомнил все это, и сердце его снова скорбно сжалось. Голоса поющих старух уже не достигали слуха. Березы, белевшие на пригорке, вдруг задрожали, и расплылись в одно белесое зыбкое пятно. Чувствуя на глазах слезы, боясь расплакаться, он резко повернулся и крупно зашагал, почти побежал по полю, спотыкаясь о разбросанные тут и там снопы. На краю поля он опустился на землю, зажмурившись, лег вниз лицом на сырую траву, сраженный душевной усталостью. Очнувшись, он так и не понял, отчего мокрое у него лицо: то ли плакал во сне, то ли от росы.
Вернулся он минут через пятнадцать. Поджидая его, артисты сидели на снопах, переговаривались со старухами. Загурский подвинулся на скользкой льняной соломе, давая ему место. Никто не обратил на него особого внимания. Однако, судя по сочувственным взглядам старух, им было рассказано о его горе, горем объяснялось и его странное поведение.
Когда они входили в деревню, наконец-то брызнул долго собиравшийся дождик. Но, малость попугав артистов, загнав их в колхозную контору, он вскоре прекратился — будто поиграл с землей в пятнашки, оставив темные круги и разводья на густой пыли деревенских улиц.
Жребенцев садился в автобус умиротворенный и тихий. Ирочка с Зиночкой украдкой посматривали на него и о чем-то шептались. Тогда утром, по дороге из города, они были заняты не анекдотами, как думал Жребенцев, а обсуждением важного вопроса — красив ли он, Алексей Ильич, или нет. Сейчас они ясно видели — конечно же красив. Красив и значителен со своим спокойно-печальным лицом, густыми русыми волосами, упрямым подбородком с ямочкой...
С того дня, считает Алексей Ильич, началась для него новая жизнь. Вскоре пришла к нему и громкая слава певца — исполнителя русских народных песен. Редкий его концерт обходился без песни о дубе, который «среди долины ровныя, один, один, бедняжечка, как рекрут на часах». Жребенцев пел, и глаза его наполнялись слезами, в глубине затемненного зала вспыхивала для него одного все та же картина — залитое низким предвечерним солнцем Дивное поле и одинокий дуб на нем.
Отец
Мы с отцом гостим у Насти, его сестры и моей тетки, которая с мужем своим Иваном живет в трухлявой, покосившейся избе на краю деревни. У Ивана — кряжистого рыжеватого мужика лет пятидесяти — отбиты пальцы на левой руке, и все, даже жена, зовут его Куцепалым.
Он пьяница и чуть ли не каждый вечер приносит откуда-то заткнутые тряпицами бутылки с мутной, противно пахнущей жидкостью.
— Эй, старуха! — кричит он с порога худой, затуканной Насте. — А ну, на стол мечи все, что есть в печи...
И коротко бросает отцу:
— Садись!
«Мечи, что есть в печи» — это не более чем пустой звук, присловье, с помощью которого Иван пытается выразить свою удаль, свое бесшабашное молодечество, меньше всего рассчитывая, что Настя сломя голову кинется к печи. А если и кинется — что там стоит за заслонкой? В лучшем случае Настя поставит на стол свои неизменные яства — кислые щи и забеленную молоком картошку. К тому же Иван предпочитает пить не закусывая.
А отец мой любит и выпить и поесть. Правда, за двадцать лет жизни в городе он поизбаловался и самогонку пьет неохотно.
— Что, не нравится? — посверкивает кабаньими глазками Иван. — Тебе б шинпанского? А?
Он пьет стакан за стаканом, становясь все более злым и хмурым. Самогонка, как ни странно, прибавляет ему красноречия. Он взбирается на печь и оттуда, из-за трубы, до полуночи слышатся его сварливые речи. Он ругает «городских», которые «зажрались», вспоминает свой хутор с клочком земли, отобранный у него во время коллективизации, бранит маломощный колхоз «Красный трактор», где нет никакого порядка, слезливо жалуется, что вынужден жить на старости лет в этой скверной, с крошечными оконцами, похожей на хлев избенке.
Потом он засыпает, но в середине ночи его чудовищно громкий храп неожиданно прерывается. Он слезает с печи и, чиркая спичками, начинает шарить в шкафу, заглядывать под стол и лавки. Я знаю, в чем дело: в его пьяную голову втемяшилось, что вчера вечером он не допил самогонку, и теперь он ищет ее.
— Черт рыжий! — раздается с полатей плачущий голос Насти. — Ведь хату спалишь, идол... Петрок, а Петрок! Угомони ты его...
Петрок — это мой отец. Он лежит рядом со мной на деревянной кровати, смущенно покашливая.
— Иван, всю ты ее выпил. Сам видел. Ей-богу, — говорит он мягко, стесняясь.
— Спрятали, знаю, что спрятали, — тяжело, как медведь, ворочается под столом Иван и вдруг обрушивается на отца: — А ты чего сюда приехал? Звали тебя, буржуя городского? Завтра чтоб и духу твоего тут не было...
Назавтра отец станет укладывать в потрепанный чемоданчик белье и полотенца, но подойдет Иван, скорбно потупится, почешет красными култышками затылок и повинится:
— Ты уж того, Петрок... не серчай... Меж своими бывает...
И отец, печально усмехнувшись, простит Куцепалого и останется еще «на день». Он только будет стараться поменьше бывать дома.
А меня злит эта неизменная покорность, эта терпеливость отца, словно он в чем-то втайне чувствует себя виноватым перед Иваном.
В последние дни мы с отцом пристрастились к рыбалке. Рано-рано, когда в избе все еще спят, меня будит ласковое прикосновение его большой мягкой руки. В сенях мы берем плетеную корзинку, ведро и, поеживаясь на холодку, выходим на проселок.
Отец неторопливо идет позади меня. Оглядываясь, я вижу его начинающую грузнеть, с устало опущенными плечами фигуру, задумчивое лицо, с которого никогда, даже в минуты веселья, не сходит выражение озабоченности и печали. Отцу уже за сорок, и жизнь его не была легкой. В молодости пять лет провел он в армии, из них два года на фронте, воевал с немцами, потом с беляками. Был контужен. Ел воблу без хлеба, носил отрепья. При нэпе поселился в городе, женился, устроился продавцом в магазине, стал обживаться, купил хромовые сапоги и брюки-галифе, а тут несчастье: в магазине обнаружилась недостача, отца оболгали сослуживцы, и он, честный до щепетильности, пошел в тюрьму, как жулик и хапуга. Я смутно помню, как однажды мать взяла меня с собой на свидание с ним. Помню пустую комнату с решетками на окнах, бледное лицо отца, его горькую, жалкую улыбку...
В этом году зреет на полях рожь невиданной густоты, неслыханной высоты. Я отбегаю в сторону и тотчас скрываюсь с головой в ржаных, колеблемых ветерком волнах. А ведь мне осенью будет пятнадцать, и парень я рослый. — Вернись! — тихо, но твердо окликает меня отец. — Помнешь хлеба-то...
Он срывает колосок, долго близоруко щурится на него.
— Наливается уже... С хлебом будем, сынок...
И рассеянно смотрит куда-то вдаль...
Проселок бежит среди кустов: это две наезженные тележными колесами колеи и высокая зеленая бровка посередине. Я, балансируя, неловко ступая, иду по колее, стараясь не задевать траву на бровке. Заденешь — брызнет на босые ноги ледяная роса, аж дрожь пробежит по всему телу.
Мы уже далеко от деревни. Шагаем по мелкому осиннику и вдруг, ахнув, останавливаемся. Придорожная полянка сплошь красная от мелких, недавно народившихся подосиновиков. Никогда, даже осенью, я не видел такого множества грибов. А сейчас только июнь во второй своей половине. Я опускаюсь на колени и ползаю по траве, бросая в корзинку крепкие, приятно отягощающие руку грибы.
— Не надо, — говорит отец. — Соберем на обратном пути... . )
Он озабочен и, как мне кажется, даже встревожен этой противоестественной грибной силищей, выпершей из-под земли в самом начале лета.
— Говорят, к войне это — и рожь высокая, и гриб ранний. А впрочем... Отец силится улыбнуться как можно беспечнее. — Бабьи сказки все эти приметы...
За поворотом открывается сажалка —так называют в здешних местах небольшие копаные пруды, которые раньше были на каждом хуторе, у каждой избы. Отец опускает на землю ведро и раздевается. Он стыдливо отворачивается, снимая холщовые, подаренные Настей подштанники. Я тоже раздеваюсь и вслед за отцом лезу в сажалку. Моя обязанность — загонять карасей в корзину, которую отец подводит под низкие, наполовину потонувшие в воде лозовые кусты. Делаю я это, шуруя придонный ил толстым суковатым колом. Время от времени отец поднимает корзинку и заглядывает внутрь. И почти каждый раз вытаскивает оттуда толстобоких, пылающих медным жаром рыбин. Их будто разбудили — такие у них сонные, с маленькими зевающими ртами морды. Отец бросает рыб на берег. Надо бросить подальше, иначе карась начнет плясать в траве и допляшется-таки до кромки берега, тяжело шлепнется в родную грязную сажалку.
А грязна она невообразимо. Наши ноги по щиколотку тонут в иле, который, потревоженный, быстро превращает воду в густую пахучую жижу. По нашим телам текают черные ручейки.
— Может, хватит, сынок?
Я выскакиваю на берег и бегу к недалекой кринице обмываться. Потом собираю карасей. Они со звоном падают в ведро.
— Сколько? — спрашивает отец. Он тоже ходил к кринице и сейчас стоит передо мной с розовеющим, словно помолодевшим лицом.
— Тридцать.
— А вчера только двадцать четыре.
Он поднимает ветошку, которой я прикрыл карасей.
— Ишь ты, живучие какие, — говорит он, страдальчески морща лоб: ему жалко неповоротливых глупых рыб, которые ни за что ни про что попадут на сковородку. — Ну да ладно, — утешает он себя, — на то и охота...
Отец родился и вырос в этих местах, и, хотя он никогда не говорил мне о своей любви к ним, я знаю, что ему дорога и мила здесь не только рыба — живая тварь, но и любая былинка. Я гляжу на отца и думаю, что он очень свой в этом грустноватом, нежарком краю, дремлющем под неярким солнцем, очень свой в косоворотке, мятых брюках и стоптанных тупоносых ботинках — неторопливый, уже немолодой, много размышляющий о жизни человек.
— Пап, — говорю я, останавливаясь — Пап...
Мне хочется сказать ему что-то хорошее, но я весь в отца — молчалив и застенчив. Поняв мои чувства, он благодарно гладит мою голову и, чтобы скрыть неловкость, показывает на обиженно гудящего в цветах шмеля.
— Запутался, полосатый, и сердится... А кто ему виноват?
Он видит все, мой отец. На мосту, перекинутом через речку, он дергает меня за рукав, всматриваясь в воду. У мшистой сваи застыл щуренок с узкой хищной мордочкой и выпученными глазами.
— Хорош, вояка! Это он добычу ждет, малька какого... Час будет стоять, не шелохнется, а дождется своего...
В осиннике, на полянке, мы собираем грибы, и вдруг я слышу, как он говорит, будто про себя:
— Оно, конечно, ошибку я тогда допустил...
— Ты о чем? — спрашиваю я.
— Да все о том же, что не надо мне было в город переезжать... Тут мое место. И тут мое счастье было... Вот и отпуск кончается, а уезжать не хочется...
— Еще неделя, — утешаю я его.
— Что неделя? Пролетит — не заметишь... А жизнь, сынок, заново не начнешь.
Больще он не сказал ни слова до самой деревни.
Еще издали мы заметили у клуба взволнованно гомонившую толпу. Отец побледнел и ускорил шаг.
— Война! — крикнул ему Куцепалый, оказавшийся в толпе. Немец на нас прет, зараза... Сейчас по радиву передавали...
По случаю воскресенья Иван хлебнул с утра пораньше.
— Товарищи мужики, братцы! — ораторствовал он, подняв над головой свою беспалую руку— Видите? Мне ее германец в первую мировую оттяпал... Лютый он, вражина. Живьем сожрет, ежели дрогнем. Только не на таких нарвался — подавится нашей косточкой... Я его вот этой правой, здоровой, в морду!
Куцепалого никто не слушал...
Отец быстро прошел в хату, торопливо собрал свой чемодан.
— А я как же?
— Ты здесь пока поживи... Завтра я мать к тебе пришлю... Слыхал, немец города бомбит... Тут вам безопаснее будет.
— Возьми велосипед, — сказал я ему.
— Ничего, на большаке, может, машина какая подберет.
Я проводил его за околицу. Он поцеловал меня и наказал: — Мать береги, ежели что... Ты уже не маленький...
И, заморгав, отвернулся.
Я долго следил, как он шел, понурившись, по полям. На сердце у меня было тяжело. В ту минуту я был уверен, что вижу его в последний раз. И не ошибся: он погиб в сорок третьем, под Курском.
А Иван Куцепалый ушел партизанить и в первый же год войны был убит немцами в короткой стычке в том самом осиннике, где мы с отцом собирали грибы.
Иван Глинков
Есть у меня знакомый по фамилии Глинков. Фамилия со смыслом: Глинков — от глины, потому что и прадед Александра Семеновича, и дед его, и отец, и двое дядек были деревенскими горшечниками, гончарами. Александр Семенович тоже родился в деревне, провел там детство и юность, помогая отцу лепить горшки да кринки. Потом судьба забросила его в город. Казалось бы, что делать в городе деревенскому гончару? Но к тому времени приспела мода на разные безделицы, по-иностранному — сувениры, и Александр Семенович принялся делать из глины милые забавные вещицы. Они сразу же показали его отменный вкус, живое чувство красоты. Его стали уважать профессиональные художники, хотя известно, что их брат искони смотрит на самоучек, «самородков», подобных Глинкову, с изрядной долей пренебрежения. Так, скажем, смотрит дипломированный врач на какого- нибудь сельского деда-знахаря, ведуна, который лечит травкой-муравкой, а то и нашептыванием, колодезной водичкой с угольками.
Хлопотами Александра Семеновича при большом керамическом заводе был устроен сувенирный цех — крошечная мастерская с крошечной же обжигальной печью. Вот я и зачастил к своему знакомому в этот цех — греться сухим жаром печки, любоваться глиняными безделушками, вести неторопливые разговоры с ласковым гостеприимным хозяином.
Поначалу Александр Семенович работал в цехе один — сам замешивал глину, сам крутил гончарный круг, сам ставил вещицы в печь на обжиг, сам расписывал их глазурью. Но однажды, придя в мастерскую, я увидел там девушку, которая при первом же взгляде очень понравилась мне. Девушка стояла у высокого дощатого стола и руками, густо измазанными глиной, прилепляла ушки к кувшину, из чего я заключил, что она здесь не гостья, а работница. Была она круглолица, румянощека, стройна. Одета модно — в черной кожаной курточке и короткой, тоже кожаной юбке. Заметив мой взгляд, украдкой брошенный на ноги девушки, Александр Семенович с шутливой укоризной покачал головой.
— Кто? — спросил я одними губами, без голоса.
— А вот угадайте, — шепотом отвечал Александр Семенович.
— Да уж не знаю...
— Да это ж дочь моя! Лида! — крикнул Глинков с детской веселостью.
Этого я не ожидал. У тщедушного, невзрачного человека такая дочь-красавица.
Девушка вышла.
— Ну как? — тихонько засмеялся Глинков, видимо от души забавляясь моим удивлением.
— Кем же она у вас здесь? Помогает в свободное время?
— Да она ж Глинкова, нашего горшечного корня. Для нее дороже этого дела в жизни ничего нет. Бывало, еще крохой, ухватит шматок глины, поднесет к лицу, улыбается до ушей: «Вкусно пахнет!» Недавно закончила художественно-графический факультет и прямым ходом сюда. Вчера в штат зачислили, на должность художника. — Глинков снова засмеялся. — Теперь я как бы под началом у нее. У меня-то у самого за душой семь классов, вот директор завода и решил приставить ко мне образованную...
— Хороша, очень хороша, — сказал я, весь еще во власти ее очарования.
— А знаете, ведь и мать ее, покойница, не видная собой была. Но уж больно я красоту люблю, жизнь мне без нее не в жизнь. Вот я и заявил своей Веруне, когда в жены брал: «Я не я буду, если не родится у нас девочка, и непременно красивая». Так оно по-моему и получилось.
У Глинкова лицо с мелковатыми, мягкими чертами, он застенчив в обращении с людьми малознакомыми, нет в нем и капли властности, решительности. Говорят, женщины не любят таких мужчин. Однако, когда он был молод, его любви добивались самые миловидные, самые избалованные девчата деревни. Но как ни любил Глинков красоту, он с ласковой непоколебимостью отвадил всех своих симпатичных поклонниц. Говорил им — вы, мол, и так найдете себе хороших мужей, на что я вам? И выбрал себе, переехав в город, тихую, робкую Веруню, девушку в летах, давно потерявшую надежду кому-нибудь понравиться.
Не обделяли женщины своим благосклонным вниманием Александра Семеновича и потом — уже немолодого, разменявшего пятый десяток. Он хранил память о Веруне, но иногда опять-таки жалел одиноких, несчастных женщин, чьи судьбы, словно по какому-то злому наговору, никак не клеились. Об этом Глинков рассказывал полунамеками, застенчиво посмеиваясь, пряча от меня ясные синие глаза, и все повторял: «Ну что они находят во мне, старом?»
Сейчас я отлично понимаю — что: мягкостью привлекал Александр Семенович, заботливостью, поистине бесконечной добротой, которой ой как не избаловано большинство женщин. И доброта эта от того самого «горшечного» корня. Дед Александра Семеновича, помимо гончарного ремесла, занимался еще хлебопашеством. Казалось, жить бы ему да богатеть. А на деле был он бедняк из бедняков. Горшки, горлачи, кринки и прочую домашнюю посуду лепил с прохладным сердцем, а как принимался за игрушки, тут просыпался в нем требовательный и самозабвенный мастер. Надо было придумать, как бы свистульку какую, медведя там иль сороку-белобоку поинтересней сделать, как ярче раскрасить ее. Тут чувствовал он в груди трепет неизъяснимый, забывал, работая, обо всем на свете, и о землице, разумеется. А сделает — станет детишкам раздавать. «Ты хоть бы копейку какую с них взял!» — бывало, принималась корить его старуха. А он взглянет на нее с укоризной: «Это-то с детишек копейки? Да где ж они их возьмут?» И со взрослых баб, мужиков стеснялся деньги брать, хотя снабжал посудой, почитай, всю округу. Дело доходило до того, что покупатели тайком передавали деньги старухе или совали их, выходя из избы, в карман дедова зипуна, висевшего у двери.
Точно такими же бедняками-недотепами, выражаясь языком некоторых практичных людей, простаками, готовыми отдать встречному-поперечному последнюю рубаху, были и отец Александра Семеновича, и двое братьев отца — Иван и Алексей, тоже гончары.
Яблоко от яблони недалеко падает. Уже при первом нашем знакомстве Александр Семенович попытался подарить мне чуть ли не всю продукцию, накопившуюся в мастерской за неделю. «Да ведь это как бы уже и не ваше, а государственное», — осторожно объяснил я ему. «Вы не беспокойтесь, пожалуйста, — отвечал он с милым своим простодушием. — Я возмещу, денек-другой посижу и снова всего вдоволь наделаю». Пришлось принять от него ярко расписанный цветочный горшочек. При втором моем посещении — в солнечный апрельский денек, когда птицы прилетали с юга, — он вручил мне глиняного жаворонка. На третий раз я оказался обладателем сосуда с обличьем черта. Нечистый сложил на кругленьком животике тонкие паучьи лапки, а сзади у него потешно завивался поросячий хвостик. И морда у черта была свиноподобная: с крошечными зажмуренными глазками и тупым пятачком с двумя дырочками-ноздрями. В сосуд можно было налить вина и разливать его потом в рюмки через чертовы ноздри. Этого черта просто нельзя было не взять — таким уморительным сделал его Глинков.
Но все хорошо до трех раз. Когда Александр Семенович попытался преподнести мне большую вазу, над которой трудился он по крайней мере неделю, я замахал руками довольно сердито. «Воля ваша, — смутившись, сказал Глинков, — только я от чистого сердца». И представьте себе — огорчился явно, но не обиделся. Обижаться, по-моему, он вообще не умеет.
Как-то, уже близко, почти дружески сойдясь с ним, я сделал попытку попенять ему на чрезмерную мягкость, простоту, которая, известно, бывает порой хуже воровства. Но он неожиданно для меня взволновался, даже будто рассердился малость, и сказал непривычным для него твердым тоном непривычные «высокие» слова: «Доброта — великая сила. Хотя не всегда побеждает...» Потом, помолчав, улыбнулся робко, как бы прося прощения за свою горячность, и добавил: «Сами понимаете... Вот послушайте».
И в подтверждение своих слов поведал мне Александр Семенович историю, что я бы и не поверил, если бы не знал хорошо рассказчика. Вот уж подлинно: живая жизнь бывает порой удивительней всякого вымысла.
В войну деревня, где жил Александр Семенович, тогда двенадцатилетний Саня, была связана с партизанами. В лес, в партизанский отряд, ушел его дядька Алексей (отец еще в начале немецкого нашествия был призван в армию), другой дядька — Иван, оставаясь на месте, выполнял различные поручения отряда. Всячески помогали партизанам и остальные жители. Прямых улик против них немцы не имели, но на немецких картах деревня обозначалась черным кружком как подозрительная, и судьба ее была предрешена заранее.
Осенью сорок третьего немцы отступали со Смоленщины. Однажды утром в Максимкове появились солдаты в зеленых шинелях во главе с высоченным, сумрачного вида гауптманом. Народ согнали в центр деревни, к избе, где до войны размещался сельсовет, и долговязый гауптман, с немецкой аккуратностью лепя одно русское слово к другому, прокричал с крыльца, что Максимково подлежит эвакуации, поэтому жители должны немедленно покинуть жилища, взяв с собой только самое необходимое, собраться здесь же, на площади, и приготовиться следовать в организованном порядке, колонной, в западном направлении.
Была минута растерянной тишины, тайной надежды, что все это невзаправду, авось обойдется. Но люди за два года оккупации слишком хорошо уяснили себе, что немцы шутить не любят. И после короткого замешательства все очнулись, побежали к своим домам, заголосили бабы, заплакали дети.
На сборы было дано полчаса. Гауптман стоял на крыльце и, отвернув узкой рукой в черной перчатке обшлаг рукава, смотрел на часы. Когда время вышло, он Что-то крикнул солдатам, и те рассыпались, побежали по Избам. Тех, кто замешкался, выталкивали за порог взашей, бросали их мешки и узлы в густую осеннюю грязь. Из подъехавшей машины выскочили факельщики с канистрами бензина, жгутами соломы, и вскоре деревня запылала от края до края.
Когда колонна, подгоняемая окриками и пинками охранников, выползла за околицу, Саня до боли в шее все оглядывался и долго видел косматое, уже слившееся в широкое рыжее полотнище пламя, чуял приносимый ветром горький запах дыма. Впрочем, им, Глинковым, повезло. Дядька Иван, крупный мужик лет под шестьдесят, инвалид еще той, первой мировой войны, в суматохе не растерялся, успел запрячь лошадь и посадить в телегу вместе с женой свою родню — Санину мать и двух егосестренок. Самого Саню в телегу не посадили, он считался уже большим и шел самостоятельно, держась за задок телеги. А обочь лошади, потряхивая вожжами, неуклюже заваливаясь на негнущуюся инвалидную ногу, крупно вышагивал дядька Иван, по привычке своей что-то бормоча басовитой скороговоркой.
Их телега была единственная в колонне.
К полудню старые и малые (а из них и состояла чуть ли не вся колонна) начали выбиваться из сил. Подбежала к Ивану растрепанная, заплаканная бабка Фекла, попросила взять на телегу пятилетнего внука. Иван молча подхватил мальчонку, посадил на женины колени. Саня и оглянуться не успел, как на телеге сидело уже с десяток ребятишек. Лошадь сильно притомилась на разбитой злыми дождями, раскисшей дороге, тащилась все медленней. «Дай-ка, Марьюшка», — обратился Иван к жене. «Что дай?» — не поняла та. «Узел, говорю, дай». Марья вцепилась в узел: «Да ведь тут одежонка наша, зима, Ваня, наступает». Иван осторожно разжал ее руки, поднял узел над головой и швырнул далеко за обочину. «Теперь мешки давай...» Опростанная телега полегчала, лошадь пошла бойчее. Иван посадил на телегу еще двух малышей. Потом виновато взглянул на жену, зачем-то снял и помял в заскорузлых ладонях шапку. «Так как же будем, бабоньки?» Те, ни слова не говоря, ногами вперед, полезли с телеги. «А ну, мелюзга, кто желает прокатиться на савраске?!» — крикнул Иван, и тотчас к нему подбежали мальчик и две девочки. Одна, постарше Сани, первой забралась в телегу, и его остро кольнула обида: мол, чем она лучше других, за что ей, большухе, такое послабление? (Рассказывая об этом, Александр Семенович признался, что до сих пор корит себя за то давнее скверное чувство зависти.)
Но и у ребятни, хоть и ехала теперь она на телеге, настроение было не ахти какое. Закутанные в рванье, дети сидели бледные, невеселые, чуя, видать, что не кончится для них добром эта езда невесть куда, под конвоем хмурых немецких дядек. И тогда Иван, вспомнив о чем-то, вдруг засмеялся тихонько и полез за пазуху. «Что носы повесили? Нате-ка...» И стал совать в ручонки детей пестро разукрашенные глиняные петушки-свистульки. Иван сам их делал во множестве и вот, поди ж ты, в запарке поспешных сборов не забыл о них, сунул с десяток под шубу. «Ну что ж вы, давайте!» — подбодрил он детишек, видя, что те не решаются нарушить недобрую тишину, висевшую над колонной. Самый маленький — трехлетний карапуз в нахлобученной на уши красноармейской пилотке — набрался наконец духу, вставил в рот петушка, надул щеки и засвистел протяжно. Его поддержала девчонка-большуха, и скоро такой свист, такой верезг, такой гуд подняла малышня в телеге, что даже в полях и лесах отдавалось. Захохотал, поправляя на животе черный автомат «шмайссер», немецКонвоир слева, обернулся, что-то сказал своему товариЩу, шедшему в пяти шагах позади, — тот тоже осклабился.
Но тут же оба встревоженно напряглись. От головы колонны, встречь ей, ехал верхом на лошади сам долговязый гауптман. Враз зазвучали свирепо-хриплые окрики, конвоиры кинулись было к телеге, но гауптман махнул рукой, остановил их. Он сидел на лошади, понуро опустив плечи, до нелепого длинный и тощий, полувысвободив из стремян носки начищенных, но уже заляпанных шматками грязи сапог, и молча, со стылым лицом слушал верещание свистулек. Иван сторожко смотрел на него. На мгновение ему показалось, что в глазах немца промелькнуло напряжение, будто он вспомнить что-то пытался, даже будто усмешка тронула еготонкие, крепко сжатые губы. Но кто мог знать точно, о чем думал этот тощий верзила в высокой фуражке с изображением черепа на тулье — каиновым знаком палача и убийцы, чем кончатся его неподвижность и молчание. Может, сейчас вытащит из кобуры пистолет и начнет пулять в детишек...
Отовсюду на него смотрели со страхом и ожиданием. Но гауптман стрелять не стал, все так же молча повернул он лошадь и медленно, шагом поехал на свое командирское место — в голову колонны. И все облегченно вздохнули, повеселели, приняв молчаливую снисходительность главного немца за доброе предзнаменование.
Однако вскоре откуда-то сзади, с хвоста растянувшихся по дороге людей, донесся истошный бабий вопль. Иван с Саней побежали туда и увидели валявшуюся в грязи бабку Феклу, а над ней конвоира, стаскивавшего с плеча автомат. «Ауф! Штеен ауф!> — кричал он и пинал бабку ногой. Иван, побледнев, встал перед немцем: «Ты что ж это вытворяешь, щенок? Ведь она тебе в матери годится... Поимей совесть!» Немец с размаху ударил Ивана в грудь прикладом «шмайссера», локтем отшвырнул в сторону и, злобно ощерившись, прошил бабку автоматной очередью.
Иван потом говорил Сане, что он почему-то надеялся, что на выстрелы прискачет гауптман, накажет конвоира, убившего старуху. Но гауптман не прискакал. Не появился он и тогда, когда, обессиленный, шмякнулся на дорогу дед Митрий, и тот же самый конвоир, уже не ругаясь, не требуя, чтобы дед встал, с деловитой неторопливостью пристрелил его. Потом стреляли еще и еще, и постепенно дошло до Ивана, что вмешательства гауптмана ждать нечего, что отстающих убивают с его ведома и согласия, и он заплакал от своего бессилия, невозможности помочь людям.
Потом была короткая остановка на обед, немцы, собравшись в кучки, передавали друг другу фляжки со шнапсом, открывали консервные банки, жевали галеты. И ни у кого в колонне наголодавшихся за два года оккупации людей не потекли слюнки при виде этого пиршества, никто не развязал узелки с жалкой снедью — парой-тройкой картофелин, куском дрянного, с лебедой, хлеба. Все знали теперь, какая участь ждет ослабевших, но есть никто не мог, темные крылья смерти уже застили собой белый свет с его житейскими заботами и желаниями.
А под вечер — новая напасть. Одному конвоиру Надоело месить дорожную грязь и, переговорив с товарищами, он с пьяной ухмылкой направился к телеге. «Чего тебе?» — чуя недоброе, спросил Иван. «Пферд, — сказал немец. — Их фаре мит дем пферд. Киндер век! Ферштеен?» Он как котят, хватая за шиворот, поскидал детей с телеги и, гогоча, плюхнулся туда сам. На этот раз Иван смолчал. Он посадил на закорки малыша в красноармейской пилотке, а женщинам приказал взять детей на руки и не отставать от телеги. Сам он тоже шел с малышом на плечах, опустив голову, глубоко о чем-то задумавшись, и Саня, поспешавший рядом, слышал глухое Иваново бормотание и даже разбирал слова. «Да где ж это видано, чтоб с детишками так, в грязь носами? — размышлял Иван. — Ясно, зверь он лютый, командир ихний, но ведь и зверь ин раз жалеет детенышей...» Иван все еще не мог расстаться с мыслью, что он тогда не ошибся, не почудилось ему, а в самом деле проглянуло в стылом лице гауптмана, когда он слушал верещание глиняных свистулек, что-то знакомое, давнее... «Попытать ай нет?» — бормотал Иван, поправляя свисавшие ему на грудь голые, синие на холоду, в коротких порточках, малышовы ноги.
Еще не стемнело, когда раздалось: «Хальт!» Немцы остановили колонну в какой-то сожженной и покинутой жителями деревне, где уцелели всего одна изба да стоявший на отшибе коровник. Часть конвоиров вместе с гауптманом направилась к избе, оставшиеся начали загонять людей в хлев на ночлег, шляфен, как сказали немцы.
У дверей коровника Иван шепнул Сане: «Погодь-ка!» — взял его за руку и вывел из толпы. На виду у конвоиров они пошли к избе. Никто их не окликнул:видимо, немцы уже успели выставить сторожевое оцепление и были уверены, что старик с мальчиком никуда не денутся.
Александр Семенович, рассказывая это, не мог объяснить, почему Иван, идя к гауптману, взял его с собой. Может, думал видом испуганного, усталого, заляпанного по колени грязью племянника растопить ледяное фашистское сердце? Или иная задумка у него была? Так или Иначе через минуту они оба стояли перед избой, где расположился гауптман со своей свитой, и Иван просил часового допустить их к начальству. Видно, немец, стоявший на часах, пребывал в благодушнном настроении. Протопав в избу, часовой тут же вернулся и, брезгливо морщась, начал ощупывать и охлопывать просителей, желая убедиться, что при них нет оружия. Потом ткнул пальцем в плечо, давая понять, что они могут войти.
В прихожей половине Иван поперхнулся — до того густ был немецкий дух, исходивший от потных солдатских тел в расстегнутых мундирах, шерстяных носков, сушившихся на шестке у печки, манерок с супом и гуляшом. Конвоиры, свободные от дежурства, кто сидел, кто лежал на соломе, покрытой пятнистым маскировочным полотнищем. Они удивленно проводили глазами громадного русского деда и русоволосого мальчишку, нахально перших прямо в горницу гауптмана, однако никто не попытался остановить их.
Гауптман в одиночестве сидел за столом, опершись узкими локтями о чисто выскобленную столешницу. По левую его руку чадила ржавая керосиновая лампа, по правую лежали фуражка с черепом, вороненый парабеллум, посреди стояла наполовину опорожненная бутылка.
— Гутен абенд, герр официр, — сказал Иван, успокаивающе поглаживая по вихрамиспуганного до коленной дрожи Саню.
— Ты знаешь немецкий? — в свою очередь по-русски спросил гауптман.
— Яволь, их вайс.
— Где же ты научился? — гауптман смотрел на Ивана с холодным любопытством, постукивая костлявыми пальцами по пистолету.
— В Германии, господин офицер.
— Ты был в нашей стране?
— Яволь, был. В вашем плену, был, еще в первую мировую.
—О, это заньятно, — сказал гауптман с легким удивлением в голосе, храня, однако, холодную неподвижность лица. — И в каких городах ты был?
— Сперва в Дрездене — в госпитале лежал, вот с этим... — Иван похлопал по раненому колену. — Потом попал аж под Штеттин.
— Так, под Штеттин. Дальше, старик, дальше...
— Там меня один бауэр батраком к себе взял.
— Ба-траком? Вас ист дас?
— Работником, значит.
— Заньятно, — повторил гауптман и не сдержался — нервно улыбнулся краешком узких губ. — Я тоже жил около этот город. Не забыл, как звали твоего хозяина?
— Звали Куртом... А фамилие ихнее... Как же его? Такое простое фамилие, а вот, поди ж ты... — Шапкой, зажатой в кулаке, Иван вытер со лба вмиг проступившую жаркую испарину и досадливо крякнул. Что-то подсказывало ему, что это очень важно — вспомнить фамилию бауэра.
— Лёс, лёс! — торопил его гауптман, весь подавшись из-за стола навстречу Ивану. — Думай, старик, думай! Шнеллер!
«Как же его, как? — лихорадочно думал Иван, вызывая перед собой образ вот такого же долговязого, как гауптман, вечно угрюмого, вечно всем недовольного человека в грубошерстной куртке и бриджах, в плоской шляпе с перышком за зеленой лентой. Как же его, немчуру проклятого?..»
И вспомнил Иван, вспомнил-таки, вытащил из глубин памяти давным-давно позабытую за ненадобностью фамилию немца-хозяина.
— Шмидт! Шмидт — его фамилие! — басом гаркнул он на всю горницу и радостно засмеялся. Убей меня бог — Шмидт! Кузнецов, по-нашенски. У него еще сынишка был, лет десяти. Францем звали... Чуешь, герр офи...?
Саня попятился. Медленно-медленно гауптман поднимался из-за стола, выпрямлялся во всю свою несуразную долговязость, одной рукой одергивая полы кителя, другой приглаживая редкие волосы.
— Дай! — сказал, как выстрелил.
— Это чего? — растерянно спросил Иван.
— Это дай... Как это по-русски? — подойдя к Ивану, гауптман повернул его за плечи к свету лампы. — Свистьюльку дай!
— Свистульку? — Иван громко сглотнул слюну, суетясь, зашарил по карманам. Потом вздохнул облегченно, подавая немцу глиняного петушка. — Вот, на... Уж я думал, ни одного не осталось...
А дальше было такое, что заставило Саню на минуту забыть страх и, непочтительно разинув рот, уставиться на гауптмана, который повел себя диковинно и непонятно. Обтерев платком петушиную гузку — там, где была дырочка, — он сунул глиняшку в губы и, зажмурившись, печально и важно покачивая плешивой головой, засвистел. Сане почудилось даже, что из-под век немца блеснули слезы.
Оторопело, неуклюже топчась, глядел на гауптмана Иван.
Последний звук, протяжный и жалобный, затих, затерялся в полутемных углах избы. Гауптман снова обтер платком петушиный задок и, протягивая, но не отдавая Ивану свистульку, понизив голос до шепота, спросил:
— Ты это помнишь, старик?.. Ты это помнишь... — Он помедлил и, наклоняясь к Ивану, душно дыша ему в бороду коньячным перегаром, закончил по слогам: — Дядь-я Вань-я?..
Иван был ранен в четырнадцатом, в начале войны, под Ломжей. Немецкая армия и тогда отличалась жестокостью, но еще не наплевала на все законы — божеские и человеческие, как было потом, при Гитлере. Поэтому немецкие санитары подобрали Ивана и отправили в госпиталь. Лечить, впрочем, почти не лечили, и несерьезное в общем-то Иваново ранение обернулось для него калечеством — нога перестала сгибаться в колене. Это, однако, не помешало немцам по выписке из госпиталя отправить здоровенного русского мужика на работу — во благо великой Германии. Волей судьбы он попал к штеттинскому бауэру Курту Шмидту. Курт был, по их немецкой мерке, не то чтобы богат, но и не беден: владел порядочным куском земли, держал три лошади, пять коров.Был он крутенек характером, аккуратен и трулолюбив, сам не давал себе отдыху с раннего утра до поздней ночи и заставлял в поте лице своего работать чад и домочадцев. Из домочадцев были у него наемный работник, немец же, и костлявая, долговязая, под стать хозяину, немка неопределенного возраста — фрау Майер, худо ли, бедно ли выполнявшая обязанности покойной фрау Шмидт. А чадо у Курта было одно — тщедушный, с болезненно бледным лицом мальчуган по имени Франц.
То, что суровый Курт Шмидт не давал поблажки даже собственному сыну, не делал скидки на его малолетство, Иван понял сразу же, как только бауэр привез его на лошади из Штеттина на свое подворье, состоявшее из добротного кирпичного дома под черепичной кровлей и кирпичных хозяйственных построек. Посреди широкого, замощенного брусчаткой двора Иван увидел кучу брикетированного торфа, а возле нее мальчика с тачкой, на которую он укладывал торфяные кирпичи. Тачка была большая, громоздкая, а мальчик — узкогрудый, со слабыми худыми плечами. Когда он покатил нагруженную тачку, ему потребовалось до предела напрячь силенки. Стараясь удержать поручни, мальчик вихлялся всем телом, ноги его разъезжались на скользкой брусчатке.
Было начало ноября, настоящие холода еще не наступили, но ветер, дувший с севера, нес с собой промозглую, дрожливую сырость. А на мальчике были какая-то легкая полотняная курточка, короткие штанишки и грубые, спадавшие со ступней опорки на деревяннойподошве.
Иван жалостливо поморщился и, пользуясь тем, что хозяин ушел распрягать лошадь, заковылял к мальчику. «Найн, найн; герр зольдат», — испуганно залепетал тот, когда Иван решительно ухватился за поручни. Отстранив мальчугана, он покатил тачку к сараю, а мальчик брел следом и все твердил что-то про «фатера», который, мол, будет недоволен.
Шмидт, вернувшись с конюшни, в самом деле не на шутку рассердился. Накричав на сына и приказав ему снова взять тачку, он, твердо и прямо глядя в лицо Ивану, прочел длинное нравоучение. Иван к тому времени уже разбирался с грехом пополам в немецком: и многое из того, что сказал хозяин, уразумел. Хозяин же, то поднимая вверх тонкий и крепкий, как гвоздь, палец, то тыкая им себе в грудь, говорил о том, что господь бог сотворил человека не для постыдной праздности и лени, а для тяжкого повседневного труда. Его самого с зеленого детства отец приучал работать, и он благодарен отцу за эту науку. Теперь, в свою очередь, он дух вышибет из Франца, но все ж сделает из него настоящего немца — крепкого и закаленного работягу, а если потребуется фатерлянду, то и храброго солдата. И еще сказал Курт Шмидт Ивану Глинкову, что он не потерпит у себя в доме русской безалаберности и русской недисциплинированности. Иван должен делать то, что ему прикажут, и ничего сверх приказа, как это только что было в случае с Францем. Если же русс не прислушается к его, Курта, предостережению и будет по-прежнему совать нос не в свои дела, то с его носом он, Курт Шмидт, поступит вот так... И хозяин с угрюмой свирепостью секанул ребром Ладони по воздуху, показывая Ивану, как отрубит ему нос.
«Не пужай, не из пужливых», — хотел было сказать Иван, но позади Курта стоял Франц, умоляюще прижимал к губам палец — дескать, не гневи фатера.
Три часа, оставшиеся до потемок, они с хозяином молотили на риге пшеницу. А вечером Ивана определили на жилье: фрау Майер провела его в сараюшку возле коровника и объяснила, что и как там устроить, чтобы «руссишер зольдат» было «гут». Коль не капут, то и гут — здраво рассудил Иван, уже привыкший не ждать в плену ничего хорошего. Осмотрелся. Окна в сараюшке не было, но зато под потолком тусклилась электрическая лампочка. В углу на цементном полу лежала охапка сена — его постель. Сену Иван обрадовался. К тому же в сарае была печурка, стояли два дощатых ящика, побольше и поменьше — видать, стол и стул, по замыслу Курта Шмидта. В целом жильем неприхотливый Иван остался доволен — все ж не под открытым небом.
Вскоре фрау Майер принесла ему три брикетины торфа и завернутую в пергаментную бумажку еду — праздничный ужин, как она заявила не без торжественности, — в честь начала его работы у Шмидта. Русский может сейчас съесть свой ужин, присланный ему лично герром хозяином, но пусть он не надеется, что так будет и впредь. В дальнейшем русский должен добывать себе еду сам: по нерадивости работника Ганса в земле осталось нынче немало картофеля, и герр Шмидт разрешает русскому ходить на поле с лопатой и выкапывать картофелины. И пусть русский не стесняется — сколько соберет, столько пусть и ест. И о топливе для русского позаботился герр Шмидт; она ежедневно будет выдавать ему три торфяных брикета. Целых три! Потому что герр Шмидт хотя и строгий на вид, но в душе — очень, очень добрый. «Айн зер, зер гутер меньш!» — подчеркнула фрау Майер.
Когда она ушла, он развернул бумажку и тихонько рассмеялся. Знал он немецкую прижимистость, но все же надеялся на большее. «Праздничный ужин» состоял из кусочка хлеба — раза два укусить, тонюсенького до прозрачности кружка копченой колбасы и махонького ломтика шпика. «Ну и ну!» — качал головой Иван.
Впрочем, что было делать? С утра не евший, он нацелился на сало, поднес его было ко рту, но тут в дверь постучали. Вежливо, робко... «А, это ты, юнге, — приветствовал Иван вставшего на пороге Франца. — Проходи в хоромы, парень, гостем будешь». — «Данке, герр зольдат, — застенчиво чирикнул Франц и улыбнулся. — Данке шён». Иван догадался: он благодарит за то, что он помог ему катить тачку. Франц приселна ящик. Иван принялся за еду и вдруг услышал звук сглатываемой слюны.
Это сытый голодного не разумеет, а голодный голодного всегда поймет. «Да ты ж, парнишечка, жрать хочешь, — сказал Иван, снова дивясь немцам. — Это что ж, фатер твой не накормил тебя, нихт эссен?» Франц, заикаясь от смущения, объяснил, что он-де не заслужил сегодня ужина: не успел убрать весь торф, как велел отец. «Ну и ну! — опять закачал головой Иван и протянул мальчику хлеб: — Ешь, парень». — «Найн, найн!» — зарделся Франц, а рука уже сжимала хлеб. «Вот и хорошо, — сказал Иван. — Завтра я картох накопаю, налогаюсь вволю. И тебя, коли что, накормлю... Не горюй, малец, не пропадем».
Так они подружились: Не забыл Франц тот кусочек хлеба, не остался в долгу. Нес Ивану все, что мог утаить за столом или стащить на кухне, в кладовке, —кусочки шпика, ветчины, сыра, хлеб, сахар. Фрау Майер была начеку, но Франц исхитрялся-таки подкармливать друга. Иван принимал все со спокойной совестью: дом Курта Шмидта был полная чаша, всего вдоволь, не объест он хозяина. И очень кстати были приношения Франца. На картошке Иван скоро бы ног не потянул, так как на работе не жалел себя: по довоенной еще, мужичьей привычке ломил за троих. И суровый Курт Шмидт не мог не отдать должное его добросовестности, даже стал удостаивать русского батрака похлопыванием по плечу и скупыми улыбками.
Наверное, поэтому так легко сошло Ивану обнаружение его дружбы с Францем. Работник Ганс давно уже принюхивался к сараюшке, где обитал русский пленный, замечал, как вечерами прокрадывается туда Франц, и, привыкший наушничать, не утерпел — доложил хозяину. Тот взъярился и кинулся к Ивану. «Что я говорил русскому, когда брал на работу?! — заорал с порога. Иван, варивший на печурке картошку, спокойно обернулся. «А что?» — спросил, будто не понял. «Разве я не предупреждал тебя, чтобы ты не вмешивался в семейные дела нашего дома, держался подальше от Франца?» — «Кажись, предупреждал», — усмехнулся Иван. «Так знай, что Курт Шмидт держит свое слово!» — И хозяин потянулся схватить Ивана за нос. Иван с силой отбросил его руку. «Не балуй, немец», — сказал по-русски... Сказал так, что хозяин сник. «Ну, погоди же!» — пробормотал торопливо и выскочил вон, оглушительно хлопнув дверью.
И назавтра сделал вид, что ничего меж ними не произошло. Правда, Франц после этого неделю не показывался в сараюшке, а когда наконец пришел, конфузливо отворачивал лицо, стараясь скрыть синяки. На родном сыне, но все-таки отыгрался Курт Шмидт.
Между тем наступила зима — сырая, неуютная. Ночами падал снег, а днем таял, разлуживался по двору. Иван вспоминал ядреные морозы на родной Смоленщине, столбы дымов над избами, скрип полозьев по накатанному санному пути и все сильней тосковал по родине. Вспомнилось ему его гончарное ремесло, ладони зачесались что-нибудь слепить. Сказал Францу — тот добыл где-то глины, притащил Ивану, радостно улыбаясь, целое ведро. Иван помял щепотку в пальцах, поплевал, растер, понюхал — пойдет! «Краски бы какой», — помечтал, вовсе не надеясь, что парнишка расстарается и с красками. Франц расстарался — в школе у них были уроки рисования, — принес несколько тюбиков акварели разных цветов. Не мудрствуя лукаво, Иван налепил на первый случай петушков-свистулек, слегка обжег в печурке и ярко раскрасил.
Петушков Иван наделал с десяток, и все они верещали по-разному, своим голосом — одни тенористо, другие басом, одни весело, другие печально. Самый большой, самый красивый петух даже издавал, если подуть умело, хрипло-задорный, картаво-радостный крик, похожий на настоящее петушиное пение.
Уж как засиял Франц, как заблестели глаза, когда Иван показал ему всю эту петушиную станицу иобъявил, что сделал глиняных певунов специально для него, Франца, для его потехи и дарит их ему всех сразу, скопом. Франц суетился, то бросался обнимать Ивана, то гладил петухов по гребням, а потом, поутишась малость, начал пробовать их голоса... Не было в тот вечер счастливее никого на свете Франца — маленького сынишки угрюмого штеттинского бауэра Курта Шмидта.
Смотрел Иван на Франца и думал — люди есть люди, где б они ни жили: об одной голове и о двух ногах, одинаково родятся и умирают, радуются и печалятся. И как бы было преотлично, любо-дорого, если бы все живущие по разным царствам-государствам народы поняли свое человеческое братство и задушили совместно это чудище-войнищу ненасытную, утробу кровожадную, пожиравшую кого попадя, не глядя, немец ты или русский.
И не было рядом с Иваном никого всезнающего, сквозь годы провидящего, кто бы сказал ему: «Да что ты, брат Иван, добрый русский мужик. Да разве это война? Не сказка это, а присказка, не ягодки, а цветочки, не война, а так себе — войнишка. Настоящая война-войнища — она еще грядет, она еще будет!..»
Все чаще наведывался к нему Франц, все дольше сидел в Ивановой сараюшке.
Но всему приходит конец. Однажды явился к Ивану хозяин и, стоя на пороге, угрюмо-сосредоточенный, торжественно-важный, произнес расставанную речь. Терпение его лопнуло, сказал немецкий бауэр Курт Шмидт русскому крестьянину и солдату Ивану Глинкову. Он не позволит никому калечить нравственно своегоединственного сына, убивать в нем здоровый германскийдух. Он строг, но справедлив и должен признать, что русский Иван работал хорошо. Скоро весна, он, Курт, выйдет в поле сеять и растить хлеба на благо своей семьи и фатерлянда. Пара крепких русских рук ему бы пригодилась. Но сын есть сын, и дух есть дух. Сын дороже Ивана, и дух дороже сына. Поэтому он, Курт Шмидт, вынужден отказаться от услуг русского пленного и передать его соответствующим властям по соответственному назначению. Итак, ауф видерзеен, русс Иван, хотя никакого свидания больше не предвидится.
Наутро за Иваном пришел немецкий солдат с винтовкой и в каске с шишаком. Рявкнул привычно — «лёс!» — и повел Ивана в город, на железнодорожную станцию. А того одно томило — не дали проститься с Францем. Уже скрылся за бугром дом бауэра. И вдруг позади — дробное топотание детских ног, загнанное дыхание. Франц подбежал к Ивану, сунул ему узелок с едой, плача, намертво вцепился в его рукав. Конвойный сердито оттолкнул мальчика, приказал немедленно вернуться домой. «Иди, сынок, иди, — вздохнул Иван, гладя его по голове. — Все-таки простились, слава богу. Теперь чего уж, теперь иди...» — «Прощай, дядья Ванья! — крикнул Франц по-русски. — Спасибо, дядья Ванья!»
Давно не видно было Франца, затерялся он где-то в ложбинках немецкого поля, а до Ивана все доносился тонкий, прерываемый плачем голос: «Прощай, дядья Ванья! Спасибо, дядья Ванья».
Когда же голос затих, Иван бросился на конвойного, подмял под себя, поломал, повалил наземь. Потом накрепко связал немца ремнями и оттащил подальше в кусты. Туда же бросил немецкую, с плоским штыком винтовку. И зашагал по пустынной в тот час проселочной дороге на восток. Позже стали попадаться редкие встречные, но они не обращали особого внимания на Ивана: одет он был, как немец, в рабочую одежду, выданную Куртом Шмидтом.
Знать, бежал Иван Глинков из плена под счастливой звездой, потому что спустя месяц стучался в окно родимой ельнинской хаты..
— Да, я был вот таким, — гауптман показал на Саню. — Я был бедный маленький Франц, и никто не ласкал меня, никто не жалел... Кроме дядьи Ваньи... Я помню тебя дядья Ванья...
— Как же ты вырос таким-то? — с брезгливой жалостью спросил Иван.
— Каким?
— Да вот таким, — Иван кивнул на фуражку с черепом.
— Я солдат, дядья Ванья, я исполняю свой долг!.. Да, да, свой солдатский долг... Тебе понятно это?
— Чего ж тут непонятного? Только не солдат ты, герр гауптман. Солдат против солдата воюет, а ты с безоружными.
— Хорошо, мы обсудим этот вопрос. Так говорят на ваших собраниях? Но сначала мы будем делать так: ты садишься близко от меня, как мой гость, за стол, и мы пьём хороший францёзиш коньяк. За встречу. За удивительную... да, да... удивительную встречу, которая имеет быть благодаря войне. А мальшик будет сидеть вон там, в углу и не слушать наш разговор. Потому что мы имеем серьезный, ошень серьезный разговор. И откровенный. Я позволяю тебе говорить все, что ты думаешь, и ты не боишься меня и говоришь все, что думаешь... Хорошо, дядья Ванья?
— Ладно, — угрюмо сказал Иван, опускаясь на скамью.
Александр Семенович до сих пор помнит ту горницу, до мельчайших подробностей. Полати, лавки, божница с вышитыми рушниками по бокам, самодельный некрашеный шкафчик на стене — в ней не было ничего такого, чего бы Саня не видел в других деревенских хатах. Но за столом сидел долговязый, с жестким узким лицом, всем своим обликом чужой, жуткий человек, и его присутствие делало горницу тоже чужой и жуткой и как бы отделяло ее от всего, чем жил и к чему привык Саня.
Гауптман достал из шкафчика граненый стакан, плеснул на донышко из бутылки.
— Битте, дядья Ванья.
— Лей еще, — Иван насупленно усмехнулся.
Гауптман плеснул еще.
— Полней лей!
— О! нервно засмеялся Франц Шмидт. — Я забываль, что дядья Ванья русский мужик. Битте!
И налил до краев. Иван выпил стакан единым махом, обтер бороду ладонью.
— Вот теперь поговорим... — Иван, положив локти на стол, тяжело наваливаясь грудью на столешницу, пристально вглядывался в гауптмана. — Так, так, — бормотал задумчиво, не то чтобы припоминая, а скорее угадывая худенького, печального немчика в этом немолодом уже, лысеющем офицере. — У тебя родинка на виске была... Точно, вот она, родинка. И нос точно такой, и глаза... Сколько годков минуло, а узнаю тебя, Франц Шмидт, узнаю... А лучше б мне не узнавать тебя... Ведь я, дурень, думал, что из тебя человек получится. А ты... — Иван горько скривился, плюнул под стол.
— Ты говоришь мне... ты... Как это?.. тыкаешь меня, немецкого офицера. — Гауптман приподнял бутылку, наливая себе в стакашек, и Саня видел, как неспокойно дернулась его рука. — Но я прощаю тебя, дядья Ванья. Я благородный... да, да, я благородный, великодушный шеловек!
— Слышь, Сань? — крикнул Иван. — Он благородный человек! Чуешь, Сань?
— Да, да, я могу повторить это, — жестко сказал гауптман. — Я имел трудное, ошень трудное детство. У меня был суровый отец, и он не давал мне... как это?.. спускания. Но сейчас я благодарю его. Он хотел, чтобы я вырос примерным немцем. И я вырос им! Да, да, я вырос им, дядья Ванья!.. Я имею хорошее образование, я учился в университет!.. Понимаешь ли ты это, темный русский мужик дядья Ванья?.. Я учил ваш русский. Потому что отец, еще когда я был юн и глюп, предупреждал меня... «О, — говорил мой фатер, — русские — это громадная, громадная опасность!..» Большевик — это нехорошо, дядья Ванья, это — варварство. И Германия не потерпит большевик. Мы прогоним большевик и великодушно дадим вам немецкую дисциплин, немецкий порядок... Дойче орднунг! — гауптман торжественно поднял сухой длинный палец. — Понимаешь, дядья Ванья? Дойче орднунг!
— Чего-чего, а порядка у вас в самом деле хватает, и дисциплины тоже, — сказал Иван, брезгливо косясь на этот палец. — Только вашего нам ничего не надо. Мы по-своему жили и будем жить, как привыкли, как нам любо.
— Как им любо!.. Плёхо вы живете, дядья Ванья, ошень плёхо! Зер шлехт!.. Вы не умеете работать на земля. Нет, не умеете! Но мы вас научим. Мы возьмем ваши земли под немецкий опека. Немецкий хозяин покажет вам, как надо работать на земля. Он будет... как это?.. холить каждый клочок вашей земля. Она будет такой, как у моего отца Курта Шмидта.
— Наша землица черствая, горькая, и хлеб наш горький, — сказал Иван. — От него у немца брюхо вспучит.
— Что есть «вспучит» и что есть «брухо»?
— Животы, говорю, разболятся.
— О, живот! Ты ошибаешься, дядья Ванья, у нас крепкий живот. Немецкий живот все переварит.
— Не переварит. Уже не переварил. Вам бы теперь свою землю, немецкую, удержать...
— Ты рано радуешься, дядья Ванья. Мы отступаем временно, мы выравниваем фронт. Пройдет лютый русский зима, и мы снова двинемся в бескрайние русские степи. Москва — капут, Ленинград — капут, вся Россия — капут!..
— Ты что, и впрямь веришь в такую чепуховину? — Иван глядел на Франца Шмидта мирно, даже сочувствуя будто. — Ай совсем вы, немцы, спятили? — Иван постучал пальцем по лбу. — Думм копф. Ферштеен зи?
— Но, но! — крикнул гауптман. — Я не позволю тебе так говорить, дядья Ванья!
Он встал, ногой отшвырнул скамью, начал вышагивать по горнице. «Ну и журавель!» — невольно подивился Саня: макушкой немец чуть не доставал до потолка.
— Хорошо, дядья Ванья, — гауптман остановился, резко повернулся к Ивану. — Я отвечай на твой вопрос откровенно. Я немецкий официр, я обязан верить в победу нашего оружия. — Он потрогал острый кадык, повел шеей, туго стянутойстоячим воротником мундира. — Я хочу в это верить, черт тебя подери, дядья Ванья!.. Видишь? — кивнул на божницу. — Как это?
— Иконы, — подсказал Иван.
— Да, икони. Бог... Ты знаешь наш девиз? Готт мит унс, с нами бог. Я хочу верить, что бог поможет нам.
— Бог вам не поможет, нет у вас бога. Вам черт — помощник.
— Ты говоришь со мной невежливо, дядья Ванья, — сказал гауптман тихо, словно удивляясь себе. — И я не понимаю, что со мной. Я хочу быть сердитым, но не могу... Я тебя опьять прощаю, дядья Ванья, да, прощаю...
Затем было молчание. Гауптман снова сел, уныло уставился на стакашек с недопитым коньяком. Иван ворочался, скрипел скамейкой, комкал в руках шапку, бормоча что-то.
Тишину разорвал звук, похожий на выстрел. Франц Шмидт вскочил, схватив со стола парабеллум.
— Окно, — сказал Иван. — Чего пужаешься? Окно отворилось.
Гауптман подошел к окну. Саня видел его сутулую спину, талию, перетянутую широким черным ремнем, штаны, свисавшие пузырем на тощем заду. За окном была знобкая осенняя темь. Ветер, врываясь в избу, яростно трепал занавески, кружил по углам, ерошил Санин вихор.
— Русская нош, страшная русская нош, — сказал гауптман, не оборачиваясь. И вдруг Саня услышал, как он всхлипнул: — Бедный маленький Франц! Армер кляйнер Франц!.. Он бредет через темную русскую нош, он одинок — как пьерст, и никто не пожалеет его, никто дружески не потреплет по плечу. Бедный маленький Франц! — повторил громко, почти крикнул, и закачал плешивой головой, вздрагивая спиной.
— Нализался, — сказал Иван. — Нюни распустил. Вот он твой францёзиш коньяк...
Когда гауптман повернул к ним бледное заплаканное лицо, Саня понял — что-то надломилось в жутком долговязом немце. Сломался в нем какой-то стерженек. Он сразу обмяк, как большая тряпичная кукла. Сане даже показалось на миг, что сейчас вот, прямо на его глазах, развалится немец на куски — скатится с плеч голова, отпадут руки, мешком осядет на пол бескостное длинное тело...
Эту внезапную слабину, эту мертвенную оцепенелость Франца Шмидта сразу почувствовал и Иван. Шумно поднялся он, запахивая полы шубы, сказал грубо, напористо:
— Ну, хватит, герр гауптман, хватит! Я к тебе по делу зашел. Противно у тебя одалживаться, да уж ладно — за детишек малых хлопочу. Твои конвоиры коня у меня отняли. Вели отдать.
— Да, да, дядья Ванья, — с какой-то испуганной приниженностью засуетился гауптман. — Ты получишь свой лошадь назад. Где мой шинель? Я прикажу лично... Идем, дядья Ванья, идем! Комм, битте!..
Через минуту они шли по сожженной деревне, направляясь к хлеву. В печных трубах, черневших вдоль улицы, завывал ветер. Под ногами чавкала грязь. Гауптман посвечивал фонариком, выбирая места посуше.
Ивановалошадь стояла у хлева, привязанная к дереву, нераспряженная, хрумкала сеном. Почуяв хозяина, рванулась, радостно заржала. Из темноты вынырнули часовые, гауптман что-то им сказал, они щелкнули каблуками и снова растворились во тьме.
— Что, приказал отдать коня? — спросил Иван. — И на том спасибо, Франц Шмидт. А теперь валяй в свою квартеру — мы с Саней спать будем.
Но гауптман не уходил.
— Хотите верьте, хотите нет, — продолжал свой рассказ Александр Семенович, — а отмочил тот немец под конец такую штуку... Но буду по порядку. Не уходит он, значит, топчется сапогами в грязюке — нервно так топчется — и пуговицы на шинели трогает, бормочет какую-то невнятицу — кажется, задумал что-то. А дядя Ваня знай одно твердит: «Зверь ты лютый, герр гауптман, фашист паршивый». Тогда немец, окончательно распалясь, велел своим конвоирам доставить к нему всю Иванову семью — то есть жену его, маму мою с сестренками. Приволокли их конвоиры грубо, — наверное, думали, что на казнь к начальнику тащат. А он приказал всем нам сесть в телегу и так-то громко объявляет Ивану: дескать, дарит ему жизнь, и семье его дарит. Но чувствовал Иван: толкает его фашист на подлость, чтоб он односельчан бросил. А потом бы нас все равно порешили...
Не знаю, что думал тогда немец. Может, ждал — в ноги кинется ему дядя Ваня. А тот повернулся к гауптману и такого матюга в него пустил, что знай он наш язык получше, подоскональней, наверное, схватился бы за пистолет... «Надеешься, я своих брошу? — крикнул дядя Иван немцу. — Убегу тайком, как вор в ночи?.. Да я с теми, кого ты в хлеву запер. Что им, то и мне!»
А женщины наши с детишками уже в телегу забрались, ужё радуются скорому освобождению. И, услышав, как честит Иван немца и отказывается от его милости, такой плач подняли, такой гам, что гауптман за уши схватился.
Нас снова загнали в сарай. Никто, конечно, глаз не сомкнул до утра. У всех кошки на сердце скребли. Все готовились к самому худшему. И не зря.
Под утро я услышал за стеной какой-то подозрительный шорох, тяжелый топот ног и негромкие голоса гитлеровцев. Я встал тихонько и заглянул в узкую щель ворот — фашисты торопливо обкладывали сарай соломой, потомпо команде гауптмана солдаты чем-то облили солому, и гауптман поднес к соломе горящий факел. Мгновенно вспыхнул огонь, и желтые языки пламени побежали в стороны.
Увидев сквозь щели огонь, все в ужасе повскакивали со своих мест, раздались отчаянные крики, плач детей.
И не миновать бы нам самого худшего, если бы в тот миг не налетели на немцев партизаны. Откуда они появились, наши избавители, никто не знал, только вдруг застучали выстрелы, завопили немцы, и пяти минут не прошло, как распахнулись ворота хлева и встал на пороге молоденький, с улыбкой во весь рот, партизан. А из-за его плеча дядька мой второй — Алексей — выглядывает, орет Ивану: «Здорово, братуха!»
Из немцев никто не ушел, всех перебили. Может, и пожалели бы тех, кто руки вверх поднял, но пожалеть никак было нельзя. Ведь они, гады, по приказу гауптмана хотели всех нас живьем сжечь, не пожалели ни детей, ни стариков, ни женщин.
Мы с дядей Ваней видели убитого гауптмана. Лежал он у ворот сарая, фуражка с черепом рядом валялась. Лицо спокойное, важное, будто понял наконец-то немец такое, чего не мог понять при жизни...
Я так мыслю, что зверь он был доподлинный, но где-то таилось в нем, глубоко зарытое, доброе семечко. Его дядя Иван бросил, когда Франц Шмидт малышом был. И дало бы, наверное, оно добрые всходы. Но фашист остался фашистом.
— Так-то, — заключил Александр Семенович. — Вот и скажите после этого, что добрая сила злую ломит...
Впрочем, он тут же, будто усомнившись, спросил меня: — А вы как думаете?
Иван умер лет за пять до моего знакомства с Александром Семеновичем. Умер в родной ельнинской деревне. В последние годы жизни старика Александр Семенович часто навещал его, и, отдаваясь неугасимой памяти, вспоминали они то, что было с ними давным-давно, но что остается в человеке до скончания дней.
Глинков все-таки настоял, взял я у него еще один подарок — ту самую вазу, от которой отказался когда-то в мастерской. Изящная, с отменным вкусом сделанная вещь — в виде факела с завитушками огня вверху, и в ней не уронил Александр Семенович марку своего высокого искусства. И глазурована ваза цветами пламени на фоне клубов дыма. Может, не думал мастер, когда клал глазурь, о войне, но, видно, все же дала о себе знать подспудная память...
Перед этим Глинков позвонил мне по телефону. Тонкий веселый голос в трубке:
— Говорит дед. Приглашаю на семейное торжество: у Лиды сынишка родился.
— Поздравляю...
Я немного растерян — трудно вот так, сразупредставить себе в почтенной роли матери девушку, которой я любовался год назад в мастерской Глинкова.
— Иваном назвали.
— Хорошее имя.
— Еще бы! Я пожелал. Молодые сперва ни в какую — несовременно, мол. Три дня уговаривал...
— Как Лида?
— Еще красивей стала. От счастья. Обо мне и речи нет. Все время петь хочется. Шутка сказать — новый Глинков на свет появился. Конечно, фамилия у него отцова будет, а все же... Может, по нашей, гончарной, части пойдет. Как думаете?
— Может быть...
— Ну, так до встречи! Ждем вас!
Когда я уходил от Глинковых, Александр Семенович и вручил мне вазу.
Я гляжу на пламя и дым, и мне чудится, что я сам в горящей деревне, где жили Иван с Саней, будто мне самому обжигает лицо нестерпимый жар, самого душит смрадный чад пожарищ. И еще я вижу колонну старух и стариков, баб и ребятишек, которых немцы гонят по грязной осенней дороге, пристреливая отстающих.
И как наяву стоит передо мной Иван, дядя Ваня...
Рано утром на реке
Еще вечером, ложась спать, Коля приказал себе проснуться в четыре. Его ресницы дрогнули в тот самый момент, когда старенькие часы, висевшие над комодом, торопясь и шепелявя, отбивали удары. Минуту-другую он лежал, ни о чем не думая, борясь с молодым сном, хмельно кружившим голову, потом улыбнулся в темноту — вспомнил, зачем решил подняться так рано.
Окно напротив было маленькое и вмещало всего одну звезду, но зато очень крупную. Коля смотрел на нее пристально, дружелюбно, как на давнюю знакомую, и чуть-чуть жалостливо. Звезда горела спокойно и горделиво, но красоваться ей оставалось недолго — где-то поблизости ходило утро.
Колины пятки мягко стукнули об пол. Он на цыпочках прокрался к лампе, чиркнул спичкой и через плечо взглянул на печку. Оттуда, из-за трубы, неясно виднелось лицо бабки, смутно поблескивали белки глаз.
— Кому было сказано латать крышу? — спросила бабка, скрипуче зевая и тряся космами волос.
Коля улыбнулся ей:
— Да ведь я ненадолго, бабуся.
— Ну, разве только ненадолго. Хлеба с собой возьми.
—А я тебе знаешь кого принесу, бабуся?
— Кого?
— Ни за что не угадаешь.
— Не томи душу, враженок! — крикнула бабка звонко. — Говори уж!
— Сома.
— Сома-а?
Бабка дробно рассмеялась, закашлялась, замахала руками, обороняясь от смеха и кашля. Вдруг лицо ее исчезло в сумраке печи, и Коля услыхал ровное дыхание: бабка снова спала.
Он задул лампу и вышел во двор. Небо было еще непрозрачным, густым, цвета неразведенной синьки, но за рекой утренний свет уже размывал синеву. Колина звезда полыхала ровно и сильно. Он счастливо зажмурился, взъерошил ладонью волосы и спрыгнул с крыльца в траву.
Удочки стояли прислоненные к стрехе. Коля судовольствием ощутил под пальцами накатанную гладкостьочищенного от коры дерева. Звонко щелкнул кнопкой фонарика. Сноп света упал под куст крыжовника, где была спрятана консервная банка с червями. Коля опустился на корточки. Черви, потревоженные светом, зашевелились сотней сплетенныхрубиновых тел. Самые шустрые тянули к краям банки шильца головок.
— Но, но! — пожурил их Коля ласково. — Сидите смирно, ждите своего часа.
Утро приближалось неудержимо. Светлой полоске за рекой трудно было лишь начать дело. Как тяжелая колымага, ночь не хотела двигаться с места, но, сдвинувшись, покатилась все быстрей и быстрей к своему исходу. Светлая полоска быстро росла, расширялась, наливаясь янтарем...
Тропа вела к реке. Коля шагал по тропе, но почти не видел ее, только ощущал босыми ногами упругость притоптанной земли. Он спускался в низину, постепенно погружаясь в молочную густоту тумана.Он шел по грудь в тумане, а кругом, как обломки кораблей после бури, плавали верхушки кустов. Потом туман стёк к Колиной пояснице, к коленям, ступням и остался за спиной внизу: Коля поднялся на пригорок.
Коля сбежал с речного берега. Пробудившаяся река сбрасывала одеяло тумана. Белесые клочья кочевали над водной гладью, цеплялись за прибрежные лозы и, вытягиваясь в диковинные призрачные фигуры, редели и таяли. Серое небо все явственней сквозило голубизной, и одна за другой гасли звезды. Дольше других держалась Колина звезда, но и она, будто улетая, теряла блеск и яркость, становилась маленькойи далекой. «До свиданья, — попрощался с ней Коля, — до ночи».
В устье ручья темнела лодка. Узкая, остроносая, она напомнила Коле щуку, потому что мысли его уже были заняты предстоящей рыбалкой. Он снял с колышка тяжелую цепь и бросил ее в лодку. Цепь звякнула громко и бодро. Вместе с утром рождались звуки, которые нес в мир человек. Где-то в полях, напрягшись, взбирался на горку колхозный грузовик, возивший в город молоко. Зазвенели подойниками доярки на ферме. Донесся плач ребенка. Совсем близко, над обрывом, внезапно возник напев косы. Ее коснулся шершавый брусок, и она запела светло и грустно.
Упершись в нос лодки, Коля сильно толкнул ее. Прошелестев днищем по песку, оназакачалась на легкой зыби. Коля, засучив штаны, вошел в воду. Вода была холодная, прозрачная. Голени в воде и странносплющенные, широкие, как лапти, ступни казались чужими. Из-за камня, мотавшего зеленойбородой водорослей, серой тенью стрельнулпескарик, подплыл к ступне и, брусковатый; пестрый, начал щекотать тупым лобиком пальцы. Коля дрыгнул. ногой, засмеялся, подпрыгнув, перекинулся телом через борт. Сжал круглую рукоять весла и стал неторопливо выгребать на середину реки, на быстрину.
Течение подхватило и понесло лодку. Коля управлял ею, не вынимая весла из воды. Мимо проплывали места прежних рыбалок. Коля скользил по ним равнодушным взглядом.
Миновав песчаную косу, он очутился там, где еще не рыбачил ни разу: в тихой полукруглой заводи, поросшей по краям тростниками. Он въехал в густой тростник и заякорился, опустив за борт привязанный к веревке камень. Наступали волнующие минуты, но Коля знал, что нельзя поддаваться волнению: рыба не любит суетливых. Медленно размотал лесу, придирчиво осмотрел гусиные поплавки, провел по ногтю большого пальца жалом крючка. На ногте осталась белая бороздка: крючок был надежный. Коля встряхнул банку с червями, выбрал толстого, внушающего доверие желтополосатого навозника и ловко надел его на крючок. Коля прошептал давнее, детское: «Ловись, рыбка, большая, ловись, маленькая» — и плавно взмахнул удилищем.
Поплавок встал торчком в оконце между кувшинками. Коля украдкой вздохнул, не в силах унять дрожь нетерпения, повел плечами и потянулся ко второй удочке. Но взять ее не успел: поплавок нырнул, вынырнул, нырнул снова и отлого двинулся в глубину, мерцая красной верхушкой. Коля подался вперед, схватил удилище, дернул его вверх и назад, подсекая рыбу. Леса зазвенела тонко и угрожающе. Коля чуть ослабил ее, и она сама по себе, будто живая, очертила на воде правильный круг. Коля шевелил побледневшими губами, считая круги: первый, второй, третий... На четвертом он снова поднял удилище и понял, что поспешил. Там, в глубине, шла борьба за жизнь. Кто-то не хотел погибать и сражался отчаянно. Сильные толчки следовали один за другим...
— Милая, выручи, — сказал Коля вслух, обращаясь к лесе, и тут же почувствовал, как утомленная рыба неохотно пошла вверх. Не дыша, он подвел ее к лодке и
подхватил в подсак. Потирая замлевшее предплечье, Коля разглядывал крупного окуня. Окунь бил хвостом, разевал рот. Словно стараясь напугать Колю, топорщил костяные копья спинного плавника. В своей бронзовой кольчуге чем-то походил он на витязя из старых книжек, поверженного, но не побежденного. Коля смотрел на него с уважением. В какое-то мгновение ему захотелось даровать окуню жизнь и бросить его за борт, но он подавил в себе это желание: счастье улыбнулось ему, и было бы кощунством от него отказаться.
Клев бешеный, непрерывный длился околополучаса. Не сопротивляясь, шла красноглазая плотва. Глотнув воздуха, обморочно деревенела и бесчувственной чуркой шлепалась в лодку. Лещ был силен, но дремуче ленив. У речного дна он сопротивлялся упорно, однако наверху, плоско, подобно блину, улегшись на воду, тащился за леской покорно и тупо.
Взял Коля и с десяток окуней вдобавок к килограммовомубогатырю, но невидных собою, недомерков.
Вот-вот должно было взойти солнце. Малиноворумянился восток. Коля сладко зевнул, потянулся до хруста в костях. Достав из кармана куртки ломоть хлеба, с наслаждением зарылся носом в пористый ароматный мякиш. С мужицкой скуповатостью собрал с колен крошки, бросил их в рот. Прислушался. В кустахмурлыкал ручей. Коля провел языком посухому нёбу и начал решительно выбирать из воды веревку с камнем.
На берегу, в травах, влажно серебрилась роса.Крохотная птичка, невзрачная, кособокая, на спичечных ножках, шныряла в траве. Ее разлохмаченные перышки были темными от сырости. Коля шел на мурлыканье ручья. Раздвинув кусты, он улыбнулся, леггрудью на узкое русло и припал губами к струе. Жидкий холод покатился по гортани, по горлу, опускаясь кжелудку. Вода пахла земляникой: «Хорошо, — благодарно сказал Коля ручью. — Ах как хорошо! Молодец!» Когда он поднялся, на его подбородке висели, сверкая, тяжелые капли.
Эта минута запомнилась ему надолго. Стряхивая с подбородка капли, он сквозь сетчатый занавес листьев увидел на противоположном берегу девушку в красном платье. Запрокинув голову, она бежала к реке отрассыпанных на косогоре изб. Онабежала и гремела цинковыми ведрами. Под эту музыку девушка пела, и Коля не мог не подивиться ее глупости: каждому ясно, что петь на бегу неудобно, да и язык можно прикусить ненароком.
Девушка подбежала к реке. Коля знал ее. Татьянка жила в деревне на косогоре, но часто появлялась в Колином селе, нарядная, со взбитыми по-модному кудряшками. В клубе она самозабвенно танцевала под гармошку, прикрыв голубоватыми веками выпуклые глаза, обильным, резким голосом выводила частушки про любовь. Встречая ее на улице, Коля украдкой глядел ей вслед, она же попросту не замечала его — худого, какпрут, вихрастого пятнадцатилетнего подростка.
Река в-этом месте была узкая. Коля отчетливо видел Татьянку, ее круглое лицо, вздернутый нос, черные дужки бровей и даже коричневые царапины на смуглых коленках, «Крикливая — раз, ленивая — два, гульливая — Три», — мысленно подсчитывал Коля определения, которые давала Татьянке острая на язык бабка. Он был тайне согласен с ней, но сейчас почему-то усомнился, так ли это.
Татьянка поставила ведра на песок и, озабоченно нахмурив узкий лоб, поболтала ногой в воде. Внезапнозасмеявшись, взялась руками за подол платья: «Будет купаться», — только и успел подумать Коля. Она сдернула с себя платье одним быстрым движением и, высокая, белая, пошла к воде. Зайдя в реку по щиколотки, остановилась и с деланным вниманием оглядела себя, нагую. Но это была лишь уловка, желание оттянуть минуту, когда надо было броситься в холодную воду. Татьянка медлила, застывс опущенными вдоль бедер руками и чуть склоненной головой...
В этот миг за Колиной спиной, из-за пригорка сочно брызнули лучи солнца. Татьянка закрыла глаза ладонью. Ее тело вспыхнуло розово, засветилось тепло и чисто... Коля с трудом. перевел дыхание, прижал руку к груди...
Татьянка наконец решилась: упала животом на воду, фыркая, поплыла вдоль берега...
За поворотом реки зашумело. Показался, словно игрушечный, творожно-чистый пароходик. К круглому, низкому, над самой водой, оконцу. приплюснулась (Коля видел) заспанная детская рожица. На палубе было пустынно. Лишь торчала одинокая фигура в черном дождевике и портфелем под мышкой. Фигура сонно покачивалась и плевала в пенистый бурун, вихрившийся за кормой.
Когда пароход прошумел мимо, Татьянка была уже в платье. К ее ногам подкатывались мутные волны. Татьянка терпеливо переждала волны, наполнила ведра и потащилаих, пританцовывая под дугой коромысла, к избам на косогоре. Коля провожал ее взглядом, до тех пор, пока красное платье не превратилось в едва различимый лоскуток.
Коля осторожно спустился к лодке. Мертвый окунь лежал, разинув рот. Померкла алость его плавников, и, бессильно поникшие, они были теперь как спущенные флаги. На горбатой окуневой спине проступили темные полосы. На остекленевшем рыбьем глазу сидела синяя муха. Она только что закончила трапезу и с подчеркнутой тщательностью завзятой чистюли скребла друг о дружку свои жесткие мохнатые лапки.
«Эх, надо было отпустить рыбину!» — мучаясь запоздалым раскаянием, подумал Коля. Он согнал. муху и прикрыл окуня рогожкой.
Солнце уже припекало. Пора было возвращаться домой. Выплыв из заводи, Коля бросил весло, предоставив лодку течению. Небо голубело привычно, как в детстве. Река бежала меж берегов, то отлогих, зеленых, то обрывистых, бурых, в темном накрапе пещерок, вырытых ласточками. Небо, река, берега были такие же, какими он видел их много раз. Но все это уже нельзя было отделить от Татьянки. От увиденного им.
Река круто огибала высокий мыс. «Сейчас возьму весло и поверну к дому», — сказал себе Коля. В следующую минуту он пожалел, что не сделал этого раньше.
— Привет рыбакам! — донесся до него сиповатый, простуженный голос.
За мысом, в оранжевой надувной лодке, привязанной к суку полузатопленного сухого дерева, возлежал Колин односельчанин Федор, парень лет девятнадцати. Около правой руки его желтело грубое березовое удилище с толстой мутно-матовой жилкой, отвесно уходившей в воду. И сам Федор, от макушки, на которой метелкой торчали жесткие волосы, до ступней босых ног, положенных на корму надувашки, был груб и толст. Казалось невероятным, что его держит на воде такая утлая посудина.
Коля невесело. свистнул. Молча развернул лодку носом к течению.
—. Ты куда, чудак? — удивился Федор. — Курево есть?
— Ну есть, — сказал Коля нехотя.
— Дай цигарку...
Коля подгреб к оранжевой надувашке. Федор возлежал важный, как Стенька Разин на челне. Коля положил ему на ладонь тонкую папироску-гвоздик.
— Дрянь куришь, — сказал Федор. — Зажги.
Коля зажег и подал Федору спичку. Федор затянулся, выпустил сквозь толстые ноздри две струи дыма.
— Чего сам не закуриваешь?
— Не хочется.
— Как удача?
— Маленько взял.
— А я, брат, соменка захомутал. На лягушонка. Знатный соменок. Кило на два потянет... — Врешь, — сказал Коля.
— Сивый мерин врет. Разуй гляделки...
Федор сунул толстую руку за спину и вытащил из-под себя усатую, с плоской головой рыбину.
— Ничего соменок, — похвалил Коля. — Меняться хочешь?
— А что дашь?
Коля откинул ветошку, показывая улов.
— Ого! — сказал Федор. — Всю отдаешь? Принято единогласно. Я твою рыбу учителке загоню. Барыш пополам. Идет?
— Не надо мне барыша.
— Ну как знаешь, чудило... Только ты домой отвезешь меня на своей лодке. На моей грести трудно. А я еще четвертинку клюнул ради воскресенья. Разморило — страсть...
Назад плыли медленно. За кормой моталась из стороны в сторону оранжевая надувашка. На корме развалился Федор.Рукавом рубахи он стирал с толстых щек испарину, щурился зло на солнце.
— Печет — спасу нет. Чтоб его разорвало, черта рыжего...
— Ты молчи, — сказал Коля тихо. — Сиди и молчи.
Приближались к месту, где Коля ловил рыбу. На косогоре поблескивали окнами избы. Коля глядел туда с тайной надеждой — не мелькнет ли красное платье...
Федор вдруг коротко хохотнул:
— Желаешь, веселое расскажу? Третьего дня приплыл я сюда рыбалить. Загнал надувашку вон в те осоки. Притаился, как мышь в амбаре, таскаю себе мелочишку — пескарей да плоток. И только солнце взошло, смотрю — мчится от деревни Татьянка... Ты ее знаешь, дуреху луноглазую. С ведрами, коромыслом, в красном платье...
— Молчи, — сказал Коля, бледнея. — Сиди и молчи.
— Затвердил, как тотпопугай, — молчи. Ты слухай дальше... Ведра она оземь —хлоп, а сама за платье, сымает, значит...
— Молчи! — крикнул Коля.
— И только она в воду, а я пальцы в рот, да ка-а-к свистну! — Федор давился смехом. — Аона на берег — скок, да платье в охапку, да как чесанет голой к деревне! А я...
Коля стиснутым до боли кулаком резанул в толстый Федоров подбородок. Посмотрел снизу в ненавистное лицо. Федор изумленно таращил глаза. Коля размахнулся и ударил еще раз.
— Ты что, очумел? — спросил Федор оторопело.
— Садись в свой пузырь и убирайся, покуда цел. Понял?
Коля вскочил на ноги. Его била мелкая дрожь.
— Это ты меня по харе съездил? — Федор, посапывая, потирал тяжелую челюсть. — Ты, пацан, недоросток? Да ты знаешь, что я с тобой сотворю?..
С медвежьей проворностью он ткнул Колю булыжным плечом в колени и одновременно сильно качнул лодку. Коля плюхнулся в воду плашмя, лицом вниз, и, оглушенный, ослепленный, долго не мог вдохнуть воздуха. Когда к нему вернулись. слух и зрение, он увидел Федора, налегавшего на весло, и услышал его сиповатый голос:
— Прогуляйся пешочком по бережку! А соменка возьми. Уговор дороже денег...
Федор приподнялся, ойкнув, швырнул рыбину. Она грузно шмякнулась в дымчатую грязь у кромки воды. Коля выбрался на берег, машинально раскрыл перочинный нож, срезал с лозового куста длинный гибкий прут. Потом подобрал соменка и пучком травы очистил его от липкой слизи.
Коля брел по тропинке, понурив голову. Ему очень хотелось плакать, но он крепился, только морщил нос, пытаясь проглотить жесткий ком, застрявший в горле. Соменок болтался на лозине, пропущенной сквозь жабры. У крайних дворов, в овражке, Коля снял рубашку и расстелил ее на теплом валуне, чтоб просохла. Зеленовато-мраморный соменок валялся рядом. По испачканному грязью усу полз муравей. Соменок было толст и груб, как Федор.
Коля воткнул в землю нож и, налегая на рукоятку,выписал круг. Под снятым дерном засеребрился песок, мелкий, чистый, будто промытый. Коля принялся выгребать песок сложенной ковшиком ладонью. Он работалдо тех пор, пока не углубился в землю по локоть и неощутил жутковатую прохладу земного нутра. Согнувсоменка в калач, опустил его на дно, засыпал ямку и старательно притоптал пяткой землю.
Он шагнул в избу со спокойным лицом и улыбнулсябабке точно так, как улыбался всегда, когда возвращался с рыбалки пустым, — беззаботно-весело и чуть виновато.
— Значит, не словил сома? — спросила бабка, смеясь и кашляя.
— Не словил…
— Эх ты, рыбак!.. Ну, на — пей…
И сунула Коле жестяную кружку с молоком.
Коля выпил молоко, вышел во двор и по хлипкойлестнице, сколоченной из еловых жердей, поднялся накрышу. Почерневшая от времени и дождей щеповая обшивка тут и там зияла дырками. Вчера Коля сорвал щепу в прохудившихся местах, и теперь на крышу надо было поставить лапики.
Он застучал молотком, изредка взглядывая на солнце. Оно медленно двигалось по огромной незримой дуге, невидимые концы которой покоились на частом гребешке леса и на буром далеком кургане. Солнце подвигалось к вершине дуги, аКоля к коньку крыши. Он с деловитой неторопливостью карабкался по стропилу вверх и негромко тюкал молотком, вгоняя тонкие гвозди в маслянисто-желтую щепу. Он улыбнулся, подумав, что похож сейчас на работягу-дятла, ползущего по ободранному стволу старой ели.
Скат крыши, обращенный к востоку, Коля кончил латать в полдень. Новенькие лапики, как желтые яркиеглаза, озорно подмигивали солнцу.
Коля спустился вниз и съел миску горячих щей.
— Соснул бы часок, — сказала бабка.
— Ночью посплю, работы много.
— Помощничек ты мой, — засмеялась бабка сквозь слезы, поднося к дряблой щеке кончик фартука. — Жив бы был отец, уж как бы радовался... Ну иди, работай...
Свеженадранная щепа пахла сырой чащобой леса. Коля стучал и стучал молотком. Отсюда, с крыши, ему была видна вся деревня. Под вечер в клубе — просторной пятистенке возле пруда — запела про любовь радиола, и на ее зов потянулись парни и девушки. Вот показалась Татьянка в пестром нарядном платье. Проходя мимо, лениво тряхнула кудряшками. Коля смотрел ей вслед радостно и благодарно. Но было в его взгляде и другое — снисходительность взрослого к ребенку, потому что сама Татьянка не знала о себе то, что знал о ней Коля.
В черном пиджаке и зеленых брюках, вправленных в сапоги-гармошки, выкатился из переулка Федор и, толстый, неуклюжий, заспешил за Татьянкой. Коля смотрел на него без злости, со смутной жалостью.
Солнце коснулось вершины кургана, задержалось там на минутку, отдыхая, потом тихо скатилось к краю земли. Оно, как и в прошлые дни, растило хлеба и травы, грело бугры и низины, поля и леса, птиц и зверей, людей и букашек. Оно было щедрым, мудрым и сильным...
Скрипнула дверь.
— Сидишь? — спросила бабка.
— Сижу, — сказал Коля.
— Слезай, вечерять будем.
— Сейчас слезу.
Коля сидел на крыше, обхватив руками колени. Солнце скрылось, но огонь его еще согревал небо. Небо густело, становилось синим.
На востоке искоркой вспыхнула Колина звезда. Она словно летела оттуда, из бескрайних пространств, и, приближаясь, горела все ярче и ярче...
Бродячие солдаты
Слабый звук, возникший вдали и понесшийся над полями, можно было бы принять за стрекот кузнечиков. Ностояла глубокая осень: усатые, голенастые насекомые давно уже отстрекотали свое, в теплой летней траве, на желтых горячих стернях отпрыгали беззаботномеру своей короткой жизни.
И была война. Стрекот, похожий на мирную, баюкающую, зевотную песню кузнечиков, сейчас пугал и тревожил. Поднимал к небу голову одинокий путник,дико шарахался к обочине: вслед за стрекотом могла садануть сверху пулеметная очередь или жутко завыть, набирая силу падения, фугаска. И поминай как звали!..
Заслышав стрекот, затихали деревенские околицы, казалось, глубже надвигали соломенные шапки крыш на подслеповатые, с крошечными оконцами избы: стрекот мог означать движение немецких грузовиков, ползущих сюда, к деревне. И поминай как звали деревню!..
Осень исподволь вызревала в зиму. Прекратились дожди, земля стала твердой и гулкой. Крепки, ядрены были в полях утренники. Солнце поднималось невысоко, грело еле-еле и в октябрьской своей подслеповатости лишь к полудню изводило иней, выпивало его, да и то не досуха, оставляя в траве влагу. На закате изморозь снова набирала силу, толсто нарастала на пожухлых былинках.
Перед сном Толик выходил на крыльцо, затаенно вздыхал, жалея себя, прислушивался. Ни голоса человеческого, ни бреха собаки. Деревня цепенела в темноте и зябкости — без огней и звуков. Мертво кругом, голо, открыто. Знобило душу при виде уныло белевшего простора и низко стывшей надним слоистой слюдинки молодой луны.
Толик спал в углу хаты, на полу. Старенького его одеяла не хватало, чтобы накрыться как следует, и часто он просыпался среди ночи от холода. Осенняя стылость, проникая сквозь щелястые стены, трогала руки, ноги, пронзительным ветерком дышала в лицо. Толик сжимался в комок, стараясь согреться, потом начинал дрожать и тихонько плакать. И плакал он не столько от холода, сколько от ночного одиночества, от мыслей об отце. В июне, когда объявили войну, отец привез его сюда, к своей сестре Фрузе, в торопливой растерянности поцеловал в голову и поспешил обратно в город, в военкомат. Мать Толика умерла два года назад, и теперь он замирал в ужасе, представляя себе вероятное: отца убили на фронте, и он, Толик, остался круглым сиротой...
А в последние дни прибавилась Толику еще одна забота: он думал о солдате Сережке. Истощавшего с голодухи, хворого, его спрятали в кустах за деревней. Толик как наяву видел: вот он лежит сейчас, бедолагаСережка, в шалаше, на куче тряпья — живой скелет, завернутый в дырявую шинель. Лежит и ждет смерти.
Под утро, когда явственней проступали на черноте стены квадратики окон, становилось как бы теплее. Утренний свет грел и успокаивал. Толик переворачивался на правый бок и, ощущая, как легчает стесненному сердцу, засыпал крепко, сладко и спал, пока тетка Фруза не кликала его и других обитателей хаты к завтраку.
Все садились на лавки, плотно жались друг к другу — стол был не маленький, но и не такой большой, чтобы за ним могли вольготноразместиться сразу двенадцать едоков. А едоки были: муж Фрузы, насмешливо-сердитый, бородатый Антон, и дальняя и близкая родня их — беженки, понаехавшие из города.
Детишки (их было пятеро, младшему три, старшему семь) за столом хныкали и, не привыкшие к грубой деревенской пище, ели плохо. Матери шлепали малышей по затылкам, надавив пальцами на щеки, насильно раскрывали им рты, совали туда, какгалчатам, куски хлеба, картошку.
Дети были бледные, заморенные, грязные.Толик старался не глядеть на них. Зато он с удовольствием поглядывал на темноглазуюхуденькую девушку, сидевшую за столом рядом с ним. Пришла она не так давно из дальней деревни. Матери у Оли, как и у Толика, не было, и это сходство судеб еще большеусиливало его симпатии к ней.
Сама Фруза была тринадцатая. За стол она не садилась, прислуживала едокам, подавая миски со щами и картошкой. Только когда беженки, с неутоленно блестевшими послескудной трапезы глазами, вставали со скамеек, вытаскивали из-за стола детишек, Фрузаробко, будто и не хозяйка здесь, пристраивалась к уголку столешницы и ела свою, еще более скудную порцию.
Каждое утро Толик ждал. Он рассеянно жевал картошку, привычно-скупо откусывал от хлебной краюшки и все поглядывал в окно. Порой ждал напрасно — солдаты не появлялись. Но чаще из-за поворота дороги, как всегда внезапно, показывались фигуры — и незнакомые, и вместе с тем знакомые выражением лиц, одеждой, всем своим обликом, диковинным и жутковатым. Их хата стояла крайней на деревне, у самой дороги, и не было случая, чтобы солдаты прошли мимо. Раздавался скрип крылечных ступенек, слышалось осторожное топтанье в сенцах, хрипловатое, простуженное покашливание, и, наконец, еще за дверью, несмело звучали вопрошающие голоса: «Можно?»
Это были солдаты, очутившиеся в глубоком тылу врага, которых разметало в разные стороны немецкое наступление, вырвавшиеся из больших и малых котлов, бежавшие из колонн по пути в лагеря военнопленныхили уже оттуда, из-за колючей проволоки. Те, кто отчаялся, пал духом, оседали в тихих деревнях, куда редкозаглядывали немцы, шли в приймаки к одиноким женщинам и спасались, пережидали трудное время. Другие — таких было большинство — упорно пробирались на юг, к дремучим лесам, чтобы там сбиться в отряды ипродолжать борьбу. Шли и на запад, к уже неблизкомуфронту, надеясь проскочить за огненную черту и снова воевать в частях регулярной армии.
Обычно двигались подорогам по двое, редко — по трое. В деревни заходили поесть и погреться. Переступив порог хаты, снимали пилотки, терли остуженные холодом, заросшие щетиной щеки, переминались с ноги наногу и долго ничего не говорили, лишь взглядами выражая покорность и просьбу.
Толика передергивало от жалости, когда он видел низко опущенные головы, тяжелое смущение этих молодых, а часто и не молодых людей, которые, став на пороге, как бы просили прощения сразу за все — и за то, что пустили немцев в самую глубь страны, и за то, что на солдат уже не похожи — без звездочек на пилотках, без винтовок за плечами, и за то, что кормятся не изротных котлов, как положено честным бойцам, а побираются в крестьянских избах, забитых детьми, стариками, женщинами, где и своих ртов хватает.
Тетка Фруза порой вздыхала:
— Где-то теперя они, Толик, сынок мой и твой батя? Как входят солдаты, у меня и сердце обрывается — не они ли?..
Толик хотел и боялся прихода отца. Он помнил его веселым, красивым, подтянутым. И было боязно, что он может войти вот таким изможденным, с согнутойспиной, потухшим взглядом.
Уговор у деревенских был: кормить, солдат по очереди. Если, скажем, ты накормил двоих, отсылай двух следующих к соседям. С гордостью за тетку Толик видел, как радовалась она первым путникам, которых можно было и за стол усадить, и пожалеть по-матерински. Но даже добрейшая тетка Фруза не кормила солдат дважды в день: мука уже почти вся вышла, все меньше оставалось в подполье картошки. Надо было думать, как самим прокормиться. Тем более, что появился теперь у них постоянный солдат-едок, шалашный сиделец Сережка.
После завтрака Толик спешил к нему. С тайным страхом совал голову в шалаш — уж не мертв ли? Сережка вымученно улыбался: «Ты?» — «Я, — облегченно вздыхал Толик. — На вот тебе, тетка Фруза прислала». И ставил на Сережкины ноги узелок со снедью. «Ну что у порога стал, садись, гостем будешь», — невесело шутил солдат и от великой слабости закрывал глаза — медленно-медленно натягивал на них желтые пленки век.
Иногда Сережка приподнимался. Уперев руки в солому, сидел, нахохлившись, втянув в плечи взъерошенную голову. У него круглые светлые глаза, загибающийся книзу нос. В такие минуты солдат походил на большую печальную птицу, которая знала, что ей уже никогда не летать.
Стрекот все нарастал, усиливался. На этот раз он был шумом мотоциклов, нелепо переваливавшихся в глубоких колдобинах проселка. В головной машине за рулем сидел немец с унтер-офицерскими нашивками, рядом, в коляске — грузный, небритый малый, судя по шинели — русский. Немец хранил неподвижность, он был частью машины. Русский нервно ерзал в коляске.
Эти двое молчали. Восемь немцев, ехавшие следом, громко бранились. Они ругали русские дороги, хуже которых нигде не видели, русское небо, еще вчера безоблачное, а сегодня сменившее милость на гнев, сыпавшее мокрый снег, ругали всю эту плоскую, скучную, несуразную страну. Крылья их пилоток были опущены, воротники шинелей подняты, над воротниками торчали крупные, покрасневшие на холоде носы. Немцы ругались, чтобы согреться.
Ругали они и небритого русского, по милости которого их подняли ни свет ни заря. Но русский не понимал немецкой речи.
— Вайтер? — спросил унтер, не глядя на русского.
Тот догадался, о чем спрашивают, ткнувгрязнымпальцем, отозвался шепотом:
— Скоро... Вон за тем кустом.
— Руих! — вполголоса приказал унтер не в меру гомонившим солдатам, впрочем не надеясь, что будет услышан.
Приказывал он так, ради порядка. Вовсе не обязательно было соблюдать тишину, нарушаемую к тому же шумом моторов. Операция предстоялапустяковая — взять бродячегорусского солдата, прятавшегося в шалаше. По сведениям небритого, бежать солдат не мог — обессилел от голода и болезней, стрелять тоже — не имел оружия. Поэтому можно было бы и не брать ссобой такую ораву, но порядок есть порядок, а душа порядка — предусмотрительность...
Они пришли втроем. С порога вразнобой роняли привычное: «Здравствуйте, хозяева», дожидаясь приглашения проходить и садиться. Тетка Фруза с суетливой готовностью загремела печной заслонкой. Оля потянулась к полке — достать миски. А Толик быстро, украдкой(боялся обидеть любопытством) оглядел всех троих.
Самым видным среди них был тот, что сел на лавкуу ведра с водой, — рослый блондин с тяжелым подбородком, поросшим медной щетиной. Он сохранил еще выправку кадровика, тело держал жестко и прямо. Диагоналевые брюки, видневшиеся из-за откинутой полы шинели, давали повод отнести его к командному составу. Толик отметил про себя дородную полноту блондина — не знал еще тогда, что люди пухнут не только от обилия пищи, но и от нехватки ее.
С другого края скамьи сидел неприметный, тщедушный человек неопределенного возраста, в не по росту просторной шинели. На него Толик не обратил бы особого внимания, если бы внезапно не встретился с ним взглядом: уНеприметного были колючие, щупавшие самую душу глаза.
Эти двое поддерживали плечами третьего — совсем молодого парня, почти мальчика, понуро обмякшего, облизывавшегомедленным кругообразным движением языка запекшиеся,обметанные болячкамигубы. Его ноги без башмаков были толсто завернутывкакое-то странное, с мелкими пуговицами тряпье. Большая тыквенная голова парня нетвердо держалась на тонком стебле шеи, на шее болталось грязное вафельное полотенце, завязанное узлом. И казалось, оттого, что узел был затянут слишком туго, парень задыхался, тяжело носил грудью, гулко, надрывно кашлял в кулак.
— Откуда будете, милые? — спросила тетка Фруза.
— Известно откуда, — нехотя откликнулся Неприметный.
— С сынком моим случаем не служили вместе? Ваней кличут, а по фамилии — Давыденков.
— Что-то не припоминается...
— А, можа, брата моего знали — Миколая?.. Видный собой мужик, в летах уже...
Неприметный и блондин промолчали.
— Нет, н-не знаем, — с трудом выговорил парень с полотенцем на шее и зашелся в приступе кашля.
— Хворый? — жалостливо спросила тетка Фруза, обернувшись от стола, куда ставила глиняную миску с похлебкой. — Можа кипятку ему дать для сугрева?
Дородный, не спрашивая разрешения, зачерпнул кружкой воды из ведра, сделал несколько звучных глотков, вытер подбородок ладонью.
— Кипятку можно, — сказал он. — Только вода она и есть вода. А вот молочка у вас не найдется?
— Какое там, — сокрушенно отмахнулась тетка. — Корову еще летом немцы порешили.
— А если у соседей пошукать? — не отступался блондин. — Девушка сбегала бы... А? — Он кивнул на Олю, которая раскладывала на столе ложки.
— Ишь настырный какой, — не то удивилась, не то одобрила тетка Фруза и поправила на волосах платок. — Ладно, коли так, я сама схожу.
— Не надо! — остановил ее Неприметный. — А ты бы помолчал, Сухов... Этих вон видишь? (С полатей любопытно посматривали детишки.) Думаешь, им меньше твоего молока хочется?
— А я что — для себя прошу? — огрызнулся дородный. — Сережка бы грудь полечил...
— Молчать! — крикнул Неприметный жестким ‚скрипучим голосом. — Опять за старые штучки?
«А командир-то у них — он», — подумал Толик.
— Будя вам, — примиряюще сказала тетка. — Сидайте за стол, чем богаты, тем и рады.
Сережка задергался, пытаясь подняться. Его повели к столу, под руки. Шинель у Неприметного распахнулась, обнажив голую — без гимнастерки и нижней рубахи — ребристую грудь, желтую лунку впалого живота... Теперь Толик понял, чем были обернуты ноги парня.
Тетка положила перед каждым по куску хлеба. Неприметный разломал свой хлеб надвое и половину придвинул Сережке. Хмуро уставился на блондина. Тот помедлил, громко сглотнул слюну и тоже отломил.
— Да что вы, братцы, — хрипло запротестовал Сережка. — Сытей меня, что ли?
И низко нагнулся над миской. С темно-русой головы о свесилась на лоб седая прядь.
Толик обернулся на осторожное, сдерживаемое всхлипывание. Это у полатей, уткнувшись в занавеску, плала Оля...
Оле было шестнадцать лет. Толик помнил первую встречу с ней. Он считал себя уже старожилом в Фрузиной избе: был на исходе месяц с тех пор, как он распрощался с отцом и остался наедине со своей печалью.
И вот однажды в избу пришла девочка — босоногая, с икрами, заляпанными грязью, с мешком, горбившим спину. Стала на пороге и жалко дрогнула уголками губ.
— Олька! — Тетка Фруза кинулась к ней, принялась торопливо снимать мешок, с тревогой спрашивая: — Ай случилось что?
А случилось вот что: Олиного отца призвали в армию, в опустевшей хате стало тоскливо, страшно, и Оля решила просить приюта у родственников.
— Все кинула, все как есть, — сокрушалась Фруза. — Ведь растащут добришко-то!
— Не растащут, я Стукалиху попросила, она. Прилядит.
— А скотина?
— И курицы не осталось, все сожрали немцы.
— И у нас! — весело подхватила Фруза. — Ну хоть бы животинку кинули на развод!
У тетки Фрузы был легкий характер, и в горе утешала она себя просто: что людям, мол, то и нам...
— Коли так, — сказала она Оле, — и жалеть нечего. Садись вечерять.
Будучи родственницей Фрузе, Оля была в родстве и с Толиком. Но каком именно? Толковали об этом за ужином громко и долго, но во мнениях не сошлись: то ли троюродная сестра, то ли двоюродная тетка.
С тех пор Толик мучился вопросом: можно ли любить свою родственницу? Троюродную сестру, наверное, можно. А вот двоюродную тетку... Не стыдно ли?.. Удручала его и разница в годах. Мог ли он, двенадцатилетний мальчишка, что-нибудь значить для почти взрослой девушки?
Оля понравилась ему сразу. Чем — на это Толик вряд ли мог бы ответить. Он лишь почувствовал: за столом стало по-непривычному уютно, как-то покойно и радостно, когда Оля, стесняясь, опустилась на краешек скамейки и подперла рукой щеку.
После ужина стали укладываться спать. «Ну а тебя куда? — озаботилась Фруза. — Вот разве рядком с Толиком...» — «А не слюбятся?» — грубо пошутил Антон.
Видно, Оля очень соскучилась по людям. От ее подавленности, угнетенности не осталось теперь и следа. И все же Толик, уже забравшийся под одеяло, удивился и огорчился: Оля приняла шутку как должное, даже откликнулась на нее. «Подождет еще лет пяток. — И, нагнувшись к Толику, натянула ему на голову одеяло: — А ну не подглядывать, жених!»
Оля вся была тайной. Утром, замирая, он приподнял с носа уголок одеяла. Желтый свет керосиновой лампы заплескался в веках. Толик слегка приподнял дрожащие ресницы. Оля сидела на своей постели так близко, что до нее можно было дотронуться. Подняв к голове руки, она собирала в узел волосы. Колени, не прикрытые короткой рубашонкой, были крепки и круглы...
В своем зеленом мальчишестве Толик едва ли разбирался в тонкостях девичьей красоты, но ему казалось, что не может быть ничего лучше широко расставленных темных глаз Оли, ее подбородка с доброй ямочкой, маленьких розовых ушей.
И нрава она была покладистого: с охотой помогала тетке Фрузе по хозяйству, мыла полы, стряпала, присматривала за детьми. Толик не помнил, чтобы она с кем-нибудь повздорила, сказала кому-либо грубое слово. Благодаря ее хлопотам у трех женщин-беженок, нашедших приют в этой избе, было достаточно времени ссориться и плакать, перебирать в чемоданах тряпки, вздыхать, воскрешая в памяти мужей и городское свое житье-бытье.
Заскрипела дверь, в хату вошел Антон, недовольно покосился на застолье. Нарочито долго стягивал с себя стеганку, с подчеркнутой аккуратностью повесил ее на гвоздик и лишь потом буркнул из-за спины: «Хлеб да соль гостям».
Трудно было поверить, что Антон всегда бывал рад солдатам, дорожа возможностью потолковать с серьезными, понюхавшими пороха мужчинами.
Оглаживая бороду, Антон опустился в низкое, обитое цветастой материей кресло. Куплено оно было в городе еще задолго до войны, чтобы удивлять соседей.
— Откуля бредем? — спросил насмешливо, словами и тоном давая понять, что иного обращения гости пока не заслуживают. (Мол, сами себя вы, может, и считаете солдатами, а мы погодим трошки, подумаем.)
Антону никто не ответил.
— Ай военная тайна?
Неприметный споро, но не жадно хлебал теткино варево. С угрюмой торопливостью работал массивными челюстями блондин. Сережка нервно подергивал белую
прядь.
— А я ее знаю, тайну вашу. Из-под Вязьмы вы. В самую точку?
— Допустим, — сказал Неприметный и насторожился, опустил ложку.
— Ты ешь, ешь, — ехидно-ласково закивал Антон. — Сколько ж вас там, интересуюсь, окружили? Бают, полста тысяч, а?
— А тебе что, в радость? — колюче усмехнулся Неприметный.
— Зачем же в радость? Не русский я, что ли? И сын у меня в армии. Только зачем было похвальбу пущать на всю державу, что будем бить врага на его же земле? Небось сам пел: «Если завтра война, если завтра в поход...» Пел?
Антон выжидающе подался вперед.
— Ну пел. — Неприметный вдруг улыбнулся, показав по-молодому крепкие зубы.
— Вот так-то! — Антон, торжествуя, откинулся на спинку кресла.
— Вредный ты, вижу, хозяин, да не вредней меня, — сказал Неприметный почти весело и стукнул ложкой о край миски. — Вот ударю посильней, и разлетится эта посудина вдребезги, хотя толстая и на вид крепка. Придет срок — в хвост и гриву немца гвоздить будем. И у себя дома, и на его фашистской земле!
— Ой ли?
— Вот тебе и ой ли, хрен старый!
Толик боязливо зажмурился: буен бывал Антон в ярости, скор на руку. Но взрыва не произошло. Толик разлепил веки. Антон по-прежнему спокойно сидел в кресле, дружески щурился на Неприметного.
— А ты на много ль млаже меня? Сколько годков-то?
— Ну сорок пять.
— А мне на полтора десятка боле. Разница, конечно, есть, но не больно великая.
— Не великая?.. Это как судить, хозяин. Значит, великая, коли к своему креслу прилип. Или... Неприметный испытующе-холодно глядел на Антона. — Или душой слабоват? Или из тех, чья хата с краю?
Толик видел, как крупно задрожала лежавшая на подлокотнике рука Антона. Спускаясь от высокого лба с залысинами, лицо заливала багровая краска. Тяжело, по-медвежьи сутулясь, поднялся Антон, шагнул к столу и, как глыба, навис над маленьким, тщедушным солдатом.
— Будя вам, будя, — слабо охнула тетка Фруза.
Блондин заерзал на скамье, втянул голову в плечи.
Неприметный воззрился на Антона с каким-то злым и веселым любопытством.
— Врешь! — крикнул Антон и грохнул кулачищем по столу. Подпрыгнули миски, жалобно звякнули ложки.
— Это почему вру? — спокойно, лишь чуть побледнев, спросил Неприметный.
— Опомнись! — метнулась Фруза к Антону и оттеснила его от стола. — Ведь гости же!
Антон, шумно дыша, снова опустился в кресло.
— А тебе грех, солдат, — сказала тетка Неприметному. — Хата наша и в самом деле на околице, только с краю мы никогда не были. Антон мой коммунию здеся делал. Чуешь?.. Ты попроси-ка его, солдат, плечо показать. Метина там, от пули. А пулял в него кулак Фомка...
— Так, так! — радостно встрепенулся Неприметный, будто ему очень приятно было, что в Антона стреляли. — В плечо, говоришь?
— В левое плечико. Чуток пониже да поправее… Но оборонил господь…
— Ну спасибо тебе, хозяюшка, — сказал Неприметый. — Камень с моего сердца сняла. Только и меня пойми — людей-то не вдруг распознаешь... Что не так сказалось, простить прошу... Слышишь, хозяин?
— Ладно, чего уж там, — буркнул Антон.
Тихо стало в хате.
У Неприметного и блондина миски давно уже были пустые, а хворому парню пища, видно, не шла внутрь: он трудно, будто тяжелую работу делал, глотал похлебку. У его локтя лежала непочатая скибка хлеба. На нее тоскливо косился блондин.
— Закурить бы, — грубо сказал он Антону.Антон бросил на стол кисет. Свернули. цигарки. Неприметный окутался клубами дыма. Зелено, как у ночного кота, мерцали его колючие глаза.
— Хозяин.
— Что еще? — угрюмо откликнулся Антон. Он еще бычился, переживая обиду.
— Немцы в деревню захаживают?
— Случается.
— Часто?
— Часто не часто, а бывают.
— И к тебе наведываются?
— Я не лучше других, всю деревню грабят.
— Хочешь помочь нам? — Неприметный наклонился Антону — Сделай доброе дело. Видишь парня? Захвоил он, дальше идти не может…
— Ну так что? Говори напрямки…
— Устроишь его временно у себя?
Тлеющий огонек цигарки дополз у Неприметного до самых пальцев, он морщился от ожога, но не бросалокурка — ждал.
— А веришь мне? Может, я на ихней службе состою? Доносителем тайным?..
— Хватит об этом, товарищ. Ведь я прощения попросил.Да и не всерьез я в тебе сомневался. Испытывал на всякий случай. Я людей насквозь вижу.
— Будто! — хмыкнул Антон, польщенный.
— Ну так как же?
Антон долго копался в карманах пиджака, вытащил очки и какую-то измятую бумажку. Брезгливо разгладил ее на коленях.
— Дерьмом пованивает, а все ж зачитаю некоторые места. Избранные, говоря по-ученому. Вот: «Собаки должны быть на цепях. Бродячие собаки будут убиваться».
Антон сдвинул на лоб очки и уставился на Неприметного.
— Смекаешь? Немецкий приказ это. Я его со столба содрал.
— Ну и что? — Неприметный нетерпеливо барабанил постолу костяшками пальцев.
— А то, что был у нас пес Шарик. Его, промеж прочим, Толик дуже любил... Пристрелили пса и повесили вниз мордой на березе... Немцы — народ сурьезный, у них так: сказано — сделано.
— К чему ты все это городишь? — вскипел Неприметный. — При чем здесь твой Шарик?
— Непонятно? Тогда слухай дале: «Крестьяне обязаны арестовывать бродячих русских солдат и отдавать их в распоряжение полевой комендатуры. Несоблюдение этого распоряжения карается германскими военными законами...» Ты обрати внимание: «бродячие собаки», рядком — «бродячие солдаты». Для него, фашиста, человек и собака — все едино, кара одна — смерть... За парня вашего боюсь, мил товарищ... Да еще за них, Антон качнул головой в сторону детишек. — Найдут у меня в хате — никого не помилуют.
— Мда-а, — Неприметный потер подбородок. — Тут и вправду надо подумать... Полевая комендатура далеко?
— В Мамошках. Три версты отседа.
— Поймали кого?
— Одного. У Дарки-вдовы жил. Увезли обоих. Ни слуху ни духу. Полагаю, порешили...
— Мда-а, — повторил Неприметный, досадливо морщась.
— Так что смотрите сами. Оставите парня — на улицу не выкину, а уберечь — такого ручательства дать но могу.
— Можа, под крышу его? — раздумчиво подала голос Фруза и тут же ответила сама себе: — Так они, идолы, и туда шастают...
И тогда Толик, до этого молчком сидевший на скамье у печки, несмело откашлялся, и все посмотрели на него...
Никто в деревне не видел, как Толик с Антоном и солдаты вывели Сережку за огороды, как пробирались по густому кустарнику.
Шалаш Толик сделал чуть поодаль от Фомкиного дворища, покинутого еще со времен коллективизации хутора. От него сохранились яма с камнями, где стояла когда-то изба, и несколько одичавших яблонь. Место было глухое, укромное. Правда, Неприметному не понравилось, что метрах в пятидесяти от шалаша пролегал проселок, но Антон успокоил: проселок сходил на нет в торфяной болотине, поэтому немцам был без надобности. Да и свои, деревенские, им давно уже не пользовались.
А шалашом Неприметный остался доволен: неказистый с виду, похожий на кучу хвороста, зато без единой шели, сухой и уютный, с толстым слоем соломы внутри.
— Хозяин-то где? — спросил Сухов у Толика, небритым подбородком показывая на яму с камнями.
— Выселили. — Толик кое-что слышал от деревенских о Фомке.
— Богат был?
— Кто его знает... Наверное…
— Значит, не ленился, вкалывал за милую душу, — заключил Сухов и длинно, замысловато выругался.
Впрочем, он тут же спохватился: закусив губу, с опаской оглянулся на Неприметного. Но тот, занятый своими мыслями, не глядел в их сторону.
Был полдень. Легкий ветер морщинил по-осеннему густую и темную воду сажалки. В затуманенном облачной пеленой небе висело неяркое солнце, на которое можно было глядеть не жмурясь. На яблонях цвинькали синицы. В облетевших кустах осторожно возились и негромко чирикали непривычно грустные, озабоченные воробьи.
— Ну вот, Сережа, прощаться пришла пора, — сказал Неприметный. (И сам он, маленького росточка, в кургузой шинельке, на тоненьких в обмотках ногах, смахивал на воробья.) — Как говорится, не поминай лихом.
Сережка сидел на куче тряпья, которым снабдила его тетка Фруза.
— Да что вы, Иван Петрович. Хватит, повозились Вы со мной. Жив останусь — не забуду вовеки…
Обращался он к одному Неприметному. Блондин похаживал поодаль, жевал былинку, сплевывал в сажалку.
— Жив, жив будешь, — сказал сердитой скороговоркой Неприметный.
— Спасибо тебе, Иван Петрович.
— Поправишься, подавайся на запад. Не может того быть, чтобы фашиста не жиманули. Фронт ближе будет. А то и здесь своих дождешься. Слышишь?
Но Сережка уже не слышал. Откинувшись головой на жердину шалаша, он спал. Веки его вздрагивали, губы шевелились, и, если бы не это, можно было бы подумать, что он мертв.
— Слухесть, — вполголоса сказал Антон, — что скоро двинется дальше ихняя поганая комендатура... Своих, значит, догонять. Тогда мы парня в избу возьмем. Не сумлевайся — выходим...
— Смотри, — строго сказал Иван Петрович. — Ты за него в ответе теперь. — Помолчал. — Ну что ж, давай руку.
И повернулся к блондину:
— Айда, что ли, Сухов?..
Толик запомнил их обоих. Неприметный споро, подпрыгивая на кочках, шагал впереди. Сухов вразвалку, не спеша, поминутно оглядываясь, топал сзади. Казалось, шел он за Неприметным не по своей воле...
Как рассказывал потом Толику Сережка, в плен он попал по-глупому, даже не побывав в боях. Выгрузили их из эшелона поздно вечером, тут же построили и Двинули в ночной марш. Часа через три раздались крики: «Немцы!» Взводный скомандовал рассредоточиться вдоль дороги и залечь. А залечь для солдата — значит немедленно. зарываться в землю. Сережка отстегнул лопатку и стал копать. Скрежет лопаток о песчаный грунт доносился из темноты отовсюду. Вскоре все лежали в окопчиках с винтовками наизготове — ждали немцев. Но их не было и не было. То ли от усталости, то ли от нервного напряжения Сережка внезапно уснул, да так крепко, что не услышал команды строиться. Проснувшись, он уловил вправо от себя какое-то движение, бренчание железа о железо. Кинулся туда, но никого не нашел. Тьма стояла кромешная, и Сережка, от рождения слабый зрением, был будто совсем слепой. Побежал наугад сквозь кусты, негромко окликая по фамилии отделенного, попал в болото, еле оттуда выбрался. Было уже, наверное, близко к утру. Сережка решил ждать рассвета, на ощупь отыскал местечко посуше, положил под затылок вещмешок с сухарями, рядом винтовку и сновауснул.
Разбудили Сережку тихие, словно боявшиеся потревожить его сон голоса. Он приоткрыл веки, глянул сквозь ресницы и помертвел от жути. Над ним стояли, покачиваясь на длинных журавлиных ногах, два немца. Стояли очень спокойно. По-домашнему благодушные, дымили сигаретами, неторопливо беседуя. Чувствуя, что случилось непоправимо ужасное, Сережка дернулся схватить винтовку. Но немец, стоявший поближе, коротким, с раструбом сапогом наступил на дуло винтовки и,осклабившись, уставился на Сережку.
— Гутен морген! — пропел он, по-петушиному звонко, картаво выговаривая «р», и опустился перед Сережкой на корточки. Из-под распахнутой куртки Сережке в нос шибанула сложная смесь запахов: пота, табака, одеколона.
Второй немец, в очках, затрясся в хохоте, ходуном заходил висевший у него на груди автомат.
— Ганс, Ганс! — крикнул он в восторге от шутки товарища. — Дас ист вундербар!.. Руссиш сольдат слядко спаль, и теперь желяйт... Вас эр желяйт? Он желяйт кафе! Гиб им айнен, Ганс. Гиб!
И очкастый бросил Гансу фляжку.
— О майн либер юнге, — ласково, как добрая старушка-мать, заворковал, склонившись над Сережкой, немец. — Дайне мутти либт дих зо зер! — Ганс отвинтил от фляги пластмассовый стаканчик, наполнил его до краев и поднес к губам Сережки. — Битте кафе, майн либер...
Ошеломленный, Сережка проглотил содержимое стаканчика: это и в самом деле был кофе.
Очкастый уже не смеялся — обессиленный, он повизгивал тонко, квохтал по-куриному, держась за живот:
— О Ганс, Ганс!..
Шутник Ганс тем временем всовывал в Сережкин рот сигарету.
— Иетц айне цигаретте, майн либер!
Щелкнув зажигалкой, поднес огонек:
— Битте. Их бин дайне гуте мутти...
Сережка наконец-то пришел в себя. Было ясно, что к нему относились несерьезно: не как к солдату, а как к мальчишке, которого вряд ли стоит брать во внимание. С ним разыгрывали веселое шутовское представление, отводя ему самую унизительную роль. И он, приподнявшись на локтях, сказал отчетливо, с холодной яростью:
— Сволочь ты! — И выплюнул сигарету в лицо Гансу.
И сразу все стало на свои места.
— Ауф! — раздался резкий окрик.
Поднимаясь, Сережка увидел остро-злые глаза очкастого, автомат, наставленный в живот. Обернулся к Гансу. Исподлобья, прищурясь, как сквозь прорезь прицела, смотрел на него шутник Ганс. Не было веселых, добродушных, решивших малость позабавиться парней — были враги.
Сережку повели...
После короткого допроса его вместе с другими пленными загнали за колючую проволоку, на кочковатый пустырь — голый и безводный. В первые три дня не давали ни пищи, ни воды, потом по утрам стали приезжать кухни. Очередей возле них не было, были обезумевшие от голода толпы. Посудой служили старые консервные банки, каски, если же их не было, подставляли раздатчику пилотки, пригоршни или просто тянулись вверх с широко открытыми ртами в жалкой надежде поймать губами струйки, сбегавшие с черпака во время его снования над головами пленных. Порция была — пол-литра мучной похлебки на день.
Сережка, хилый от природы, к тому же тогда уже почувствовавший недомогание, даже и не пытался получать свою долю. Он быстро слабел, но есть ему не хотелось. В голове все перемешалось, ни днем, ни ночью не отступала от сердца ноющая едкая боль. Перед ним с грохотом рушился мир, к которому он привык и который считал до сих пор единственно возможным, и на его обломках хаотически громоздился ввысь новый — причудливо-уродливый, как длинный дурной сон.
Холодный зоревой сентябрьский ветер гулял над пространствами, гнал по полям сенную труху и соломины, срывал в лесах листья с деревьев. Жесткий, колючий ветер войны всасывал в свои вихри и смерчи людские массы, срывал личины. Люди представали перед Сережкой в своей сокровенной сущности и не стыдились своих истинных лиц, как не стыдятся наготы в бане. В мерзостной истоме ныл в солдатском кругу малодушный, твердя, что все пропало; заискивающе улыбался немцам сквозь проволоку трус; подлец среди бела дня вырывал из губ умирающего товарища огрызок сухаря; изверг, переметнувшийся к врагу, с упоением опускал на согбенные спины свою палицу предателя...
К счастью для Сережки, в беспощадном свете войны увидел он и другие лица.
Однажды к нему подсел невидный собой, пожилой солдат, и что-то шевельнулось в Сережке от той, прежней жизни, когда встретился он с внимательно-участливым взглядом, увидел не потухшие — живые и умные — глаза.
— Тебе, парень, сколько лет?
— Девятнадцать, — сказал Сережка и впервые за это время испугался уже близкой — он это знал — смерти.
— А почему ж седеешь?
— Что? — не понял Сережка.
— Седеешь, говорю. Темное на светлое меняешь.
Неприметный протянул зеркальце, Сережка глянул и тихо ахнул: на темно-русых его волосах снежно белела, сбегая на лоб, седая прядь.
— Ага, вижу, очухался, — удовлетворенно сказал Неприметный. — Зеркальце у себя оставь, для напоминания, — и крепко вжал Сережкины пальцы в ободок металлической оправы. — Ничего, сынок, ничего. Главное, чтоб этот снег сердце твое не засыпал... Злости учись, лютость копи. Тогда никакая смерть тебя не возьмет...
Сережка почувствовал, как отлегает от сердца боль.
— А теперь... на вот, ешь.
И Неприметный выдвинул из-за спины жестяную банку с баландой, густо сдобренной сухарным крошевом.
Так вернулся Сережка к жизни.
Настал день, когда оставшихся в живых подняли, построили в колонны и погнали на запад.
Но и эта дорога была для многих дорогой никуда. Люди-скелеты в изодранных гимнастерках шли по восемь в ряду, взявши друг друга под руки. Они шли только потому, что слили свои силы воедино. Там, где разрывалась цепь рук, люди падали, и тотчас слышались хлопки выстрелов. Замыкали колонну около полусотни автоматчиков, которых пленные называли чистильщиками.
Сережка с ужасом и омерзением наблюдал за одним из конвоиров — почти мальчиком. Он был, как ангелочек, слетевший с немецкой рождественской открытки, — стройный, белокурый, красивый. На его щеках, по-девичьи нежных и гладких, играл румянец возбуждения. С обликом юного немца странно не вязалась палка — кривая, корявая, суковатая, которую он сжимал тонкой рукой. Когда проходившая мимо восьмерка замедляла движение, он с размаху бил палкой по спинам. Догонял и снова бил. Если спина ему почему-то не нравилась, он опускали опускал на нее палку до тех пор, пока человек не валился на дорогу. Тогда он долго и старательно топтал его каблуками.
Сережка и сам давно бы упал, но его держали под руки Неприметный и другой солдат — дородный блондин по фамилии Сухов. Блондин, на удивление, сохранил силы, ступал тяжело, но уверенно и шел в первый день сам по себе, одиночкой. Увидя это, Неприметный зло обругал Сухова и потребовал, чтобы он взял Сережку под руку. Сухов что-то буркнул недовольно, но возражать не посмел. Так образовалась их тройка, которая потом, бежав из колонны, вволю помесив грязь деревенских проселков, постучалась однажды в двери Антоновой хаты.
На третьи сутки перехода, к вечеру, пленных погнали через старинный город с церквами и башнями, по длинной узкой улице, спускавшейся к реке. По нервозности охранников можно было предположить, что колонна не укладывалась в график следования; место очередного ночлега, наверное, было еще далеко, а на город уже спускались хмурые осенние сумерки. Конвоиры метались вдоль колонны, пытаясь ускорить ее движение. Сухо стучали палки — били всех подряд, не только отстававших. Досталось и блондину, который, вскрикнув, схватился за голову.
Еще издали Сережка заметил темную толпу горожан, собравшихся у моста через реку. Когда колонна приблизилась, послышались осторожные жалостливые вздохи, негромкие вопросы: откуда? Когда взяли в плен? Не знаете ли такого? (назывались фамилии). Женщины совали пленным куски хлеба, кидали в колонну картофелины. У моста образовался затор. Охранники бросились разгонять толпу. Кого-то из немцев толкнули, он упал, с грохотом покатилась по булыжной мостовой его каска. Ряды пленных расстроились.
И тогда раздалась команда: «Фойер!» Автоматы застучали одновременно со всех сторон. Рядом с Сережкой упал какой-то бородач в плаще, за спиной истошно закричала женщина. «Ну, братки, — крикнул Неприметный, — теперь или никогда!» И Сережка почувствовал, как оторвались от земли его ноги — до того стремительно увлекли его за собой Иван Петрович и Сухов, бросившиеся к краю речного обрыва. Все трое скатились с крутого склона, сцепившись в клубок, как большие тряпичные куклы; ослепшие и оглохшие, шумно врезались в густой прибрежный лозняк. Сережка пополз на четвереньках в самую его чащобу и в потемках крепко. ударился лбом о лоб Ивана Петровича. «Живем, браток, живем, — радостно зашептал тот. — Вишь, как стукну-
лись — аж искры!»
Между тем крики и выстрелы доносились сверху всереже, все глуше. Вечер был в полной силе — темный и звездный. Над обрывом бегали немцы, стуча сапогами, посвечивая фонариками. «Отдышались, хлопцы? — спросил Иван Петрович. — Ну тогда от греха подальше, вон на ту звезду, самую яркую...»
— Откуда только силы взялись, — удивлялся Сережка. — В колонне я еле ноги волочил, а тут помчался, какзаяц. Правда, меня ненадолго хватило, да Иван Петрович все время на выручке был — за ремень меня тащил... Ты не смотри, Синица, что он хлипкий на вид — выносливый мужик, жилистый...
К рассвету они были уже далеко от города.
Однажды, когда Толик собирался к Сережке, Оля шепнула умоляюще:
— Возьми с собой.
Польщенный ее просительным тоном, втайне радуясь, Толик все же счел нужным нахмурить брови:
— Болтать не будешь?
Оля, засмеявшись, взъерошила ему волосы и юркнула за ситцевую занавеску. Там, на полатях, стоял сундучок, в котором хранилось все, что она принесла с собой из дому. Оля достала иголку с ниткой, две пары чистых отглаженных портянок и кожушок-безрукавку из заячьих шкурок.
— Отцов, — пояснила Оля и улыбнулась виновато: — Хотела дядьке Антону подарить, да у него и своего теплого хватает.
Кожушок Сережка принял с благодарностью. Тряпье, которым он накрывался, грело плохо, он порядком зяб по ночам.
Пока Сережка сидел на соломе, наслаждаясь теплом кожушка, Оля чинила шинель. Пришила полуоторванный ворот, приметала хлястик, болтавшийся на одной пуговице, заштопала прореху под рукавом. Когда дело дошло до портянок, Сережка застеснялся, и Оля повернулась к нему спиной. С помощью Толика Сережка переобулся, а точнее сказать, сбросил с ног вконец истрепавшуюся рвань с пуговицами — остатки гимнастерки, подаренной Иваном Петровичем, и завернул ступни в принесенные Олей онучи. Толик старалсяне смотреть на Сережкины ноги, до того страшны они были — сизые, в кровоподтеках, безобразно опухшие.
— Лапоточки бы мне, — раздумчиво сказал Сережка, обматывая онучи веревками.
В самом деле: ни в ботинки, ни в сапоги его ноги не влезли бы. И Оля пообещала ему достать лапти... С тех пор так и повелось: занятая с утра по хозяйству, Оля к полудню или к вечеру обязательно выкраивала час-другой, чтобы побывать у Сережки. И почти всегда заставала у шалаша Толика, который проводил там все свое время, все больше привязываясь к солдату.
Обычно Толик брал с собой книжку и, устроившись у входа в шалаш, читал. Книжка лежала на коленях, руки — чтобы не зябли — Толик засовывал в карманы. И не было нужды вынимать их: когда страница кончалась, он приподнимал колени и, нагнувшись, переворачивал лист языком.
— Интересно? — спрашивал Сережка из шалашной полутьмы.
— Про пиратов, — почему-то конфузясь, отвечал Толик и предлагал: — Может, вслух почитать?
— Валяй, Синица (фамилия Толика была Синицын), — равнодушно соглашался солдат.
Прочитав немного, Толик спрашивал:
— Ну как?
Солдат молчал.
— Сергей! — тихонько окликал его Толик и оборачивался: смутно виднелся задранный кверху подбородок, с хрипом, посвистом поднималась и опускалась Сережкина грудь. Прерывисто вздохнув, Толик переворачивал языком страницу и снова читал про себя...
У Оли была легкая, почти беззвучная походка. Она появлялась всегда неожиданно. Толик вдруг слышал над собой частое, торопливое дыхание и, подняв голову, видел милое темноглазое лицо.
— Уж бежала, бежала, стирку дома бросила. — Оля поправляла сбившийся платок и опускалась на корточки. — Спит?
В шалаше шуршала солома, потом шуршанье заглушал долгий надсадный кашель и лишь после этого Сережка откликался сердито:
— Не сплю я... С чем пожаловала?
К Оле солдат был неизменно суров. Как-то признался он Толику, что стыдно ему перед ней за свою худобу, грязную шинель и нестриженые волосы, за всю свою опостылевшую, тошнотную, бабью беспомощность.
Впрочем, в редкие часы, когда хворьотпускала Сережку, он разрешал Оле сидеть, сколько ей хотелось, и даже без заметного раздражения выслушивал деревенские новости. И в общем-то молчаливая, грустноватая Оля, вмиг раскрасневшись, счастливо и благодарно сияя глазами, начинала говорить без умолку. Новости были маленькие и большие. Исчез, как сквозь землю провалился, староста Василий, оставив для «германо-фашистского хвюрера, косоглазого Гитлера» письмо, полное матерных слов. Напился вдребезги Антон и побил одну из родственниц-беженок, нудную, злую бабу. Родила сынишку солдатка Настя, на свадьбе которой гуляла деревня в начале года.
— Все мальчики, мальчики нарождаются, — частила Оля, — небось долгая, долгая война будет.
Давеча зашли немцы в хату к Авдотье, а у нее под полом боровок хрюкает; боровка отправили на немецкую кухню, а старухе за сокрытие живности, как девчонке какой, уши надрали. Дед Агафон устраивает в своей пятистенке каждовечерне моления о возвращении с войны живыми-невредимыми односельчан — «воинов Христовых»...
А о партизанах — это больше всего интересует Сережку, и Оля виновата шмыгает носом — опять ничегошеньки, ни слуху ни духу.
Сережка слушал, подрагивая уголками губ,неопределенно хмыкал, иногда бледно улыбался, чаще — досадливо морщился.
Все же однажды Толик расшевелил его: принес листовку, сброшенную с самолета. Сережка схватил ее жадно. В листовке говорилось, что немцы застряли под Москвой, что бьют их все сильней и что близок час освобождения братьев и сестер, томящихся под игом немецко-фашистских оккупантов. Внизу жирными буквами: «Жители временно оккупированных территорий! Вступайте в партизанские отряды, усиливайте сопротивление врагу! Пусть земля горит под ногами захватчиков!»
Сережка судорожно всхлипнул, мазнул обшлагом шинели по щеке и поднял на Толика такие бесконечно радостные, горячо заблестевшие глаза, что Толику почти жутко стало от этого внезапно вспыхнувшего, болезненного счастья.
Бережно спрятав листок за пазуху, Сережка впервые заговорил о себе. Он был из города Подольска, что под Москвой. Когда учился в девятом классе, отец ушел из семьи к другой женщине. Чтобы помочь матери и трем меньшим сестрам, Сережка пошел на завод. Работал слесарем, быстро поднимался по ступенькам разрядов, мастера хвалили его за смекалку, рабочую хватку и советовали учиться дальше. Этой осенью думал поступить в техникум... На фронт пошел добровольцем, по комсомольскому призыву.
Ничего примечательного, выдающегося не было в коротенькой Сережкиной жизни, но жил он, по его словам, правильно, как надо жить — не только для себя, но и для людей.
Сережка расхвастался, показывал Толику ладони с желтыми бугорками мозолей, замысловатыми узорными шрамами и рубцами — следами не совсем удачных соприкосновений с металлом.
— Попомни, — сказал Сережка, — я вот этими руками еще не одного фашиста ухлопаю.
И Толик подумал, что, может, и впрямь осилит солдат болезнь, отлежится, поправится на деревенском крутом хлебушке.
Но к вечеру Сережка опять поскучнел, забрался поглубже в шалаш и по-привычному тяжело заходил грудью, заметался в жару.
Минул октябрь. Все студеней становились ночи. Солдат ночами мерз в шалаше, и даже заячий кожушок уже не спасал его.
Когда рассеивались предрассветные сумерки, можно было, не опасаясь выдать себя, разжечь костер. Обычно еще с вечера Толик заготавливал сушняк, и Сережке оставалось лишь чиркнуть спичкой.
Пламя негромко гудело. Сережка тянул к нему руки, ставил поближе к угольям ноги в лаптях (Оля выполнила свое обещание). Тепло поднималось от кончиков пальцев к коленям, лаптяное лыко потрескивало, онучи, черные от копоти, занимались пахучим тряпичным дымом. Сережка вспоминал завод, свой станок, горячие стружки, ползущие из-под резца, приятное тепло свежеиготовленной детали, пышущий жаром литейный цех, где живого, буйно-языкастого огня было особенно много...
Сережка отогревался не только телом, но и душой. Подтаивала и исчезала вовсе ледяная заноза, сидевшая в сердце. Не мучили раздражение и злоба. Покойный и грустный, сидел он у костра.
Ранним утром просыпались по-осеннему немногочисленные птицы. Привлеченная огнем, прилетала любопытная сорока. Похаживала на почтительном расстоянии, щеголевато-красивая, приподняв долгий хвост, покачивая носатой головкой. К Сережке сорока относилась с явным подозрением. С мелких шажков она вдруг переходила на галоп, начинала вертеться во все стороны и, захлебываясь от негодования, стрекотала. Она порицала Сережку за одинокую, волчью жизнь в кустах, вдали от деревни, за пустяшное времяпрепровождение у костра, за нелепый, растрепанный вид его странного, негожего для человека жилища. Сорока вертелась, подпрыгивала, презрительно косила светлым глазком, всячески выказывая свое неуважение к Сережке.
Сережка сердито шикал. У него тоже был зуб на сороку. Он был уверен, что именно она украла у него алюминиевую ложку, которую дала ему мама, провожая в армию. Зато синицы вызывали доверие и симпатию. Это были покладистые и веселые птахи. В первые же дни они предложили солдату дружбу. Правда, не бескорыстную. Сережка кормил их хлебными крошками, картошкой. Однажды угостил даже салом, порезанным на мелкие кусочки. Синички побойчее хватали сало прямо с его ладони.
Насытившись, птицы устраивали по-детски беззаботную кутерьму. Надув белые пухлые щечки, шмыгали в траве, порхали в яблонях. Сев на самый кончик ветки, покачивались, как на качелях, кувыркались, свешиваясь вниз головой. Как ни странно, командиром у этой бесшабашной братии был дятел — птица важная, солидная, не склонная к легкомысленным проказам. Он сидел поодаль на высокой ольхе и, как строгий папаша, поглядывал на расшалившуюся мелюзгу. Стоило ему сняться с дерева, как за ним улетала и вся синичья стайка.
Однажды Сережка увидел из шалаша лису. Она пробежала краем поляны, поводя острой мордочкой. Наведывались к нему и зайцы. Один неторопливо проскакал в каком-нибудь десятке метров от шалаша, остановился, присев на задние лапы, огладил передними усы, попрядал высокими ушами. Сережка даже не подумал о ружье. Да и будь оно, у него не хватило бы духу пальнуть в косого.
Сережка никогда не сомневался в том, что животные — твари хотя и бессловесные, но чувствующие и, очевидно, по-своему думающие. Вспоминался ему такой случай. Как-то раз в пригородной роще, на проселочной дороге увидел он кота. Это был настоящий кот: с лихими, прямо торчащими усами, крупной тугощекой мордой и большим сильным телом. Кота, видимо, недавно переехала телега. У него был переломан хребет, задняя часть туловища неподвижно лежала в пыли. На кошачьих усах алели капельки крови. Его передние лапы беспрестанно двигались, загребая пыль.
Страшно, гортанным басом закричал кот, увидя Сережку. Были в его крике и ужас перед неотвратимым концом, и мольба о помощи, и требование оказать эту помощь... Он обращался к Сережке как ко всемогущему «старшему брату»...
С тяжелым сердцем поспешил Сережка прочь, а кот еще крикнул ему что-то вослед, горькое и укоризненное, будто обвинял в предательстве.
Сейчас Сережка, городской житель, впервые был так близок к земле в ее первозданной сущности. Он ложился на живот и рассматривал иссохшие стебельки цветов, былинки, вьющиеся белесыекорешки, полуистлевшие листья, среди которых тут и там зеленели крепкие, не хотевшие умирать, тянувшиеся к скупому осеннему солнцу стрелки травы. Здесь ничто не пропадало даром, все шло в дело. Живое уступало место мертвому, мертвое — живому, и этот вечный круговорот природы совершался по раз заведенным законам — простым и мудрым, в которых не было ничего случайного.
Только в мире людей все казалось неразрешимо запутанным...
Об Иване Петровиче — Неприметном — Сережа говорил охотно, с радостной благодарностью, как бы удивляясь этому человеку, и всегда заключал: «Кабы не он, давно бы мне парить землю».
— Он кто? — спросил Толик. — Красный офицер?
— А ты как думаешь?.. Комиссар он. Узнай об этом немцы, мигом бы его к стенке... Он еще в гражданскую беляков колошматил. Да и теперь будет не последним. Еще услышим об Иване Петровиче, на всю страну прогремит!..
А о Сухове Сережка предпочитал помалкивать и лишь однажды, в минуту откровенности, сказал: — Не будь рядом Ивана Петровича, не стал бы он со мной возиться, бросил бы — факт! — Сунул в рот соломину, пожевал и добавил несколько неожиданно: — И в обиде я бы на него не был. Кто я ему — сват, брат?
Толик думал, что разговор о Сухове на этом закончится, но Сережка выплюнул соломинку и вдруг спросил:
— Вот ты бы так поступил?
— Как? — не понял Толик.
— А как Сухов... Ты думаешь, отчего он среди пленных как огурчик свеженький был? Я еще за проволокой засек, что у него сахар припрятан. Лежу ночью и слышу: кто-то хрумкает рядом, будто лошадь овсом. Пригляделся — Сухов. Лезет за пазуху, достает кус, в пасть сует. Сосет, чмокает... Наверное, с час он так пировал... Да мне все тогда до лампочки было — к смерти готовился.
— А что Иван Петрович? — спросил Толик.
— Тоже не знал... Как вывели нас за проволоку, перестрадал я из-за этого сахара — страсть. Тут мне жить захотелось и, само собой, жрать. Топаешь по дороге, а все мысли о сахаре. Так и вижу — лежит под ремнем, о суховский пупок трется. Дай, думаю, попрошу кусочек, на двоих с Иваном Петровичем, на ухо шепну, чтобы другие не услышали... А потом такая вдруг возьмет ненависть! Чтоб тебе подавиться этим сахаром, кулак вонучий...
— Почему кулак? — Толик вспомнил недавнюю злую вспышку Сухова, его расспросы о Фомке.
— А я знаю? Таким уродился, видно. Кулак, он скорее сдохнет, чем с другими поделится. — Сережка нахмурился, потом усмехнулся: — Да ну его к бесу, Сухова. Что мне с ним — детей крестить? Повстречались и разошлись навсегда...
Но Сережка ошибся: новая встреча все же состоялась, и негаданно скоро.
С утра Толик замешкался дома, выбрался к другу поздно, часов в одиннадцать, и нашел его в сильном возбуждении. Солдат, опираясь на палку, ковылял по поляне, бормоча что-то сердитое.
— Ты знаешь, кто у меня был сейчас? Сухов.
— Не может быть, — растерянно сказал Толик. Ведь он с Иваном Петровичем подался... Сам видел.
— Дудки! Никуда он не подавался. Здесь околачивается!..
Солдат лаптем сбросил в сажалку ком земли, швырнул туда же палку и принялся с ожесточением дергать свою белую прядь. Толик терпеливо ждал. Сережка дергал и понемногу успокаивался.
— Понимаешь, я сначала даже обрадовался ему. Думаю, весть какую добрую принес. «А где Иван Петрович?» — спрашиваю. Помялся. «Распрощались мы с ним... У меня что-то нога разболелась». Он и в самом деле хромал. «Так, — говорю, — что дальше собираешься делать?» — «Поесть бы...» Дал я ему картошек, хлеба — от вчерашнего ужина осталось, Сожрал он все под чистую, но, вижу, не развеселился, сидит скучный. «Ну так что ж?» — спрашиваю. И тут он завертелся, как сучий хвост. Мямлит и в глаза не глядит. Мол, давай в Мамошки, к немцам. Одному, мол, боязно, а вместе будет порядок. Они, мол, милуют тех, кто добровольно является, даже в лагерь не пошлют. В деревне, мол, можно пожить пока, подлечиться, осмотреться... И все в этом роде... Даже о какой-то бабе плел, согласной в приймаки взять... «А может, в полицаи подашься?» — спрашиваю. Спокойно так — удочку забрасываю. А он и клюнул. «А что, — говорит, — им еды вволю дают, еще, слышал, и марки плотят...» У-у, мразь! — Сережка передернулся, гадливо сплюнул. — Дрын у меня под рукойлежал. Хотел гвоздануть, чтоб мозги вон, да слабо ударил — лишь ухо ему расцарапал.
— Побежал? — спросил Толик.
— Сухов-то? Нет, не побежал. Посидел еще малость. Все ухо трогал. Потом почапал к проселку, напоследок обернулся: «Пожалеешь, — говорит, — еще вспомнишь Сухова».
— Нельзя тебе тут оставаться, — робко начал Толик. — Молчи! — досадливо прервал Сережка. — Разве в этом дело? Думаешь, боюсь их? Я сейчас, как птенец в гнезде, — бери, кому не лень, голыми руками. Вот что обидно! — Схватил Толика за плечи, тряхнул: — Винтовка нужна! Винтовка! Понял?
Быстротечный, но жестокий бой прогремел в двух верстах от деревни в редком мелколесье, среди чахлых березок, на сочно-зеленых подушках клюквенного болота. Тогда, в июле, ягоды только начинали завязываться, а теперь на них, взбодренных первыми морозцами, крепких и розовощеких, любо было глянуть. Кочки будто накинули на себя яркие косынки, до того сильная, буйная кустилась повсюду ягода.
Толик осторожно шел по мелколесью. Смотрел под ноги, стараясь не наступить на клюкву. Он не мог отделаться от мысли, что кровь, впитавшаяся в землю, напоила собой ядреные бусины. Может, так и было. Может, поэтому нынешней осенью и не налетели на ягодник бабы с ведрами да лукошками, как налетали каждую осень.
Те, чья кровь пролилась в этой низине, лежали теперь под коричневыми торфяными бугорками, уже осыпавшимися, оплывшими, размытыми дождями. Толик помнил их — мертвых солдат, лежавших под березами на зеленых подушках, кто ничком, кто лицом к небу, широко раскинув руки, кто набоку, с коленями, подтянутыми предсмертной судорогой к подбородку.
После боя немцы пригнали сюда всех оставшихся в деревне. Бабам, старикам, подросткам дали лопаты, приказали закапывать мертвецов. Бабам делалось дурно, у дедов дрожали бороды. Мертвых едва успели присыпать землей, как немцы закричали: «Век, век!» — и погнали людей назад в деревню. У Толика кружилась голова. До самой околицы преследовал его тошнотворно гнилостный запах смерти...
Плохо, плохо схоронили они солдат! Из-под бугорков, видел Толик, торчали полы шинелей, высовывались скрюченные руки, лепились к земляным комьям ослизло распластанные пилотки. Но запаха смерти не было. Сколько ни принюхивался Толик, пахло грустно и хорошо — мокрой корой, лежалыми листьями, спелой ягодой; дышалось глубоко и легко чуть сыроватой осенней свежестью.
Толик пересек низину и поднялся на открытую возвышенность, откуда были видны деревня, и поле за нею, и дальний лес на горизонте. Здесь немцы схоронили своих. За аккуратной березовой оградой безукоризненно ровными рядами стояли кресты, на каждом — каска, на скрещении планок — медные дощечки с именами павших.
Много лет спустя, вспоминая это кладбище, Толик понял горделивую, торжественно-мистическую мысль его устроителей. Они выбрали самое высокое место в окрестности, чтобы бессмертные души германских воинов парили над завоеванными ими безбрежными пространствами, чтобы пребывали в вечной, никогда не скончаемой радости победителей, отдавших жизни свои не зря, что бы ликовали и возносились еще выше, видя болотистую низину и в ней зарытых без славы и почестей, кое-как, русских — бывших хозяев этих лесов, полей и рек, широкой страны своей.
Толик понял это много позже. А тогда, осенью сорок первого года, он стоял у ограды и дрожал от тоски и отчаяния. Он не раз проходил мимо немецкого кладбища, но лишь теперь почувствовал с пронзительной силой всю меру несправедливости судьбы к мертвым солдатам: чужие на чужой земле были похоронены как люди, свои на своей земле гнили в болоте.
Все поплыло у него перед глазами. Он шагнул за ограду и не помня себя ударил кулаком по каске. Она не упала с креста, лишь закачалась. Толик поднес к лицу кулак: пораненный об острый край каски, он багровел рваной ссадиной. Толик пнул ногой крест и, всхлипывая, побежал в низину.
Сережке очень, очень нужна была винтовка!..
Толик вернулся тяжело нагруженный. Кинул к шалашу ППШ и лопатку, вытащил из-за пазухи диск с патронами. Автомат и диск тронула ржавчина, но не слишком сильно. Толик нашел их в брезентовом пакете старательно завернутыми в пергаментную бумагу. В этом же пакете были жестянка с маслом и щелочью, шомпол, ершик, протирка — все, что нужно для чистки оружия. А лопатку Толик прихватил, решив: если будет бой, то не худо бы Сережке иметь окопчик с бруствером.
Все это добро отыскал он не вдруг, пришлось-таки поползать по кустам, так как немцы, вспомнилось Толику, сразу после боя собирали и увозили куда-то оружие.
Сережка высунул из шалаша лохматую голову, обалдело уставился на автомат и потянулся к нему с таким выражением, будто ждал, что тот сейчас растает как дым.
— Синица, — сказал растроганно. — По гроб жизни... Если бы ты знал! —И прижал автомат к груди. — Солдат я теперь. Снова солдат!.. Понимаешь ты это?
— А винтовки нет, не нашел, — повинился Толик.
Сережка потерся ухом о ложу, высоко подбросил автомат.
— Шут с нею, с винтовкой! Разве ей сравниться вот с этим?
Более пристальный осмотр ППШ, однако, несколько умерил его восторги. Впрочем, серьезных неисправностей не обнаружилось, просто нужна была чистка, и Сережка принялся за дело. Толик, рывший у входа в шалаш окопчик, слышал за спиной треск разрываемых тряпок, хлюпанье шомпола, сновавшего в стволе, сосредоточенное пыхтенье солдата. Сережкины ноздри раздувались, он жадно вдыхал запах машинного масла, так памятный ему еще по мирной жизни, по заводу. За этой работой и нашла их Оля.
— Ой, ребята, — сказала она нараспев и подперла ладонью щеку. — Да вы никак к сражению готовитесь?
При виде ее Сережка не мог скрыть радости, засуетился, заерзал на соломе, но тут же справился с волнением и нахмурился.
— Синица, спроси, что ей надо.
— Ну вот, —Оля. — Я тебе ужин принесла... И еще кое-что…
Оля опустилась на корточки, сжав коленями подол платья. В такой позе она могла сидеть очень долго. Сидеть и смотреть на Сережку:
— Что скажешь? — буркнул Сережка,отодвигаясь от ее колен.
— Ничего. Я побуду немножко. Можно?
— Сиди, если время есть. Мне-то что?
Оля придвинула к нему узелок и потупилась.
— Белье здесь чистое. Тетка Фруза прислала... переоденься. Небось и вошки уже завелись..
Сережка будто не слышал, старательно драил автомат.
— Давай помогу.
Она взяла тряпку, начала отрывать от нее узкую полоску, но, не оторвав и до половины, уронила руки в подол.
— Сережа, — позвала шепотом.
Солдат, не отвечая, яростно работал шомполом.
— Сереж, а хочешь, я тебе кисет сошью? И вышью... Я умею.
— Не курю.
— Может, самогонки выпьешь? — печально спросила Оля. — Я принесла. Дед Силантий вчера гнал...
— Вот что, — сказал Сережка. — Ты бы помогла лучше Толику. Весь в поту парень... Синица, дай ей лопатку!
Оля подхватилась, просияв улыбкой: и того ей было достаточно, что не гнал ее Сережка.
Толик опустился на пенек. Морщась, покачал у груди ушибленный о каску кулак — он будто оттаял для боли.
На первых порах Оля копалабойко, комья так иразлетались веером, но стоило Сережке повернуться к ней спиной, как она опускала лопату и прилипала взглядом к его затылку. Что видела Оля интересного в плосковатом, с завитушками давно не стриженных волос Сережкином затылке, было для Толика загадкой. Но глядела она на него, вся подавшись вперед, широко раскрыв глаза, словно на чудо какое.
«Опять уставилась, — злился Толик, сидя на пеньке. Будто ребят никогда не видела. И чего он ей дался?»
При всем уважении к другу-солдату Толик не мог сообразить, чем тот приглянулся Оле. Небритый, нечесаный, в грязной шинели, худющий, одолеваемый кашлем, остроносый, с болячечными губами, Сережка был страшноват даже примелькавшись, даже привычному взгляду. К тому же он был вечно взвинчен, раздражителен. И уж доставалось от него Оле! Стоило ей сделать попытку прикоснуться к Сережке: застегнуть крючки на его шинели, поправить пилотку, как он начинал злиться, капризничать, отмахиваться от нее, как от назойливой мухи.
А она выносила все это с покорной преданностью, без признака обиды. Трогательно маленькая, укутанная в шерстяной платок, в старенькой телогрейке, подпоясанной ремешком, сидела она перед Сережкой на корточках, и ничто не могло затушить радостно-тревожного света в ее глазах.
Толик тогда не знал еще, что для Оли пришло время любить. Кого? Разве спрашивают об этом в шестнадцать лет? Кого-нибудь. Кто близко, кто рядом, кто нуждается в помощи, кому можно отдать свою ласку, свою нежность — все, что уже томит и требует исхода.
— Шабаш! — сказал Сережка и сдунул с автомата пушинку.
ППШ поблескивал красиво и внушительно, как воронье крыло после дождя. Раздался легкий щелчок — Сережка вставил диск. Любовно, будто младенца, побаюкал на ладонях сразу потяжелевший автомат. Нацелился на Толика:
— А ну, Синица, ложись! Изрешечу!
— Не балуй, — сказал Толик с деланной строгостью. — Далеко ль до беды?.. Ты лучше траншею осмоти. Глубже не надо?
Сережка влез в кривую неглубокую ямку. Она, конечно, и в малой мере не заслуживала громкого названия, самочинно присвоенного ей Толиком. Сережка пригнулся — из окопа горбилась его узкая спина.
— Ну как, видно?
— Видно, — слегка смутился Толик.
Сережка похлопал по земляной насыпи:
— Сойдет, Синица. Благодарность тебе от лица армии!
— Теперь тебе никто не страшен, — сказала Оля. — Теперь ты настоящий боец. А по такому случаю...
Развязав узелок, она поставила на пень бутылку, кончиком платка вытерла стаканы.
— Налить, что ли?
— Эх! — Сережка шмякнул пилоткой о землю. — Праздник так праздник!
Оля протянула ему полный стакан. Себе налила половину. Плеснула малость, на самое донышко, и Толику.
Сережка сделал вид, что опьянел. А может, так оно и было: глаза его заблестели, сквозь бледность щек затлел, проступая, румянец. Выхватил из кострища уголек, мазнул по губе, рисуя усы-щетку, дернул вниз прядь волос — приладил челку и взглянул исподлобья, мутно и тупо.
— Ой, Гитлер! — взвизгнула Оля.
— Вас ист дас? — Сережка грозно зашевелил угольными усиками. — Это что еще за фрава? А ну шнелль нах хаус! — И наставил на Олю автомат.
— Стреляй, стреляй! — Оля вскочила, опрокинув бутылку, встала перед Сережкой, подбоченясь. — В самое сердце мое больное стреляй, солдат. Все едино — жизни нет!
— Станцуй, тогда помилую. Ну!
Толик забеспокоился: Сережка целился так свирепо, что казалось — вот-вот нажмет на спуск.
— Танцирен, танцирен! Битте!.. Айн, цвай...
И Оля, сорвав с головы платок, помахивая им, поплыла по кругу, сначала неторопливо, потом все быстрей, быстрей перебирала полными ногами в резиновых сапожках. Сапожки тонко поскрипывали, Оля тихонько ухала и, наклоняясь, переламываясь в узкой талии, манила полусогнутым пальцем, звала Сережку.
— Цыганочку! — крикнул Сережка и ударил в колено автоматом. — Чтоб земля горела!
И Оля мелко затрясла плечами, затопталась на месте. Голову она держала прямо, неулыбчивое лицо как будто скучало, взгляд полузакрытых глаз был сонливо-тяжел, почти бессмыслен — так танцевали цыганочку в окрестных деревнях.
Сережка, постукивая лаптем о лапоть, вытянув кадыкастую шею, засвистел в два пальца, и Оля с тем же скучающим лицом пронзительно высоким голосом запела:
Толик пялился на нее с изумлением. Вот тебе и Оля — молчаливая, застенчивая...
— Давай! Давай! — хрипло кричал Сережка, уже изнемогая, уже не с весельем будто, а с тоской, отчаянием, и Оля пронзительно и звонко, до боли в ушах, кричала ему в ответ:
Наверное, это были первые частушки, петые в здешних местах за последние полгода. Забыв всякую осторожность, Оля выкрикивала припевки все громче, все самозабвенней.
— Хватит! — Сережка, обессиленный, хватал ртом воздух. — Хватит, говорю. Слышишь?
Оля взмахнула платком, накидывая его на растрепанные волосы, судорожно вздохнула, вздрагивая плечами. Лицо ее было мокро от слез.
— Ну вот‚— сказал Сережка растерянно. — У ихней сестры всегда так: не поймешь, то ли поют, то ли воют в голос.
И тут же раздались тяжелые торопливые шаги. Из-за кустов показался Антон.
— Вы что, сдурели? — Он говорил злым, свистящим шепотом. — За две версты слышно. В комендатуру захотелось?.. — Обернулся к Оле: — Ты, кобыла, на каких таких радостях разоралась?
Толик пятился — закатывал ногой за пенек бутылку. Оля стояла перед высоченным Антоном, съежившись, низко опустив голову, зябко кутаясь в платок.
— А ну геть отседа! Мы еще дома с- тобой потолкуем... Певица!
И Оля ушла. Медленно-медленно. Оглядываясь на Сережку. Но солдат не смотрел на нее. Он совсем обмяк: не для доходяги Сережки было это так внезапно возникшее веселье —с танцами, частушками, свистом в два пальца.
— Плох ты, малец, плох! — сказал Антон, щурясь в Сережкино лицо. — Рассказывай, как живешь-можешь, что нового?
— Какое там новое, — криво усмехнулся Сережка. — Старое все: лежу на соломке, смерти жду... Вот и могилку мне Толик сварганил, спасибо ему...
— Могилку ли? — Антон потрогал кончиком сапога автомат. — Это тоже с собой в могилку?
— Древний обычай, — снова усмехнулся Сережка. — Воина хоронят, рядом оружие ложат.
— Зубы мне заговариваешь? — взорвался Антон. — Откуда автомат? Окоп зачем вырыли?
Сережка, не отвечая, сумрачно улыбался, играл желваками скул.
— А ты что скажешь?
Толик попытался выдержать взгляд Антона, но не смог — отвел глаза и покраснел. Врать или утаивать что-либо был он не мастак.
— Выкладывай! — сказал Антон почти спокойно и взял в кулак бороду. — Слухаю тебя.
И Толик выложил все, про Сухова, его угрозы. Потом все трое долго молчали. Уже совсем свечерело. Антон стащил с головы шапку, смутно забелел лысым лбом. Сделал он это, наверное, машинально — по поляне гулял ледяной ветерок. Закурил. По величине свернутой цигарки Толик понял, что старик не на шутку встревожен. Цигарка вспыхивала и гасла, крупно нарезанные табачные корешки встрескивали и сыпались, еще светясь ало, в шапку, которую Антон держал на коленях.
Почти неразличимый в густой тени шалаша, Сережка сказал тихонько:
— Сгорит шапка-то...
Антон сидел на пеньке, курил и думал. По мере того как багровый светлячок цигарки все ближе подползал к его губам, Антон распрямлялся, будто с его спины постепенно снимали тяжелую ношу. Наконец ее сняли совсем: он смачно выплюнул окурок и, поднявшись, коротким ударом каблука вбил его в землю. Решение было принято.
— Собирайся!
Это явно относилось к Сережке, но тот деланно удивился:
— Мне говоришь?
— Именно!
Сережка проковылял в своих лаптях к давно потух шему костру и простер над ним тощие, как палки, болтавшиеся в обшлагах руки:
— А ведь греет еще, братцы мои. Благодать-то какая!
— Собирайся! — повторил Антон и засопел, наливаясь гневом. — Со мной пойдешь. Ясно?
— Ясно-то ясно. Только как там в ихней бумаге сказано? Бродячих русских солдат сдавать в распоряжение немецких властей. За несоблюдение — смертная казнь... Так, что ли?
— Не твоя забота, — буркнул Антон. — Внадежное место спрячу. Авось не найдут.
— Авось да небойсь, — с издевкой передразнил Сережка. Он заводился, вскипал обычным своим злым раздражением. — А еще в умных ходишь, плешь во весь черепок... Катись ты, Антон Петрович, знаешь куда…
Антон двинулся на Сережку, слепо спотыкаясь, расставив руки:— Да я тебя, щенка, сейчас...
Вывернувшись из-под локтей Антона, Сережка быстро нагнулся. — Уйди! — крикнул визгливо. — Уйди! Не то... Толик, ойкнув, повис у него на плече. Антон выдерул из Сережкиных рук автомат и швырнул его в черый зев шалаша. — Так, — сказал, тяжело дыша. — Это за все мое добро? С автоматом?.. Хорош гусь, нечего сказать.
Сережка, казалось, опомнился. Досадливо крякнув, полез в шалаш, затаился невидимый.
На поляне было уже совсем темно, ночь занималась хмурая, все сильней дул ветер. Толик с тяжелым сердцем прислушивался к унылому шуму кустов.
Антон ходил взад-вперед, теребя бородищу.
— Дела-а, — бормотал он, попыхивая новойцигаркой. — Идрить твою корень…
Походив, побормотав, мысом сапога осторожно постучал в жердину шалаша:
— Слышь, парень?
— Что еще? — тоскливо отозвался Сережка.
— Погорячился я, виноват... Ну и ты, значит, без должной выдержки... Давай поговорим серьезно. Ну что тебе дался этот шалаш? Загнешься ты тут через неделю в холоде... Это ежели не донесет Сухов. А ежели донесет?
— Зря уговариваешь, Петрович, — отозвался Сережка. — Никуда отсюда не пойду... Воля здесь, понимаешь? Простор. Думается легко... Сунутся сюда — схлестнусь с гадами. Хоть одного-двух ухлопаю. А там и умирать не стыдно будет: как солдат умру — в чистом поле, вчестном бою…
— Не желаешь, значит?
Сережка молчал.
Антон, смущенно кряхтя, поднялся с соломы, постоял сутулясь. Впервые уловил Толик в его не по возрасту крепкой фигуре, вернее, почувствовал, какую-то скованность, неуверенность, что-то стариковски беспомощное.
— Ну коли так, счастливо тебе, солдат. Может, и прав ты...
Антон пошел. Следом двинулся было и Толик, но Сережка остановил его:
— Побудь минуту, Синица... Что-то паршиво мне после самогонки. Грудь давит... Или к перемене погоды?
— Тучится, — сказал Толик. — Ни одной звездочки. Завтра дождь будет. А то и снег... — И ляскнул зубами от дрожи, внезапно потрясшей тело.
— Замерз? — спросил Сережка. — Собачья ночь, и не говори... Ну ничего, сейчас отогреешься у печки... У нас дома тоже печка. Кафельная. Бывало, придешь с мороза и щекой к теплому. Приятно...
Толик, коченея в непонятной тоске, и слушал и не слушал Сережку.
— ...А главное, друг, вот что: запомни мой адрес. Подольск, Советская, двадцатый дом, Кузиной Акулине Евсеевне, маме моей... Повтори.
Толик повторил механически.
— Дома на бумажку запишешь. Добро?
Сережка зашуршал соломой:
— Нагнись-ка!
Толик нагнулся, и солдат сунул ему в руку что-то маленькое, круглое и плоское.
— Возьми. На память тебе и Ольке... Помнишь, рассказывал? Иван Петрович дал, еще в плену...
Дома, на свету, Толик рассмотрел Сережкин подарок. Зеркальце было в ржавой железной оправе. Мутное, как бы запотевшее изнутри стекло делила надвое черная трещина.
Унтер заглушил мотор, слез с седла, зажег сигарету. Суетясь, выбрался из коляски небритый. Унтер дулом автомата толкнул его в спину: давай, мол, показывай. Солдаты, ругаясь, топая сапогами, взяли наизготовку автоматы и редкой цепью двинулись меж кустов — за унтером и русским.
Шалаш топорщился сучьями, ветками с полусгнившей черной листвой в глубине небольшой поляны. Вход в него загораживала невысокая земляная насыпь.
— Эй, Сережка! — сорвавшимся, ставшим по-бабьи тонким голосом крикнул небритый. — Жив ли? Вылазь из норы... Гости к тебе пришли!
Шалаш молчал. Унтер, хмурясь, пожевывая сигарету, смотрел на небритого.
— Ай боишься? Это я — Сухов.
Над насыпью показалось мальчишеское лицо, бледное и грязное, с блестевшими горячечным жаром глазами.
— А, Сухов... Донес-таки, сука. Топай поближе — потолкуем.
— Мне и отсель слышно!
— Мне тоже. — Грязное лицо задрожало, растягиваясь в издевательской улыбке.
Небритый в замешательстве оглянулся. Он не знал, что делать дальше, и просил помощи. Унтер стал с ним рядом, его автомат повернулся над животом и застыл,нацеленный на шалаш.
— Сдавайсь! — крикнул небритый враз окрепшим го лосом. — Не то капут тебе!
— Я чистую рубаху надел. — Сережка распахнул шинель. — Видишь?
— Бой, значит, объявляешь? А из чего стрелять будешь, дурья голова? Из палки?
— Мотай отсюда, гад! И фриц тебе не поможет... Зубами сгрызу!..
Унтер поднял руку, щелкнул пальцами у затылка. Из-за кустов по одному выдвинулись солдаты. Восемь дул глядело на шалаш.
Лицо исчезло за насыпью, и тотчас оттуда ударила длинная автоматная очередь. Сухов, охнув, схватился за плечо. Один из немцев с закурившейся на паху шинелью начал, будто переламываясь надвое, медленно оседать на землю. Остальные метнулись в кусты, залегли.
Полежали молча, тяжело дыша, закрыв локтями головы. Пули вжикали в голых, плохо укрывавших кустах. Унтер глухо кашлял, яростно отплевывался — табачные крошки забили ему гортань. Вот так обессилел Иван, вот так нет у него оружия... Доннер веттер!
Унтер приподнялся, выкрикнул команду. Разделившись на две группы, солдаты поползли в обхват шалаша. Сухов остался на месте. От боли скрипел зубами, засунув под шинель кулак, прижимал его к ране, пытаясьунять кровь.
Теперь Сережка стрелял наугад, по шороху, по движению веток. Сухов слышал, как он что-то бормотал за своим укрытием, всхлипывал, матерился. Все чаще замолкал его автомат. Берег патроны? Ждал, когда немцы поднимутся, пойдут на него в полный рост? Немцы не поднимались. Сережка, чувствуя их приближение, стрелял снова...
Потом наступила тишина. На насыпь легли большие, с растопыренными пальцами руки, всплыло, как из воды, бледное грязное лицо, тощая шея, обмотанная полотенцем, грудь в распахнутой шинели — Сережка выбирался из траншеи. Он выталкивал наружу свое тело с трудом, выползал, выкарабкивался, худой и длинный, весь в глине. Сухов вдруг взвизгнул от жути, от тупо резанувшей по сердцу, заглушившей телесную боль жалости, от со знания непоправимости сделанного.
Сережка встал на четвереньки. Его шатало. Он под нимался на ноги, как маленький ребенок: выставив зад, пыхтя, старался оттолкнуться ладонями от земли. Оттолкнулся и медленно выпрямился. Наступил на ненужный уже автомат. Обметанные болячками губы его кривились, он собирал силы, чтобы крикнуть что-то. Но крикнуть не успел...
Первым выстрелил в Сережку унтер. Из пистолета. Сережка стоял, лишь откинулся на покатую стенку шалаша. Коротко стрекотнул автомат справа. Сережка стоял и смотрел на Сухова уже мертвыми глазами. Злобно перекосившись, унтер бросил гранату. Сережку отшвырнуло к траншейке, он упал туда головой вниз, взметнув над насыпью обутые в лапти ноги. Ухнула вторая граната— ног не стало. Третья — и над траншейкой вспучилось и опало что-то рвано-бесформенное.
Немцы бросали и бросали гранаты, разрывая Сереж ку на части, на куски, на мелкие клочья. И когда от него ничего не осталось, швырнули по последнему разу — в
ямку, за то, что была ему защитой.
— Аллес!— сказал унтер и откинул со лба мокрую прядь.
Операция былазавершена. Немцы запихнули в коляски раненного в живот (он был без сознания) и другого, мертвого, которого нашла-таки Сережкина пуля, когда он полз в кустах.
Сухов сидел под кустом. Ему очень хотелось, чтобы немцы забыли о нем, уехали без него. Но унтер, закончив сборы в дорогу, повернулся к небритому, и тот, прочтя в непреклонном взгляде участь свою, лишь жалко, искательно улыбнулся.
— Сволош! — сказал унтер. — Цвай дойчен зольдатен... О майн готт!
И, брезгливо морщась, до конца, до последнего патрона, разрядил в лицо Сухова свой парабеллум.
Говорят: «Как аукнется, так и откликнется».
А еще говорят: «Честная смерть — чистой жизни начало»...
Приезжала в деревню Сережкина мать Акулина Евсеевна. Долго сидела на поляне у шалаша — осевшего, схлестанного дождями, черного.
Оля и Толик провожали ее на станцию. Он нес полотняный мешочек, где лежало крошечное потрескавшееся зеркальце в жестяной оправе, изрешеченная осколками пилотка и несколько суконных лоскутков с ржавыми пятнами на них — остатки солдатской шинели.
Был май сорок пятого. Зеленели поля. Пели жаворонки.
Пели они уже над мирной землей, в мирном небе...
Зимние грозы
Почти весь день ни поклевки, а тут на́ тебе, будто прорвало — успевай подсекать да вытаскивать. И рыба шла любо глянуть — красивая мерная плотва.
— Вот так пушкин-батюшкин! — возбужденно крутил головой и сдавленно посмеивался Володя, юный студент филфака. — Принесу в институт, не поверят ребята, скажут, в магазине словил, на крючок серебряный... Первый раз в жизни такое!
— Бывало и не такое, — с превосходством старшего возражал ему моложавый и розовощекий, в щегольской пыжиковой шапке и оленьих унтах доцент Игорь Павлович. Он тоже торопился, вываживая на лед рыбу. Жадничал немножко, но старался не терять солидности.
— И лишь третий — в белом полушубке, туго перепоясанный широким ремнем, молчаливый, с грубоватым лицом — будто и не радовался удаче, прятал в рюкзак плотву и все посматривал на небо, поднимая над воротником полушубка крепкий раздвоенный подбородок. Звали его Иваном Ивановичем. Володя был его сын, а доцент Игорь Павлович доводился зятем.
Как-то вдруг, внезапно на реке потемнело.
— Неужто вечер уже? — удивился Володя.
Но то был не вечер. С крутого берега с въедливой неторопливостью сваливалась на реку туча. Странная какая-то туча, причудливая, мрачного обличья. Словно спускался на них с неба высоченный старинный замок, двигая перед собой крепостную стенус зубчатыми пряслами и полукруглыми сторожевыми башнями. Громада замка была угольно-черная, а стены казались подернутыми пеплом. На их глазах пепел из серого стал белым, и туча-замок сыпанула в людей снежными стрелами. Пал на реку и помчался, дико взвыв в берегах, снежный вихрь, такой сильный, что они, сидевшие над лунками, вместе со своими раскладными стульчиками сдвинулись и шибко покатились по льду.
Снег разом залепил лица. Не видя друг друга, тревожно перекликаясь, падая и поднимаясь, они заспешили укрыться под берегом. Сбились в тесную кучку.
— Ну и завару... — сказал было Володя и не договорил. В широко раскрытых глазах его мелькнул по-детски отчаянный испуг — толстая, извивающаяся, многоглавая, как Змей Горыныч, молния соскользнула со стены замка и у подножия зубчатых прясел рассыпалась на мелко-огнистые жала. Свет был мгновенен и невыносим. Рыбаки зажмурились и уже вслепую услышали страшный и краткий взрыв грома — будто за зубцами крепостной стены в вознесенном в поднебесье граде разом взорвались все пороховые склады.
— ...Три, четыре, пять, — помертвевшими губами считал Володя удары грома. И, не дождавшись шестого, приоткрыл глаза. Туча быстро уходила к дальнему лесу. Замок, разрушенный, видно, первым уже, самым яростным взрывом, оседал, дымно клубясь, разваливался, теряя четкие очертания. Снег еще валил густо, но ветер стихал, и уже можно было без риска быть сбитым с ног выйти из укрытия.
— Первый раз в жизни такое, пушкин-батюшкин, — дрожащим голосом, счастливо улыбаясь, сказал Володя. Гроза в феврале. Да какая! С громом и молнией. Расскажу в институте, не поверят ребята.
Игорь Павлович, в меру испуганный и в меру побледневший, хотел по обыкновению возразить Володе, что, мол, видел он на своем веку и подиковинней грозы, но, глянув в озабоченно хмурившегося тестя, обратился к нему.
— Вы что, Иван Иванович?
— А то, посмотрите-ка…
Иван Иванович потоптался на месте, показывая, как глубок снег. Его за какие-нибудь десять минут намело столько, что теперь мудрено было отыскать лунки и брошенные возле них удочки.
Туча давно скрылась за лесом, небо очистилось, но воздух не посветлел — вечерело уже по-настоящему. Они долго бродили по снежным барханам, нашли-таки рюкзаки и стулья, а на удочки махнули рукой.
— Что будем делать? — спросил Иван Иванович, почему-то не у доцента, а у Володи. — Ясно, что Васек не пробьется. Мы и утром сюда еле проехали, а теперь…
— Да, перемело дороги, — поспешно согласился Игорь Павлович. — А мне завтра экзамены принимать у первокурсников. Умри, а к одиннадцати надо быть в институте.
— И мне, — смущенно усмехнулся Володя. — Сдавать Экзамены. Вам, Игорь Павлович.
— Что? — раздраженно переспросил тот.
— Вам сдавать буду.
— Ах да, конечно. Подготовился?
— Да как вам сказать... Но если учесть всем известную вашу доброжелательность к нашему брату…
— Ну это ты брось, — осадил его доцент. — Молод еще льстить. И не воображай, пожалуйста, что если мы в родственных отношениях и вместе на рыбалку ездим... Правильно я говорю, Иван Иванович?.. В самом деле, зачем сегодня поехал, коль чувствуешь себя неуверенно. Сидел бы над книжкой. А я, старый дурень, и не подумал об этом…
Игорь Павлович кокетничал, называя себя и старым и дурнем: было ему тридцать пять лет, и ума ему не занимать было.
— Ладно, — сказал Иван Иванович, хмуро рассматривая маленькие ноги доцента, обутые в маленькие аккуратные унты. — Мне, положим, торопиться некуда, самое страшное, если задержусь, — Нина Петровна поругает. А вот вам с Володькой действительно... Давайте обсудим...
Судили, рядили: до железнодорожной станции было километров двадцать, и пройти этот путь впотьмах, по глубокому снегу — значило совершить подвиг. Но никто из троих не был готов к подвигу. Решили искать ночлег.
— Есть тут поблизости деревушка, — сказал Иван Иванович. — Всего два или три дома. Умирающая, короче... А название веселое, от прежних времен, видать, Малиновка... Лет пять тому ночевал я там у мужика одного — Лукича, если память не изменяет. Бобыль, а хата большая, просторная. Печку жарко топит. Авось здравствует еще и никуда не уехал...
Они вскарабкались по крутому склону и, завидя огоньки недалекой деревни, двинулись напрямик, по целому снегу. Володя, как самый молодой, торил тропу, за ним шел, посапывая, покряхтывая, доцент, и замыкал шествие понурый, потерявший военную выправку Иван Иванович.
Гроза растревожила и утомила отставного полковника: будто он снова, как в дни молодости, на фронте, пережил жестокую бомбежку. С тяжким воем падающих, казалось, на голову фугасок, с черными космами вздыбленной земли. Долгую бомбежку, вымотавшую до предела нервы.
Долго стучали в дверь. Наконец на крыльцо вышел кто-то неразличимый в потемках.
— Лукич, ты? — спросил Иван Иванович.
— Ну я, — испуганно и торопливо откликнулся из темноты голос. — Кто такие?
— Иван Иванович. Помнишь, рыбак у тебя как-то гостил?
— Гроза-то какая была, — невпопад пробормотал тот, кто стоял на крыльце. — Вот уж истинно — страсть господня. До сих пор дрожака даю...
— Так пустишь в избу?
— Иван Иванович, говоришь? Что-то не припомню. А в избу — пожалуйста: не пропадать же вам в ночи.
Однако в избе, на свету, Лукич узнал Ивана Ивановича (или сделал вид, что узнал) и радостно засуетился. Помог стащить с плеч рюкзак, бережно принял полушубок и, повесив на гвоздь у двери, старательно разгладил ладонью подвернувшуюся полу.
Так же радушно, впрочем, приветил он и доцента: похвалил его унты и пыжиковую шапку. А Володю, которого мучила жажда, напоил домашним квасом.
Рука Лукича, когда он подавал кружку, ходуном ходила, и Володя приписал это действию недавней грозы. Иван Иванович сразу догадался, в чем дело. Лицо хозяина было сизое, отечное, а глаза смотрели как у стратотерпца с иконы — вселенски тоскливо. Да и перегаром попахивало от хозяина крепенько.
Обласкав гостей, насуетившись, он вдруг обмяк, опустился на лавку, кряхтя и встряхивая головой.
— Гульнул, Лукич? — тихонько и как бы даже участливо спросил полковник.
— Ой, было, было... Ходил я в Язвище, ну и стрел там дружка. Мы с ним на фронте в одной роте воевали. Я солдатом, он старшиной был. Вроде бы и причины никакой, а он командует: ать-два в магазин, товарищ боец, одна нога здесь, другая там... А тут еще гроза эта... Короче сказать, выбился из колеи, как телега в распутицу.
Иван Иванович кивал понимающе, словно и сам не раз бывал в таком аховом положении, Игорь же Павлович напустил на себя строгость:
— Зачем же пить, если организм расстраивается? Вы кем в колхозе работаете?
— Свинарь я.
— Вот видите. Работа ответственная: привесы и прочее. А вы с больной головой к животным. Страдает ведь дело.
— Страдает, — понуро согласился Лукич. Только вы не подумайте, что я часто... Зимой, на холоду, конечно, чаще. Но тут особый случай: во-первых, дружка стрел, во-вторых, гроза эта... Все она, будь неладна... Чуял я ее приближение. Душа ныла. Вот и побежал по приказу бывшего товарища старшины в лавку...
— Ты на грозу не ссылайся, — строго сказал Игорь Павлович. — Кстати, зимние грозы не то что летние. Они опасные. Молнии — фейерверк, видимость одна, ни убить, ни поджечь не могут. Погромыхала, посверкала, вот таких, как ты, уважаемый Лукич, попугала и ушла, не причинив вреда.
— Откуда у вас такие сведения? — не сумев скрыть. раздражения, ворчливо спросил Иван Иванович. — Разве зимой природа грозы меняется?
— Читать надо! — внушительно сказал доцент. — Много читать, Иван Иванович... Хотите объясню, как возникают зимние грозы? В район, где воздух теплый, прорываются холодные арктические массы, столкновение на почве, так сказать, разности характеров — и вот, пожалуйте вам, — гроза... — Доцент взглянул на полковника победительно. — А хотите предскажу, какая завтра погода будет? Ясный будет денек, морозный, солнечный...
— Ученый человек, вам виднее, — сказал Лукич. — Однако я на своем стоять буду: она самая, гроза эта, на выпивку меня толкнула.
— В средние века люди от грозы колокольным звоном оборонялись. А ты, выходит, водкой?
— Ну, выходит...
— Значит, только в грозы пьешь?
— Кабы только, — вздохнул Лукич.
— Вы знаете, — повернулся доцент к Ивану Ивановичу и пригладил височки, как делал в институте, начиная лекцию. — Это, скажу вам, социальная проблема. Если взять в масштабах всей страны, то получаются цифры — ого-го!..
Полковник с отсутствующим видом рассматривал унты зятя — с рыже-белой опушкой и кокетливыми заячьими хвостиками вверху голенищ.
— Что ж это я! — встрепенулся Лукич. — Вам, верно, с холоду пользительно горячего чего-нибудь. Суп у меня есть картофельный, со свининой...
Заметно приободрившись, движимый тайной мыслью, сладкой надеждой на что-то, он довольно резво протопал к печке.
Рыбаки уселись за стол и, подтащив к ногам рюкзаки, стали выкладывать у кого что было. У Ивана Ивановича нашлось скупо — кус сала и рыбные консервы, зато рюкзак доцента оказался той самой торбочкой из сказки, в волшебном нутре которой уютилось все, что душа пожелает. Небрежно щурясь, Игорь Павлович выкладывал на стол пирожки и коржики, распластанную надвое жареную курицу, ноздреватые пластины сыра, пупырчатые огурчики, конфеты, сахар. Вытянув шею, следил Лукич за гостем залетным, который, судя по всему — и одежде, и харчу, — был немалой шишкой в городе. Следил и ждал. Ждал достойного завершения всей этой благодати.
Но не дождался. И когда Игорь Павлович отодвинул в сторону тоще опавший рюкзак, вздохнул покорно и тяжело...
Да, бывает и такое: ни у кого из рыбаков не оказалось ни спирта, ни водки, ни даже какой-нибудь плодово-ягодной «бормотухи» ценой один р. две коп. за бутылку. Володя совсем не пил, доцент употреблял лишь по большим праздникам, а у полковника в последнее время сердцепошаливало — ему жена не разрешала.
Делать было нечего. Лукич разлил в миски суп, поставил перед гостями, а сам сел на табурет у порога итоскливо задумался.
— Ты что? — окликнул его Иван Иванович. — Давайс нами.
Лукич лишь рукой махнул.
Стали ужинать без хозяина. Полковник ел без особого аппетита, но старательно. Доцент, отмякший в избяномуюте, наслаждался каждым кусочком. Володя жевал торопливо и небрежно, как человек, твердо знающий, что есть на свете кое-что и поинтересней еды. Он все поглядывал на Лукича, который нещадно смолил, высасывая дым из толстой самокрутки. Был свинарь широкоплеч, лысоват, с могучим шишковатым лбом, под которым совсем маленьким казался короткий нос. «Живописный мужик, ну просто Хорь тургеневский», — думал Володя иулыбался от удовольствия: первый раз в жизни будет ночевать в деревенской избе, да еще у такого колоритного хозяина.
— Ну и гроза, ой, гроза! — внезапно заговорил тот, гулко и хрипло откашливаясь, будто в рот ему попали табачные крошки. — Слышь, Иваныч, я все к тому же... Нехорошо это, конечно, однако же... Одолжил бы мне пятерку... Как вспомню, как она шуровала, с громом да молоньей, даром что зимняя... Я бы к Фроське-продавщице слетал и вас бы угостил... Одолжи, друг…
— Да что я, не вижу? Сам давно бы предложил. —Полковник виновато развел руками. — Но нету у меня,ни рубля нету. Рассчитывал домой к вечеру вернуться — не взял. Понимаешь?
Володя торопливо ощупал карманы, хотя и знал, что, кроме медной мелочи, ничего там нет. Потом вопросительно посмотрел на доцента.
— Есть. У меня есть, — подтвердил Игорь Павлович. —Однако... Он негромко постучал пальцем по столу, словно призывал к тишине студентов. — Однако будем, товарищи, принципиальны. Сделаем ли мы добро Лукичу, ссудив его пятеркой? А может, честнее признать, что нанесем ему вред?
— А у вас, Игорь Павлович, никто и не просит — резко, почти грубо сказал полковник. — Держите ваши деньги при себе.
— Не понимаю этого тона, — обиделся доцент. — Прекрасно знаете, что прав в данном случае я. Потому и сердитесь... Впрочем, я готов дать пятерку. За ночлег и суп. Но при условии, что ни в какой магазин Лукич не пойдет.
— Неужели вы всерьез думаете, что с вас возьмут за постой? — зло усмехнулся Иван Иванович. — Здесь не торгуют ни супом, ни ночлегом. Запомните это!
— Будет вам, будет! — испуганно вскинулся у порога Лукич. — Как петухи, ей-богу. О чем толковать? Обойдусь и без нее, пропади она пропадом. Не ругайтесь только...
Помолчали. Послушали, как потрескивает табак в Лукичовой самокрутке. Из-под веника, что лежал у печки, видел Володя, вышмыгнула мышь, встала на задние лапки, оглядываясь, дернула белыми усиками, обнажив мелкие зубки — точно зевнула, — и снова спряталась под веник. Полковник смотрел в окно — там светилась одинокая, печальная в своей хрупкой красоте звезда.
— Ну и скука у тебя, хозяин, — сказал наконец Игорь Павлович с деланной беспечностью, давая понять, что уже забыл неприятный разговор и жаждет мирной беседы. — Спать еще рано, да и не хочется... Ты что же, даже телевизора себе не завел?
— А на хрена он мне? — коротко отозвался хозяин.
— Может, почитать что найдется?
— Газету выписываю, районную. Коли желаете...
— А книги в доме держишь?
— Нет, не держу.
— Так уж и ни одной?
Лукич пососал потухшую самокрутку:
— Есть одна. Только для вас она неинтересная будет. Божественная.
— Божественная? — оживился Игорь Павлович. — А ну, покажи!
Лукич ушел за перегородку, долго возился там и вынес наконец, держа перед собой на вытянутых руках, глыбистый, зримо тяжелый том. Подул на переплет — пыль так и взметнулась облачком — и положил книжищу перед Игорем Павловичем.
— Да это ж Библия! — вскричал доцент тонким, сорвавшимся от волнения голосом. — Издана в прошлом веке. Иллюстрации Доре... Вы посмотрите, посмотрите!
— Да, — сказал Иван Иванович, трогая пальцем серебряный крест, приклеенный к толстой кожаной обложке. — Богатая книга.
— Вы знаете, какая это редкость? — горячился Игорь Павлович. — За эту книгу Лукичу в любом букинистичем магазине... — Он вдруг запнулся. Зевнул, отодвинул от себя книгу. — А впрочем, не такая уж редкость. До революции выпускалась массовым тиражом. Чтобы в каждой семье, как говорится, был опиум для народа... А ты Лукич, верующий?
— Какое там! — усмехнулся тот.
— А что ж богов завел? — кивнул доцент на иконы в углу.
— От покойной матери остались. Пускай висят — не мешают.
— Значит, совсем неверующий? Ни тютельки?
— Ни тютельки, — вздохнул Лукич.
— Ни при каких обстоятельствах?
— Да как сказать? На войне, не совру, иной раз страшно было. Или теперь испугаешься чего. Вот, к примеру, гроза давешная. Осудите меня иль нет — чуть было не перекрестился.
— Гром не грянет, мужик не перекрестится, — засмеялся Володя.
— Это не вера, — сказал Игорь Павлович убежденно. — Это суеверие.
— Оно, конечно, так, — согласился Лукич. — Против данных науки никуда не попрешь.
— Зачем тогда книгу такую хранишь?— гул свою линию доцент.
— Не выкидывать же. Она мне опять же от матери досталась, а ей дед, помирая, отказал. Память то есть.
— Ясно! — Игорь Навлович, помусолив носовой платок‚ старательно протер крест. — Ты ее кому-нибудь показывал? Скажем, директору совхоза?
— У нас колхоз, председатель у нас. Как-то заходил, случайно увидел.
— И что?
— Ноль внимания. Ничего не сказал.
— Ага, ничего не сказал. А подумать — подумал: зачем‚ мол, человеку Библия, может, верующий?
— Не пойму, куда вы клоните. — Лукич снова засуетился, полез в карман за спичками. — Намекаете, что лишняя она мне?
— Ну, знаете, — уперся в доцента тяжелым взглядом полковник. — Это, знаете... И, задохнувшись, схватился за сердце.
— Иваныч, — сказал Лукич. — Ты-то что страдаешь? Нужна тебе книга? На, бери. Дарю.
— Ну, дошло-таки! — Игорь Павлович шумно вздохнул и помахал на себя платком. — Продашь?
Свинарь в тоскливом ожидании посмотрел на Ивана Ивановича. Тот, не поднимая взгляда, катал на столе хлебные шарики.
— Говори цену, — торопил доцент.
— Память же, — колебался Лукич, жалко улыбаясь Володе.
— Хорошо. — Игорь Павлович встал. — Если память — не надо.
И Лукич сдался.
— Ну, ладно, чего уж там, — пробормотал он. — Все одно к одному... Только ежели б не гроза... Да уж чего там! Пятерку — и дело с концом.
В чем ином, а в скупости Игоря Павловича обвинить нельзя было. Достал бумажник, шмякнул на ладонь Лукича две красненьких — знай, мол, наших. Свинарь тут же, накинув пальтишко, не мешкая, поспешил за дверь. А Игорь Павлович спрятал Библию в рюкзак, крепко затянул шнурок на его горловине и довольно потер ладони.
Он был большой знаток и любитель старинных книг.
Ночью ему приснилось, что столь счастливо приобретенная им Библия превратилась в красивую дородную женщину в черном платке и с тугими красными щеками. Он гулял с нею по городу и почтительно называл Библией Ивановной.
Володя с треском проваливался на экзаменах и тихонько постанывал во сне.
Опохмелившемуся Лукичу причудился хряк Гавриил, прошлым летом покусавший его. Этой ночью хряк был миролюбив и ласков. Жестким щетинистым боком он терся о ноги свинаря и блаженно всхрюкивал.
Ивану Ивановичу, как всегда, снилась война. Его, тяжело раненного, тащил на шинели по заснеженному полю незнакомый, наверное из соседнего полка, солдат. Вдруг солдат дернулся и затих, между лопатками у него парком взошла кровь: разрывная пуля разворотила ему шею ниже затылка.
Полковник проснулся от того, что ощутил на лице слезы, и долго потом не мог уснуть снова.
Утром приехал и разыскал их институтский шофер Васек. Гроза застала его где-то в середине пути, он ночевал в машине, а на рассвете был вызволен из сугробного плена бульдозером, высланным дорожниками для расчистки снежных заносов.
И, как говорится, наступил миг прощания. Лукич, конфузливо покряхтывая, вынес на крыльцо рюкзаки и обошел компанию, пожимая отъезжавшим руки и бормоча что-то. Володя разобрал всего три слова: «гроза», «не обессудьте» и «бывает». Легонько встряхивая руку доцента, свинарь отчаянно попросил его о чем-то глазами, на что Игорь Павлович ответил взглядом, скользнувшим сторону, но достаточно непреклонным.
Погрузились. Поехали. Володя обернулся к заднему оконцу: Лукич, без пальто, растрепанный и одутловатый, стоял на крыльце и махал им вслед.
— Странный мужик, — сказал Игорь Павлович, снимая с запотевшей головы пыжиковую шапку и аккуратно устраивая ее на коленях. — Представляете, просил вернуть ему книгу. Как будто вчера я силой взял ее у него. Или хитрым обманом…
Иван Иванович промолчал, хотя именно к нему, вернее, к его затылку обращался доцент. Полковник сидел рядом с Васьком и не видел зятя, но ощущал его всем своим стареющим, зябнувшим телом — словно в нетопленной комнате ступал босыми ногами по худому полу, из щелей которого дуло.
Он ежился, запахивал на коленях полы полушубка иснова — в который раз! — старался разобраться в своих чувствах к зятю. Был ли он, Иван Иванович, всегда справедлив к нему не по мелочам, а по крупному счету? И где кончаются мелочи и начинается крупный счет? Да, Игорь Павлович — человек напористый, пробивной, как теперь говорят, умеет, коль речь пойдет о житейских делах и нуждах, созвониться с кем надо, достать что надо, устроить, организовать. То есть умеет жить — не в очень-то возвышенном смысле этого слова. Но разве не объяснимо такое отношение к жизни при нынешнем всеобщем стремлении к благополучию и комфорту? Его, видите ли, коробит при одном взгляде на унты, подаренные Игорю Павловичу коллегами (за что такие подарки?) в Красноярске, на какой-то там научной конференции. Ему не понравилась проведенная нынче «операция» с Библией. Но разве все это дает право забывать о более существенном, может быть, главном? Что зять его, сирота, детдомовец, в свои тридцать пять стал кандидатом наук, доцентом. Что он на руках носит свою жену — его, полковника, родную дочь, и она — да, он знает это — любит и ценит своего мужа. Что Игорь Павлович состоит чуть ли не домашним учителем при Володе — парне, надо прямо признать, с ленцой, придурью и способностей отнюдь не выдающихся...
А Володя искоса посматривал на Игоря Павловича и мучился запоздалым раскаянием. Час назад, перед отъездом, улучив минуту, когда в избе никого не было, он развязал рюкзак доцента, вытащил Библию и, шмыгнув в боковушку, сунул том под одеяло Лукичовой постели. Теперь Володя сам себе удивлялся, как он мог сделать такое, казнился и мучился, ожидая, что Игорь Павлович вот-вот обнаружит пропажу.
Ожидание становилось невыносимым, и студент почти обрадовался, когда сверкнула в нем показавшаяся спасительной мысль — признаться во всем самому. Собравшись с духом, он тронул доцента за рукав.
— И-горь Па-павлович... — Володя говорил, заикаясь. — А ведь я... я...
Больше Володя не сказал ни слова. Да слова и не нужны были — сработала интуиция: Игорь Павлович сначала покраснел, потом побледнел. Вскинув на колени рюкзак, с испугом и удивлением ощупал его, охлопал, сунул руку в нутро и, не вынув ее оттуда, тонко вскрикнул: — Да как ты смел?
— Бес попутал, — испуганно улыбнулся Володя. — Сам не знаю, как получилось, пушкин-батюшкин...
— Васек, назад! — скомандовал доцент.
— Вперед, только вперед! — негромко сказал Иван Иванович, и в зеркале над лобовым стеклом Володя увидел его вздрагивающие не то в гневе, не то в улыбке губы.
— А я говорю — назад! — взвизгнул Игорь Павлович. — В институтской машине распоряжаюсь я!
Васек чуть притормозил.
— Вперед! — теперь уже угрюмо, сжимая в прямую линию губы, повторил полковник. — Только вперед! Призываю!
— Он приказывает! — доцент задохнулся от возмущения. — Мало вам было в армии приказывать. Двадцать лет приказывали!..
— Давай, Васек, жми! — жестко сказал полковник.
И Васек, виновато оглядываясь на доцента, дал газу и погнал машину так шибко, что она враз натужно задрожала и мелко задребезжала стеклами.
— Ах, вот вы как! — надрывно выкрикнул Игорь Павлович, и Володе показалось, что доцент сейчас заплачет. — Теперь я знаю, как вы ко мне относитесь, Иван Иванович! Я это всегда чувствовал, а теперь знаю точно. Вы не хотели, чтобы Любаша выходила за меня замуж. Вы настояли, чтобы мы жили отдельно от вас. Вы тайно настраиваете ее против меня... Но за что? За что?..
Игорь Павлович начал икать и истерично похохатывать.
— Остановись, Васек, — страдальчески морщась, скал полковник.
Вышли из машины и стали на дороге, думая каждый о своем. Полковник уже ругал себя, что не позволил зятю вернуться за Библией. Доцент, весь еще во власти обиды, мысленно клялся, что ни на какие рыбалки он с тестем больше не поедет и вообще порвет с ним всякие отношения. Володя думал о том, как он будет сдавать сегодня экзамен злому, расстроенному Игорю Павловичу.
После вчерашней грозы день занимался на редкость погожий. Правильно предсказал Игорь Павлович... Синело небо, сверкали корой и снегом придорожные березы, с куста на куст перелетали и посвистывали умиротворенно красногрудые снегири.
После грозы, как это всегда бывает, покой опустился на землю...
Вёдра
Над асфальтом колыхалось зыбкое марево. Быстрая езда не спасала от полуденного зноя. Петр Ильич искоса взглянул на спидометр — стрелка дрожала на цифре 90 — и резко погасил скорость. Было невмоготу сидеть в раскаленном «Запорожце», держать в мокрых руках баранку, чувствуя, как она будто подтаивает под ладонями.
Его жена — маленькая, черноволосая, с темными, затаенно-печальными глазами — сказала:
— Потерпи немножко. Поворот будет на сто десятом километре. Так мне объяснили в редакции. Деревня называется... — Она достала из сумки блокнот: — Все забываю... Ага, вот — Перекатилово.
— Дурацкое название, — пробормотал он сквозь зубы. — В следующий раз пусть тебя везет редакционный шофер, с меня хватит.
— Но ведь ты сам вызвался отвезти меня, — сказала она миролюбиво.
Она хорошо переносила поездку. И, судя по всему, даже наслаждалась сухим жаром тесного жестяного короба. Так любят тепло люди, которым приходилось много мерзнуть когда-то. Он взглянул на нее, и нежность прилила к сердцу. Лариса была намного моложе его.
Наконец показался столб с указателем — «Перекатилово. 2 км». В клубах пыли машина-крохотуля с буквой «Р» на ветровом стекле (Осторожно! Ручное управление!) бойко покатилась по проселку. Петр Ильич начал поквохтывать, постанывать от нетерпения, заметив у крайней избы желтый сруб колодца.
— Ох, и попьем! Ох, и попьем! — бормотал он, останавливая машину. Неловко, как полено, высунул из дверцы ногу. Жена хотела помочь, но он, сердясь, отстранил ее руку: — Сам я, сам!.. Ты лучше ведро опусти. Да скорее!.. Ох, не могу!
— Вот и попили, — огорченно сказала Лариса, поднимая над валиком конец гремучей железной цепи.
Но в это время из-за угла избы показалась женщина с ведром. Наверное, она поняла настроение Петра Ильнча, его досаду, потому что еще издалека крикнула:
— Напою, напою родненького!
Подошла, скользя по ним невнимательным взглядом — благожелательным и в то же время холодноватым. Была она еще молода, с крепкими босыми ногами, в цветастой ситцевой кофте с расстегнутыми верхними пуговицами.
— Здравствуйте, люди добрые!
Женщина прикрепила ведро к цепи. Затарахтел, заскрипел валик. Из деревянной трубы колодца донесся слабый всплеск, потом короткий захлебывающийся звук — ведро наполнилось водой. Молодуха, расставив ноги, принялась крутить ручку валика.
Петр Ильич, не желая того, увидел, как у женщины, наклонившейся над валиком, поползли под кофточкой полные груди, Он быстро отвел глаза, но молодуха, наверное, все-таки уловила его взгляд. Поджав губы, она улыбнулась с жалостью к Петру Ильичу: она успела уже заметить его негнущуюся ногу.
— На войне? — женщина коротко кивнула на неестественно высокий, сделанный в протезной мастерской левый ботинок Петра Ильича.
— А то где же? — ответил Петр Ильич, на мгновение смутившись.
— Ну, ничего, главное — голова цела. — Напружинясь широким телом, женщина ухватилась за дужку ведра, приподнимая его над срубом. — У меня, между прочим, мужик тоже пострадал на войне... безногий. — Она поставила ведро на край сруба: — Пейте, что ли...
— Пей, Лара, — сказал Петр Ильич и не выдержал — первым жадно припал к воде.
Женщина, придерживая и наклоняя ведро, смотрела на лысеющую голову Петра Ильича, то на маленькую тоненькую Ларису, гадая, кем она доводится этому пожилому грузноватому дядьке.
А Лариса уставилась на ведро, из которого звучно, большими глотками, роняя капли, пил и пил Петр Ильич. Лицо ее было сосредоточенным и даже будто чуточку испуганным.
— Постой, Петр, — она мягко отстранила мужа. — Дай посмотреть. — Голос ее задрожал: — Видишь это?
— Что?
— Да на ведре же. Вот здесь, ниже обода.
— Ну, звездочка нарисована, а под нею буква, похоже, «пэ» расписано в три цвета — белый, красный и желый... Красивое, — похвалил Петр Ильич и обернулея к женщине.
— Понравилось? — Женщина усмехнулась. — А ведь и то правда — красивое. Мой мужик за ним, как за золотым, ухаживает. Чуть где краска отколупнется или пожухнет — кистью его... Дно прохудилось, так он новое ставил... Память это для него, с войны привез... Он точно такие ведра всей деревне сделал. Но не подумайте, что из-за корысти... — Она снова усмехнулась, холодновато и снисходительно: — Чудак он у меня…
— А мы ведь, кажется, к нему и приехали, — сказала Лариса. — Козлов его фамилия?
— Точно, Козлов. — Удивление мелькнуло в неподвижном взгляде женщины. — Вы откуда знаете?
Удивлялся, глядя на жену, и Петр Ильич, когда она, побледнев от волнения, сбивчиво принялась объяснять, что работает корреспондентом в областном радиокомитете, что послана сюда самим редактором сделать радиоочерк о деревенском умельце Козлове и его ведрах...
— Так, так, — кивала женщина. — Значит, о мужике моем?.. Ну что же, вон изба наша, в двух шагах. Будем знакомы, меня Натальей зовут... Он сейчас дома. Милости просим.
Легко взяла ведро и, не оглядываясь, пошла через дорогу. Лариса рывком выдернула из машины магнитофон, нервно улыбаясь, покусывая губы, шагнула вслед. Петр Ильич помедлил, хотел было закапризничать, крикнуть жене вдогонку, что подождет здесь, у колодца, но вдруг ощутил непонятное беспокойство и, ворча уже только по привычке, формы ради, заковылял за женщинами.
Была поздняя осень 1944 года. Молодой солдат Родион Козлов вышел за госпитальные вофота и остановился, опершись на костыли, с тем сложным чувством радости и тревоги, какое бывает у человека, когда кончается одна полоса жизни и начинается другая, неизведанная. Впрочем, радости у солдата было мало. Чему радоваться? Ногу-то отрезали! Конечно, тысячи и тысячи людей вовсе сгинули, да разве утешение это, когда в свои неполных двадцать три года на всю жизнь остаешься калекой?
Тревожила Родиона и предстоящая встреча с родственниками (очень дальними, седьмая вода на киселе), в деревню к которым он собрался ехать на постоянное жительство. По существу, чужие люди, они, конечно, приютят его по первому доброму побуждению. А надолго ль хватит этой доброты и как повернутся его дела дальше — все это неопределенно, темно.
А что радовало его сейчас, у госпитальных ворот, — так это ядреный, с легким морозцем воздух, куда как веселый и полезный после больничной лекарственной затхлости; возможность независимо, пусть на костыльках, двинуться по улице, видеть вместо тусклых коридорных стен деревья, заборы, дома, вместо раненых солдат — молодых женщин, которые не сестрички, не нянечки, не врачи, а потому таинственны и интересны.
Однако о женщинах он подумал мельком, без скрытой мужской мысли, и не потому, что видел их перед глазами — женщин на улице не было. Не было и мужчин. И детишки не бегали. Улица лежала перед ним холодная и пустынная. По обеим сторонам булыжной, в рытвинах, мостовой торчали кирпичные коробки обгоревших домов да печные трубы, оставшиеся от деревянных построек. Сколько ни вглядывался Родион, нигде не было ни души.
У кого же спросить, где рынок? Еще задолго перед выпиской нянчил Родион мечту пойти на базар и купить стакан самосада: соскучился он по настоящему табачку, пробавляясь госпитальным довольствием — какой-то коричневатой, правда, душистой, но без забористой крепости травкой.
Вид печных труб раздражал. Родион свернул в переулок, миновал его и неожиданно выскочил на прямую и широкую, видимо, центральную в городе улицу. Разрушенные дома стояли здесь вперемежку с целыми, и попадались прохожие. Старая женщина в ватнике, густо припорошенном не то мелом, не то известкой, объяснила ему, как пройти на рынок. Разглядывая костыли, жалостиво покачивая головой, она завела было утешительый разговор. Но враз поугрюмевший Родион круто повернулся и запрыгал прочь по возможности быстро и ловко, давая понять, что он, пусть и на одной ноге, молодец молодцом и в жалости не нуждается.
Трудно было признать рынок в унылом пустыре, что открывался за полуразрушенным вокзалом. На пустыре чернели два грязных стола, грубо сколоченных из неоструганных досок. Молча, нахохлившись, стояли за столами продавцы, так же молча, с угрюминкой передвигались вдоль столов покупатели.
Продавали разную ветошь, матерчатую и металлическую: засаленные телогрейки, латаные штаны, замызганные кепки, позеленевшие от окиси, скособоченные примусы, ржавые гвозди. В съестном ряду на столе лежали лепешки цвета засохшей замазки, холодные картофельные блины, куски ржаного хлеба, соленые огурцы и тощие луковицы. Можно было купить горсть пшенной крупы и кружку водянистого киселя из клюквенного концентрата. Одна бабка продавала даже яйцо. Единственное на рынке. Оно было бережно уложено в подобие гнезда, свитого из сена. Кто-то из покупателей сказал владелице яйца: «Снеслась-таки». Кругом невесело засмеялись.
А табачок был на выбор. Его продавали три мужика. Небритые, с сизыми от холода носами, они стояли рядком со своими торбочками и как по команде уставились на Родиона, почуяв в нем настоящего покупателя. Стаканы у всех троих были на редкость крохотные (и где только отыскали такие?), с надтреснутыми краями, забинтованные, видно для крепости, серой изоляционной лентой. Родион вытащил из кармана газетный клок, потянулся к торбочке взять щепоть и закурить на пробу, но хозяин отвел его руку. Пробовать не разрешалось. Родион переходил от мешочка к мешочку, нюхал, наклоняясь, табачное крошево, оценивал его на цвет и запах, а когда это занятие надоело, купил по стакану из всех трех торбочек, благо все три продавца просили за стакан курева одну цену — червонец.
Он тут же торопливо закурил, затянулся до головокружения и, отойдя в сторонку, пересчитал деньги. Оставалось сто десять рублей. И были они и его, и как бы уже не его, потому что решил Родион потратить их на подарки, без которых, конечно, в деревню нельзя было и показываться. Вернее, подарки для мужиков уже лежали в его вещмешке, и теперь оставалось купить что-нибудь женское, для баб и девок, — гребенку какую, брошку, платок, что ли...
За углом, в сквере, присел на скамейку, почувствовав усталость. Вроде бы шел не спеша, а поди ж ты — пот на лбу выступил, хотя холод набирал к вечеру злобу и жестким ветерком неуютно тянуло с севера.
Родион, не вставая, содрал со спины вещмешок, достал часы-луковицу. Они бойко тикали и показывали четверть пятого. До отхода нужного ему руднянского поезда оставалось еще около двух часов. «Магазин бы какой найти», — подумал он и осмотрелся. Чуть поодаль, под старыми липами, стояли несколько женщин с ведрами у ног. За водой пришли, что ли? Однако водопроводной колонки не видно было. И Родион догадался: в сквере было продолжение базара, так сказать, ведерный ряд его.
«Ну и ну!» — хмыкнул он, дивясь на ведра. Делали их, судя по виду, надомно, кустарным способом, из первого попавшегося материала. Были тут ведра жестяные, латунные, алюминиевые и даже деревянные — скрепленные обручами бадейки. Цилиндрические или воронкообразные, все они были или кривобоки, или с вмятинами, а то и с неровными, зазубренными ободами.
Ничего, кроме печали, не вызывало в душе Родиона созерцание этих неказистых, военного образца ведер. Он уже приладил было под мышки костыли, чтобы уйти из сквера, как вдруг увидел ведро, которое было словно пава среди ворон. Неведомый искусник не только надраил до блеска дужку и придал ведряному тулову соразмерную форму, но и покрасил его масляной краской, опоясав тремя широкими полосами — красной, белой и желтой. Под ободом была нарисована звездочка, чуть иже — буква «пэ», видно, первая буква слова «победа».
— Ай да ведро! — не удержался Родион.
— А ты, солдат, купи, — поймала его на слове подслеповатая бабка в рыжем плаще и мужском треухе.
— Сама, что ли, делаешь?
— Не, девчонки одной... Куда она подевалась? — Баба прищурилась, сморщив и без того морщинистое, похожее на шляпку гриба сморчка лицо, потом глянула из-под руки: — Да вон она, на углу околачивается, будто и не ее товар вовсе... Стесняется. Да и то сказать, мала еще для торгового дела... Позвать, что ли?
Родион хотел объяснить, что ведро ему ни к чему, пусть и красивое, но бабка уже взывала хрипловатым на холодном: ветру голосом: — Эй, Лариска, айда к покупателю!
Девочка несмело приблизилась, застеснявшись, сунула в рот палец. Была она и в самом деле мала для торговли — годков шесть-семь, не больше.
— Да ты не бойся, глупая, — сказала бабка. — Солдат тебя не обидит. Он тебя от немца ослобонил, а теперь, может, ведро твое купит, если попросишь... Ну скажи солдату: дяденька солдат, купи у меня ведро.
— Купи у меня ведро, — повторила девочка и улыбнулась широким ртом, показав мелкие редкие зубы.
Была она некрасива, но по-детски мила: скуластенькая, курносая, с темными затаенно-печальными глазами. Из-под белой тряпицы, повязанной на голове шалашиком, с кончиками под подбородком, выбивались на узкий лобик черные и блестящие волосы. На девочке был рваный хлопчатобумажный пиджак, полы которого доставали до колен, а на голых ногах не то тапочки, не то чуни, сшитые из суконных лоскутьев.
— Это как же? — Родион зябко поежился. — Осень ведь... Хоть бы чулки какие надела... Ты с кем живешь? Мама есть?
— Не.
— Небойкая она, несмышленая, — вздохнула бабка. — Вишь, занекала. Теперь от нее ничего не добьешься... Да и чего добиваться? Я эту девочку давно знаю. С дедом проживает. Дед ведра мастерит, она на базар носит. Тем и кормятся... Худо ей, конечно, но не так чтобы очень. Как всем. Правда, в землянке ютятся, а все ж крыша над головой. Дед строг, но не бет ее... Правильно я говорю? — как глухой, крикнула старуха девочке. — Бьет тебя дед?
— Не.
Лариска подошла поближе и осторожно потрогала Родионовы костыли:
— Красивые.
— Ну уж! — через силу усмехнулся он. — Лучше б их у меня не было. А вот ведро у тебя и в самом деле красивое. Как радуга, сверкает. Дед у тебя, поди, веселый, раз такие ведра мастерит. Песни, поди, поет, когда работает?
— Не, — снова заулыбалась Лариска. — Ему нельзя песни петь, он молотком стучит... Возьмет железину и бухает... Я спать лягу, а он — бух, бух!..
— Ты ей погромче, солдат, — сказала бабушка, — глохнет она от грохота дедова.
Родион резко отвернулся, хотел скрыть слезы, которые вырвались на волю. Крепко зажмурившись, ничего не видя, дрожащей рукой выцарапал из кармана деньги, все, что там были, и начал совать хрустящий комок куда-то под лацкан Ларискиного пиджака, под мышку ей.
Старуха, ничуть не удивившаяся ни слезам солдата, ни его внезапной щедрости, слегка толкнула опешившую Лариску в затылок:
— Ну что рот разинула? Бери, солдат у тебя ведро покупает.
Потом, в ожидании поезда, он мыкался на станции, то заходя в полуразрушенный вокзал, то снова выковыливая на платформу. И все время его томило желание достать из кармана гимнастерки завернутое в носовой платок письмо, полученное два месяца назад, в госпитале. Он и боялся этого письма, и тянуло оно к себе. В поезде он все же достал его. Сидевшие рядом пассажиры дивились, как это солдат умудряется читать в таком сумраке, при дрожащем полусвете качавшейся под потолком склянки с двумя красными ниточками внутри. Но ему и не нужен был свет. Он давно уже знал письмо на память. Ему надо было только держать его в руках, видеть бледное пятно тетрадочного листка, а уж губы сами собой шептали слова:
«Многоуважаемый наш сродственник, заслуженный боец Красной Армии, тяжело раненный Родион Романоич, — писали ему односельчане. — Во первых строках нашего письма сообщаем, что мы живы, здоровы, чего и вам желаем. С нетерпением ждем вашего излечения в госпитале и скорейшего возвращения домой, хотя вы можете очень просто и не признать родной своей деревни, до того наизмывался над ней фашистский немец, разрушив хаты и поубивав многих жителей. Что касаемо супруги вашей Нины Федоровны, то погибла она в известной вам деревне Коники, где спасалась от войны у своих родителев с дочкой Верой Родионовной. Умерли они вместях и в одночасье, когда произошло прямое попадание тяжелого фашистского снаряда, а может, даже самолетной бомбы в крышу родителева дома. Останки их похоронены на тоже известном вам кладбище у вышеуказанй деревни Коники со всеми присталыми для семьи героя-фронтовика почестями.
Горе ваше разделяем целиком и полностью и скорбим, что вы таки не увидели и тем более не понянчили собственноручно свою дочку Веру Родионовну, которая родилась вскорости после вашего ухода на защиту любимой Родины. В день смерти исполнилось ей ровно два годика, увидели — порадовались бы на ее красоту: волосики имела черные, глаза темные, лицо круглое — все в точности, как у вас и у супруги вашей, ныне покойной Нины Федоровны...
А об вашей матери Дарье Ульяновне отпишем так: умерла она, когда война уже в силе была, осенью сорок первого, и тоже, почитай, от проклятого фашиста, а вернее‚ с голодухи, потому как по доброте своей последнее людям отдавала...
Вечная им память, — заканчивалось письмо, — а вы, Родион Романович, не убивайтесь больно, просим с полным нашим единодушием, потому как вы еще молодой и вам еще жить и жить, хотя и безногому...»
— Я не одна, — громко сказала Наталья, входя в горницу, где сидел за столом, читая газету, худой мужчина лет пятидесяти в мятой ситцевой рубахе. Через плечо кивнула на топтавшихся у порога Ларису и Петра Ильнича: — Гости к тебе, из города. Ведрами твоими интересуются.
Опершись руками о столешницу, мужчина проворно поднялся, поискал что-то глазами и, не найдя, снова сел. Костыли стояли у него за спиной, прислоненные к шкафу. И, увидев их, Лариса сразу поверила, что перед нею тот самый — из детства — солдат, и тут же узнала его не столько памятью, сколько сердцем.
Они оба хорошо запомнили тот день. Лариса — за редкостную удачу да липучую конфетину, которую подала ей базарная торговка, предварительно вытащив из крепко сжатого Ларискиного кулачка пятерку, за польстившее ей любопытство обычно неразговорчивого, угрюмого деда, долго потом расспрашивавшего о щедром солдате. А Родион — потому, что в тот день он впервые за всю войну заплакал. После письма, полученного в госпитале, он как бы заледенел, а тут оттаял, снова жить захотелось.
С гулко застучавшим сердцем Лариса разглядывала Родиона. Какое-то сложное чувство помешало ей тотчас, с порога, поставить все на свои места, напомнить инвалиду о давней встрече. Она лишь прерывисто вздохнула и, поспешив подавить вздох, сказала почти бесстрастно, по-привычному официальным тоном:
— Я из областного радио. Сейчас мы готовим серию передач о народных умельцах. И если ваши ведра покажутся мне любопытными...
— Да вы заходите, садитесь! — прервал ее Родион, снова ища взглядом костыли.
— Бога ради, не беспокойтесь, — подал голос Петр Ильич. Деревенская вода из колодца сделала его баритон красивым и звучным. Он недовольно покосился на Ларису: — Жена не представила меня, но я думаю… —Выставив слегка ногу, он нарочито громко заскрипел
протезом. —Я думаю, что фронтовики найдут общий язык.
Лариса покраснела. Ее всегда раздражала привычка мужа говорить, знакомясь, напыщенно и велеречиво. Но Родион, видимо, не обратил на это внимания и с мгновенно просветлевшим лицом быстро спросил:
— На каком?
— На Третьем Белорусском, — так же быстро отвечалПетр Ильич.
— Ну, завелись фронтовички, — усмехнулась Наталья. — Вы вот сюда садитесь. — Она легонько подтолкнула Ларису к дивану. — Здесь вам удобно будет... А я сейчас яблок принесу.
Впрочем, если бы хозяйка захотела, она могла бы нарвать яблок, не выходя из дома: стоило лишь протянутьруку к открытому окну, над которым свисала тяжелаяветвь с крупными матово-белыми плодами. Деревья под ступали к окнам так близко, что застили свет. На дворежгло в своем полуденном неистовстве солнце, а в горнице было чуть сумрачно и прохладно, солнечные зайчики на полу перемежались с зеленоватыми тенями.
Лариса откинулась на спинку дивана, сложила руки на коленях. Чувство душевного уюта, умиротворяющего покоя было внезапным и сильным. И вместе с тем каким-то привычным. Будто она сидела в этой комнате, на этомдиване уже много раз. И будто не расставалась с Родионом.. Словно только вчера он ковылял по ведерному ряду,расспрашивал Лариску, отворачивая мокрое от слез лицо, про деда и совал ей под пиджак смятые в комок деньги. На-висках, правда, паутинки мелких морщин, носмуглые впалые щеки крепки и гладки, в черном густом чубе — ни сединки...
Она вдруг поняла, почему не сказала и не скажет Родиону о той давней встрече. Скажи — пришлось бы рассказать и о том, что было с нею дальше: о сиротстве и одиночестве после смерти деда, скоропалительном замужестве — бегство все от того же одиночества. Оно как пристало к ней в детстве, так будто никогда и не оставляло... К Петру Ильичу она скоро привыкла, заботилась о нем, жалела, а вот детей у них не было. И не исчезало чувство одиночества... Она когда-то училась в техникуме, получила редкую, высокоценимую специальность театрального гримера, любила театр, но почему-то работалана радио. Хотя, застенчивой и самолюбивой, ей нелегко было делать то, что положено делать радиокорреспонденту: стараться расположить к себе собеседника, соватьему под нос микрофон, лезть в самую душу, задавая вопросы.
Обо всем этом ей не хотелось рассказывать...
Вошла Наталья, дебелая, розовая от жары, с яблоками в фартуке. Опростала его на Ларисины колени. Повернулась к столу:
— Вы что, мужики, так и будете все про войну? Аж в ушах вязнет, ей-бо... К тебе, Родька, корреспондентша зачем приехала?
— Да я же про ведра уже, — улыбнулся Родион. — Про то, как встретил на базаре девчонку... Только товарищ корреспондент не слушает...
— Давай, друг, давай, мы тебя слушаем, — бодро сказал Петр Ильич. — Так, значит, это она тебя надоумила, мысль подала?
— Выходит, она. Потому что не успел я в деревне и дня прожить, как прибежала ко мне соседка ведро просить. У людей их совсем не было, пользовались чем попало: банками консервными, солдатскими котелками, бутылками, гильзами от снарядов... А надо вам сказать, что в райцентре повстречался мне школьный мой приятель Степа Кухарков. Зубоскал, каких мало. Заглянул в ведро, говорит: «А я думал, спирт везешь возвращение праздновать». Я, понятно, жаловаться стал на судьбу-злодейку, а он предложил: «Давай к нам. Оформляю по высшему разряду...» Он тогда бытмастерской заведовал, еще в сорок третьем стал инвалидом, фрицев подарочек получил. Трудились под его началом такие же инвалиды, как я, чинили разоренному населению примуса, кастрюли лудили, даже свою продукцию кое-какую выпускали: кочережки там всякие, миски жестяные...
Думал я, сидя у себя в деревне, в землянке, где меня приютили родственники. Думал, как жить дальше. Сижу, сижу, потом подхвачусь, как в угаре, костыли под мышки—и на кладбище. Сперва на наше, перекатиловское, где мама схоронена, потом — в Коники, за три версты. Тоска меня ела. Но опять меня та девчонка спасала. Закрою глаза — стоит передо мной в своем пиджаке, с ногами сизыми. А что, если помощь ей какая понадобится? Не сейчас, а когда-нибудь... И позовет, а меня в живых нету?..
— Ну и ладно, — прервал себя Родион. — Что было, то было... Оклемался я помаленьку, и мысли снова к ведрам повернулись. Тем более что бабы деревенские ко мне друг за дружкой — дай, Родька, ведро. И однажды я решился, выпросил у бригадира лошадку с санями (к тому времени снег лег) и подался в райцентр. К Степе на великий поклон. Дай ты мне, говорюему, коли друг, железа листового тонкого, да побольше, а к нему инструмент нужный, поеду к себе в Перекатилово и буду ведра наделать. «Хочешь покончить с безведерностью?» — смеется. И определили меня как бы надомником. Железного листа отпустил мне не ахти какого — с горелых крыш содранного, но и на том спасибо...Инструмент честь по чести выдал: тиски, ножницы, рашпиль, молоток, валики деревянные. Трудно было краски выпросить, но и красок дал. Трех цветов — красную, желтую и белую... Я так рассудил: уж если делать ведра, то такие, чтобы от одного вида их сердце радовалось. Вот и смастерил я первое ведро по образу и подобию того, что из города привез. Долго, помню, над ним корпел. Ведерко, правда, училось кривоватое и протекало маленько, но таким веселым, таким ярким было — в темной землянке само собой светилось.
Ликует моя душа. Верчу я, стучу пальцем по донышку, краску нюхаю, а сам до ушей улыбаюсь. Забыл в ту минуту про свое калечество, вот-вот в пляс пущусь. Потом взял ведро и пошел к соседям: «На-кось, Катя, подачек...» То-то радости было. Облепили меня детишки, галдят, смеются... Особенно вот она радовалась... Наталья моя... — Родион кивнул на жену.
— Позволь, друг... — не понял Петр Ильич.
— Не врет, не врет, — засмеялась Наталья. — Было такое, было... Он, поди, не без умысла мамке ведро подарил. Ну, а потом не знаю, что у них там разладилось, решил, видно, Родион Романович подождать, когда дочка подрастет.
— Будете или нет про ведра слушать? — попыталсяхмуриться Родион. — Значит, так, товарищ корреспондент: стал я те ведра делать по два в день. Приготовлю партию и несу раздавать. Скоро в каждой семье по ведру моему было. Потом начали из других деревень приходить... Раньше свет белый черным казался, а тут каждый день песней встречаю. Или насвистываю тихонько сквозь зубы... С нами старик жил — не то двоюродный, не то троюродный дед мой, Пахомыч, так он все удивлялся: веселый, мол, инвалид пошел ноне... А я, бывало, выйду из землянки, сяду на лавочке и с судьбой-долей беседу веду: мол, хотела ты меня всего в жизни лишить, а я вот, смотри, назло тебе живу да еще другим людям радость приношу, даром что калека безногий... И вошло у меня в привычку ведра мастерить. Времена, конечно, год от года к лучшему менялись, ведер в магазинах стало бери, не хочу, а я приду домой из колхозной конторы, где счетоводом работал, костяшками стучал, — молоток в руки и по железу стучу. Уже для собственной утехи. Фокусничать принялся, норовлю ведерко позаковыристей изготовить, подиковинней, с украшениями разными... Сделаю ведро и сижу над ним, как зачарованный, ладонями оглаживаю, оторваться не могу...
— В культ, значит, ведра возвел? — спросил Петр Ильич, жуя яблоко.
— Выходит, в культ. Да они и стоят того.
— Ну, не скажи, друг. — Петру Ильичу, видно, скучно стало, он зевнул, вежливо прикрыв ладонью рот. — Ведро, оно и есть ведро. Так сказать, металл неодушевленный,
— Неправда! — Родион обиделся. — Ведро — важная для жизни вещь. Со смыслом большим. Вы думаете, зря все приметы эти: с полным женщина дорогу перешла — к счастью, с пустым — к неудаче. И заметьте — женщина. А она кто? Хранительница всего сущего, без нее ничего бы не было — ни человека, ни земли, ни неба, ни звезд на нем. Пустота была бы вокруг черная, немота... А что вы слышите, когда темная ночь отступает, светлый день занимается? Ведро позвякивает — это женщина за водой идет. А без воды — ни супа в горшке, ни каши в котелке... А пожар если, кто нам помощник первый? Опять же ведро с водой...
— Убедил!— засмеялся Петр Ильич, поднимая руки. — Сдаюсь — и да здравствуют ведра!
— А девчонку ту я вовек не забуду, — сказал Родион. —Я ей всем обязан. Не знаю, где она сейчас, что с ней. Но если встречу когда — до земли поклонюсь.
— Ладно, друг, ладно, — заторопился Петр Ильич, вставая. — Веди показывать свои ведра, и поедем мы: дорога у нас дальняя...
День истекал. Уже не колыхалось над асфальтом марево. Спала жара, ветерок обдувал машину, шевелил редкие волосы на голове водителя. Петр Ильич наслаждался прохладой. Покручивал баранку, напевал сквозь зубы и поглядывал искоса на Ларису. Он удивлялся: сидит ну прямо именинницей, лицо счастливое, сияют глаза...
— Сегодня я узнала кое-что о себе.
— Что именно?
— Очень важное. Что я недаром жила на свете.
Он смотрел на нее, не понимая.
— Ты знаешь, — сказала Лариса, — я тебе никогда не рассказывала об этом... ведь девчонка,с которой встретился тогда Родион, — это я...
Добытчица
К полудню река засверкала нестерпимо. Сник ветер, в воздухе не было ни дуновения. Ни барашка, ни рябинки не виднелось на водной глади. По песчаному руслу под жарким солнцем река катилась расплавленным золотом‚ ослепляя Дормедонту.
Она вытерла слезы и взглянула из-под руки вниз по течению, на запад. Там, над заливными лугами, вставали сиреневые испарения. Туча рождалась прямо на глазах, уплотнялась, набухая влагой, и вскоре едва заметно обозначились ее края — сумрачно-белесые окантовины, взявшие в кольцо густо-синюю сердцевину.
Клев прекратился еще с час назад и, по бабкиным расчетам, мог возобновиться только к вечеру, когда дождь остудит речную воду и рыбе станет легче дышать. Самое сподручное было сейчас идти домой и отдохнуть в холодке, в сарайчике, где на лето поселилась бабка...
С сарайчиком этим целая история. Уж как не хотели пускать ее туда падчерица с зятем: мол, получается перед людьми, будто выгнали старуху из избы. Но Дормедонта настояла на своем; поднималась она на рыбалку свет ни заря и не хотела никого беспокоить своими ранними сборами.
В сарайчике, кроме бабки, жили еще две курицы да петух. Куры, как им и полагалось, были смиренны, а петух‚ по-молодому беспокойный, голосил всю ночь сиплым, сорванным тенором. Однако бабка ухитрялась не просыпаться до тех пор, пока петух не играл побудку ей лично — в тот хмурый рассветный час, когда приспевала Дормедонте пора поднимать с жесткого лежака свои старые кости и отправляться на рыбалку.
И был еще в сарае зятев мотоцикл — одноглазый, мрачноватый, по-вороньи черный, членами тощий, но с пузом. Железяка, не в пример петуху, помалкивала, лишь слегка воняла бензином...
Но мысль о доме не воодушевила бабку, скорей, ей сделалось скучно. Для нее это был не родной дом, и жила она в нем по необходимости, не хозяйкой, а гостьей, да и то не столько любимой, сколько терпимой.
Бабка пожевала коричневыми губами и, решив коротать время у реки, принялась проверять удочки. Она снимала их с высоких рогулек, воткнутых в песок на мелководье, и осматривала, подслеповато щурясь, наживку — полосатых навозных червей с щеголеватыми поясками посередине и распаренные, разбухшие в воде пшеничные зерна. Все зерна висели на крюках нетронутые, у одного червяка был попорчен хвостик. «Пескарик баловался», — подумала Дормедонта и привычным движением пальцев сбросила калеку с крючка себе под ноги.
За поворотом встрекотнул мотор, и на плес выскочил — белый с голубым — катер. Сегодня было воскресенье, и по реке взад-вперед шныряли на разных посудинах городские. Город, стоявший на холмах в десяти верстах отсюда, вырисовывался зыбко, как непрочное видение, со своими многими церквами, златоглавым собором и тонкой телевизионной вышкой, устремленной к небу, тоже похожей на храм. Благостный вид города никак не вязался с шумливыми, горластыми людьми, наезжавшими сюда. От катеров и моторов шли и мутно наваливались на прибрежный песок грязнопенные волны. Обычно бабка ругалась, впрочем беззлобно, на бездельников, ни за что ни про что жегших керосин и пугавших рыб, но на этот раз она промолчала: рыба все одно не клевала, а шуметь без толку Дормедонта никогда не шумела.
И все же на бело-голубом катере обратили внимание на старуху. Тот, что за рулем сидел, — грузный толстяк с отвисшей по-женски грудью — заглушил мотор и что-то сказал своей спутнице. «Тьфу, срамотища!» — плюнула Дормедонта, так как спутница лежала на корме почти голая. Но плюнула бабка, опять-таки не шибко возмущаясь, без особой злобы, едино ради порядка: лежавшая раскорякой была молода, а молодежь, знала бабка, жила испокон веков по-своему, не оглядываясь на стариков.
— Наташ, глянь-ка, бабка рыбу ловит! — громко удивился толстяк.
— Бывает, Колюнчик, — лениво отозвалась спутница, не повернув головы.
— Нет, ты посмотри, что за чучело!
Бабка и к такому привыкла. Она не обиделась на толстого, потому что и сама, даже в юную пору, не считала себя красавицей. Была она нескладной, громоздко-угловатой, как и ее несуразное, совсем не бабье имя. Росту в ей было почти два метра, и состояла она будто из одних костей, небрежно собранных, тут и там выпиравших изд одежды. И одета была старуха нелепо: длиннющая, до колен, красная кофта, желтая юбка до пят, на голове не платок, а шапка из рыжего собачьего меха, сшитая еще покойным мужем.
Одним словом — Дормедонта...
— У нее клюет, — сказала женщина, не меняя позы, лишь обратив к бабке безглазое, в черных очках, лицо.
— Да где там! — хохотнул толстяк и стал объяснять, что клюнуть у бабки никак не может, потому что и дураку известно: рыба боится красного цвета и высоких предметов.
— Сам ты дурак, — равнодушно сказала бабка и уже смотрела на катер, старательно надевала на крючок свежего червяка.
Упали первые капли дождя. Бабка, кряхтя, забилась под лозовый куст и задумалась. Она размышляла о жизни и качала головой, укоряя бога, который мог бы и добрей обойтись с ней, старухою. К пятидесяти годам она овдовела по второму разу, оставшись вдвоем с падчерицей Леной. Поразмыслив, поехала в город к сыну, занимавшему видную должность в какой-то конторе, жившему в хорошей квартире и неженатому. Потом сын женился, и случилось обычное — не поладила свекровь с неветкою. Дормедонта собрала свой узелок и вернулась к падчерице. Вскоре Лена вышла замуж, и с тех пор жила бабка в доме будто и своя, но не родная. Больше всего удручало ее, что ест она чужую хлеб-соль. Сын денег не присылал, а сама она просить стеснялась, да и Лена с мужем запретили просить. По возрасту Дормедонте давно полагалась пенсия, но трудового стажа не хватало, а снова пойти работать в колхоз она уже не могла: насквозь больна была и к тому ж — калека. Еще в детстве нее заболела нога и стала в конце концов как палка — не гнулась в колене.
Лена относилась к ней по-доброму. И муж ее тоже. Ни разу не посмотрели на бабку косо, не попрекнули куском хлеба. Но Федор, как только пришел в дом, при всяком удобном случае напоминал Дормедонте, что он ее благодетель. И это было хуже, чем если бы он ругался и попрекал бабку.
Вечером, умяв щи, кашу и все прочее, что подавала Лена, Федор, довольно икая, начинал обход избы. В ней ему все очень нравилось. Останавливался у телевизора, дул, напыжив румяные щеки, на его блестящие бока, очищая от воображаемой пыли, потом ласково гладил стекло экрана и провозглашал: «Марка «Радий». Двенадцатиканальный. Экстра-класс».
Лена давно знала и марку телевизора, и сколько в нем каналов, но слушала мужа с почтительной внимательностью. Федор подходил к транзистору, стоявшему на тумбочке, и выдвигал антенну: «Включить ай нет?» — «Да не надо уж», — отвечала Лена великодушно, зная, что Федор бережет дефицитные батарейки. «Спидола». Пять диапазонов», — громогласно, на всю избу объявлял Федор и, не желая обижать транзистор, гладил его тоже. Гладил все вещи подряд: черный электрический утюг, похожий на модную остроносую туфлю; полированный сервант, набитый разнообразной посудой; металлический короб Лениной стиральной машины; мягкие стулья, обитые цветной материей; колючий, как щетка, ковер на стене...
Потом наступал миг высшего торжества. Федор таинственно кивал за окно, в сторону сарайчика, где стоял мотоцикл, изаговорщицким шепотом спрашивал: «А хошь, прокачу? С ветерком. И Дормедонту возьмем. В коляску. А?» И Лена, любительница быстрой езды, не выдерживала, откликалась с тайной надеждой: «А и правда, Федя, можно к твоему брательнику в гости скатать. Всего ведь пять километров...» И осекалась, вспомнив, что муж бережет бензин. «Ладно, как-нибудь скатаем», — неопределенно обещал Федор и неторопливо, с достоинством опускался на диван.
Дальше следовало многословное обращение к обеим женщинам — умильно поддакивавшей Лене и бесстрастно внимавшей бабке: «Оно конечно — всякая тварь живет. Живет кошка, живет и собака. Только человеку не того надобно. Ему блага нужны. Для удовлетворения растущих потребностей. А источник всех благ — что? Труд. Вот я и тружусь, не отлыниваю, кручу баранку. И людей уважу, и себя не забуду. А в итоге — двести рубликов ежемесячно. Отсюда еда добрая на столе — раз, одёжа в шкапу — два, достижения современной техники на службе трудящегося человека — три. Правду я говорю ай нет?» — «Правду-то правду, — робко откликалась Лена. — Только и я в дом приношу». — «А я что, не учитываю? Восемьдесят целковых — тоже деньги. В сумме — двести восемьдесят. Потому и не жмемся, как некоторые, и престарелых, убогих не забываем... Правильно, бабка?» — Правильно, чего уж там», — искренне отвечала бабка.
И лишь позже, устроившись на ночь в сарайчике, начинала вздыхать, ворочаться с боку на бок, печалиться своем сиротстве.
У Дормедонты не было неприязни к Федору, но постепенно она возненавидела вещи, которые густо населяли дом, почти не оставляя места для хозяев. В сущности, все вещи в ее понятии были пустозвонами, пустоплясами, и без них можно было бы обойтись. Корыто, по ее глубокому убеждению, было гораздо лучше стиральной машины: белье в нем не рвалось и стиралось чище. Утюг на угольях был ничуть не хуже электрического. И мягкие стулья — одна блажь: она привыкла сидеть на деревянных скамьях. Бабка с отвращением вздрагивала, когда по вечерам к ней в сарайчик доносились вдруг завывающие, скрежещущие звуки транзистора. «Жас, будь он неладен». Бабка поджимала губы и сплевывала в темноту, норовя попасть в мотоцикл. К этому молчаливому обитателю сарая она испытывала особую недоброжелательность, и казалось ей, что от него все сильнее и сильнее несет керосином.
Первое время старалась Дормедонта как можно больше делать по дому, но Лена довольно быстро укротила бабкину прыть. Служба у нее была спокойная (продавала книжки в сельмаге), свободного времени оставалось иного, а до работы Лена была страсть как охоча. Все кипело в ее руках. Бабка оглянуться не успеет, а падчерица уже и завтрак сготовит, и пол подметет, и воду вскипятит для стирки. Дормедонта только и слышала: «Не надо, мама, вам, больной, трудно».
Постепенно бабка стала отбиваться от дома. Зимой ходила на посиделки к соседским старухам, летом и осенью полеживала на холодной печи (готовила Лена на керосинке) или отправлялась в рощу за грибами. Но приносить в корзинке почти ничего не приносила: поблизости все было вытоптано людьми и скотиной, а разведать дальние леса калеченая нога не позволяла.
Однажды бабка приковыляла к реке, опустилась на зеленый бугорок и, завороженная бегом воды, задремала под теплым солнышком. Под вечер ее разбудили мальчишки. Один из них проволок по ее ногам ореховое удилище. «Ужака!» — испугалась во сне Дормедонта, почув ствовав на ступнях холодное скольжение гибкого прута. Она хотела обругать сорванцов, но после сладкой дремы лень было гневаться.
Рыба брала жадно, мальчишки то и дело снимали ее с крючков и бросали в траву, подальше от берега. Какая-нибудь рыбешка побойчее начинала плясать в траве, подпрыгивать и допрыгивала все же до кромки воды, уходила в родную стихию. Такой не препятствовали. «Законно ушла, — говорили мальчишки. — Танец исполнила — получай волю». Их нежадность к добыче понравилась Дормедонте.
Она нагнулась над только что пойманным окунем, нарядным, как жених на свадьбе, одетым в желтое с красным, потрогала пальцем медные чешуйки. «Ай не жалко?» — «Чего не жалко?» — откликнулся малец постарше. «Красоту такую губить?» — «Жалко-то жалко, — он нахмурился по-взрослому. — Да только на то она и охота». Бабка почесала подбородок. «Дай-кось». — «Чего тебе?» — не понял малец. «Прут, говорю, дай». Дормедонта взялась за тонкий конец. «Не с той стороны», — засмеялся мальчишка и передвинул ее руку к основанию удилища.
Не случись в тот вечер хорошего клева, может, и минула бы бабку сия напасть — стать на старости лет рыболовом. Взяв удочку, она тут же устыдилась, ругнула себя в мыслях за баловство, хотела бросить прут и уйти от греха подальше. Но поплавок вдруг задрожал, нырнул в глубину, и бабка, будто кто в руку толкнул, неловко, судорожно дернула удилище, выхватила из воды и перемахнула через голову довольно крупную рыбу. «Плотка, — сказал мальчишка и взглянул на Дормедонту с уважением. — Грамм триста, как пить...»
У мальчишки была запасная удочка, которую он милостиво передал старухе во временное пользование. До заката солнца она поймала еще пять плотиц, трех окуньков и крупного подлещика. В названиях рыб она не разбиралась, но Толик объяснил ей, как какую кличут. «Матросы, — сказал мальчишка об окунях, закольцованных по всему туловищу в поперечные полосы. — Глянь, в каких тельняшках». И у подлещиков была верная примета — несуразная высота короткого туловища, «Сам себя шире», — подивилась Дормедонта, а мальчишка сказал коротко: «Блин».
Бабка нанизала рыбу на прутик и отнесла ее домой, Федор было насторожился, но, узнав, что рыба не купленная, пойманная Дормедонтой собственноручно, удивился до онемения, потом шумно обрадовался. Несмотя на поздний час, он заставил Лену жарить рыбу и, сидя над сковородкой, все похваливал Дормедонту и смотрел на нее с каким-то новым, неизвестным ей доселе выражением — задумчиво и почтительно.
С этого и началось. Бабка и на следующий день вернулась с уловом. А еще через день Лена тайком сунула ей пятерку на поездку в город. В качестве консультанта Дормедонту сопровождал Толик. Ему пришлось покупать автобусный билет, но бабка понимала, что без знающего человека не обойтись, и скрепя сердце решилась на убыток. Появление живописной фигуры Дормедонты в магазине «Рыболов-спортсмен» вызвало оживление в компании загорелых мужчин, толпившихся у прилавка. Бабка с хмурым достоинством выдержала любопытные взгляды, подмигивания и улыбки и, взяв Толика за локоть, проснулась к прилавку. В застекленных ящиках, на полках и прямо на полу она увидела столько всякой всячины, что у нее дух затеснило. Ярлыки с ценами бросали в пот: нарядная лакированная палка с железной вертушкой посредине стоила, к примеру, пятнадцать рублей, а резиновая, похожая на огромную лягушку, лодка-надувашка аж целых восемьдесят...
Добывать рыбу по правилам, во всеоружии средств рыболовной науки стоило больших денег, но, благо, бабка уже знала, что можно было обойтись самой малостью. «Покажь», — строго сказала она продавцу, ткнув пальцем в россыпи крючков. Толик отобрал три пачечки: крохотных для пескарей, уклеек, ершей и прочей мелюзги, среднего размера — для рядовой рыбы и совсем ужекрупных — на тот случай, если бабка, разохотясь, замыслит грозить сомам и щукам. «Двадцать одна копейка», — прикинула в уме бабка и повелела Толику перейти к выбору поплавков. Пять штук их — перьевых и пенопластовых — стали в сорок семь копеек. «Тонуть не будут?» — придирчиво спросила бабка у продавца и присовокупила сорок семь копеек к двадцати одной. В арифметике она была сильна (научилась считать, ведя хозяйство сына) — получилось ровнехонько шестьдесят восемь копеек, сумма, которая уже заставляла быть начеку. Продавец ссыпал в бумажный пакетик грузики — полтора десятка свинцовых горошин, а бабка, смутясь сердцем, прикидывала, что покупные поплавки вполне заменимы бутылочными пробками, да и грузики — роскошь и баловство: к леске можно прицепить какой-нибудь гвоздик, ненужную в хозяйстве гаечку. А что касаемо самой лески... «В бывалошные времена люди добрые на конский волос ловили», — пробормотала бабка, но Толик сделал вид, что не услышал ее.
Едва он отмотал от катушки полметра жилки, чтобы испробовать ее прочность, кругом загалдели так, что впору уши было затыкать. Разгорелся спор о достоинствах лесок капроновых и смоляных, отечественных и заграничных. Кричали так, советы давали бабке с такой горячностью (все обращались к ней, а не к Толику), будто она корову покупала. «Да будя вам!» — крикнула в свою очередь Дормедонта и пошла, чувствуя себя вконец разоренной, к кассе — платить два рубля восемьдесят восемь копеек.
Продавец завертывал покупки, а Толик жалобным, с плаксивым подвыванием голоском (очень ему не хотелось уходить из магазина) упрашивал бабку обратить внимание на бамбуковые удилища, которые в тыщу раз лучше самодельных, ореховых; на чудесный металлический садок, в котором рыба хранится живой; на подсак, без которого ни за что не вытащить щуку или там крупного леща.
Мальчишка отлепился от прилавка лишь после того, как бабка посулила ему мороженое.
Это было прошлым летом. Незаметно для самой себя бабка наловчилась, поднаторела в рыболовном искусстве. Даже в неудачливые дни приносила она домой килограмм-полтора рыбы, которая шла, как говорил Федор, на внутреннее потребление. А раз-два в неделю, при хорошем клеве, притаскивала столько, что все съесть самим было невозможно. Федор носил излишки на льнозавод, где и продавал их по сходной цене. Денег ей на руки не давали, но зять каждый раз отчитывался перед ней, сколько выручил за рыбу. В месяц набегало до двадцати рублей. Это как бы была ее пенсия, которую она вносила в семейную кассу на свое содержание. Федор теперь величал ее по имени-отчеству и время от времени делал ей подарки: то ситчика на платье купит, то платок. Все это добришко Дормедонта складывала в свой сундучок, а сама по-прежнему ходила в красной кофте и рыжей шапке из собачьего меха.
Но ни разу не дрогнуло радостью бабкино сердце при виде поплавка, утаскиваемого в глубину крупной рыбой, ни разу привычное равнодушие не уступило в ней места радостному азарту охоты. Не удовольствием ей была эта каждодневная рыбалка... И назвать ее работой у бабки не поворачивался язык — по никчемности рыбалки, по ее явной несерьезности, пропади она пропадом...
Глядя из-за куста на утихающий дождь, несильно рябивший воду, бабка вспоминала, как поначалу хихикали над ней бабы. Утром они кто куда: кто спешит с подойником на ферму, кто косу на плече несет, кто лен брать торопится. А она время гробить — на речку с удочкой, бредет, уставясь в землю, добрым людям стыдно в глаза посмотреть. Им честь, ей бесчестье. Хорошо ли, господи, так-то на седьмом десятке?..
Дормедонта до того растравила себя мыслями, что невмоготу стало сидеть под кустом. На четвереньках выбралась она из лозняковых зарослей, принялась ковылять поприбрежному песку.
Вскоре над береговым обрывом, в густой и высокой траве кто-то невидимый заухал по-совиному, зарычал по-звериному. Это внук Юрка старался напугать бабку. Потом, заливисто смеясь, он съехал на штанишках по склону, скользя по рассыпчатому песку, как по снегу.
— На тебе, старая, — говорит он, подавая Дормедонте узелок.
Бабка развязывает платок и без всякого аппетитасмотрит на присланную Леной еду: пару крутых яичек,горбушку хлеба, кус сала и молоко в бутылке, заткнутойгазетным катышком.
Юрке шесть лет. Человек, в общем-то, несерьезный,он почтительно затихает, когда Дормедонта «готовит обед» — режет хлеб и сало, лупит яички. Дома, где подают по-настоящему, с первым и вторым, есть одна скука, но здесь, у реки, на воле, Юрка ест с самозабвенной жадностью.
Юрка сопит и отдувается, щеки его, вымазанные салом, блестят на солнце. Бабке всегда достается меньшеполовины принесенного, но к старости она приучила себяесть совсем мало.
Насытившись, Юрка предается шумным играм: скачет по берегу на одной ножке, колотит по воде прутом, с разбегу кидается на мелком месте в реку. Или берется обеими руками за удилище, с усилием приподнимает его и требовательно кричит:
— Баб, научи!
— Да что учить-то, — вялая после обеда, зевает бабка. — Как поплавок спрячется, так и тащи — попалась, значит.
— Кто попался?
— Да рыба же...
— Почему же он не прячется?
— Не клюнуло, значит. Жди.
— Ну вот еще, — куксится Юрка, — буду я ждать, — и бросает удочку.
— И правильно, — одобряет бабка. — Нечего привыкать сызмальства к баловству... Пустая эта занятия, не мужицкая, ить недаромв старину говорили: кто рыбу удит, у того пустоньки будет.
— А у тебя пустоньки?
— А что у меня есть? Ни кола, ни двора... По милости вашей пью-ем, на белом свете живу.
— Ишь ты, какая хитрая, — смеется Юрка. — Пустоньки, а у самой... — Он поднимает авоську с рыбой, спотыкаясь, тащит ее к Дормедонте. — Вон сколько нахватала, старая... Эта как прозывается?
— С зубьями-то? Шшука.
— А эта?
— Долгая-то? Голавель, кажись...
— А эта?
Бабка подслеповато присматривается к рыбе, равнодушно жует губами.
— А бог ее ведает!
Юрка вытирает о штанишки ладони и садится перед бабкой на корточки.
— Слушай, старая. Что такое куркуль?
— Ну это... жадный мужик, что ли. Жмот,
— Жлоб?
— Ну жлоб...
— Мне Санька сказал, что мой папка — куркуль и кулак. А я — куркуленок.
— Это кто такой Санька?
— Санька Капленков. А еще он сказал, что нас вся деревня не любит.
— Вот я ему надеру уши, твоему Саньке, — волнуется бабка. — Не иначе как от отца слышал. Ох уж народ!
— А я куркуленок, — задумчиво повторяет Юрка.
— Ты иди, иди уж, — торопит бабка. — Не мешай мне. Иди.
Поддернув штанишки, Юрка пускается на приступ у крутого склона.
— Ты уж не говори никому, что я тута, — искательно Шамкает бабка вслед. — Опять будут чесать языками на деревне…
Одолев крутизну, Юрка останавливается на кромке у обрыва, прощально машет рукой.
— Не скажу, старая! — кричит он. — Только когда я к тебе шел, меня Маланья видела. И дед Микола. А тетка Юля спрашивает: «Ты куда с узелком обратно?» А я ей…
— Иди уж, иди! — сердится бабка и, чувствуя подступившую сонливость, снова ковыляет к лозовому кусту. В голове ее начинает тихонько позванивать, будто где-то точат косы, слипаются глаза — она засыпает...
В снах ходила она далеко вспять по времени, видела себя всегда молодой, сильной, проворной. Вот она в белом платочке ворошит сено. Над лугом висит-мерцает жаркое марево. От скошенных трав, от срезанных косами и засохших на солнце цветов духмяно, как в пчелином улье, — аж голова кружится. Но сладко кружится. Горячо бежит кровь по горячему под платьем телу. Граблибудто и не весят вовсе, будто былинка в руках. И кажется, шел бы вот так перед валком травы и день, и два, всю жизнь... На бескрайнем заливном лугу уводили те валки, как тропы, вдаль, в неизведанное, в судьбу твою...
Порой снилась Дормедонте Москва белокаменная, праздничные толпы у фонтанов Сельхозвыставки, куда ее, лучшую колхозницу, возили незадолго до войны на экскурсию.
Снился бабке песчаный бугорок, который она никогда не видела, но с ясностью представляла себе. Насыпали его в далеком чужом государстве, и лежал под тем бугорком храбрый русский солдат, ее муж, Сидоркин Павел. В мужнин роток песок набился. А как любил он Дормедонту, даром что костлявая и хромая, как белозубо смеялся, какие песни ей пел!..
Дормедонта просыпается и снова засыпает. Перед заходом солнца становится над удочками, следит за поплавками, выдергивает из воды окуней и плотиц — делает нудное, надоевшее. В сумерках собирает снасти и идет восвояси. Бредет к деревне не по большой дороге, а кружной тропою, бредет под молодым месяцем, серебряной лодкой ныряющим в облачках-волнах, посматривает вперед — не идет ли кто навстречу.
Неловко, согнувшись, она перешагивает порог избы, и Федор кричит от стола по-привычному:
— А вот и добытчица наша, Дормедонта Ивановна... Доставай, жена, сковородку!
Рыжухины слезы
Марья умерла под коровой. Села на низенькую скамейку, привычно приладила у колен доенку и только потянулась к соскам Рыжухи, как сердце сильно застучало, оборвалось и покатилось куда-то, и Марья, уже мертвая, стала медленно заваливаться на бок, под Рыжухины ноги...
Жила Марья одна, почти ни к кому не ходила, и к ней мало кто ходил. Долго бы деревня не знала о ее смерти, если бы не Филипп. В тот сумрачный октябрьский вечер шатался он по безлюдной деревенской улице, как всегда, под малым хмельком, напевая под нос свою любимую — «С печалью утраты на бледном лице». И вдруг будто споткнулся. Неподалеку мычала корова. Мычала хрипло, натужно, дико, как мычат коровы, чуя конец, перед убоем.
Филипп растерянно осмотрелся, не сообразив сразу, откуда мычание, потом вышиб плечом запертую на крюк калитку перед Марьиным домом и кинулся на задворки, к хлеву с проемом распахнутой двери. В нещедром свете лампочки, висевшей в углу, глядели на него уже потускневшие, уже незрячие Марьины глаза. Он отпрянул. Корова все мычала. «Заткнись, проклятая!» — закричал на нее Филипп, тоже хрипло, натужно, дико, и Рыжухжа, будто разумея человеческое слово, в самом деле замолкла, лишь шумно вздыхала и тяжело, оседая гузном, перебирала ногами над мертвой хозяйкой.
«Эка история!» — пробормотал Филипп, досадуя и злясь неизвестно на кого. Ведь так хорошо начинался вечер, и так славно пелось ему на улице. И вот на ж тебе... Надобно было скликать народ, объяснять что-то людям, перетаскивать мертвое тело из хлева в избу. Ему бы, дурню старому, посидеть после стакашка дома, так нет же — понесла нелегкая на воздух... Впрочем, Филипптут же устыдился этих своих мыслей. Он снова склонился над Марьей и почему-то пощупал ей нос. Нос был круглый и очень холодный, как репка, выдернутая из осенней стылой земли.
— Померла твоя хозяйка, померла, — сказал Филипп Рыжухе. И оторопел — корова плакала. Слезы скапливались под темным, печально мерцавшим зрачком и, переливаясь через край опушенного густыми ресницами века, ползли по Рыжухиной морде, оставляя в шерсти сырую бороздку. Филипп, удивленный и малость испуганный, громко крякнул — никогда не думал, что корова может плакать, как человек. Зашел с другой стороны Рыжухиной морды — и второй глаз плакал...
Вскоре покойницу перенесли в дом, запричитали, заохали над телом морщинистые и подслеповатые Марьины сверстницы. А Филипп, с шапкой в руках, стал потихоньку пятиться и незаметно выскользнул за дверь.
Настроение у него, конечно, было испорчено, хмель выветрился, и по дороге домой ему уже не хотелось петь свою любимую — «С печалью утраты на бледном лице». Случившееся обязывало думать о Марье, но странное дело — мысли его, как магнитом, тащило к корове. Ведь плакала животина. Не померещилось спьяну, точно видел — плакала. Жалела хозяйку. Чуяла, мыча над мертвой, что оставаться ей нонче необлегченной, с полным выменем. Может, и дальше чуяла — что никогда ей больше не видать той, кто, осерчав, тыкала ей в бок жилистым кулаком, а чаще гладила ласково, потчуя вкусной, густо посыпанной сольцей хлебной корочкой.
«Ну и корова, ну и сурпризница», — бормотал Филипп, укладываясь в закутке возле печки на жесткую бобылью койку. Принялся вспоминать, а не бывало ли подобного с лошадьми. Их на своем веку перевидал он не одну сотню, знал все лошадиные повадки и привычки. Кажется, было что-то похожее. Давно было, еще до войны. Приказал ему однажды старший конюх пристрелить старого мерина, не пригодного ни к плугу, ни к повозке, к тому ж еще и хромого. Молод тогда был Филипп и по-молодому жесток. Закинул за плечо ружье и повел мерина подальше от конюшни, на зеленый лужок. Вскинул стволы, а конь стоит, понурив голову, недожеванная травинка в мокрых губах — задумался. И глаза тоскливые... Но были ли в глазах слезы?.. Филипп ворочался, кряхтел, вспоминая — были ли? — но так ничего и не вспомнил. Может, и были. Да разве стал бы он тогда приглядываться? Не приглядывался и после, выполняя подобные же живодерные поручения. Ему-то что? Приказано — сделано. Всадил он тогда в голову престарелого мерина пару жаканов и пошел прочь, посвистывая беззаботно, — шкуру и без него сымут...
Филипп задремал было, но вдруг вздрогнул и вскинулся от больно уколовшей мысли. «Ну а ты-то сам?.. Корова, тварь не шибко разумная, прослезилась... А ты?.. Что чувствовал, что думал, шупая холодный Марьин нос?.. А ведь знал человека, считай, с малых лет. Росли вместе... Любовь, можно сказать, промеж была... И хоть бы охнул, хоть бы всхлипнул над покойницей... Вот уж подлинно — Хомут бесчувственный...»
Такая кличка была у него на деревне — Хомут. Вернее, не кличка, а фамилия — Хомутов. И Филипп не прочь был при случае похвастаться: самое, мол, что ни на есть конюховское фамилие, пришито как по заказу. Ну и имя — в самую точку. Горделиво сощурясь, длинно сплевывая, пояснял: «Филипп по-древнегрецки— любитель коней... Вот так-то, мужички!»
Всю жизнь работал он конюхом, с лошадьми, и на старости лет сам стал похож на лошадь. Не на рысака, конечно, скорее, на того мерина, которого порешил когда-то. Ходил Филипп, неловко перебирая больными, застуженными еще в войну, в партизанском лесу, ногами, устало клоня долу длинную шею и узкое, с длинным горбатым носом лицо. У него почему-то часто зудело меж лопаток, и тогда он подрагивал всем телом, как лошадь подрагивает шкурой, когда ее кусают слепни.
Однако в молодости был Филипп парень хоть куда. По крайней мере, сам считал себя таким. И, решив, что Марья — девка тоже хоть куда и потому достойна его, начал за ней ухаживать. И попервости не без успеха, который выражался в том, что Марья позволяла тискать себя и засиживалась с ним на лавочке у родительского дома до серых предутренних туманов.
Наверное, все завершилось бы, как положено, свадьбой, тем более что он к тому времени уже отслужил действительную и можно было строить жизнь прочно и надолго. Но в ту весну появилась в их деревне хата-лаборатория, а в хате — лаборантка, присланная из города, по деревенским понятиям уже не молодая, лет под двадцать пять, но незамужняя. Раз наведался Филипп в лабораторию, другой, и очень ему понравилось, как лаборантка, в чистом халате, колдовала над микроскопом, крутила винтики-колесики, что-то там высматривая на стеклышке. У нее были узкие руки, каштановая челка над высоким лбом и ярко-зеленые, цвета болотной ряски глаза.
Когда Филипп предложил ей выйти за него замуж, на удивленно вскинула тонкие брови и засмеялась.
«Вы чего?» — обиделся Филипп.
«Да так...» — она закурила папироску, села перед им, закинув ногу за ногу, и принялась молча разглядыать его.
«Так как же?» — спросил Филипп.
«Да всё так... — отвечала неопределенно и вдруг слегка покривила полные, густо накрашенные губы. — Это вы убиваете старых лошадей?»
«А что? Предосудительно?» — Филипп нарочно употребил это непростое слово: мол, и мы не лыком шиты.
«Да нет, почему же? — усмехнулась она. — Надо же кому-то и это делать».
«Так как же?» — снова спросил Филипп, начиная терять терпение.
«А никак. — Она встала и загасила папироску о крайпепельницы. — Ступайте с богом».
«Подумаешь, — сказал Филипп, не без брезгливостиглядя на окурок с красным ободком от ее губ. — У меня иполучше девка есть... Просим прощения».
И ушел, сильно хлопнув дверью.
Он, конечно, никому не сказал о своем неудавшемся сватовстве, но, видно, лаборантка не утерпела, трепанулась крашеным ротком. На другой день он приоделся, побрился, даже одеколоном побрызгал на чуб и отправился к Марье. А она ему с порога — чего приперся? Вертайся, мол, к своей микробе бледной.
«Да я ж к тебе по-серьёзнему, — смиренно, переживая вину, сказал Филипп. — Давай поженимся. Люба ты мне».
«А ты мне нет, — залилась злыми слезами девка: — С глаз моих прочь, кобелина!»
«Ну ладно, — сказал Филипп, поглаживая мизинцем свой длинный, шевельнувшийся от волнения нос. — Я подожду, а ты подумай».
Ждал он месяц, два ждал. И тут пополз по деревне слух, что Марья спуталась с колхозным счетоводом Венькой Легчаевым. Филипп не поверил было (это-то с Венькой?), но однажды, возвращаясь с ночного, едва не наехал на них, спящих, лошадью. Марья лежала под стогом, на сене, укрытая пиджачком, из-под полы торчали ее голые, порозовевшие на утреннем холоду ноги. Венька пристроился рядом, без пиджака, в одной рубахе; раскинулся по сену тощим костлявым телом, закинув подбородок, выставив острый кадык, дышал натужно...
Филипп сел на койке и даже зажмурился — до того ясно представилась ему эта картина, памятью придвинутая к самым глазам из дали лет. Нашарил в темноте на табуретке пачку «Севера», закурил, жадно затянулся... Что он чувствовал тогда, сидя на лошади? Ярость всколыхнулась в нем такая сильная, что он на мгновение ослеп и оглох. Хотел поднять кнут, ожечь, нагнувшись, те бесстыдные Марьины ноги, а рука, немая, холодная, не слушается. Хотел бросить на полюбовников коня, потоптать копытами, а коня тоже будто паралич разбил — ни с места... Поражен был Филипп в самое сердце. И не столько тем, что променяла Марья его на другого, поразило — на кого променяла. Венька слыл на деревне самым что ни на есть завалящим парнем. Придет на вечерку — жмется в углу, мнет на коленях шапку, девку пригласить на танец стесняется. Да и сами девки гребовали им, сторонились его холодных потных ладоней... Робкий, неуклюжий, был он к тому же и болен насквозь — с алыми пятнами на впалых щеках, кашлял глухо, как в бочку. В конторе под столом у него стояла стеклянная банка, куда он сплевывал мокроту.
Тогда Филипп так и не потревожил сна полюбовников. Тихонько тронул коня и поехал прочь. Ярость схлынула, ее сменила обида, с которой и жил до тех пор, пока Венька с Марьей не перебрались на жительство в город. Тут снова затосковал он, заметался, белый свет стал не мил. Но Марья, пробыв в городе с год, нежданно вернулась, одна, без Веньки, похудевшая, притихшая. Что у них там получилось с Легчаевым, вернее не получилось, — Филипп не допытывался, однако чуял, что теперь его час приспел, теперь его воля — казнить или миловать, простить великодушно иль укрепиться в давней обиде своей.
Встречаясь с Марьей на улице, он молча проходил мимо, но видел, видел, как бледнело ее лицо, как растерянно, жалко, моляще смотрели из-под низко повязаного платка ее усталые, будто истаявшие в печали глаза.
Стоял июнь, такой теплый, такой щедрый, какого не помнили на своем веку даже древние старики. Рожь, казалось, знала, что быть ей вскоре спаленной, и торопилась жить, расти — вымахала в человеческий рост. Лесные опушки краснели выпершими из-под земли несметными полчищами подосиновиков. Луга полыхали буйством цветов, и колхозный пасечник дед Евлампий не успевал откачивать из ульев мед. В березняках еще пробовали голоса поздние кукушки, накуковывая бабам многие лета любви и счастья.
Филипп в те дни жил как в лихорадке. На конюшне появлялся лишь для того, чтобы торопливо оседлать резвого жеребчика Троньку, вскочить на него и под укоризненные причитания старшего вымахать галопом в поле. Куда мчался Филипп напрямки, пригнувшись к лошадиной гриве, слушая ветер, свистевший в ушах?.. Да разве он знал? Гнало его в никуда нетерпение... Быстрей, быстрей!.. Вот уже курится парком лошадиный круп, заплетаются в мураве, спотыкаются Тронькины ноги. Филипп на скаку, боком вываливался из седла, падал в траву, переворачивался на спину и смотрел в небо. Что высматривал он там, в мерцавшей голубизне, в облачках, снежно белевших в высях?.. Да разве он знал?..
Филипп выплюнул на пол потухший окурок, потыкаллоктем в плоскую подушку и невесело рассмеялся. Ах,молодость, молодость. Дура-молодость. Вечно она ждетчего-то, а дождется — выкинет такое коленце, что в пору за голову схватиться. Так и он — дождался тогда. Утромпостучалась в его дом девчонка-несмышленыш, Марьинасоседка. В грязном кулачке — записка. Коротенькая, потому и запомнил слово в слово: «Виноватая перед тобой,Филя. Прости за-ради Христа». Девчонка было к двериподалась, он остановил ее: «Ответ передашь». Выдрализ тетрадки двойной лист, не пожалел бумаги, сел к столу и, наливаясь болезненной, сладко резавшей нутро скорбью, начертал крупно: «Вовек не прощу!..» Перечитал, ужаснулся, скомкал лист, помешкал и все же сунул-таки его в кулачок девчонки: «Бежи!..»
Было это на восьмой час воскресного дня двадцать второго июня сорок первого года. А в двенадцать выступил из Москвы по радио Молотов, Вячеслав Михалыч, и оказалось, что все любовные страдания Филиппа не стоят и катышка из-под Троньки: думать надо было совсем о другом. В тот же день Филипп собственноручно (жил он одиноко) собрал в торбу бельишко, кое-что поесть и, ни с кем не попрощавшись, зашагал в районный центр, в военкомат.
Так и зашагал на войну первым из деревенцев. С тайным каким-то облегчением, с радостью даже, что сам собой распутался их с Марьей узелок... Правда, в регулярных частях довелось воевать недолго. Под Вязьмой попал в окружение, взят был в плен, бежал из колонны, которую гнали на запад. А добрался до родных мест — сразу же к партизанам. Тут уж дал он волю злости своей на немца, сучьего сына, мстил нещадно за все его измывательства — за то, что голодом в плену морил, палкой голодного-холодного бил... И не счесть, сколько раз партизанский батя Ефимыч благодарность ему объявлял перед строем, руку жал, в пример другим ставил. Потому как он, Филипп Хомутов, показал себя отчаянно храбрым бойцом, на самые опасные задания его посылали — комендатуру в волости разгромить, мост какой взорвать, эшелон под откос пустить... Еще немного, и быть бы ему с повышением, ходить в партизанских командирах, но тут с ним опять история приключилась...
Филипп слез с койки, запалил керосиновую лампу (ночью току не подавали), сел за стол. Память его в беге своем по реке прошлого приблизилась к очень важному, о чем негоже было вспоминать, валяясь на койке. Хотелось разобраться ему, в чем он был тогда прав и в чем виноват и почему тот случай перечеркнул все его прежнее геройство, все заслуги...
Ефимыч вызвал его к себе поздним вечером, когда партизанская братия дружно храпела в землянках. Пригласив сесть, долго не начинал разговора, ходил взад-вперед, мягко ступая валенками, крутил в колечки волоски на бороде и все отводил глаза в сторону — конфузился будто. Филипп не удержался — зевнул.
«Ну вот, Хомутов, — сказал Ефимыч. — Был вчера на построении, слышал приговор нашего суда?»
«А как же», — ответил Филипп, не понимая, к чему клонит командир.
«Что думаешь по этому поводу?»
Ефимыч имел в виду приговор, вынесенный партизанским трибуналом старосте Легчаеву, который выдал немцам трех коммунистов.
«Чудно, — покрутил головой Филипп. — Кто б кто...»
«Хорошо его знаешь?»
«Как не знать? Из одной деревни... Ветеринаром в колхозе работал, на конюшню, само собой, захаживал. Мы его Лыской звали: на черепухе хоть орехи коли... У него племяш есть, перед войной в городе жил, Венька Легчаев... вредный, сволочь. А сам-то Василь Парамоныч ничего мужик был, смирный, обиды от него никто не видел... Потому и удивительно...»
«Вот тебе и смирный. В тихих болотах знаешь кто водится?.. Каких людей загубил, гадина!» «Так об чем речь? — Филиппу неудержимо хотелось спать, он снова зевнул. — Что заслужил, то и получит, черт лысый...»
«Вот, вот! — Ефимыч вздохнул с заметным облегчением. — За тем и вызвал тебя, товарищ Хомутов. Возьмешься приговор привести в исполнение? — И опять, конфузясь, виноватым голосом: — Поручение, конечно, того... не всякому понравится. Но кому кроме, как не тебе? Предателя в лицо знаешь, дом, где он живет...»
«Ладно, чего уж там‚ — прервал командира Филипп. — Надо так надо... Немцы в деревне есть?»
«Нет немцев, но ты, Хомутов, все ж без особого шума... Хорошо бы нынче же, рано утром... И приговор не забудь осужденному прочитать, чтоб все на законных основаниях... Понимаешь?»
И Ефимыч сунул ему свернутую в трубку бумагу...
Еще не начинало светать, когда Филипп и пристегнутый ему в помощники молодой партизан Толик пробрались огородами к легчаевской избе. Постучались. Минуты через две за дверью раздался голос самого Василия:спрашивал, кто такие. Филипп не стал тянуть резину, — объяснил, кто такие и по чью душу присланы. Рисковал,не без этого. У Легчаева оружие могло быть, мог окошковысадить, прочки кинуться. Но чутье подсказывало Филиппу, что ветеринар рыпаться не станет. Так и получилось. Василий помолчал немного там, в сенцах.
«Так будешь отчинять? — спросил Филипп. — Иль ломать дверь?»
«Зачем ломать?»
Слышно было, как Легчаев откинул крюк. Посвечивая фонариками, они с Толиком ввалились в избу и приказали хозяину зажечь свет. Легчаев нашарил в печурке спички и полез на табурет — лампа висела под самым потолком. Филипп смотрел на его худые лодыжки, на болтавшиеся тесемки от кальсон и с хрустом двигал скулами, ломая зевоту — у него так и не выкроилось времени выспаться в эту ночь.
Лампа медленно разгоралась, Василий подбавил фитиля, свет достиг дальних углов избы.
«А баба где? — спросил Филипп. — У тебя, помнится, женка была».
«Была да сплыла... Ушла от меня, у родителей в Хохлове сейчас проживает».
«Так тебе и надо, хрычу старому — беззлобно хохотнул Филипп. — Один, значит, как сыч?»
«Зачем один?.. Вот с ним вдвоем бедуем... с племяшом».
Легчаев кивнул на печку. Только тут заметил Филипп белевшее за печной трубой лицо и, приглядевшись, узнал Веньку.
Филипп сидел на табурете у порога, рядом у плеча стоял Толик, водил автоматом, сторожа каждое движение хозяина.
«Живо слазь с печки! — сказал Филипп Веньке. — С тобой, субчиком, тоже разговор будет... А ты, кучерявый (это — для смеха, плешивому ветеринару), сидай в угол, под божницу».
Венька, выставив тощий зад, слез с печки и понурился перед Филиппом, бледный, как мертвяк, в холщовом белье, бухая нутряным кашлем.
«Вот уж кого не думал встренуть, — сощурился на него Филипп. — Значит, в тылу кантуешься?»
«Ты же знаешь, хворый я... — Венька погладил под рубашкой впалую грудь. — Забраковала комиссия. Белый билет могу показать».
«Значит, из города к дядьке подался? Молочком деревенским организму больную пользовать?.. А ведомо тебе, чахотке, что дядька твой — прихвостень фашистский и душегуб? По его доносу троих мужиков наших немцы кокнули — Ивановых Фому да Ивана и Синькова Кузьму...»
Венька растерянно заморгал, повернулся к Василию: Правда это?..»
«А что мне было делать? — глухо, как из могилы, забубнил в углу ветеринар. — Старостой меня назначили и список партейных на другой же день востребовали... Не я, так другие бы...»
«Ну и сволота ты, дядя, — сказал Венька и заплакал. — Как же так можно, на своих односельчан... А ведь Кузьма Синьков и сродственник наш, кажись?..»
«Точно, сродственник... Думал, вызовут их в комендатуру, постращают маленько да отпустят... А их — вишь как получилось...»
«Дерьмо ты коровье! — Венька смачно плюнул. — Знал бы, обошел тебя за версту... Лучше б сдох в лесу,под елкой...»
«Ты меня не кори. Я сам себя корю вот как! — Василий мазнул ребром ладони по горлу. — Что, у меня совести нет?.. Они ко мне во сне приходят. Придут и стоят.Я их рукой от себя, а они за руку меня — хвать — и с постели тащат... Разве мне жить теперь? Хоть веревку на шею...»
«Обойдемся и без веревки, — сказал Филипп. — Ты что, разжалобить меня хочешь? Нет уж, умел воровать,умей и ответ держать. Теперь все вы честные да совестливые. А вот растолкуй мне без вранья, по совести, почему твой племяш на печи отсиживается, когда весь народ на немца ощетинился... Ну ладно, в армию не взяли, почему к партизанам не подался?»
«Да куда ж ему к партизанам? — усмехнулся Василий. —Он в последнее время разве что по нужде с печи слазит... Совсем доходит человек, ты погляди нанего только... Иль глаза тебе, Филя, снегом запорошило?»
«Ты глаза мои не трожь! — повысил голос Филипп. — Тоже мне заступник нашелся. Предатель дезертира выгораживает... Обоих в распыл пушу, мать вашу так!.. — Правильно, Толик?»
Филипп поднял голову и, к своему удивлению, встретился с осуждающим взглядом. Молодой партизан смотрел холодно и отчужденно, будто отделяя себя от того, что происходило сейчас в хате. «Вот те и на, — подумал Филипп, — молокосос, никаких заслуг не имеет, а недоволен... Да чем же он недоволен?»
Филипп достал бумагу, данную вчера Ефимычем, поднялся с табурета. «Слушай, Легчаев, приговор партизанского суда...»
Василий тоже встал, перекрестился.
Прочитав бумагу, Филипп аккуратно разгладил ее, положил на стол.
«Пусть люди знакомятся с документом... А тебе, приговоренный, даю последнее слово...»
«Да что ж тут говорить? — Василий тоскливо озирал избяные углы. — Помиловали бы, может, чем и пригодился вам, партизанам... А так что говорить?..»
«Ну тогда пошли! — заторопился Филипп. Ему вдруг показалось, что в избе душно, захотелось на воздух. — А ты что столбом стоишь?! — крикнул Веньке. — Особого приглашения дожидаешься?»
Василий достал из-под лавки две пары валенок, а вот второго полушубка в доме не оказалось, Венька накинул на белье рваное пальтишко. Запомнилось Филиппу, что на бортах не было ни одной пуговки, болтались лишь нитяные ошметки...
Филипп, подрагивая босыми ногами (из щелей ветхого пола поддувало осенней сыростью), подошел к окну, прижался лбом к стеклу. На дворе светало. Как и тогда, светало... Снежная синева делалась голубой, редели звезды, уже ясно проступали вокруг постройки и деревья, когда спускались они с крыльца — впереди Василий с Венькой, за ними, щупая их спины дулами автоматов, Филипп с Толиком. По крутой тропе соскользнули в глубокую лощину, к речке, потом побрели целиной, подальше от деревни, к редкому кустарнику, за которым начинался лес.
«Тут, что ли... — сказал Филипп и лязгнул автоматом. — Становись, Василь Парамоныч, вон туда, к ложбинке. Глаза, ежели боишься, можно завязать...»
«Чем завязывать-то? — уже не своим, потусторонним голосом спросил ветеринар. В ложбинке он провалился в снег по самые колени, потоптался, снова перекрестился: — Может, помилуешь, Филя?..»
Филипп свалил его короткой очередью. «Присыпь снегом», — приказалВеньке. Венька принялся торопливо сгребать ногами снег на мертвое тело, будто обрадовался возможности согреться.
«Может, домой теперь отпустишь? — спросил, окончив работу. — Не то простужусь...» Веньку колотила крупная рожь, переламываясь в пояснице, он запахивал полы своей беспуговичной одежки, обхватив плечи, тщился согреть себя руками.
Казня Легчаева, Филипп не чувствовал к нему никакой злости, понимал, что не порядок это — вот так, с немым сердцем, убивать человека, пусть и подлого, вредного для других людей, старался и не мог разжечь в себе злость. И только противно ляскавший, гнусавый на холоду Венькин голос, дурацкое «не то простужусь» разозлили его по-настоящему.
«Я тебе покажу домой, ироду тощему — выкрикнул тонко. — Я тебя сейчас вслед за дядькой!..»
«Не имеешь права, — выпрямился Венька и высморкался в снег. — Нет моей вины ни перед кем».
«А ну ложись, змей ползучий, ложись, тебе говорю! — Филипп страшно водил слепыми от бешенства глазами, целясь из автомата и не находя Венькину голову. Венька молча плюхнулся в снег. — Теперь по-пластунски, вон до той березы... Быстрей! Еще быстрей!»
Венька прополз шагов десять, потом, задыхаясь, поднялся: «Мстишь мне? За Марью мстишь?.. Эх, ты-ы!..»
«Ложись! Ло-о-ожись! — вопил Филипп, уже ничего не соображая. — Стрелять буду!..»
И застрелил бы Веньку, если бы не Толик, который крепким ударом молодого ядреного кулака выбил оружие из рук Филиппа. Филипп оторопело посмотрел на приклад торчком вошедшего в снег автомата, обернулся к парню: «Ты что?» — «А то. Самосуда не будет». Несколько секунд они боролись взглядами, и Филипп не выдержал, опустил глаза.
«А вы идите, — сказал Толик Веньке. — И не бойтесь, никто вас не тронет...»
Откуда он взялся в отряде, сопляк этот вежливый? Филипп и знал-то его без году неделю, говорили, из тыла был прислан, в специальной школе где-то обучали... Вот и выучили. Веньку, таракана запечного, на «вы», аего, бойца наипервейшего, с грязью смешал, осрамил навеки... Где ж справедливость?
Не дождался Филипп справедливости и в отряде. Только завалился спать, как разбудили: бегом, мол, в командирскую землянку. Там его встретил Ефимыч с комиссаром. Оба аж топорщились от злости.
«Ты что ж это!.. — загремел командир, не дав Филиппу и порога переступить. — Тебе кто дозволял над людьми измываться?»
«Наклепал, паразит», — подумал Филипп про Толика и пожалел, что не нажаловался на него первым, когда докладывал утром о выполнении задания.
«Судить тебя, молодца, будем! — стукнул ладонью по столу комиссар. — За то, что позоришь звание партизана».
«Да вы дайте слово сказать!» — взрыднув от незаслуженной обиды, крикнул Филипп.
«Мо-о-лчать! — криком же заткнул ему рот Ефимыч. Таким сердитым Хомутов еще никогда не видел добродушного бородача командира. — Ты что думаешь, за твою храбрость тебе все спишется? Думаешь, не знаю о твоих штучках-дрючках?.. Кто у старухи вдовы в Пиличках курей перестрелял за здорово живешь, потехи ради?.. Не ты, скажешь? Кто у деда Евлампия мед вымогал, на самогон выменивал?.. Не ты?.. Я молчал, надеялся, сам осознаешь, в чувство придешь... А ты опять? По какому праву заставил больного человека на брюхе по снегу ползать?»
«Так сволочь же, — попробовал защищаться Филипп. — Племяш предателя, яблоко от яблони...»
«Не понимаешь? — спросил комиссар. Посопел перешибленным в рукопашной носом. — Или дурачком прикидываешься? — Зыркнул на Ефимыча: — А ты тоже хорош, командир... Нашел кого посылать на такое задание... Иль мало у нас бойцов с чистыми руками?..»
«Да я, да я... — по-индюшиному закулдыкал Ефимыч, у которого от гнева на Филиппа язык перестал слушаться. — Да если бы я...»
«Ладно, — сказал комиссар. — Это нам урок на будущее. А тебя, — повернулся к Филиппу, — из отряда попрем к чертовой матери, чтоб духом твоим не пахло!»
С тем и вылетел Филипп из командирской землянки. Правда, судить его не судили, из отряда не выгнали. То ли пожалели, учитывая прошлые заслуги, то ли не до него было, так как вскорости разгорелись жаркие затяжные бои с немецкими карателями, тучей двинувшимися на партизанский лес...
За окном, слышал Филипп, бодро голосили уже утренние, поздние петухи. Пора было умываться, затоплять печь, готовить завтрак. Но так могуча и неодолима в своем течении была река воспоминаний, несшая его, что он снова лег на койку и решил не вставать, пока не додумает все до конца, не доплывет до последнего бакена, Он закрыл глаза, и ему тотчас привиделось теплое летнее предвечерье и он сам, демобилизованный сверхсрочник, в новехонькой гимнастерке со старшинскими нашивками на погонах, в ладных хромовых сапогах гармошкой. Уже год, как война кончилась, и теперь шел он со станции домой, нес, посвистывая довольно от приятной тяжести в руке, занятный, в пупырышках, заграничный чемоданчик крокодильей кожи, в котором было припасено кое-что и для Марьи.
Филипп знал, что у нее вскоре после Победы друг за дружкой перемерли родители — сначала мать, потом отец, что жила она одна, поэтому он и направился прямо к ней. Втайне надеялся — обрадуется ему, может, даже на шею кинется, поцелуются они, как водится у старых знакомых после долгой разлуки, забудут прошлые обиды да и заживут вместе в любви и мире.
О чем они тогда разговаривали с Марьей, в ту первую послевоенную встречу? А шут его знает о чем. Филипп сидел над зелененькой четвертинкой, припасенной заранее на станции, ел Марьино сало и нес, сам себе дивясь, какую-то мутную невнятную околесицу об австрияках, о том, как они любят музыку и какие нарядные у них баяны — аккордеонами прозываются. Чемодан из крокодильей кожи лежал с откинутой крышкой на скамье под рукомойником. Марья к подаркам и не притронулась. Филипп искоса поглядывал на чемодан, видел, как срывались с медного носика и шлепались на цветастое платье, уложенное сверху, крупные капли. И это его нисколько не трогало, хотя не так-то и дешево обошлось ему, Филиппу, и это платье, и другие женские шмутки.
«Ты что, — спросил он наконец, — не радая мне?» И знал уже, что зряшный то был вопрос: Марья глядела как бы сквозь него, будто за столом перед ней был вовсе не человек, а так, пустое место.
«А знаешь, — вдруг сказала она. — Венька-то тогда помер…»
Это было новостью для Филиппа. В армии он изредка получал от Марьи письма, но ни в одном о Веньке не упоминалось... Филипи поперхнулся салом, но тут же совладел с собой: «А я тут при чем? На ладан дышал...»
«Значит, ни при чем? — неприятно усмехнулась Марья. — Вот тебя бы в снег в одних подштанниках да ползти заставить... На второй день и преставился, в жару простудном сгорел».
«Ты еще за дядьку его меня укори, — рассердился Филипп. — За то, что в ножки ему не поклонился, спасибо, мол, за мужиков, немцам выданных... — Вскочил, опрокинув недопитую четвертинку, на пороге обернулся: — Смотри, как бы не прогадать тебе, девка. Нас-то с войны вернулось — раз-два, и обчелся...»
Глупые сказал слова. Только дело было уже непоправимо. Очухавшись, поостыв, снова, пошел к Марье, а она ему чемодан оставленный в руки сунула и, не дав рта раскрыть, за дверь выставила.
Вот какая обратно ерундовина получилась...
«Ага, ты гордая, — злился Филипп, — а я тебя погордей буду...» И спустя неделю посватался к соседке своей, Наталье. Баба, правду сказать, неопределенная: ни дура и ни умная, ни толстая, ни худая, ни злая, ни добрая. «И что ты из себя представляешь? Никак не пойму! — сокрушался Филипп в минуты подпития. — Вот вернулся с конской службы свинья свиньей, еле хрюкаю, с копытов долой... А ты что?.. Ну хоть бы ухватом по хребтине треснула, хоть бы облаяла... — И хватался обеими руками за лохматую голову: — Ску-у-у-шно мне!..»
Детей у них не было.
Марья тоже в долгу не осталась — согласилась за Леонтия — мужика вдвое старше ее. На глазах у деревни угрюмела баба, дичала будто. Только и знала дорогу — в артельный коровник да и назад, домой: ни в клуб кино посмотреть, ни на посиделки, ни к подруге вечером словом перекинуться.
А ведь тянулись они друг к другу, Филипп и Марья. У него душа любовной тоской заходилась, когда видел ее издали, в спину, прямую и тонкую, с крепкими ногами, которые ему и открылись по-настоящему всего один раз, там, под стогом, но зато запомнились навсегда. А она?.. Разве не жила баба «с печалью утраты на бледном лице»? — как пел красиво под аккордеон молодой лейтенант, их взводный, когда стояли они в Австрии после войны... Жила, жила с печалью о нем!..
Но и это минуло. Как вода в песок, уходили годы, и постепенно сгнивали ниточки, связывавшие их сердца. К старости и совсем ни одной не осталось. Померла Наталья, Левонтий помер, ему, Филиппу, пускай напоследок, да пожить бы с Марьей, а он хоть бы шелохнулся ей встречу. И она не шелохнулась. Тоже вот померла...
Жизнь была додумана. Река памяти, укоротившись до нету, всплеснулась в последний раз и выбросила Филиппа на холодный мокрый песок нынешнего дня. Филипп поежился, кряхтя, сполз с койки. Постоял в нерешительности перед рукомойником, махнул рукой и вышел на улицу.
Возле Марьиного дома негусто толпился народ. В саду‚ под усохшей грушей, дед Пантелей — бессменный заботник об умерших — строгал рубанком доску, положив ее на два табурета.
— Кажись, сыровата— сказал Филипп, пощелкав по доске ногтем.
— А ничего, малый, сойдет, — улыбнулся щербато дед и сморгнул с дряблого века старческую капельку. — Не хоромы строю...
«Помочь, что ли, деду?» — подумал Филипп, но желание было едва ощутимо.
— Ну, ну, работай, — покашлял со значением и, напустив на себя скорбную наружность, прошел в избу.
Покойница, уже обряженная, с уложенными на груди руками, лежала на столе, укрытая до пояса простыней. Филипп осторожно присел на стул у стены и стал смотреть на Марью. «Не сердишься на меня, нет?» — спросил безмолвно. Лицо у Марьи было строгое, но спокойное. «Не сердись. Я-то перед тобой чем виноватый? Рассуди сама... Это судьба наша — всю жизнь врозь, хоть и рядом. А против судьбы не попрешь, девка, нет... Она посильней человека будет, с ней борись, не борись — свою линию выгнет...»
Филипп обрадовался было, что он так хорошо, толково объясняется с покойницей, он уже ощущал в груди сладкую обиду на судьбу за себя и Марью, уже что-тонакатывалось, пощипывая, на глаза. Но тут донеслось со двора коровье мычание и сокровенно-торжественный строй его мыслей, едва успев нужно наладиться, прервался. Его так и подмывало вскочить и посмотреть — что корова? Все еще плачет или успокоилась?..
Прежнее бесчувствие к покойной охватывало его, и чем больше ругал он себя за это, тем холодней становилось на сердце, будто и не лежала перед ним на столе умершая Марья. Однако приличия ради и для очистки собственной совести (в избе, кроме него, никого не было) он посидел еще минуту. Потом встал и на цыпочках, боясь скрипнуть половицей, приблизился к Марье, тихонько тронул ее восковую, с как бы оплывшими пальцами руку.
— Ладно, лежи давай, — сказал вслух и низко, до самых бровей нахлобучил шапку.
Опасаясь, что его заметит дед, Филипп прямо от крыльца прошмыгнул в хлев. Рыжуха смиренно дышала в углу, медленно двигала челюстями, жуя жвачку. Свету проникало в хлев маловато, он включил электричество, Рыжухины глаза были по-коровьи печальны, но сухи. Филипп подбросил ей в угол сенца, почесал бугорок меж рогами. Рыжуха прерывисто и, как показалось ему, жалобно мыкнула...
Про эту корову на деревне истории рассказывали. Марья ее, худую и хворую, еще телкой у колхоза купила. Не жалела для нее ни хлеба, ни иного продукта, от себя отрывая, а в пойло добавляла отвар шалфей-травы, чтоб изгнать из коровьего нутра болесть и слабость. И выросла Рыжуха людям на удивление, товаркам по стаду на завидки: уж такая справная да статная, с боками гладкими, блестящими, с вёдерным выменем. И молоко выдавала такое жирное и вкусное, что покупала его у Марьи для своей дочки Светланы сама Людмила Борисовна — жена приезжего ученого агронома, привередница и чистюля. Светлане сейчас годков восемь, и, вскормленной Рыжухиным молоком, нет ей равных промеж сверстниц: из платья, гляди, выкатится, так кругла и упруга.
Но не о том речь. За ласку-заботу до того привязалась корова к хозяйке, что стала будто собака. Летом, в поле, еще так-сяк, щиплет траву вместе с другими коровами, а зимой никак не хочет одиноко стоять в хлеву. То стучит рогами в стенку, то мычит тоскливо — зовет Марью. И словно чуяла, когда та уходила со двора: открывала, упираясь головой, воротца хлева и пускалась вдогонку. Поначалу Марья возвращалась и водворяла неслушницу на место, потом смирилась. Так и определял народ, где сейчас Марья. Если маялась Рыжуха у сельсовета, значит, зашла туда хозяйка ее за какой-нибудь справкой, если стояла возле магазина, значит, Марья там.
Однажды устроили в клубе вечер ветеранов труда. Марья уже и не помнила, когда была в последний раз на большом людском сборе, страсть как не хотелось ей на вечер, но еще накануне заскочил к ней председатель, пригласил самолично, и не уважить его было нельзя. Собралась Рыжуха, конечно, за ней. У клубного крыльца остановилась, равнодушный вид приняла: мол, иди, хозяйка, я тебя тут подожду. Но не успела Марья войти вовнутрь, как корова, громыхая копытами, подняласьна высокое крыльцо, миновала фойе и, зычно мыча, просунула морду в зрительный зал, чем нарушила выступление ответственного товарища из района. Завертелась суматоха, и не скоро, не без труда вытолкнули Рыжуху, упиравшуюся, обратно на улицу.
Марья, и прежде слывшая самой молчаливой и неприветливой бабой в деревне, стала в остатнюю свою пору окончательной нелюдимкой. Что она делала, сиднем сидяизбе, — об этом толком никто не знал. Но поговаривали, что старуха большую часть времени проводит в хлеву, ублажая Рыжуху: брюхо ей теплой водой подмывает, шерсть гребнем расчесывает.
Филипп по себе знал злую тоску одиночества. Тут не то что с коровой, с голыми стенами в разговор пустишься.
Хоронили Марью честь по чести.
Над Марьиной могилой колхозный председатель сказал такую красивую речь, что многие женщины прослезились и горько пожалели о том, что не ценили Марью при жизни. Он вспомнил ударную работу покойной на ферме, поскорбел по поводу ее несложившейся личной судьбы, посетовал, что Марья так и умерла бездетной, не то жил бы сейчас в их колхозе лихой механизатор с зоркими, как у Марьи, очами или, на худой конец (тут председатель поперхнулся и смущенно покашлял — по молодости оговорился), жила бы доярка-красавица, которая бы достойно продолжала дело матери.
Филипп, хоронивший Марью вместе со всеми, дождался, когда могилу засыпали и кладбище опустело. Ему казалось, что его тоже взволновала речь председателя и теперь он простится с Марьей по-настоящему, как положено прощаться с близким человеком. Он топтался у могилы, вертел длинной шеей, сучил лопатками, гоняя спинной зуд, и часто помаргивал, стараясь приблизить минуту, когда оросит егоглаза благодатная влага. Но сколько Филипп ни моргал, влаги не было. «Да плачь же, плачь, идол!» — приказывал он себе. Но не мог вы давить и слезинки...
Так и ушел ни с чем.
На поминках Филипп выпил ровно столько, чтобы раскованно, от души спеть любимую — «Со печалью утраты на бледном лице». Пел хорошо, с чувством, ни тихо, ни громко — на него даже не зашикали.
На следующий день он купил четвертинку и снова пошел на кладбище. Вернувшись, рассказывал, что видел там Рыжуху. Корова стояла, понурившись, над Марьиной могилой, а когда он попробовал отогнать ее хворостиной, кинулась на него и продырявила рогом пиджак. «Не верите?» — Филипп отворачивал полу и показывал дырку.
Ему, полупьявому, и верили и не верили...
Куцый
Утром, как обычно, Куцыйобходилдеревню...
Он был потомственным дворнягой, псом-мужиком, простецкий род которого по условиям жизни в общем-то не имел возможности якшаться с местными и иноземельными представителями благородных собачьих кровей. Однако, судя по спокойному нраву, крупному телу и сильной груди, густой и длинной шерсти, среди дальних предков Куцего могла быть кавказская овчарка — собака неторопливая, степенная и великодушная.
К пятнадцати преклонным собачьим годам Куцый с трудом ковылял набольных, покореженных простудой лапах, кашлял натужно, почти по-человечьи, на сухом горячем носу его всегдависела мутная капля. Пышная когда-то шуба местами свалялась, а кое-где вытерлась. На спине, по твердости, она была подобна войлоку, а на боках и задних ногах изредилась настолько, что проглядывали розоватые проплешины, — старик Куцый походил на затасканного детьми и потому облезлого плюшевого медведя. Тем более что и хвост у пса был как бы медвежий, вернее, хвостик — этакий огрызок с ладонь длиной, которым ни повилять, ни трубой поставить, ни баранкой кверху загнуть.
Масти пес был смешанной: белые пятна перемежались на нем с рыжими и бурыми, на голове носил шапку густого каштанового цвета. К старости пестрота эта поблекла, главенствующим стал белый тон, особенно сильнопоседела морда. Седая лохматая шерсть надбровий, свисая, почти закрывала большие коричневые глаза, светившиеся добротой и скорбью.
Добрым Куцый был от рождения, а скорбь пришла позже, по мере того как пес взрослел и познавал горечь земного существования.
Сегодня Куцый, как никогда раньше, остро чувствовал свою старческую немощь. Он дышал жадно и часто, вывалив бледный, с синеватым отливом язык, а воздуха все равно не хватало. В груди хлюпало и поскрипывало, начинала кружиться голова, мир виделся перевернутым: деревьями, вершины которых, как метлы, метут землю, с голубизной неба, бегущей у самых ног. Есть совсем не хотелось, и будь у него припрятана заначка — хлеба ли кус, кость какая — он отлежался бы в своем обычном месте, на старом дворище (здесь когда-то стоял дом хозяина), под стволом сваленного грозой и гниющего потихоньку клена. Но припасов на сей раз никаких не было, это, как научил его опыт, грозило обернуться длительной голодовкой — в последнее время им брезговали, гнали прочь и подавали неохотно и мало.
У первой избы, к которой он приплелся, плескалась и тошнотно зыбилась полоска неба. На полоске лежала выцветшая армейская фуражка с черным артиллерийским околышем, в ней покоилась усатая стариковская голова. Дальше шли сизая, в пупырышках, как у ощипанного петуха-перезрелка, шея, худые плечи и впалая грудь в помятой ситцевой рубахе в горошек и тонкие кривоватые ноги в грязных штанах и плохоньких, со стоптанными каблуками кирзовиках. Куцый ляскнул зубами, делая жкое усилие, чтобы стряхнуть с себя сонную одурь, мир неохотно, медленно, будто со ржавым скрипом, перевернулся и встал как положено. Дедовы кирзовики оказались у морды Куцего, и сверху донесся до пса знакомый хрипловатый голос:
— Это ты, бедолага?.. Ой, старость не радость... Совсем ты опаршивел, Куцый... Ну глянь в лужу, на кого ты похож... Опротивел людям и самому себе не мил... Так я разумею?.. Ну, ну, не лижись, вишь, сапог обслюнявил, а слюна твоя, животина, может, теперя заразная, организма наскрозь пораженная. Пристрелить бы тебя, чтоб не мучился, да рази подымется рука?.. Эх, сирый ты и убогий... ну что скажешь?
Куцый не собирался ничего говорить и вообще подавать голос. Побираясь по деревне, он никогда не взвизгивал, не лаял, не скулил, выпрашивая подачку. Он молча стоял у крыльца, низко опустив морду, как бы стыдясь самого себя, и терпеливо ждал появления кого-нибудь из избы. Иногда выходили, мельком взглядывали на нищего пса и, не промолвив ни слова, снова скрывались за дверью; иногда кричали: «А ну убирайся, трухлявый!», иногда швыряли камнем, палкой или железякой, и он, увернувшись, а то и нажив очередной синяк или ссадину, брел к следующей избе. Впрочем, дома́, где его встречали бранью и пинками, он навещал лишь по крайней нужде, обычно же обходил эти пять-шесть дворов, где можно было надеяться получить что-нибудь повкуснее ругани или затрещины.
— Не вовремя приплелся, псина, не вовремя, — беспокойно озираясь на окна, бормотал между тем дед Алеша, один из тех, кто жаловал беспризорного пса. — Невестка-то еще не ушла... Дочка, она, сам знаешь, доярка, ни свет ни заря на ферму, а невестка — в конторе, ей утром и не спешить можно, и в постели лишний часок понежиться... Да не гляди ты на меня так, враг ты этакий!.. Ну пошто рвешь душу?.. Ну схожу, схожу, авось тайком, незаметно...
Дед ушел и вернулся с оттопыренным карманом. Смущенно покряхтывая, выскреб из штанины хлебную корку. Корка большая, но закаменелая, нерушимой прочности. Дед утянул ее в сенях из холщовой торбы, куда складывались откусошки-обломушки для хряка Афанасия. Куцый ради приличия куснул корку, виновато подрожал огрызком хвоста и широко зевнул, обнажая слюнявые десны, где редко торчали желтые пенушки — остатки зубов.
— Знаю, знаю, — вконец сконфузился дед Алеша. Думаешь, мои жевалки лучше? А все же возьми, говорю, к вечеру, поди, дождь соберется, вот и размочит твой хлебушко... А то в лужу куда сунь, чуешь?..
Куцый еще раз лизнул благодарно мыс дедова кирзовика, взял в пасть твердяшку и двинулся прочь, по задворкам Алешиной избы, к дворищу с упавшим кленом. Положил хлеб под ветку, хотел было снова идти в деревню, но овражек принялся дергаться краями над небом, норовя опрокинуться, вязкая тошнота подползла от желудка к глотке. Куцый лег, вытянул лапы, уткнулся в них мордой и, поборов дурноту, чутко, по-стариковски, задремал. Потянулись перед ним медлительной чередой то и сны, то ли воспоминания, смутные и обрывочные, где в беспорядочной толчее событий ясно вырисовывался лишь один образ — невысокого худощавого человека на деревянной ноге, с гречишным посевом веснушек на широком лице и огненно-рыжей головой.
Первый и последний хозяин Куцего, приютивший его беспомощным щенком, командовал на фронте в звании капитана пехотным батальоном. Минуло десять лет, как вернулся с войны Мишка-рыжий, Мишка-комбат (так звали его в деревне), вернулся контуженый, без ноги, но такой веселый, удалой, громкогласый, что стало казаться — один он и есть теперь в тихой Дубровне, притулившейся десятком дворов к тихоструйной речушке Смородинке. Он не смеялся, а хохотал, не говорил, а кричал, не ходил, а бегал, отталкиваясь от земли массивной ореховой палкой. В серой, с расстегнутым хлястиком, раздуваемой ветром шинели Мишка прыгал огромным кузнечиком по деревне, разбрызгивая грязь в лужах и пугая суматошно кудахтавших, кидавшихся в разные стороны кур.
Куцего он спас за считанные минуты до гибели, на берегу вонючей сажалки, куда ребятня собиралась бросить щенка, предварительно перевив его розовое дитячье пузичко пеньковой веревкой с увесистой булыгой на конце.«Отставить!» — гаркнул комбат, подбегая к сажалке и ловко поддавая под зад бойкому и злому мальчишке-коноводу. Когда малышня рассеялась, он запахнул шинель, туже затянул ремень и сунул жалобно скулившего псенка за пазуху, в покойную темь и тепло. Запах Мишкиного горячего тела и кисловатый дух старой шинели Куцый запомнил на всю жизнь.
Впрочем, Куцый тогда еще не был Куцым, сперва носил он другую кличку. Принеся щенка домой, Мишка положил его на широкую и красную, как ржавая лопата, ладонь и принялся рассматривать, повертывая перед глазами и так и этак. «Да ты ж, миляга, как и я, рудый, — захохотал, довольный. — Прозвище мне на деревне — Рыжий, а по сему и тебе так называться...»
А Куцым пес стал позднее. Когда немного подрос он, Мишка отдал его на выучку фельдшеру Куприянычу, наипервейшему ружейному охотнику. Песик оказался смышленым, а учитель умелым, и хотя не текла в Куцем кровь настоящих охотничьих собак, довольно скоро осилил он такие премудрости, как брать след, молчать, где нужно, и когда нужно — подавать голос. Правда, стойку так и не научился толком делать, взбрехивал недоуменно перед заячьей сметкой — прыжком в сторону. Но Мишка, бравший его с собой в лес, не уставал нахваливать мужикам таланты Рыжего и убедил-таки многих в незаменимости своего пса на охоте.
Дольше всех недоверчиво хмыкал, презрительно косился на собаку сумрачным глазом надменно-молчаливый, живший одиноко на краю деревни лесник Виктор, по прозвищу Красавчик. «А ты проверь его на деле, — предложил комбат. — Иду на спор, что не подведет». — «Проверю», — буркнул лесник и через дня два-три, взяв собаку на поводок, отправился в Перховский бор. Однако до бора они не дошли, на полпути пес вырвал из лесниковой руки поводок и прибежал к хозяину. Тот подождал, когда вернется Виктор, и в его присутствии крепко выдрал Рыжего за уши. Минуло какое-товремя, и пес, хотя и без особого удовольствия, стал сопровождать лесника в его походах с ружьем по полям и чащобам.
Однажды на торной кабаньей тропе Виктор выстрелил жаканом в дикого вепря — угольно-черного кабана-одинца с желтыми, загнутыми в баранки клыками. Целил под лопатку, но угодил в самый верх кабаньей холки, и, распаленный болью, зверь помчался вскачь на Виктора. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не вывернулся из-за сосны Рыжий и не вцепился в морду хряка. Они завертелись в борьбе, тяжелый вепрь проваливался в снег по самое брюхо, но все же сподобился-таки уесть мерзко хрипевшуюпод ухом, нахально-прилипчивую тварь: в какой-то момент зад Рыжего очутился в кабаньей пасти, пес отчаянно дернулся и оставил в зубах супротивника добрых две трети своего великолепного пушистого хвоста.
Коротка, как остаток хвоста Рыжего, была схватка, Однако за эти секунды Виктор успел перезарядить свою одноствольную ижевку и вторым выстрелом уложить лесного свирепца.
«Выходит, он тебе жизнь спас, грудью заслонил, как на фронте!» — сказал Мишка, придя к леснику в дом спучас после происшествия. (Рыжий страдальчески взвизгивая, елозил по полу задом, пытаясь зализать рану). «Выходит, знамо дело», — угрюмо усмехнулся Виктор. «Значит, признаешь, товарищ боец, что проиграл спор?» — «Ну признаю», — сквозь зубы вымолвил лесник отшвырнул собаку к порогу. «Ты что?» — вскинулся Мишка. «Пол обкровенил, падла. Кто мыть будет? Веди его домой к чертовой матери!..»
Животных Витька не любил. Деревенские кошки, едва завидя угрюмого лесника, с истошным мяуканьем сигали на березы. В его доме уже лет десять, после смерти матери, не было ни куренка, ни гусенка, не говоря о более крупной живности — о поросенке там или корове. В лесу валил подряд все, что попадало на мушку, не соблюдая ни сроков охоты, ни правил. Инспектора охотхозяйства, который приехал однажды по анонимному письму для проверки и душеспасительной беседы, Виктор выслушал с подчеркнутым вниманием. Сидя за столом, уставленным выпивкой и снедью, поддакивал инспектору в той его мысли, что лесник, как и егерь, — благородный щитник леса, радетель его, бескорыстный и неусыпный оберегатель лесных обитателей. Но когда провожал незваного гостя, взял его, хмельного, за плечи, тряхнул и, нагло улыбаясь в лицо, предупредил: «Будешь вякать в районе — убью и под елкой закопаю». Сказал, будто пошутил, однако инспектор, хоть и сильно пьяный, побледнел, колобком скатился с крыльца и потом и в самом еле не «вякал» ни в районе, ни в области, предоставив Витьке полную власть над лесным зверьем.
Деревенские лесника боялись, дружбы с ним не водили. Но все отдавали должное его аккуратности, любви к чистоте. Вокруг Витькиного дома все было прибрано, уложено, подметено. Неженатый, он сам обстирывал себя, мыл до желтого сияния сосновые полы. В избе его, сколько ни напрягай слух, не услышать было мушиного жужжания или, того хуже, мышиного скреба.Лесника передергивало от гадливости, когда в его присутствии жаловались, что, мол, тараканы одолели, клопы житья не дают.
Был Витька охоч до женщин, но никто ни разу не видел, чтобы лесник — украдкой ли, явно — принимал у себя бабу или девку, предпочитая встречаться с ними настороне, в их же домах, или на воле — где-нибудь в роще, в поле, на зеленом берегу Смородинки. Огромного роста, с лицом смуглым и диковатым, пристальным взглядом серых с поволокой, глубоких и словно бы вечно тоскующих глаз, он нравился женщинам и чаще всего не сам искал их, а они его. Впрочем, ходил к избранницам тайно и от них требовал тайны; в деревне, где жил, не шкодничал, и не было случая, чтобы польстился на замужнюю — выбирал себе в окрестных селах молодых вдовок, разведенок и девок, не зеленых, а уже обстрелянных, понюхавших любовного пороха. Потому никто не осуждал лесника, никто из мужиков не имел к нему каких-либо обид по женской части.
Но так было до поры до времени...
Мишка и Витька родились и выросли в одной деревне, но дружить никогда не дружили из-за разности характеров и склонностей. Витька, с детства сильный и самолюбивый, рано усвоил истину, что лучше брать, нежели давать, и куда удобней командовать, чем подчиняться. Со сверстниками он не водился, а с меньшими по возрасту был суров до жестокости, малейшее неповиновение влекло за собой быструю расправу с пинками и зуботычинами. Ребячья мелюзга старалась держаться подальше от Витьки. Она лепилась к Мишке, доброта которого доходила до самозабвения. Получив от матери что-либо вкусное — привезенный из города пряник, кусок сахара, горсть орехов, он спешил к какому-нибудь замурзанному Ванятке, которого дома кормили пустой картошкой. Под его предводительством и опекой детишки ходили в лес за грибами, собирали землянику, малину, ловили уклеек в речке. Он брал в избе-читальне книжки поинтересней и, собрав ребятню, читал вслух, с выражением, чувством, четко выговаривая слова, будто вкатывая их, как горошины, в широко открытые от любопытства розовые рты. Если Виктор на его глазах обижал маленького, Мишка бросался на защиту с такой яростью, что нередко побеждал в драке, хотя Витька был и выше ростом и сильнее его.В войну их вместе призвали в армию, и лишь они двое вернулись в деревню, Мишка — инвалидом, Витька — трижды раненным, но еще более крепким и гладким, чем до войны. Потому что везло человеку, и все его три ранения оказались несерьезными, без повреждения костей, печенок-селезенок...
Видят ли собаки сны? Умеют ли вспоминать? Сначала смутно, как в утреннем молочно-густом тумане, потом отчетливей виделась то ли дремлющему, то ли стынущему в смертной истоме Куцему разбитная вертлявая бабенка — черноволосая, черноглазая (глаза у нее косили), с медными, в виде серпиков, серьгами в крупных желтых ушах, в цветастой ситцевой кофте, расстегнутой до ложбинки меж грудей, в серой, вечно заляпанной какими-то пятнами юбке, босыми ногами с выпуклыми икрами и маленькими сухими ступнями. Лицо у Дуньки было цыганское, как говорили в деревне, — «коптяное». Словно еще во младенчестве взяли дитя за ножку и подержали вниз головой над дымом костра, чтобы прокоптилось, хотя и мать Дуньки, и отец клялись-божились, что в их родне, ни в дальней, ни в близкой, никогда не было цыган.
Самой же Дуняхе, видно, приятно было считать себя цыганкой, чем-то выделяться среди деревенских баб и девок. Она всегда напевала одну и ту же песню: «Цыгане любят кольца, кольца не простые, цыгане любят кольца‚ кольца золотые». Далее из песни следовало, что цыгане любят, кроме золотых колец, шали не простые, шали пуховые, цветные юбки и быстрых коней. В припеве было признание: «Ах, мама, мама, мама, люблю цыгана Яна» и обращение к откуда-то взявшимся не то собственным, не то чужим детям: «Ах, верю, верю, дети, что есть любовь на свете». Песню эту она то мурлыкала тихонько, что-нибудь делая по дому, будучи в благодушии, то визгливо выкрикивала, выпив рюмку-другую.
Двое Дунькиных сестер, постарше ее, подались в трудную послевоенную пору в город и, безмужние, по слухам, вели там беспечальную шумную жизнь. А Дунька осталась в деревне и тоже не печалилась, плясала и пела на вечеринках, шумела на всю округу, время от времени вступая в жаркие рукопашные схватки с женами тех мужиков, которые не стойки были перед ее чарами. Потаскав Дуньку за густейшую гриву иссиня-черных волос, оставив на ее смуглом лице с десяток царапин и получив то же самое от соперницы, женщина уходила, как ни странно, совершенно успокоенная, хотя и с ясным сознанием, что все останется по-старому. Где уж им было тягаться с Дунькой, если она, как свято верили бабы, была от рождения наделена даром привораживать.
Иначе чем объяснить, что Мишка-комбат, больше всего ценивший в людях порядочность и доброту, вдруг перестал улыбаться в ответ на ласковые улыбки самых красивых девок на выданье, самых рассудительных и работящих молодых вдов и влюбился в лживую, распутную, раскосую Дуньку. Походил в ее грязную избу с неделю и, осунувшийся, измученный, но счастливый, ошарашил деревню заявлением, что женится на Дуняхе. Ждали — одумается комбат, но еще через неделю была сыграна свадьба...
С Витькой они были в то время словно бы и приятели. «Одни мы теперь с тобой на деревне мужички-фронтовички, — сказал как-то Мишка леснику. — А коль так, ссориться нам не пристало». И Красавчик угрюмо кивнул, соглашаясь, коротко тряхнул комбатову руку. Не кто-нибудь, а Витька предупреждал Мишку: «Одумайся, не марайся, она не пара тебе». На что Мишка сердито встряхивал красной своей головой и упрямо твердил: «Не грязь она, ославили люди... И ты с чужих слов поешь».
Дунькины коварство и лживость тотчас же на собственной шкуре испытал Куцый, стоило лишь ей на правах жены и хозяйки поселиться в комбатовом доме. В присутствии мужа она старалась всячески показать, что по-доброму относится к псу. Когда тот, прошмыгнув в полуотворенную дверь, деликатно топтался у порога, скребя грязными лапами по половику, она певуче-ласково приглашала его, как человека. «Ну проходи, проходи, миляга», —и гладила по спине. «Ко мне, Куцый!» — звал его хозяин. Повечерам комбат лежал обычно на лавке и, придвинув к изголовью керосиновую, лампу, читал старую газету. В эти добрые минуты порой перепадало Куцему из Дунькиных рук что-нибудь вкусное — из чугунков, нежившихся в теплой печке. Но все это было притворством и фальшью. Утром, когда Михаил уходил из дома по своим бригадирским делам, Куцый старался не попадаться на глаза Дуньке: без малейшей провинности можно было схлопотать пинок под зад и услышать такую гнусную ругань, что даже ему, псу, в пору было садиться там, где стоял, и выскребывать лапой застрявшие в ушах черные слова. Однако пес все терпел, ему и в голову не приходило обижаться: она была женой хозяина, и уже одно это ставило ее выше обид и суждений.
Тем более что жили молодые на первых порах словно бы и совсем неплохо. Минуло несколько месяцев, и приутихла Дунькина дурная слава. Если теперь и слышались пересуды, то речь всегда шла в прошлом времени: правду, мол, в подпол не спрячешь, уж такой шкурехой была эта Дунька, копчено-косоглазая, уж такой распущенкой, а что касаемо данного момента и сегодняшнего положения, то грех на душу не возьмем — в дурном не замечена. Другие же, настроя скептического, не больно-то верившие, головами покачивали: э-э, дескать, черную сучку добела не отмоешь...
Эти как в воду глядели.
Если бы Куцый мог говорить, он обязательно поделился бы с хозяином своими нечаянными наблюдениями. Как бригадиру, отвели Мишке на краю деревни контору —полусгнившую развалюху, с неошкуренным столбом посередке, подпиравшим готовый вот-вот рухнуть потолок. Утром, когда бригадир давал наряды, набивалось сюда изрядно мужиков и баб. Сильный пол нещадно смолил цигарки и плевался желтой слюной, слабый — с беличьим проворством грыз семечки, легкая лузга так и летела во все стороны. Худо-бедно, раз в неделю приходила сюда Дунька с ведром воды, тряпкой и веником, чтобы навести мало-мальскую чистоту.
Куцый, неторопливой трусцой бегая по деревне, не раз видел Дуняху возле конторы. Гремя связкой ключей, она открывала замок, потом надолго скрывалась за косо висевшей на петлях, в зигзагообразных трещинах дверью. Порой оттуда доносилось: «Цыгане любят юбки, юбки не простые...» Знал Куцый и о том, что с какого-то времени, а точнее, с конца осени, когда уже захолодало по-настоящему, стал наведываться в контору и лесник Витька. Дуняха зажигала в конторе свет, и это был знак. Витькин дом стоял напротив, на отшибе, через ложок, и, по зову распущенки, Красавчик бесшумно появлялся высоком крыльце, быстро и зорко осматривал околицу и, убедившись, что никого поблизости нет, крупно шагал к конторе. Все раньше темнело, и лесниковы мужские прогулки надежнее, чем оглядки по сторонам, хранила сырая осенняя мгла. Полюбовники считали себя тем более в безопасности, что Мишкина изба была на другом конце деревни, дверь конторы запиралась изнути на тяжелый кованый крюк, а одно из окон, смотревшее в ложок, искушенная в тайных свиданках Дуняха всегда оставляла открытым — при опасности, мол, сигай, мил друг, наружу.
По вечерам, оставаясь наедине с хозяином, Куцый ложился у печки и смотрел на Мишку, читавшего на лавке газету. Какое-то третье чутье подсказывало псу, что над дорогим ему человеком витает опасность и что угроза исходит от тех двоих, прячущихся сейчас в конторе. Он смотрел на Мишку так пристально и печально, что тот сначала косился на пса, потом с шуршанием опускал на грудь газетные листы, подзывал Куцего и трепал по загривку, спрашивал: «Ну что, мой верный? Что сказать хочешь?»
Сказали другие. В конце концов тайное, как водится, стало явным, не уберегли любовников ни осенняя темь, ни предосторожности. А по правде, не особенно и сторожились Дуняха с Витькой: она — по врожденному своему бесстыдству, он — по высокомерному презрению к людям, их мнению. Намекнули сельчане Мишке, что, мол, Дунька за старое взялась, — он отмахнулся досадливо. Напрямки рубанули: негоже, мол, фронтовику, бригадиру на женкины блудни глаза закрывать, где твоя гордость, комбат? — он озлился, застучал в пол ногой-деревяшкой, схватил палку и закричал, чтобы оставили его с женой в покое, не то он за себя не ручается. Но не отстали от Мишки радетели да блюстители, допекли его таки. «Ты знаешь, что о тебе на деревне болтают, товарищ жена? — спросил как-то у Дуньки. — А может, правду говорят?» Та, вылупив бесстыжие зенки, так картинно отчихвостила «говорков», что комбат поднял руки, сдаваясь, от смущения побагровел и закашлялся.
И был еще один вечер. Мишка прыгал по хате, метался из угла в угол, взад-вперед, то стучал деревяшкой еле слышно, то отбивал яростную дробь, бормотал что-то, ругался и всхлипывал. Потом крякнул, встряхнул рыжей головой, видимо на что-то решившись, надел шинель, взял палку и двинулся к двери. Куцый, дремавший у печки, вскинулся было, но услышал короткое: «Лежать!» — и, дрожа от желания броситься вслед за хозяином, все же остался на месте.
Комбат не хотел выступать в унизительной роли сыщика и соглядатая и, подходя к конторе, еще издали нарочито громко заорал: «Эй, есть кто там?» Окна избушки не светились, дверь была незаперта, он толкнул ее и переступил порог, еще раз крикнув: «Есть кто?» Не дождавшись ответа, нащупал в потемках выключатель, даванул на кнопку и в тусклом свете вспыхнувшей под потолком лампочки увидел в углу на стуле растерзанную, в расстегнутой кофтенке Дуняху, а у окна — внешне спокойного, презрительно кривившего губы Виктора.
Как ни готовил себя комбат к такому повороту событий, он растерялся. «Да вы хоть бы дверь заперли, черти», — сказал первое, что навернулось на язык. Дуняха молчала, морщась от досады, — ведь все хотела отстранить Витьку, пойти закрыть дверь... Молчал и Виктор, лишь подергивал шеей, глядя высокомерно куда-то в сторону и вверх. «Ах ты сволочь! — сказал ему Мишка. — А еще другом прикидывался...» — «Прилипла вот, — прокашлялся и подал наконец голос Виктор. — Она, сука, как лист банный... Спасу нет. Будто присушила, ведьма, с ней тошно, а без нее еще хуже... хоть волком вой, знамо дело...» — Красавчик говорил с натугой, запинаясь, — ломал гордость свою. «Ну и бери ее! — крикнул Мишка. Бери, раз не можешь без нее!» — «Это куда — «бери»? В дом, что ли?» — Витька длинно сплюнул под ноги и засмеялся.
Дуняха, до сих пор смирно стоявшая в углу, вдруг выскочила на середину избы и, подбоченясь, визгливо запела: «Цыгане любят шали, шали не простые!..» И тогдаМишка, чувствуя‚как в ярости заходится сердце, поднял палку и шагнул к Красавчику...
Куцый после ухода хозяина недолго лежал у печи. Сила, которая была сильнее Мишкиного приказа, заставила вскочить его на ноги, встряхнула жестко и вышвырнула за дверь. Пес прыжками помчался по свежему следу комбата и ворвался в избушку в ту самую минуту, когда Витька, увернувшись от удара, выхватил из Мишкиных рук палку и через плечо, не оборачиваясь, выбросил ее в открытое окно. Мишка метнулся к нему снова, норовя дотянуться до горла, и тогда лесник, не размахиваясь, коротким и сильным тычком в подбородок свалил его на пол. «Дай ему, зануде рыжему», — с жадно разгоревшимися глазами крикнула Дуняха, и, словно повинуясь ее команде, Витька принялся с хеканьем пинать сапогом валявшегося на полу Мишку, видно ничуть не заботясь о том, куда попадают его удары — в живот или лицо.
Куцый, запутавшийся было в ногах дерущихся, два раза хватанувший по ошибке Мишкину деревяшку, наконец-то разобрался в мельтешивших перед мордой конечностях и, подпрыгнув, вцепился в Витькино колено, чуть повыше непробиваемо крепкого ялового сапога. Красавчик охнул, отшвырнул пса к стенке, тот подхватился и вновь кинулся на противника. Все завертелось, что-то кричал комбат, тонко, пронзительно визжала Дунька...
Беда была в том, что не обошлось без свидетелей. Привлеченная шумом, всунула седую голову в дверь старуха, бредшая к соседке на посиделки. За ней приковылял дед Алеша. Приплелись другие старики и старухи. Прибежали мужики и бабы, девки и парни, подростки и ребячья мелкота. У дверей конторы образовалась толпа, задние вталкивали в избушку передних, передние пятились назад, стараясь не слишком уж выказывать свое любопытство. Мишка, ничком лежавший на полу, зашевелился, поднял голову, показав осунувшееся, каменно-темное лицо, и, скрипя зубами, постанывая не столько от боли, сколько от позора, начал медленно подниматься. Дед Алеша подставил ему плечо, подал шапку, и комбат, вытянув перед собой руки, будто слепой, двинулся к выходу. Людская пробка в дверях подалась перед ним, Мишка вышел и, сопровождаемый Куцым, отправился домой. Месил в темноте густую дорожную грязь, все прибавляя шагу — скорей, скорей, подальше от жалостливого шушуканья баб, сокрушенного покряхтывания мужиков, хихиканья в кулак дебелых девок на выданье.
В. ту ночь сидели они вдвоем в избе: Мишка-за столом, тупо упершись взглядом в грязную столешницу, он — у живой, теплой ноги хозяина. Мишкина рука, висевшая вдоль тела, была перед самым носом Куцего, он не удержался, лизнул ее, но на сей раз ничем не ответила псу добрая хозяйская рука — даже не шевельнулась. Да и вряд ли видел Мишка сидевшего рядом пса. Он будто одеревенел, лишь изредка в его потухших глазах мелькал дальний отблеск надежды, может, чудились ему на улице Дунькины шаги, что вот-вот появится она на пороге. Было за полночь, когда комбат, очнувшись, зябко повел плечами, усмехнулся горько и обратился к собаке:
— Ну как тебе все это нравится, дружище?
Пес вскочил на ноги, обрадованный, что хозяин наконец-то подает признаки жизни, благодарно взбрехнул.
— Не нравится, говоришь... А мне-то каково? Как они смотрели на меня, как рты раскрыли от любопытства! О-о-о!.. — Мишка сжал ладонями голову, застонал, покачиваясь.
На столе перед ним лежало что-то завернутое в промасленную тряпицу. Часа в два ночи, так и недождавшись Дуньки, комбат медленно развернул углы тряпицы и задумчиво постукал ногтем большого пальца по вороненой стали трофейного вальтера, хранимого все эти годы на самом дне самодельного, привезенного с фронтасундучка. Комбат бережно поднял пистолет, лязгнул затвором, заряжен ли, и приставил ствол к груди туда, где стучало сердце и где было нестерпимо больно...
Но задремавший Куцый очнулся не от выстрела. Что-то коротко и звонко стукнуло о печку, потом, отрикошетив, глухо брякнуло в стенку. Это комбат, вскочив из-за стола, с силой отбросил от себя вальтер.
— Да пропади они пропадом! — крикнул. Чтобы из-за них!..
Выдвинув на середину избы сундучок, комбат положил в него ложку, кружку, мыло, из комода достал чистую рубаху, пару белья, меховую безрукавку... Куцыйвстревоженно следил за хозяином, понимая, что тот снова собирается куда-то уходить.
— Поживем еще, товарищ пес, — сказал комбат, заметив взгляд Куцего. — Но не здесь. Счастливо оставаться, Дубровна! Вот только не знаю, куда податься. Может, на Украину махнуть, к Корешу фронтовому?..
Куцый подбежал к хозяину, виляя хвостом.
— Нет, нет, тебя не возьму. И не проси. Самому неизвестно, где завтра голову приклоню... Ну, прощай, дружище, не поминай лихом!
Комбат говорил это, уже стоя за порогом. Пес кинулся было, чтобы прошмыгнуть у ног хозяина, но тот оказался проворнее — захлопнул дверь перед самым носом Куцего. Отчаянно визжа, пес закружил по хате, вскочил на подоконник, упал оттуда, потом сел у печки и тихонько заскулил, заплакал, жалуясь на свою собачью судьбу.
Дунька жила в деревне еще с полгода. Жила скучно, одиноко — все ее сторонились. Встречая на улице недавнюю свою полюбовницу, Виктор проходил мимо, даже
бровью не шевельнув — не замечал вовсе. Весной Дуняха продала Мишкин дом (на слом, на дрова) и уехала в город — к сестрам.
...Солнце уже скрылось за лесом, а Куцый все еще лежал под кленом, то задремывая, то бодрствуя. Крупная дрожь время от времени прокатывалась по дряхлому, с негреющей кровью телу. К вечеру он ощутил что-то вроде голода, позывы пустого желудка, и приоткрыл глаза: краюха горбатилась перед носом, стоило лишь раскрыть рот... Но вид хлеба не возбудил желания съесть его, напротив, Куцего страшило то, что надо было сделать — разгрызть ломоть, засохший за день до твердости камня, смочить крошки слюной, глотать, чувствуя, как они жестко царапают горло. Пес только притронулся к краюхе черными сухими губами и тут же снова уронил на лапы лохматую голову.
Потом он услышал шаркающие шаги деда Алеши.
— Да ты никак захворал, сердяга, — тихо опускался сверху слабый шамкающий голос. — Эвон, как дрожишь... Худо тебе?.. Жить невмоготу?.. Пора тебе помирать, пора... А смерти не бойся, там тебе ни старости, ниболести...
Куцый попрядал ушами и поскулил на тончайшей ноте, давая знать деду, что слышит его и признателен за утешительные речи.
— Ну ладно, лежи, лежи, — сказал дед. — Лежи и спи, к ночи время поворачивает, спи до утра, а завтра я тебе, может, супчику раздобуду, невестка нацелилась варить — с курятинкой... Эх, смак! Похлебаешь тепленького, авось и полегчает... Ну будь, старый, будь!..
Куцый хотел поближе подползти к деду, дернулся телом к его ногам, но старик уже уходил, и звук его неверных прерывающихся шагов вскоре затих вдалеке. Пес опустил надбровья, почти закрыв глаза, и в сумраке снова увидел перед собой сапоги, но не дедовы кирзовики, стоптанные и залатанные, а яловые, ладные, густо пахнущие дегтем. Мыс сапога поднялся, покачался в воздухе и мягко вошел в бок стонавшего на полу хозяина... Куцый захрипел в забытьи, вздыбилась шерсть на спине, гулко заколотилось сердце — до того зрима была картина, всплывшая из дальних лет.
Внезапно ему захотелось подняться на ноги, и в нем забрезжила надежда, что у него хватит на это сил. И в самом деле сил хватило: он встал и понюхал воздух. Пахло кленом, лугом, речкой, а еще — дегтем. Может, те сапоги прошли недавно мимо него, когда он спал. Куцый, подняв морду, глядел на звезды и перебирал лапами. Дрожь покинула тело, не поднималась от желудка муторная дурнота, мир прочно был влит в положенные ему пределы и не пытался опрокинуться вниз небом. Куцый прерывисто вздохнул и побежал по тропе. Он хорошо знал, куда ему надо бежать. Преодолел ложок, ловко, как в молодости, переполз по узеньким кладкам на другой берег ручья и поднялся на пригорок, где стоял несокрушимо крепкий, сложенный из вековых сосновых стволов дом.
Пес запрокинул морду к слепым, бельмасто белевшим в звездном сиянии окнам и взвыл на одной протяжной пронзительной ноте. Он выл пять, а может, и десять минут, до тех пор, пока в окнах не вспыхнул свет. Куцый поспешил взобраться на крыльцо и услышал, как в сенцах громко выругались: «Ах, чтоб тебе!..» Раскрыласьдверь, и в проеме встала неправдоподобно большая фи гура с фонарем в высоко поднятой руке, в трусах и сапогах на босу ногу. Изловчившись, Куцый сомкнул челюсти на жестком, вонявшем дегтем, голенище. Тут же ногасудорожно дернулась и подалась назад, сокрушая в собачьей пасти последние оставшиеся там зубы — они тихо, но отчетливо стукнули о доски крыльца.
Спросонья Красавчика покачивало, он промахивалсядважды, норовя пнуть Куцего в бок. Но третьим ударом достал все же пса. Поднятый в воздух, он пролетел над ступенями крыльца и шлепнулся хребтом о колоду с воткнутым в нее топором. Удар был таким сильным, что Куцый сшиб топор и скользнул по траве — еще дальше, — к штакетнику...
Когда он пришел в себя, на крыльце никого не было, но окна еще светились. Он подполз к крыльцу и сновазавыл, с тоской и яростью, чувствуя, что силы вот-вотиссякнут. На этот раз дверь не раскрылась — распахнулась с треском: лесник выбил ее наружу прикладом ружья. Куцый придвинулся к свету окон, чтобы быть навиду. Виктор расставилноги в черных сапогах, вжал приклад в плечо и принялся целиться — он хотел бить наверняка.
И грянул выстрел...
Он не встревожил деревню: была пора открытой охоты, горожане, наезжавшие в эти глухие места, бабахалито тут, то там, порой забавы ради, в любое время суток. А вот вой...
Собаки воют у того дома, где умирает или уже умер человек. Многие в ту ночь не спали, разбуженные песьим воем, и, ворочаясь в потемках, определяя, откуда он летит, гадали — уж не случилось что с лесником.Но утром он, как всегда, высокий, прямой, с угрюмо-спокойным лицом, появился на крыльце своего дома. Куцый лежал на боку, скрюченный смертью, подняв кверху вывороченные последней болью лапы. Беззубая пасть была оскалена.
Виктор, торопясь, спустился по ступеням, гадливо морщась, взял Куцего за задние лапы, волоча мордой по земле, понес в кустарник.
Лунки
Наш «газик», взобравшись на пригорок, резво покатился вниз, к небольшому круглому озеру. На льду чернела закутанная в платок фигурка. «Женщина за водой пришла или рыбак, по-бабьи одетый?» — подумал я. Но откуда? Кругом ни домика, белое безмолвие, глушь, безлюдье. Был январь. В утреннем небе стыл бледный серп луны. Шипела поземка...
Томимый любопытством, я попросил шофера остановиться и зашагал по белесому скользкому льду. Подойдя поближе, увидел старика — сухонького, маленького, в тулупе и стоптанных валенках. У него были выцветшие голубые глазки и коричневое морщинистое лицо. «Лет семьдесят», — определил я мысленно. Чтобы слышать меня, дед сдвинул с уха край толстого клетчатого платка и виновато улыбнулся в заиндевевшую бороду. Показывая на тяжелый лом, пояснил:
— Дырки долблю...
Нет, это был не рыболов. Вернее, не настоящий рыболов. Тот наверняка употребил бы специальное слово — лунки. К тому же у деда не было ни рюкзака, ни других принадлежностей. Правда, чуть поодаль я заметил короткую зимнюю удочку, но старик, видно, не следил за ней: она была полузасыпана снегом.
Я оглянулся. Вокруг чернело с десяток: круглых отверстий. В них стыла ледяная вода.
— Дырки, они, чтобы рыба не задохнулась, — сказал дед.
— Колхоз здесь рыбу разводит?
— Да нет, мил человек, дикая рыбка, беспризорная, а все жаль, ежели сгибнет... Живая ведь тварь. Да и ребятишки на это озерко летом ходят: ловят на удочку окуньков, плотвичек. Все забава.
— А деревня далеко отсюда?
— Версты три, мил человек...
— И каждый день ходишь сюда долбить дырки?
— Зачем каждый день? Через день, через два. Рыбка хлебнет свежей водички, смотришь, и бодрей стала, веселей ей весну ожидать…
— А что же ты, дедушка, в женский пол записался, платок вместо шапки надел?
Старик взглянул конфузливо:
— Это мне старуха притеснение чинит. «Не шляйя, — говорит, — на озеро, старый...» Сегодня вот шапку спрятала, чтобы, значит, я дома сидел. А я потихоньку ее платок с гвоздика — и сюда...
— Не твою ли я старуху видел, когда сейчас по деревне проезжал? Я еще внимание обратил: идет по улице женщина, воду на коромысле несет, а на голове — шапка с опущенными ушами. Черная такая, с рыжим мехом…
— Она! — прыснул дед. Моя шапка. И старуха, ей-бо, моя.
Посмеявшись вволю, он надвинул на ухо платок, давая понять, что разговор окончен, и затюкал ломом по голубоватому ледяному панцирю...
Именины
Кони не ржали. Стреноженные, они молча прыгали по низкой луговине, белой от вечерней росы, и звук их тяжелого топа передавался по земле через речку к баньке, возле которой на дубовой колоде для рубки дров сидел дед Прокоп. Он был лыс, без усов и бороды, с розовым, маленьким по-детски личиком, узкие плечи охватывала, выказывая бугорки мослов, застиранная до сквозной ряднины голубая рубашка, острые колени сжимали темную от времени, отполированную вверху ладонями можжевеловую клюку. Ее вырезала в лесу, очистила от сучков и принесла Прокопу дочь Евдокия, когда он однажды пожаловался, что у него отказывают ноги. А когда точно начали отказывать, когда пожаловался, и не помнит уже: может, полтора десятка лет тому назад, а может, и все два.
Тогда он грибы перестал собирать. А уж как любил встать спозаранку и пойти по утреннему холодку к недалекой роще. Нетронуто и толсто лежит на проселке пыль, приятной теплотой нежит босые ноги. Тело каждой жилочкой ощущает благодать нарождающегося летнего дня. А как радостно вздрагивается, когда с проселка сворачиваешь на травяную целину, темную и сырую, и чувствуешь, как росная знобкость поднимается по ногам от ступней к коленкам. А потом первые березки, первый огляд по сторонам: а ну где вы тут прячетесь, родненькие, черные и белые, маленькие и большие?..
В грибах и приключилось памятное. Как-то раз протянул он руку под ветку, чтобы взять крепыш-боровичок, а там заяц таился. Подпрыгнув в испуге, косой крепко ударился о Прокопову грудь, пал наземь, но тут же подхватился и задал такого стрекача, что только треск пошел по чащобному сухому валежнику. А Прокоп где стоял, там и сел на траву — ноги не держали его.
Рассказать кому, засмеяли бы. Его, солдата двух войн, напугал до коленной дрожи какой-то там заяц — безобидная животина, сама вечно дрожащая. Он и не рассказывал никому, не веря всерьез, что причиной болезни стал такой пустяк. Но как бы там ни было, с того дня начали неметь его ноги, слабели помаленьку, будто не свои делались...
Дед дремал и не дремал, думал и не думал, мысли его плелись, спотыкаясь, были мелки, часты и запутаны, как ветки в низкорослом осиннике, и, будто грибы-красноголовики, вспыхивали порой в серой сумятице дедовых воспоминаний яркие картинки, летевшие навстречу из глубокого колодца памяти.
Плюх, плюх! — топали за речкой кони.
«А-а-а!» — то ли кричал, то ли визжал Прокоп, терзая шпорами тощие бока коня-савраски, бешено крутя над головой шашкой, криком и визгом глуша страх перед тем неведомым и опасным, что таилось в балке. К этой балке со всех сторон скакали конники, и Прокоп скакал вместе с ними. А в балке сидели казаки. Один — черный, чубатый, с кровяной лампасиной вдоль ноги — поднялся во весь рост, вскинул короткую кавалерийскую винтовку, и так явственно видел Прокоп — прямо в лоб ему нацелен вороненый ствол, вот-вот срежет его хлесткая пуля.
Но бог миловал, не из метких стрелков был, видно, краснолампасник, угодил в савраскину грудь, и Прокоп, не успев охнуть, покатился кубарем по траве, по отлогому склону, под ноги казака. Отбросив винтовку, тот выхватил из ножен саблю, занес ее над Прокопом. И он, зная, что над ним взметнулась смерть, помертвевшими губами ткнулся в землю и зажмурился. Но удара не последовало. В следующий миг сраженный кем-то
казак повалился на Прокопа, тяжело придавив его горячим потным телом. В последней, видать, судороге он все же успел уесть саблей Прокопа — полоснуть его по бедру и голени. Правда, стальное жало лишь слегка прошлось по живой Прокоповой плоти, но зато изрядно попортило его армейское обмундирование, распластав штанину и сапог.
Оказалось, когда кинулся на него краснолампасник с шашкой, выручил дружок и односельчанин Гордей Макеев. Это он упредил казака, смахнув у него полчерепа. С окровавленной саблей вертелся Гордей на коне в тесной балке возле распростертого на земле Прокопа и орал возбужденно: «Вставай, вставай, нечего светить голой задницей... мать твою!» Балку уже захлестывала красная конница, с крутого противоположного обрыва прыгали вниз спешившиеся бойцы. И Прокоп, все еще не веря в спасение, стал медленно подниматься, прижимаяк бедру лоскутья галифе.
Для Прокопа с Гордеем это был первый бой, и оба они удостоились за него благодарности перед строем — за то, что в атаке скакали впереди и в числе первых ворвались в балку. «Кабы не я, лежать бы тебе упокойником... под ребро!» — сказал после боя Гордей, как всегда, пристегивая, по своему обыкновению, к сказанному матерное ругательство. «Это как пить дать», — покорно отвечал Прокоп, вытаскивая из нагрудного кармана серебряные часы на цепочке — память покойного деда, николаевского унтера. Очень дороги были те часы Прокопу, и тешил он себя тайной надеждой, что Гордейотведет в сторону его благодарственную дань. Но дружок часы взял, и, что обиднее всего, взял с подчеркнутой небрежностью, недовольством даже: мол, подарок твой не идет ни в какое сравнение с тем, что сделанодля тебя мною. И, покачивая часы на цепочке, молвилс ухмылкой: «Ладно, поносим эти, пока именными не наградят».
И ведь наградили шельмеца — золотыми, заграничной марки «Мозер». По краю крышки затейливой вязью бежала гравировка: «Храброму бойцу мировой революции Гордею Фомичу Макееву». Но Прокоп тоже оказался не из трусливых. Первый его страх в бою был и последним. Через полгода сам комдив пришпилил к его почти что белой (краску выел пот) гимнастерке боевой орден Красного Знамени. «Ладно, поглядим», — много значительно сказал Гордей и вскоре получил такую же награду. Всю войну шли они вровень, никто не хотел плестись в хвосте, так и вернулись в родную деревню, стоя друг друга, оба — красные герои.
Но никогда не говорили они о ней, об Ольге, из-за которой давно уже завелось меж ними соперничество, сначала явное, открытое, с петушиной сшибкой, хватанием за грудки, а потом, на войне, — подспудное, тайное. Почти два года отмахали они шашками в одном эскадроне и ни разу вслух не назвали ее по имени, даже во время длительных передышек, под звездами у костра, когда все располагает к воспоминаниям и откровенности. Перебирали по памяти чуть ли не всех жителей своих многолюдных Подосинок, а об Ольге ни слова. Хотя и думали о ней постоянно. И геройствовали, лезли в бою в самое пекло тоже с мыслью о ней: мол, ежели суждено в огне мировой революции не сгореть, уцелеть обоим, то Ольга уж, наверное, выберет из них двоих того, кто храбрей и заслуженней.
Так и предстали они перед Ольгой, вернувшись с войны, как два царевича, один лучше другого, перед царевной красой — долгой косой из стародавней мамкиной сказки:
«Ах, что вспомнилось!..» — растроганно пробормотал Прокоп, елозя тощими ягодицами по колоде и оглаживая ладонями можжевеловую палку. Весь день сегодня думал он о Гордее без обычной скрытной обиды, думал хорошо, с грустью и даже жалостью, будто бы Гордей — самоуверенный, нахрапистый, удачливый — нуждался в его, Прокоповой, жалости.
А уж сумерки густели над речкой, над луговиной, где прыгали кони. Все синей становилось небо, все ниже клонилось оно к земле, и на востоке уже не понять было,
где кончается воздух и начинается твердь.
Из баньки выскочила голая девка — плечистая, высокая, голенастая. Девкино тело было распаренное, густо малиновое, и на холодном воздухе оно вмиг взошло белесым облачком, словно бы закурилось, как раскаленный гвоздь, опущенный в воду.
— Что уставился, дед?!
Девку будто выпер наружу горячий пар, тугим клубом стрельнувший из распахнутых дверей. С минуту она стояла в нерешительности, опустив руки к низу живота‚ переступая крупными ступнями на густой траве. Потом, гикнув, помчалась прямо на Прокопа, уже не стыдясь его старости, как не стыдилась бы перед малым дитем. Пробегая мимо, тряхнула гривой темных волос, обдав деда россыпью капель. Обернувшись, он тупо смотрел на ее широкие плечи, на худую узкую спину, разделенную надвое цепочкой сухих позвонков. Девка, дико всхохотнув, с размаху бросилась в речку, гулко зашлепала ладонями по темной воде.
«Никак, Гордина внучка? Эка вымахала, кобыла», — подумал дед и пожевал быстро, по-заячьи, коричневыми ремешками губ.
— Дед! Хрыч старый! Перекоп! Ай оглох! А ну брысь отседова! — кричали ему женщины, сбившиеся в дверях. Нависая друг над дружкой грудями, толкаясь, они маялись нетерпением тоже окунуться в речку, а тут этот дед, словно пришпиленный...
— Ухожу, ухожу, тьфу на вас, толстомясые, — пробормотал Прокоп, поднимаясь. Он слышал, как под истонченной дряблой кожей скрипнули его кости, сморщился от боли в пояснице, но все же сделал первый, самый трудный шаг. А там еще шаг, еще, и дед заковылял все быстрее по тропе, вверх к деревне, которая, точно стыдясь своей непригляди — грязных хлевов и серых домишек с ветхими сараюшками на задворках, — все глубже нахлобучивала, на самые глаза-окна, плотную шапку сумерек. «Неужто вечер уже?» — подивился Прокоп и, хоть убей, не мог бы объяснить даже самому себе, зачем понесла его нелегкая к баньке, зачем просидел он там сиднем все предвечерье, слушая топ стреноженных коней.
По деревне бегал табунок ребятишек, и стоило Прокопу показаться на улице, как они, прыгая и кривляясь, окружили его.
— Перекоп кандыбает... Дед, расскажи, как беляков бил!..
Громче всех, пронзительно звонким дискантом, кричал толстый мальчишка-болышун в нарядной куртке с желтыми плечами, видать предводитель мелюзги.
— Вот я вас!.. — замахнулся дед клюкой.
Детишки, как собачонки, прыснули в разные стороны, но не отстали, — насмехаясь над Прокопом, шли следом до самой его избы.
— Дусь, а Дусь, — спросил он дома у дочки. — Пацан тут бегает, толстый такой... Чей бы мог быть?
— Виталик, поди... Директора школы сын... Фулиган растет и не приведи господи.
Выяснив личность толстого мальчика, Прокоп вспомнил и про голую деваху.
— Слышь, Дусь?.. Сейчас девку одну видел. Словно бы Гордеева внучка. Она ай нет?
— А я знаю, кого ты видел? Может и внучку — Гальку. Она сейчас тут, краля...
— Где она у нас робит?
— Держи карман шире — у нас. В городе живет, на хлебозаводе робит, пекарем. То ли в отпуск приехала, то ли так...
— А-а-а— сказал дед. — В городе, значит. То-то я сперва не признал ее...
Он поужинал, лег на диван под телевизором и стал думать о Гординой внучке — как она бежала на него, крупная, долговязая, игристая телом. И крикнула грубо, каким-то сиплым голосом, — мол, чего уставился, дед. «Совсем не в бабку деваха», — сравнивая и так и этак, решил Прокоп...
Бабка Ольга в молодости аккуратностью брала. Все в ней было маленькое, крепкое, туго пригнанное. Внучку Прокоп кобылой назвал, а бабка как молоденькая лошадка была: легкая, порывистая, ноги точеные, лодыжки сухие, узкие. Сходство Оли с лошадкой было для Прокопа тем очевиднее, что носила она в девичестве черную челку до бровей, а под челкой горячо блестели большие косо разрезанные, отдававшие лиловостью глаза.
Как-то еще совсем зеленым юнцом приехал он за сеном на дальний заливной луг. На делянке, что вплотную подступала к речке, работала Оля. С граблями в руках, в легком ситцевом платьице ходила она вдоль валков, шевеля скошенную траву, и когдасолнце оказывалось у нее за спиной, платье просвечивалось насквозь, будто на Оле ничего не было... Видел Прокоп ее и два и три раза на дню — их дома в деревне рядом стояли, смотрел равнодушно, как и на других девок, а тут словно обожгло всего — так прекрасна была она в утреннем розоватом свете.
Прокоп так и застыл в телеге, боясь шорохом, вздохом ли обнаружить себя, и конь его будто понимал это, стоял смирно, даже хвостом от слепней не отмахивался. Но тут на проселке заскрипели колеса, подъехал Гордя,перепрыгнул к нему в телегу и тоже вытянул шею, глядя поверх кустов на Олю. «Хороша?» — спросил полушепотом. «Девка как девка», — смущенно пробормотал Прокоп, облизывая пересохшие губы. «А я говорю — хороша, — громко задышал над ухом Гордя. — Малина-ягода! Не я буду, коли не попробую, едреня-феня». — «Какэто — попробую?» — «А ты что, не знаешь как?» — «Змей ты ползучий!» — сказал Прокоп и, крепко зажмурившись, что было силы двинул друга под челюсть. Были они одногодки, но Гордя крепок, кряжист, как молодойдубок, а Прокоп шупл, тщедушен, тонок ногами и грудью узок. Гордей стащил его с телеги и отвалял на совесть,понаставил синяков где только можно было.
Оля, услышав шум за кустами, бросила грабли, подбежала, но разнимать драчунов не пыталась, лишь испуганно ойкала, когда они, сцепившись, катались по земле у ее ног.
Так она узнала, что любят ее закадычные дружки,такие разные парни — Гордя и Пронька. У каждого были свои достоинства. Гордя — красивый, дерзкий, на гармошке играть мастак, Пронька — с круглым простоватымлицом, белобровый, застенчивый, но зато серьезный, непеременчивый, надежный, не продаст, не обманет. Воти мучилась девка; гадая, кому из двоих довериться. И позже, с неизменной нежностью, бьющей в самое сердце, представлялась она Прокопу все той же юной лошадкой: нервно перебирая ногами, скосив лиловый глаз, стоит она меж двумяодинаковыми, заманчиво шуршащими овсом торбами, не зная, к какой потянуться губами…
— Проснулся, батя? — окликнула его рано утром Дуся.— Что это я такая неспокойная ноне? Ну прямо места себе не нахожу. То ли сделать что-то вчера мне надобно было, то ли ноне само что-то нехорошее сдеется...
Дуся очень уставала на ферме, где работала дояркой. От жужжания доильных аппаратов, рева голодных коров болела голова, жила Дуся в постоянной маете и тревоге — как бы не опоздать, как бы не забыть чего. Дед по обыкновению не обратил внимания на дочкины слова, но она тут же запричитала:
— А ведь забыла вчера, забыла, а ты и не напомнил, старый!
— Это о чем? — спросил Прокоп, кашляя и прислушиваясь к колотью в груди.
— Да ведь именины у тебя сегодня, семьдесят девять стукнуло!
— Вот оно что, — равнодушно зевнул дед.
— Рубаху хотела тебе подарить, присмотрела в раймаге, с утра думала смотаться в город на час-другой, с фермы отпросилась и — забыла! Да что ж это на меня беспамять такая находит, ведь не старуха еще, чай.. И грибками ради именинного дня думала тебя угостить, твоими любимыми, жареными. Хотела встать затемно, в рощу сбегать... Так ведь проспала, халда старая, распустеха!..
— Ладно, не голоси, — сказал Прокоп. Подумаешь, дата. И не круглая вовсе. — Однако оживился: — По такому случаю не плохо б и водочки...
— Купила уже, в сенцах стоит... Я побегу, значит, а ты сам тут управляйся, яешню можешь сготовить, сала нарежь... Гордея, коли желаешь, в гости позови.
— Я лучше сам к нему. Проведать надо. Как бы не помер: думалось мне о нем вчера. Возьму бутылку и пойду.
— Он, говорят, намедни мед для Гальки доставал.
— Вот и попробую свеженького, ежели в здравии Гордей.
Старого друга-соперника он отыскал за домом, в огороде. Расставив короткие ноги в рваных галифе, Гордей стоял под засохшей грушей и умывался — гремел носиком медного рукомойника, прибитого к дереву, громко фыркал и постукивал себя ладонью по коричневой, навид еще крепкой шее.
— Здорово, Гордюха! — приветствовал его Прокоп.
— Взаимно, Проня... бабке твоей под фартук. — Говорок у Гордея был тенористый, певучий.
— Не помер ночью?
— А зачем помирать? — не удивился Гордей вопросу. — Поживем еще. Смотри-тка, какой я...
Гордей одернул засаленную до лоска шевиотовую, в своевремя, знать, богатую, комсоставскую гимнастерку, стал по стойке смирно, а потом рубанул строевым, делая отмах одной рукой, другой молодецки покручивая сивый ус.
— Ну как? — Гордей стукнул каблуками сапог, поддернул сползшие с живота при маршировке галифе и в ожидании похвалы повернул к другу узкое, хрящеватое, с горбатым носом и редкой бородкой лицо. Глаза у старого были светлые, навыкате и с безуминкой. «Чисто Грозный Иван» ‚— подумал Прокоп, которомуДуся недавно показывала в «Огоньке» картинку, где царь убивает родного сына.
— Вот я какой! — Гордей фасонисто выпятил грудь. — А ты говоришь — помер. Я ее, смерть, паскуду, ежели явиться посмеет, кулаком по черепухе, стало быть, за
лапоток да и на задворье, вон туда, — Гордей показал на нужник-развалюшку, — мордой в дерьмо... родичей ее переродичей!
— Что ты, что ты! —замахал руками Прокоп, которому страшно стало от этих слов друга. — Больно не форси, она посильней нас с тобой будет.
— Ладно, посмотрим, — сказал Гордей. — Зачем пожаловал?
— Говорят, внучка к тебе приехала... Сижу я вчера возле бани, а из нее девка— и плюх в речку... Думаю, неуж Галька Гордина?
— Точно, она, — подтвердил Гордей и засмеялся. — Это чего тебя черти к бане понесли? На голых баб глядел?
— Отглядели мы свое, Гордюшка... Ты лучше скажи, замужем она у тебя?
— А что, взять за себя собираешься?
— Да ну тебя!.. В теле она хорошем, вроде бы и пора.
— То-то и есть, что в теле хорошем. Разглядел, старый трухлявец. Такой товар, сам понимаешь, не залежится. У нас, Макеевых, и проблемы отродясь не было — чтобы, значит, в девках засиживаться.
— А правда, Дуська баяла, что она на трехпроцентный полтыщи выиграла?
— Ну! — довольно прищурился на друга Гордей. — Мы, Макеевы, все наскрозь везучие. Только жениху эти деньги не достанутся: Галька и приехала, чтобы гульнуть как следует, на приволье, значит... Будет дым коромыслом... В магазин сейчас побежала, за вином. Ежели подождешь, может, и нам по маленькой отколется.
— Ждать не будем, — Прокоп, огладив штанину, обозначил на бедре округлость спрятанной в кармане чекушки. — Со своей пришел... Выпьем давай?
— Это мы завсегда с полным нашим удовольствием. А по какому случаю угощаешь?
Прокоп замялся:
— Да как тебе сказать... Премию Дуське выдали.
— Обмоем премию, хрен ей под колено!.. Айда в хату!
Гордей никогда жадным не был: налил в миску меда, колбасы городской, Галькиной, кружочками настрогал, огурцов на стол навалил — все честь по чести. Но только они уселись, только выпили по стопке, как дверь распахнулась, и в избу ввалились детишки. Затоптались несмело у порога, поглядывая на стол.
— Ну что, архаровцы? — спросил Гордей. — Дух медовый с улицы учуяли?
— Да на что нам мед— унылым разнобоем откликнулась ребятня. — Мы по делу к тебе, дедушка Гордей.
— Смотри-тка, по делу, — подмигнул Гордей Прокопу.
Вперед выдвинулёя толстый мальчик в нарядной куртке с желтыми плечами — тот самый Виталик, который дразнил Прокопа вчера вечером. Побегал по сторонам бойкими мышиными глазками, пнул локтем вертевшуюся под боком девчонку в красном беретике и вытащил из кармана свернутую в трубку, замызганную тетрадку.
— Нас учительница прислала. Мы ко всем ветеранам ходим, воспоминания записываем. Для музея.
— Красные следопыты, стало быть, — разгладил усы Гордей. — Очень даже кстати. Умная, видать, баба — ваша учителка, вас, фулиганов, к серьезному делу пристраивает... И с дедушкой Прокопом заодно побеседуйте.
— Да ну его! — мальчищка отмахнулся, даже не взглянув на Прокопа. — Нам Маргарита Евсеевна ясно сказала…
— Однако ж ты нахаленок, едри тя в корень, — строго постучал Гордя по столу костяшками пальцев. — Хоть я Проньке и жизнь спас, заслуги у него тоже немалые.
— Угу! — шмыгнул носом Виталик. — Мы к тебе, дедушка Гордей, после придем, когда ты один будешь. Ага?
— Стой! — приказал Гордей и повернулся к Прокопу. — Вишь, какая оказия вырисовывается, только я, стало быть, им нужен... Давай допьем, и иди себе домой, я уж за двоих расскажу, что и как было...
«Ты уж расскажешь, — думал Прокоп, поднимаясь из-за стола. — Ты уж такое за двоих наплетешь, что десятеро не расплетут...»
Всю жизнь Гордей сам себя расхваливал, и получилось так, что, кроме него, в деревне не было больше героев. Никто не вспоминал его, Прокопа, тоже орденоносного с той же самой гражданской, были отодвинуты на задворки израненные, кто без рук, кто без ног, мужики, побывавшие в самом пекле Отечественной. Гордина красноармейская книжка времен войны с беляками подстеклом в школьном музее, там же хранилась его буденовка с дырочкой на шишаке: лети, мол, пуля чуть ниже — и угодила бы Гордею прямехонько в лоб. Не хотел Прокоп быть несправедливым к другу, храбрый он, чертяка, что и говорить, но ведь Прокоп доподлинно знал: буденовку эту с дырочкой Гордя выменял у одного бойца за стакан махры, забыв где-то по пьяной лавочке свою собственную. Потому и не верилось Прокопу, что Гордя будет в ладах с маткой-правдой, нагородит небось ребятишкам бог знает что, повяжет быль с небылью, перешьет все,
как портной-неумеха, шиворот навыворот, где умышленно, а где по причине дальности тех лет, которые видятся теперь будто в тумане.
— Ну что задумался, умная голова? Топай давай! — поторапливал Гордя медлившего друга, зажевывая последнюю огурцом. —Не обессудь, малый, дело, сам понимаешь, государственное — смену воспитывать буду...
— Ты уж навоспитуешь, — бормотал Прокоп, закрывая за собой дверь. — Знаю я тебя, воспитателя...
Его, Прокопа, в жизни никто не пригласил выступить в школе перед детишками, без него проходили вечера в клубе, куда собирали допризывников со всей округи. А к Гордееву дому чуть ли не каждую неделю подкатывали машины — то председательский «газик», то райвоенкомовские «Жигули», а то и райкомовская «Волга». И туда везли старика и сюда. Одна у него была забота — сам признавался — за собой следить, как бы не пустить с трибуны, по привычке, длинным забористым матерком... Слушали его внимательно, хлопали дружно...
А чем хуже был он, Прокоп? Гражданская гражданской, а взять недавнюю Отечественную. Гордя на ней и пороху не понюхал — по причине болезни желудка белый билет имел, в тылу отсиделся. А он, Прокоп, когда фашисты надвинулись, самолично, не дожидаясь повестки, поспешил к военкому. Правда, служил в нестроевой трофейной команде, но в переделки опять-таки попадал аховые, снова ранен был и снова орден заработал — Красную Звезду... Так у кого ж заслуг больше?
Поначалу и он не прочь был в кругу односельчан похвастаться боевыми наградами, порассказать, как заработал их, а поскольку все мужики и сами воевали с немцем, приходилось больше вспоминать гражданскую. «Вот когда мы Перекоп брали...» — начинал, бывало, Прокоп, слюнявя в губах самокрутку и с наслаждением делая первую затяжку. И замолкал. «Ну и что?» — спрашивали мужики. «Помню, командир у нас на Перекопе был. — Прокоп делал вторую затяжку. — Ужасть какой бедовый! Как шумнет, помню: «Красные орлы, за мной!..» И опять замолкал. «А дальше что?» —«А что дальше? — удивлялся Прокоп. — Дальше мы врангелят этих, того...» Чего уж греха таить, на красное словцо не мастак был Прокоп. Вскоре его перестали слушать, и только он заводил: «Вот когда мы Перекоп...» — как раздавались смех и дружное шиканье — заткнись, мол, со своим Перекопом. А вот кличку себе схлопотал, так и прозвали его — Перекоп.
Все же лет пятнадцать тому назад, когда наконец-то по-настоящему вспомнили их брата фронтовика, пригласили его однажды на районное собрание, посвященное Дню Победы. Усадили их отдельно, на сцене, за почетным столом, на котором в праздничном свете сильных ламп поблескивали строго поставленные в длинный ряд огромные графины с водой. Можно было просто протянуть руку, налить в стакан и утолить жажду — она сильно в тот вечер мучила Прокопа, наверное, от волнения. Но вольности такой он себе не позволил, графин не потревожил, сидел, напустив на лицо внимание, слушал выступления бывших солдат. Все шло ладно до тех пор, пока не предоставили слово и ему, Прокопу. Он внутренне готовил себя к этому весь вечер, но в решающую минуту растерялся, его бросило сначала в холод, потом он покрылся испариной. Уже тогда его мучила ножная болезнь, он тяжело заерзал застолом, застучал клюкой, пытаясь подняться и с тоской глядя на трибуну, которая, показалось ему, отодвинулась куда-то в даль. «Пусть с места говорит! — закричали в зале. Однакоотказали не только ноги, но и язык. Сумев в конце концов встать, он раз-другой взмыкнул нечленораздельно и под сдержанные смешки, правда больше сочувственные, чем злорадные, снова плюхнулся на стул... Удручала тогда Прокопа мысль, что его могли принять за пьяного, на деле ж он и капли не выпил.
Больше его никуда не приглашали, махнули на него рукой: робок-де и не оратор, пусть дома сидит.
Дед и сам знал за собой эту слабину — робость. И завелась она в нем давненько, еще в дни молодости, когда пришло к нему горькое понимание, что живешь не так, как хочется...
В ту зиму слух по деревне прокинулся: завелась в Колпинской даче, забегает на бывшее помещичье подворье лисица. Эка невидаль — лисица, никто бы и речи о ней не повел, да вся закавыка в том, что больно диковинна была колпинская Патрикеевна. Первым увидел ее Устин — старик трезвенный и ни в какой лжи не уличенный. Приплелся он на сожженное мужиками в революцию и покинутое хозяевами подворье, чтобы парой-тройкой кирпичей разжиться — печку починить. Опустил в мешок кирпичину, глядь, а у елки неподалеку зверь стоит и этак пристально на него, Устина, смотрит. У безоружного старика в животе от страха похолодело — думал, волк, до того большим и плотным был зверь. А потом вгляделся — доподлинно лисица: морда острая, хвост пушист, шуба огнем полыхает. Старик на нее кирпичом замахнулся, а кумушка зубами щелкнула, пасть скривила — ухмыльнулась будто...
Было ж ей, понял Прокоп после, с чего ухмыляться, задала она кой-кому звону.
Ольга, пока они с Гордеем на войне были, стала настоящей красавицей. И ничего в ней почти не осталось от прежней тихони-скромницы, похожей на юную лошадку, по поводу и без повода опускавшей долу ресницы и заливавшейся густым румянцем. Теперь ходила по деревне павой, разнаряженная, в козловых сапожках, с цветастой шалью на полных плечах, не замужняя, но уже хорошо знавшая свою женскую силу молодая баба. С Прокопом и Гордеем разговаривала, посмеиваясь, с небрежной сннсходительностью. Но такой им, мужланам-перезрелкам, она казалась еще желаннее. «А ну, женишки, подьте сюда!» — позвала она их однажды на вечерке. Поманила кивком головы в центр избы, где возле пьяного и усталого, сникшего к своей ливенке гармониста толпилось с десяток некрасивых, глупо хихикавших девок — ее подруг-наперсниц. Бойкий Гордей чуть ли не бегом на зов кинулся, Прокоп, как всегда, замешкался, приблизился бочком вслед за другом. Из-под низкой челки Ольга обожгла их обещающим взглядом: «Так как же, храбрые воины, еще не раздумали брать меня в жены?.. Вон они, — кивок на девок, — уши мне прожужжали про чудо-лисицу, что в Колпинской даче объявилась... Не врут?» — «Есть такой слух», — состорожничал Прокоп. «Да я ее, заразу рыжую, самолично видел», — крикнул Гордей. «Тогда слушайте мое слово... все слушайте! — Ольга притопнула ногой и подождала, пока в избе не утихло. — Кто вот из них двоих, — раскинув руки, она положила ладони на плечи дружков, — добудет мне колпинскую лисицу на воротник, тот и станет мне мужем».
Гордей бегал в Колпинскую дачу чуть ли не каждый день. Залегал с ружьем в снегу и, затаившись, поджидал Патрикеевну — авось обманется тишиной и выйдет на мушку. Однако терпения у Горди хватало ненадолго: пролежав тишком минут десять, он начинал ворочаться, нервно позевывать, закручивать сквозь зубыматерки. Потом вскакивал, ломился сквозь кусты напролом, свистел в два пальца, надеясь вспугнуть кумушку, заставить бежать на виду... Да куда там, лиса как сквозь землю провалилась.
Прокоп решил действовать похитрей. Ружья у него не было, но он и не рассчитывал на ружье — пошел в соседнюю деревню к опытному зверолову Пахомычу и одолжил у него капкан. Порасспросил, конечно, что и как надо делать, чтобы рыжая кумушка попалась в железа беспременно и в кратчайший срок. Вернувшись домой, прямым ходом кинулся на задний двор и поймал там тощего куренка, которому тут же, положив на колоду, смахнул топором голову. Не обращая внимания на горькие причитания матери, сунул неощипанную птицу в топившуюся печь и подождал, пока изба не наполнилась густым смрадом паленых перьев. Теперь нужна была елочная хвоя. Ее Прокоп добыл, срезав несколько веток у стоявщей возле свинарника молодой елки. Хвою ссыпал в ведерный чугун с водой, туда же опустил капкан и, посадив чугун на рогули ухвата, сунул его подальше в печь, в самый жар полыхавигих поленьев. Варка капкана в хвоевом настое, объяснил Пахомыч, отбивала от железа все запахи, оставляя лесной, привычный для зверя.
В тот же день Прокоп поставил ловушку. Поставил вдалеке от Гординых маршрутов, на заранее найденном месте, — там, куда, судя по замысловатой сумятице следов; лиса приходила мышковать, то есть, оголодав к середине зимы, ловить мелкую хвостатую тварь. Вбил здесь Прокоп в снежный наст ольховый кол, повесил на него куренка, а внизу пристроил и запорошил снегом капкан. Постоял, размышляя. Кажется, все было сделано надежно, аккуратно, без малейших отклонений от указаний хитроумного Пахомыча. Прокоп перекрестился, хотя и не шибко-то верил в бога, и зашагал восвояси, почти не сомневаясь в конечном успехе.
На следующий день, под вечер, он пошел проверятькапкан, и то, что увидел, повергло его в уныние и злобу. Капкан был защелкнут, куренок исчез, а рядом с его вчерашними, от сапог, следами были натоптаны другие, совсем свежие — от валенок с подшитыми пятками. Прокоп присел, пригляделся — в черных челюстях железной ловушки торчал клочок рыжей шерсти. Поймалась лисица, не обманул Пахомычев капкан, да только выкрали у Прокопа из-под носа его законную добычу.
Сняв капкан, он отправился к Горде. «У тебя лисица?» — спросил с порога, косясь на валенки, сушившиеся у печки. Дружок, с разопревшим красным лицом, в расстегнутой рубашке, восседал за столом и хлебал щи сосвининой. Именно со свининой, Прокоп определил этопо белым кусочкам сала, густо плававшим в глиняной миске. Сидевший, почитай, с рождества без мяса, он покатал во рту языком голодную слюну и, укрепляясь нето чтобы в злобе, а в едкой обиде на во всем удачливого друга, спросил снова: «Так у тебя, что ль?» Гордя облизал ложку: «Ну у меня... А что?.. Я ей, чертовке, в самый глаз пульку пустил, из шкуры ни одного волоска не упало». — «Покажь!» — потребовал Прокоп. Вышли в сенцы, Гордя вытащил за хвост из-под лавки лису, в самом деле большую, тяжелую, волку под стать. «Гля, — Гордя повернул зверя так, что стал виден вытекший глаз. — Вот как надо стрелять, браток!» Прокоп ощупал лапы лисицы и сразу же обнаружил на передней правой пере— битую кость. Нагнулся ниже и увидел там, куда пришелся удар железа, проплешину в шерсти и темное кровяное пятнышко. «А это что?» — «Ты о чем?» — прикинулся непонимающим Гордей. «О том, что ты ее из капкана вынул». — «Проспись иди, — беззлобно хохотнул Гордя. — Из какого такого капкана?» — «Из моего... а стрелял ты в нее уже в пойманную». — «Ты что, очумел? — как бы и взаправду осерчал Гордя. — Говорят тебе, собственноручно застрелил, побожусь, чем хочешь, не сойти мне с этого места... пузырь тебе в печень!» — «Отдай лисицу», — тихо попросил Прокоп, чувствуя, что сейчас заплачет. «Хрукт, ну и хрукт! — покачал головой Гордя и оглянулся, будто искал свидетелей черной Прокоповой неблагодарности. — А еще друг называется, и я такому жизнь спасал...»
Что было делать Прокопу? Снова, как там, на лугу, кинуться в драку? Так это ж к одному позору другой прибавлять, снова избил бы его Гордя жестоко. Он уже щурился недобро, посапывал, теснил друга грудью к выходу. «Подавись ты этой лисицей!» — только и сказал Прокоп, сбегая с крыльца.
— Давно все было, ой давно! — шептал Прокоп. Он брел домой, спотыкаясь, пошатываясь, клюка его, как у слепого, тыкалась в разные стороны. Застолье у Гордея не оставило ничего, кроме докуки, в голове пошумливало от водки, от меда мутило. Хотелось побыстрей лечь на диван и, ни о чем не думая, закрыть глаза.
Он был уже недалеко от дома, когда из боковой улицы вывернулось навстречу ему немноголюдное, но шумное гульбище. В крупной осанистой девке он сразу узнал Галину. Приплясывая, притоптывая, она вела за собой гурьбу — трех знакомых Прокопу трактористов, двух доярок с молочной фермы, несколько подростков-школьников — короче, почти все младое племя Подосинок. Левой рукой Галина помахивала над головой голубым платочком, в правой, опущенной, пузатилась кошелка, из нее, как цыплята из решета, высовывались винные бутылки с желтыми ермолками на горлышках. Впереди процессии, вслед за Галиной, бросаясь по очереди в пляс с присядкой, двигались молодцы-механизаторы. Идя по кругу, они лихо выхватывали из кошелки пол-литровые емкости. А самый ловкий ухитрился, не прерывая танца, открыть бутылку, приблизить ко рту горлышко и сделать глоток-другой. Он волчком вертелся у ног Галины, потомотшвырнул бутылку, выпрямился и, дробно стуча сапогами, с нарочитой грозностью наступая на деваху, запел:
«С какой стати гуляют? — думал дед, ошалело слушая частушку. — В такую рань. Иль воскресенье сегодня?» Он зашевелил губами, вычисляя день недели, но тут же сбился: за ненадобностью давно уж не следил он за календарем.
— Что, Перекоп, ворон считаешь? — крикнули ему из толпы. — Айда плясатьс нами!
«Эко моду взяли молодые, — сокрушался дед, ковыляя дальше. — Да разве в старину такое было? Бить зазря каблуки средь бела дня, в конце лета, когда в поле дел — делать не переделать...»
Казалось, только он улегся, только натянул пиджак на подбородок, как тут же и проснулся. А проспал он на самом деле до обеда, и разбудило его топанье по скрипучему полу Дусиных ног. Дочка, как всегда, суетилась, дорожа каждой минутой, металась от печи к столу и обратно.
— Что лежишь, именинник? — крикнула отцу. — Ай у Гордея наелся?
— Ты давай, Дусь, я после.
— Ладно. Все в печи стоит, сам достанешь, спешу я — хочу все же в город слетать, за рубашкой.
— Далась тебе эта рубашка, — пробормотал Прокоп, снова засыпая. Чей-то голос сказал отчетливо над самым ухом: «Все было бы у тебя иначе, не укради Гордей лисицу». Он встрепенулся, приподнял голову — никого в избе было, и Дуся, видно, ушла уже давно, прибрав за собой — на столе ничего не стояло. «А ты откуда знаешь?» — спросил он голос. «Я все знаю. Ты бы получил жизнь Гордея, а он — твою...»
«Подавись ты этой лисицей!» — вспомнил Прокоп свои слова, когда, давясь слезами, сбегал с Гординого крыльца. Вскоре и свадьба была сыграна. И раньше везло во всем Гордею, а тут, при молодой жене, еще пуще удача его возлюбила, только успевай пошире рот открывать — глотай, будто с неба падающие, пироги и пышки.
На долгом пути своей жизни Гордей менял должности чуть ли не каждый год, но, не в пример Прокопу, никогда не был рядовым колхозником, работягой — кто кудапошлет, из тех, кто утром швец, пополудни — жнец, а вечером — в дуду игрец. Как только организовалась у них артель, он попал в завы шорным складом, потом доверили ему пост бригадира, затем ходил с сумкой через плечо — в качестве почтальона. Вершины достиг в военные годы, когда его, белобилетника, выдвинули в председатели сельсовета. А после войны работал поочередно финагентом, учетчиком молока на ферме, возчиком хлеба в сельпо и снова возвысился — до продавца в магазине.
Старый и малый знали в деревне, что Гордей Фомич не очень-то чист на руку, обмеривал и обвешивал, недодавал сдачу, тащил к себе домой продуктовый и вещевой дефицит. Жаловались на него, конечно, но начальству, поди, виднее, кто вор, а кто нет. Проверки и комиссии почему-то никак не могли по-настоящему уличить Гордея Фомича, отделывался он мелкими взысканиями. Когда стукнуло ему шестьдесят, сдвинули его с торговой высоты бережливо-вежливо, соломки подстелив. Как и положено, устроили в сельпо собрание по случаю проводов ветерана, так сказать, на заслуженный отдых, благодарственно жали руку, дарили подарки. Говорили не столько о работе на торговом поприще, сколько о жизни старика в целом, и тут уж в полную меру воздали должное его славному боевому прошлому — участию в гражданской войне. Районная газета даже прислала на собрание собственного корреспондента, и вскоре появился на первой газетной странице фотопортрет ветерана. Словом, не какую-нибудь там крохотную точку поставили в конце трудовой биографии человека, а размашистый восклицательный знак. Мол, бери пример, молодежь!
А Прокоп жил спустя рукава, лишь бы на плаву удержаться. После Ольгиной с Гордеем свадьбы решил он для себя раз и навсегда: коли не повезло ему в главном, то и в остальном не повезет, и стараться нечего. В колхозе, хотя и не ленился, но и не усердствовал особенно, поэтому на повышение не пошел. Женился поздно, в сорок лет. Женщина попалась работящая, заботливая о муже и приятная собой, он взбодрился было, затеял ставить новую избу-пятистенку, чтоб с высоким крыльцом и резными наличниками. Однако ж и тут споткнулся — и двух лет не минуло, как отправилась его добрая Надежда под грустную сень кладбищенских лип, оставив на его руках маленькую Дусю. И хоромы Прокоп не возвел: каменные столбы фундамента так и торчали с тех пор на бугре, где была начата стройка.
А Ольга умерла всего пять лет тому назад. Сейчас казалось Прокопу, что не переставал он любить ее и в старости. Тем более что дряхлой она и перед смертью не была, ходила по деревне быстро, прямо, хотя и седая, но с чистым белым лицом, живыми темными глазами — будто годы летели, не касаясь ее...
Ах, кабы не украл!.. «А ты почему знаешь, что украл, а не застрелил? — спросил голос, но уже другой, мерно-равнодушный, со странным металлическим эхом, словноне живой. — Разве он признался, что украл?» — «Характер не тот, чтобы признаться», — вздохнул Прокоп. «А ты все же спроси еще раз», — сказал голос и вдруг запел по-
женски визгливо:
«Кто это глотку дерет? — подумал дед, поняв, что снова проснулся. На этот раз его разбудило все то же гульбище — за окном смеялись, галдели, пели. Он сполз с дивана, подошел к окну. Гулянка гомонила как раз напротив — на лужайке, полого спускавшейся к речке Яблоньке. Частушки пела дебелая дивчина в пестрой кофте и джинсовых брюках — Наташа Фролова, доярка с той же фермы, где работала Дуся. Галину он увидел поодаль, под ракитой, кто-то из трактористов целовал ее в смеющееся запрокинутое лицо.
И было уже предвечерье. Солнце не золотило избяные углы, и два окна, обращенные к востоку, уже наливались предзакатной синеватостью.
«С самого утра гуляют, вот неугомонные... Пойти, что ли, снова к Гордею, рассказать, какие кренделя-бублики выпекает его Галька?» — размышлял дед, позевывая у окна. И, словно в ответ на это его намерение, распахнулась дверь и вбежал запыхавшийся, испуганный следопыт Виталик, крикнул по-петушиному звонко:
— Дедушка Гордей помирает!
И сразу же поверил Прокоп — не врет мальчишка, так оно и есть — умирает, все в нем затряслось мелкой дрожью, и, схватив клюку, он заспешил на улицу.
— Пишем мы, пишем, — нервно тараторил Виталик, то отставая от мелко семенившего Прокопа, то забегая вперед. — Тетрадку Нинка Прохорова исписала, потом Катька Пузырева, потом Петька Петушков... Моя очередь, раскрываю тетрадку, а тут дедушка ь Гордей белым стал и за грудь схватился. Уморили вконец, говорит. И матерком. Закрывай, говорит, немедля свою чертову тетрадку и беги за Прокопом, проститься хочу... И на койку хлоп, бороду кверху!..
— Так это вы с утра его мучили? — ужаснулся Прокоп.
...Гордей лежал на кровати, выставив кадык, дышал натужно.
— Ты что? — Прокоп присел на табуретку, склонился над приятелем. — Ай худо?
— Худо, Проня, ой худо...
— Фельдшерицу надо покликать.
— Не успеть, кончаюсь я, Проня.
— Ну вот, а намедни хвалился: я ее по черепухе, смерть эту.
— Где моя Галька, зараза, шляется? Как ушла утром в магазин, так и до сих пор нету...
— Гуляет она, ватагу водит... Сбегать? — высунулся из-за Прокопова плеча Виталик.
— Ты бы шел до дому, малец, — сказал Гордей. — Мне с дедом Прокопием Ивановичем поговорить нужно. — Подождал, пока за Виталиком закрылась дверь, и глазами поманил друга:— Нагнись-ка, еще ниже, еще...
— Ну, нагнулся.
— Теперь спрашивай!
Прокоп напрягся лицом, не понимая:
— Что спрашивать?
— Будто не знаешь? Про лисицу.
— Эк что вспомнил, — махнул рукой Прокоп. — Умирай знай спокойно. Простил я тебя, давно простил.
— Та-а-к, — усмехнулся Гордей и быстро, зорко взглянул на друга, как взглядывал прежде, с безуминкой в светлых, навыкате глазах. — Простил, значит?
— Значит, простил.
— А за что простил?
— А то не знаешь? — опешил Прокоп. — За лисицу, вытащенную из моего капкана..
— Кто ж ту лисицу вытащил?..
— У-ф-ф! — Прокоп достал из кармана тряпицу, вытер вспотевший лоб.
— Ты, Пронька, скажи — видел меня у капкана, за руку схватил?
— Ну не видел, не схватил.
— То-то и оно! — Гордей смотрел торжествующе. — А как говорят умные люди? Не пойман?..
— Да я с самого начала знал, что ты, ты лисицу упер! — взъярился Прокоп.
— Докажи...
— Ты, ты, ты!
— Не ори, — Гордей страдальчески прикрыл глаза. — Худо мне, ай не видишь?
«Может, и моя смертьтут, рядком с Гордеевой», —подумал Прокоп и боязливо покосился в темный угол за печкой — не стоит ли там она, старуха жуткая, с костлявым пальцем, поднесенным к мертвым губам? В тишине, сначала едва-едва, потом слышнее, донесся с улицы шум гульбища. Вскоре различимы стали топот, выкрики, визг гармошки. Чей-то усталый, охрипший голос выкрикивал:
— Во дают! — сказал Гордей. — Молодец Галька, нашей породы, макеевской...
— Я кликну, ежели желаешь...
— А зачем? — коснеющим языком вымолвил Гордей. — Пускай гуляет... девка...
И дернулся телом, затих, вытянулся...
Прокоп постоял с минуту над мертвым телом, потом вышел и позвал Галину.
— Ну что там у вас? — спросила она недовольно из толпы.
— Дед твой помер, вот что, — сказал Прокоп и побрел прочь, не оглядываясь.
Он чувствовал, как, прямо в пути, тают его силы, мертвая истома подступает к сердцу, и все егомысли были лишь о том, как бы не упасть, дойти до заветного дивана под телевизором.
Когда он лег, привиделся ему Гордя. Друг шел навстречу по узкой извилистой тропе меж крестами и деревьями, предостерегающе подняв руку: «Не ходи сюда, пшел вон!..» — «Пусти, Гордя», — жалобно попросил Прокоп. Все его тело было налито тяжелой застарелой усталостью, неодолимо гнувшей к земле. «Не пущу! — грозно и весело кричал Гордей. — Я тебе жизнь спас... блох тебе на плешину!» — «Пусти, — молил Прокоп, опускаясь на колени. — Христа ради, пусти!» И тут увидел он Дусю. Высокая, сутулая, в ватнике и кирзовых сапогах, бежала она через поле, отчаянно крича, чтобы он поберегся. «Не надо бежать, не успеешь ведь, все равно не успеешь», — шептал Прокоп. Любовь и благодарность разрывали его сердце...
Дуся вернулась из города в вечерней темноте. Зажгла свет, взглянула на отца, вытянувшегося на диване, и, сразу догадавшись, кто это побывал сейчас в их доме, тихо и горько заплакала. Однако скоро утешилась, представив себе, как будет лежать Прокоп в гробу в новой рубахе.
Бивак на веселой лужайке
В родной материнской хате Костик спал всего одну ночь. Утром встал с головной болью, ломотой в костях. Чтобы вспомнить золотые сны детства, лег спать на печке и глаз не сомкнул, ворочаясь на ребристых кирпичах между трубой и стенкой. К тому же вышла стычка с котом. Костик задремал было, когда тот невесть откуда, с потолка будто, прыгнул ему на грудь и без всякого почтения мазнул облезлым хвостом по самым губам гостя, оставив на них изрядную толику рыжей шерсти.
Заохали, захныкали, проснувшись в углу на деревянной кровати, жена Раиса и дочь Жанна. Жертвы духоты и бандитских наскоков комарья, они тоже не выспались, были кудлаты и злы.
— Не-е, так дело не пойдет, — сказал Костик и, взяв в сенцах топор, вышел на крыльцо, зорко осмотрел окрестность. Подходящее место было прямо через дорогу — веселая лужайка с редкими березками. Дальше начинался сосновый парк, а за ним серебристо-червлено поблескивало меж меднокожих стволов неописуемой красоты озеро с тремя, как длинные зеленые лодки, островами.
— Эх-ма-а! — блаженно потянулся Костик и дернул левым плечом так, что оно хрустнуло. Хруст получился звонким, чистым.
Теперь будто и не было бессонной ночи. Чувствуя, как силушка переливается в жилах, поигрывая мускулами, Костик поплевал на ладони и взял топор. Хекнув, со всего размаха ударил под корень березку. Та вздрогнула вершиной. «Ага, не нравится», — подумал Костик, выдернул топор и рубанул снова — снизу вверх. Выруб получился трехцветный: за коричневой берестой нежно зеленела лубяная бархатная подкладка, а там уж посверкивало и само бело тело — тугое и сочное.
Бесшумно, как по воздуху, подплыла, подошла маманя, молча остановилась за спиной.
— Ты чего? — спросил Костик.
— Жалко, сынок...
Костик выпрямился, оставив топор воткнутым в ствол. Маманя у него была необразованная, темная. Умные, но неконкретные слова на нее не действовали. А вот если случай какой вспомнить, картинку нарисовать...
— В прошлом году мы домину строили — на целый квартал. Конечно, ветошь разную деревянную смахнули — частные сооружения. И сады, само собой... Я со своим дизелем как пошел чесать — одни куржи вывороченные позади оставлял... И заметь, маманя, деревья культурные, человеком саженные, — яблони, груши, вишня, рябина черноплодная... И все лучших сортов... Усекла? А ты березу дикорастущую — жалко... Нехорошо, маманя, не по-современному.
— Да я что, я ничего, — стушевалась маманя и осторожно погладила горячее под рубашкой крепкое плечо сына. — Ты руби знай...
И серой мышкой покатилась к избе — яичницу жарить для гостей дорогих.
Желтенький «жигуленок» Костика стоял рядом. Шины его прогнулись от тяжести того, что было на «втором этаже» — крышном багажнике с нарядной никелированой оградкой и крепкими капроновыми намордниками поверху тюков, мешков, рюкзаков, корзин и ящиков. Встав на подножку, Костик стащил и кинул на землю тяжелый мешок, сшитый из серо-зеленого брезента. В мешке, свернутая вдесятеро, томилась без света и воли четырехместная палатка, оранжевая, отечественная, 155 р. Из поверженной березки Костик сделал два кола больших и Четыре маленьких.
Теперь ему требовалась помощь. Насвистывая, он пошел в ближайший дом, к маманиной соседке тетке Наталье. Тетки дома не оказалось, но на ее кровати в сапогах и телогрейке валялся здоровенный мужик и курил сигареты «Прима» — пачка лежала рядом на табурете:
— Ну приветик! — сказал Костик обрадованно. — Тычто?
— Хвораю, брат. Температура. — тридцать семь и три.
— Бюллетенишь?
— Не дает фельдшерица. Пить надо меньше, говорит.
— Ты кто? Я в этой деревне родился и возрос, каждую личность в округе знаю, а тебя не знаю.
— Петр я. Кузьмишкин.
— Недавно тут?
— Точно. С северных краев прибыл.
— Да ты, никак, к тетке Наталье того... под бочок, в примни?
— Точно подмечено.
— Ну ты даешь, мужик! — захохотал Костик. — Это по мне, по-современному. Где работаешь-то?
— Бульдозерист я, мелиоратор, короче...
— Воду сушим, кусты бреем, хрен имеем, — пошутил Костик. — А в общем почти коллеги, говоря по-современному, я тоже на тракторе, только в городе, в стройтресте. — В городском стройтресте не стоим на месте, с места стронешь — шиш догонишь, — отшутился мужик, но как-то робко, конфузливо.
— Ну вставай, товарищ Кузьмишкин, по имени Петр, — сказал Костик.
— Это зачем?
— Дело есть.
— Да мне на работу давно пора. Бюллетеня-то нет...
— Ты знаешь кто, мужик? — Костик поискал глазами по избе, с чем бы сравнить Кузьмишкина, не нашел ничего подходящего и постучал по пустому ушату на лавке. — Вот ты кто... Да ты заставь меня больного в городе вкалывать!.. Я своему начальнику выложил бы, уж он у меня почесался бы... А закон на что? Трудящимся человеком помыкать, в гроб его загонять вместе с температурой? Сколько у тебя, говоришь?.. Да я бы твою фельдшерицу, толстомясую...
— Тощая она, как хвощ, — уточнил Петр.
— ...эту тощую... Посмела бы она мне бюллетень не выписать!.. Да я вижу, совсем замордовали вас тут в деревне... Не по-современному, товарищ Кузьмишкин, ведешь себя. Смотреть на тебя, непротивленца, противно!
Мелиоратор даже не шелохнулся, лежал, тяжело вздыхая, лицо небритое, скучное и как бы опухшее малость.
— Э, да ты... — догадался Костик. — Что имеется в местной торговой точке на сегодняшний день?
— Ну яблочная... Один р. девятнадцать коп.
— Даю на бутыль! Живо! Лопата найдется в сем доме? Прихвати!
Вдвоем они мигом развернули и поставили палатку, с центром в том самом месте, где росла березка. До открытия магазина оставались считанные минуты, и Петр прямо-таки вдохновенно горел на работе, стремясь завершить ее быстро и при высоком качестве. Березовый пенек он обкопал вокруг, подрубил корни и, поднатужившись, выдернул из земли — деревца как и не было тут.
— Сразу видать мелиоратора, — похвалил Костик и достал кошелек. — Ну дуй в магазин, добавляй градусы...
А сам принялся снимать с багажника всякую всячину.
Вернулись с прогулки к озеру жена и дочь, одобрили содеянное главой семьи. В палатке Костик разостлал тюфяки и одеяла, бросил в изголовье поролоновые подушки в чистых наволочках. Под прохладным пологом были размещены также батарейный крохотуля-телевизор марки «Турист», транзистор «Океан», трехлитровый термос с ледяным тоником «Байкал», переносной пенопластовый холодильник, набитый сухой колбасой, сырами, консервами «Лосось натуральный дальневосточный» и многими другими вкусными и питательными дефицитами. У крайней подушки — дочкиной и средней — жениной заботливый Костик поставил две склянки —с антикомарином «Тайга» и одеколоном «Гвоздика». Последний долженствовал смягчать зуд от укусов на случай, ежели бы писклявое племя, игнорировав защитные меры, все же покусилось бы на нежную женскую плоть.
Завтракали за легким раскладным столиком, сидя на раскладных же стульях. Грязные тарелки отставляли на кровать-раскладушку, которую Костик раскрыл в предвидении возможного желания женщин позагорать на солнышке, не соприкасаясь с еще холодноватой майской землей.
— Просто прелесть! — так оценила результаты Костикиных хлопот жена Раиса.
— Не царское время, чтобы гнить на корню в грязной и душной хате, — несколько выспренно, но вполне искренне выразился Костик и самодовольно хрустнул плечом. — Будем и на селе жить цивилизованно, по-современному.
— Нормально! — сказала, насытившись, дочь Жанна, студентка первого курса, длинноногая баскетболистка, и юркнула в палатку, откуда тотчас же донеслись кудахтающие вскрики какого-то неведомого инструмента и разухабисто-хриплое песнопение. Все это Жанна называла почему-то поп-музыкой, хотя Костику было доподлинно известно, что у попов в церквах поют так, что заслушаешься, а тут такая поп — хоть стой, хоть падай.
Упасть Костик не упал, не из слабонервных был, но и стоять дольше возле палатки, засорять уши этой дребеденью не пожелал. Он вспомнил, что у тетки Натальи в сенцах видел знатную мережу — на длинной ручке, с тяжелой мотней, и не без основания решил, что тетка вряд ли промышляет на озере, а вот мелиоратор Петр наверняка балуется рыбалкой. Надо было снова заглянуть к Кузьмишкину и договориться насчет вечера.
Жена Раиса тоже не соблазнилась отдыхом, лишь на мгновенье присела на раскладушку и тут же поднялась с лицом вдохновенно сосредоточенным. Сходила в избу за сумочкой с деньгами, положила ее в большую кожано-матерчатую сумку и вслед за мужем отправилась в деревню, правда, без определенного адреса, но с определенной целью.
Жену Костик любил и уважал. Сам он, хоть и коренастый, но мелкого роста, на кривоватых ножках, конопатый и лысый. А Раиса — высокая, дородная, выступает словно пава, на целых пять лет моложе Костика и до недавнего времени ходила в спортсменках областного масштаба, шутка сказать — дискометательница, дискоболка, яснее выражаясь. И не в пример Костику — ученая, с фельдшерско-акушерским спецобразованием. И даже предметами искусства и старины интересовалась. Недаром, когда вернулась к обеду на стоянку, в ее суме, помимо всего прочего, были: забавная иконка — складная, двустворчатая, с медными застежками, письма явно не древнего, но почтенного; кованый металлический ковшик в виде лебедя; деревянный гребень с выжженными на ручке затейливыми ромашками, красивое ожерелье из сушеных калиновых ягод, растрепанная книжка в свиной коже, дореволюционного издания, неопознанного содержания по причине ненашенского шрифта, и лапти, ценные не старостью, а мастерством плетения, отменным народным вкусом — красное лыко причудливо переплеталось в них с голубым.
Кроме того, на могутном плечике принесла Раиса-дискометательница две штуки домотканых половиков. Деревенская старушка умелица Пелагея, и зиму и лето хлопотавшая у древних кросен, не продала дорожки, а просто отдала их так, от перепроизводства тканой продукции и возникшего по этой причине стеснения в крохотной вдовьей избушке и за обещание Раисы прислать мужа с ружьем на предмет истребления недавно объявившегося зловредного хоря.
Так и появилась Раиса на стойбище, подобно греческой богине, возвращающейся с охоты, в полной своей величавой силе — с валиками половиков на плече, огромной сумищей в правой длани. И хоть бы согнулась в какую-нибудь сторону в пояснице, хоть бы коленками дрогнула: прямо и видно несла свое зрелое тело, а на румяном лице — ни капелюшечки пота, лишь веселая улыбка на полных губах и под очками.
— Ну как? — спросил Костик, любуясь женой.
— Кое-что несу, — скромно отвечала Раиса.
Было еще бедновато в деревне в эту пору, еще не наступило время главного осеннего бора — заготовок на зиму, когда из деревенских подполий выгребают картошку, реквизируют у родителей огурцы соленые, капусту белокочанную квашеную, яблоки антоновские кисло-сладкие. Когда копаются в кубелях, отыскивая куски сала потолще. Когда гоняются с палкой за гогочущей стаей, стараясь подшибить гуся покрупнее да пожирнее. Такое время еще не наступило. Однако в бездонном Раисином кошеле нашлась-таки местинка не только для несъедобных вещей и предметов. Из уютной матерчато-кожаной сумки извлекла она и поставила не без гордости на стол банку светло-желтого липового меда, купленного по сходной цене у деда Аркадия Пантелеймоновича; связку сушеного гриба боровика, сулею со свежим березовым соком, пол-литровую бутылку с редким в нашу промышленную пору и поэтому высоко ценимым туземным экзотом — самогонкой и пленковый мешочек с овсом. Этот злак Раиса собиралась проращивать в некипяченой воде и есть с ржаным хлебом — для пущего роста волос на голове, которые, не в укор Раисе, были у нее тонковаты и редковаты.
Но принесенное было ценно и тем, что с каждой добытинкой связывалась какая-нибудь маленькая, то веселая, а то и не совсем веселая историйка. Дед Аркадий, к примеру, наотрез отказывался от продажи меда, знай твердил — внучонку, мол, приберег, но стоило Раисе достать пригоршню новеньких олимпийских рублевиков и поводить ими перед крупным носом деда, как ноздри его вожделенно затрепетали, и он в спешном порядке закандыбал за душистым золотом. Нумизмат он, что ли, этот дед Аркадий?
Вот уж истинно, чем старей, тем смешней. Народную умелицу и трудолюбку восьмидесятилетнюю ткаху Пелагею Ивановну Раиса обнаружила на печке, за трубой. Старушка сидела там в полутьме, позабыв о кроснах и половиках, прижимая к боку белую, с красным коком курицу. От чешуйчатой, как у ящера, куриной лапы тянулась веревочка, концом намотанная на бабкин кулак. Кура суматошно кудахтала, хлопала крыльями, вырываясь, и царапала острыми коготками Пелагеины руки. «От хоря хохлатую берегу, — объяснила ткаха с печи. — Последняя осталась. Пять штук за весну сожрал, ненасыта...»
— Надо помочь бабусе, — сказала Раиса Котик — Ведь ты с ружьем приехал, вот и застрели хоря.
— А что — и застрелю, — пообещал Костик. — Завтра же капут ему устрою...
Вечером, в сиянии молодого месяца, несуразный, как привидение, вступил на бивачную территорию мелиоратор Кузьмишкин. Темный силуэт его делало жутким нечто конусообразное, зыбкое, болтавшееся за его спиной, и узкий длинный предмет, пересекавший фигуру посередине. Крадучись, Петр нес мережу — браконьерскую снасть и лодочное весло. Капроновая мотня мережи волочилась сзади по земле, сбивая с травы вечернюю росу и оставляя туманную полосу среди мерцавшей под месяцем влаги.
Посвечивая фонариком, они спустились с крутого берега к озеру, где в редких камышах, накрепко притороченная к железному шкворню, негромко пошумливала, виляя долгим телом, постукивая днищем по волне, рыбацкая лодка. Петр отомкнул ее, бросил цепь с замком в корму, они погрузили снасть, сами сели и поплыли по лунной дорожке к другому берегу, к устью речки. Там нерестилась рыба. Набилось ее в речку, видать, очень густо — при первом же погружении мережа наполнилась живой благодатной тяжестью столь щедро, что Петр едва-едва поднял мотню над водой. Костик ловко подхватил ее и бултыхнул в лодку. Попалась в основном плотва — увесистая, пузатая, распираемая икрой. «Ведра три, — прикинул в уме Костик. — Высушу — славная закусь будет под пиво». И, азартно хохотнув, потирая руки, приказал Петру бросать мережу второй раз. Но тут раздался вдруг
стрекот мотора, из-за ближайшего. острова выскочил. тупорылый катерок с фонарем на носу и ринулся прямо к ним.
— Егерь! — испуганно зашептал Петр. — Гаси свет. Рыбу за борт! — И стал суматошно хватать плотву, швырять ее куда попадя.
— Ты что, спятил? — осадил его Костик, брезгливо стирая со щеки брызнувшую в лицо икру. — Я твоего егеря в гробу видел...
Однако егерь вовсе не походил на покойника. Будто влитый в корму, в форменной фуражке с высокой тульей,тяжелом армейском плаще с капюшоном, он подкатил к ним, словно сила сама, как власть сама, и, сделав крутой вираж, намертво закольцевав плоскодонку, резко заглушил мотор. И напрасно Петр отворачивался, прятал лицо от фонаря, высоко поднятого егерем,
— Ты, Кузьмишкин?
— Ну я...
— А это кто с тобой?
— Ты меня светом не слепи! — вломился в амбицию Костик, заметив, что егерь лишь по первому впечатле нию грозен, а приглядеться — мужик как мужик. — Тыменя знаешь, чтобы светом слепить? Может, я министр той же рыбной промышленности. Из Москвы на отдых прибыл.
Егерь, будто глух был, заглянул в лодку.
— Давно поймали?
— Только что, Леонидыч, — с подобострастной поспешностью ответствовал Кузьмишкин. — Живая еще.
— Ну коли живая, пускай живет себе на здоровье... Ясна мысль? Давай ее назад в воду. — Это как назад? — закричал Костик. — Умный какой нашелся. Ты сначала налови ее, а потом распоряжайся!
— На штраф нарываетесь, товарищ, — насупился в фонарном свете Леонидыч. — Могу устроить...
— Нет, ты глянь только, Петро, — Костик судорожно поворотился к мелиоратору, ища поддержки. — Дожили, называется, выходит, и рыбы нельзя половить. Это-то мне, местному, тутошнему, приехавшему на пару дней к родной мамане. Трудяге от комля, строителю заслуженному, бульдозеристу... Издевается он надо мной, что ли, твой Леонидыч?.. Ну нет, формалист несчастный, не с тем связался, я тебе покажу, как слепить рабочего человека!..
—Я, промежду прочим, не только под штраф могу подвести, — сказал Леонидыч. — Могу и под суд вас упечь, товарищ, заслуженный строитель.
— За что? — картинно взрыднул Костик и картинно рванул на груди рубашку.
— За это самое — незаконную ловлю запрещенной снастью в неположенное время.
Костик застегнул рубашку, ощупал пуговицы — все ли целы?
— Ну хорош‚ — сказал спокойно. — Зря прикидываешься глупым, вижу, умный ты. А раз так, давай логически рассуждать, по-современному. В этом озере мужики испокон веку рыбу ловили, и от этого ее отнюдь не убывало. Тебе бы, законнику, пошире на данное явление посмотреть, с горки из-под руки... Кто губит рыбу? Я? Или этот вот температурящий мелиоратор Петр? Цивилизация ее губит. Разумеешь, что значит такое слово — ци-вили-за-ция! А точнее — вредные отходы промпредприятий — раз, минудобрения и ядохимикаты — два, свинофермы и сырзаводы — три, проникающая радиация — четыре...
— Что, что? — хмыкнул егерь, явно заинтересованный.
— Проникающая, говорю... А потом плюсуй к этому следующие факторы...
Долго объяснял Костик, почему гибнет рыба, и допек-таки егеря. Засмеялся тот, махнул рукой:
— Езжайте!
— Понял, стало быть. Молодец! — похвалил его Костик.
— Езжайте уж, прощаю попервости...
Спиной почуя недоброе, Костик обернулся как раз в тот момент, когда Петр опускал за борт последнюю рыбешку.
И с мережей чуть не расстались. Объявив ее конфискованной, Леонидыч ухватился за мотню и начал перетаскивать мокрое сетево к себе в катер. Тут уж пришлось заплакать, запричитать Кузьмишкину, назвать подлинного владельца снасти — бычара Николащу, который уж, наверное, спустит на него самого свирепого быка, если он, Кузьмишкин, не вернет мережу.
— Миловать так миловать, — сказал на это великодушный Леонидыч и перекинул мережу обратно в их плоскодонку.
Под конвоем катера, брунжавшего позади на малых оборотах, они вернулись к месту, откуда пускались в плавание. Пожелав им никогда больше не выступать в некрасивой роли врагов природы, егерь умчался в ночь. Плюнув ему вслед, Костик взялся было поворачивать лодку вновь в открытые воды, но тут случился бунт на борту: Кузьмишкин сказал, что прощальные слова Леонидыча были правильные, глубоко проникли в его сознание и никуда он больше не поедет. Костик не на шутку взъярился, хотел возвратиться к речке один, но мелиоратор молча вырвал у него из рук весло, подхватил на плечо мережу и решительно полез вверх, держа курс к дому.
Костик очень переживал эту неудачную рыбалку, спал опять плохо, и когда смежал веки, тут же чудились ему кружка пива с шапкой пены поверху и горка сушеной плотвы с раздутыми от икры брюшками. А тут еще рыжий кот — тот самый. Черт его знает, чего он привязался к Костику. Днем ходил по пятам, явился не запылился и ночью. Правда, в палатку прорваться не сумел, но до самого рассвета бродил около, мяукал низким голосом, бренчал посудой, оставленной на столике.
Разобиженный нечутким отношением егеря, злясь на прилипалу кота, Костик, несмотря на палаточный комфорт, бессонно ворочался во тьме и давил на лбу комаров, которые все-таки просачивались поодиночке в какие-то там щели плотно задраенного шатра. Пробовал он и радио слушать, вставив в ухо наушничек индивидуального пользования, но даже современная техника, целиком иполностью поставленная на службу трудящемуся человеку, в эту ночь не утешила Костика.
А утром — новая неприятность. Они сидели за столом, поедая поочередно кушанья, которые таскала им из избы маманя, как, откуда ни возьмись, из воздуха будто, возник перед ними милиционер в звании лейтенанта — бесспорно, симпатичный юноша с черными усиками, румянцем во всю щеку и серыми выразительными глазами. Раиса улыбнулась ему. Он небрежно ткнул двумя пальцами в висок, приветствуя бивачников, й, косясь на ноги Жанны, завтракавшей налегке, в одном купальнике, осведомился:
— Надолго расположились?
— Во-первых, надо сказать «здравствуйте», — строго заметил Костик и громко хрустнул плечом — как выстрелил. — Во-вторых, надолго ль иль нет — наше личное дело.
— Парковая заповедная зона, никаких машин, никаких палаток.
— Ты меня не учи, молод еще меня учить, — вскипел Костик. — Я к родной мамане в гости приехал.
— Прошу не тыкать, — румяные щеки лейтенанта стали бледнеть. — Вы к тому же еще и безобразничаете, — мысом сапога он поддел березовую ветку с уже увядшими, скукоженными листками. — Кто вам позволил рубить дерево?
— Послушай, парень, — вдруг осенило Костика. — Да ведь ты сын Ваньки Капленкова... Скажи, что вру...
— Нет, не врете...
— Вот видишь, как две капли воды. с батькой. Даже усики отрастил... А кидаешься на меня, словно лютый зверь... Мы же с твоим батькой сызмальства без портков по деревне вместе бегали, дружками, можно сказать, были...
— Не врите, — хмуро сказал Капленков, — Не были вы дружками. Пеший конному не товарищ...
— Это как понимать?
— А так. Вы, Константин Афанасьевич, еще в юности тю-тю из деревни, не гляделись вам сельские картины, холодно, голодно было... А мой отец всю жизнь тут, все этой земле отдал.
— Ты не думай, я в прошлый раз на могилку к нему ходил, гладиолус отнес...
— Это ваше право... — Капленков снова поднес к виску два пальца. — Даю три часа сроку для ликвидации незаконно устроенного становища.
«Этот посерьезней Леонидыча будет», — подумал Костик, испытывая непривычное чувство растерянности.
— Милый юноша, — нежно заворковала Раиса — Нельзя же так категорично. Может, разделите: с нами скромную трапезу? И не смотрите на это молоко, у нас найдется и кое-что покрепче.
— Не употребляю, — сказал Капленков жестко и рывком надвинул на глаза козырек фуражки, чтобы не видеть голых коленок студентки Жанны. — Три часа. Не выполните — пеняйте на себя... — И круто повернулся, показав узкую спину и худую шею с завитушками светлых волос.
— Я на тебя в городе жаловаться буду, — зачастил Костик в спину скороговоркой: милиционер, с ходу взяв крупный шаг, быстро удалялся, а сказать надо было ему ногое. — У меня генерал эмвэдэшный знакомый. Я ему доложу, как ты честь отдаешь, двумя пальцами... Ты что, советский милиционер, слуга народа, иль полицай заокенский?.. Думаешь, ты царь и бог?. Не на таких нарвался. И на тебя, фрайера, управу найдем. Мы тоже законы знаем!
— Ах, перестань, папка! — прервала его Жанна и зашлась в тягучем зевке. — Скучища в этой твоей деревне.Говорила, не надо ехать.
— Собственно, ничто нас здесь больше не удерживает, — раздумчиво сказала Раиса, поглядывая на пузатую сумку.
За пятнадцать минут до истечения срока, назначенного, лейтенантом Капленковым, семейство было полностью готово к отбытию. Все уже сидели в машине: Костик, конечно, за рулем, рядом Жанна в том же голубом купальнике и черных очках на носу, сзади — Раиса, обнимавшая кошель, который занял чуть ли не все сиденье. Приспустив боковое стекло, Костик давал последние наставления мамане: сказано ей было, бестолковой, точно, сколько и какого сорта сажать картошки, сколько сеять огурцов и лука, сколько и каких грибов насолить. Было указание и насчет поросенка — усиленно кормить до сентября, когда намечалось широко и торжественно отметить славный юбилей — сороковую годовщину со дня рождения Раисы.
— Ну пока, — говорил Костик, высовывая мамане длярукопожатия кончики пальцев. — Не ценят меня здесь, непонимают, а то бы больше погостевал... Спохватятся, само — собой, да уж поздно будет... Ну да ладно, к осени вновьнагряну. Не хворай тут. И сырости не разводи.
Имелись в виду расставанные маманины слезы. Такая уж старуха была несовременная: как провожать сына и внучку — обязательно заплачет.
Машина тронулась, фыркнув в лицо мамани синим дымом.
Через четверть часа появился лейтенант Капленков. Походил по поляне, где недавно стояла палатка, поднялтетрадочный лист в клеточку, на котором крупными буквами было начертано: «Уехали по собственному желанию, а не по твоему приказанию. Константин». Капленков усмехнулся.
Подошла умелица бабка Пелагея:
—Неуж укатили?
— Как в воду глядишь, Пелагея Ивановна, — подтвердил Капленков. — Скатертью. им дорога...
— А я-то надеялась на Константина. Обещал ведь...
— Что обещал?
— Хоря убить.
— Теперь уж не убьет...
— Не убьет, — опечалилась бабка. — Я ее к столу привязала, ножка к ножке.
— Кого привязала?
— Да куру же...
— Ну, ну, — витая мыслями в облаках, пробормотал Капленков.
На лужайке, где жили городские, пованивало бензином, кусты были примяты, трава прибита к земле, валялись банки-склянки.
— Вишь, как загадили эту самую... — умелица собрала в гармошку лоб, вспоминая...
— Биосферу, — оживившись, подсказал лейтенант,
— Во, во, малый!.. Вот тебе эта самая и...
— Экология.
Бабка радостно смотрела на Капленкова, широко улыбалась беззубым ртом.
Вчера они оба смотрели по телевидению популярную передачу «Природа и мы». Пелагее очень понравились некоторые слова из передачи, а вот запомнить их накрепко по старости лет не могла...
Пелагеина тропа
А идти им было ни далеко, ни близко — версты три: от родной деревеньки Сладкие Соты до центрального колхозного поселка Могучий Трактор, где и была та самая школа. Опаздывали, поэтому чуть ли не бежали. Впереди мелькала смуглыми икрами, маячила синим платьицем, как василек во ржи, Маринка, а Пелагея за ней поспешала — сухонькая, легкая, не на крепких уже ногах. Дышала загнанно и все хотела смахнуть капельки пота со лба, стекавшие из-под платка, да и на это времени не было.
Бежали они по тропе, которая так и называли в округе — Пелагеина. Начиналась она в Сладких Сотах, у избы, где жили Пелагея с Маринкой, а кончалась в Могучем Тракторе, у самых ворот длинного и низкого, на кирпичных столбах, коровника.
Бежали через болотину с гатью из срубленных и уложенных в хлюпающую топь олешин, мимо ельника, где ближе к осени страсть сколько белого гриба нарождалось, по гибким жердинам через ручей в тенистом овражке, сквозь уже густые закурчавившиеся овсы, поперек кочковатого луга, на котором молодой пастух Коська картинно гарцевал на лошади, пощелкивая на коров коротким ременным бичом. Одна буренушка, видно больно укушенная слепнем, зиканула в сторону. Коська погнался за ней, принялся лупцевать животину.
Пелагея знала эту корову. Тихоней ее звали за смиренный нрав. Она и сейчас, под Коськиным бичом, даже не пыталась бежать, лишь мычала жалобно, тяжело водила боками. А Коська старался, подлый, стегал и стегал Тихоню. Конечно, если бы видел он Пелагею, не посмел бы зверовать, а тут думал, что один в поле, кругом ни души человеческой, вот и дал волю рукам. Пелагея хотела было крикнуть ему, заругаться, но в эту минуту оглянулась Маринка, в глазах нетерпение, и Пелагея, ничего не крикнув пастуху, припустилась еще шибче.
«Ишь взял моду — на коне коров пасти, — про себя ругала она его. — Да где это видано? Ты что, казак, что ли? Или как его?.. в кино давеча показывали... Канбой американский? Да разве даст много молока та же Тихоня, если ты ее, неуч, по лугу до пота гоняешь, спокойно есть не даешь, конским копытом топчешь... Нет, так дело не пойдет!.. Завтра опять надо к председателю, пускай наконец окоротит этого Коську, сымет его за шкирку с лошади. Иначе загубит стадо... А председатель?Председатель-то... Пускай, говорит, себе — это про Коську — пускай, говорит, на коне... Как это, спрашиваю, пускай на коне? А так, отвечает: ежели его с коня долой, он вовсе от должности откажется, а где я возьму другого пастуха?.. Эх, молодежь, молодежь нынешняя!.. Волосатику Коське еще и восемнадцати нет, в армии еще не служил, а гриву, дурень, отрастил, на гитаре трень-брень по вечерам... А председатель Николай Васильевич намного ли старше Коськи? Годов двадцать пять ему, не боле. Намного ли умнее, хоть и кончал институт?..»
— Золотко мое! — взмолилась она вслух. — Миленькая! Ну пожалей меня, старую!..
Маринка сгоряча зыркнула недовольно на Пелагею, но тут же спохватилась, всплеснула руками, рассмеялась звонко:
— И в самом деле... Ведь не на пожар. Да подождут они!.. Вон и колодец. Может, напьемся?
Маринка наклонилась над срубом, высунула язык, подразнила свое отражение, похихикала. Пить не стала. Пелагея, сложив ладонь ковшиком, зачерпнула воды, благо она совсем близко подходила к краю сруба, истово напилась. Когда улеглась на воде рябь, снова, будто невзначай, взглянула в колодец. Отразилось там, в темном зеркале воды, ее возбужденное и вместе с тем усталое лицо, клетчатый платок на голове, кружевной воротничок платья на тонкой морщинистой шее... Она-таки принарядилась, собираясь в школу, да знать, правду говорят, что старость никаким нарядом не скроешь, криком кричит она из каждой твоей морщинки.
— Ты еще ничего, мамуля, ничего! — бодро сказала Маринка, заметив взгляд Пелагеи в воду и вдруг погрустневшее лицо ее. — Щечки у тебя еще румяненькие, так и пылают...
— Что правда, то правда, — согласилась Пелагея. — Только что и остались щечки. Они у меня и впрямь, как у молодой. Это потому, что я всю жизнь около коров, молочко ихнее вволю пью...
— Вот ты им и скажи, девчонкам-то, — подхватила Маринка радостно, — что за коровами ухаживать — для здоровья полезно: мол, до старости щеки румяными будут.
— Ой, девка! — снова вспомнила Пелагея, зачем шла в школу. — Выступать-то надо, говорить надо что-нибудь. А из меня, сама знаешь, какая говорунья... Уж я вчера просила-просила Васильевича: ты мне бумажку напиши, я по бумажке привычная выступать, особливо, если на машине отстукано, печатными буквами. Я по бумажке все честь честью прочту, а то могу и наизусть выучить... А он сердится, пора, говорит, и без бумажки учиться, как бог тебе, значит, на душу положит... Ой, дочушка, страшно мне! — крикнула Пелагея и засмеялась, делая вид, что шутки шутит, а у самой кошки на сердце скребли.
— Не бойся, — сказала Маринка. — Я с тобой рядом буду. И потом нашла кого бояться... Ну большие они, ну ученые. А насчет ума... Что они в жизни видели? Ты им о красоте профессии побольше, понимаешь? Они красоту обожают — по себе знаю, такой же была... Ты ими накрути: мол, встаешь на зорьке, в коровник спешишь, а кругом роса сверкает, птички в кустах поют... И все такое…
Маринка прыснула, задрожав круглым розовым подбородком, ткнула Пелагею мизинцем в бок, приглашая веселиться вместе, но Пелагея посмотрела на нее строго.
— Ты над кем надсмехаешься? Поработала на ферме и думаешь, что теперь лучше всех?.. Не к добру, гляжу, разошлась.
Маринка, ничуть не обидевшись, чмокнула Пелагеюв висок, в седую прядку, подхватила под руку и с местапустилась в галоп: за разговорами опаздывали они все больше. На двадцать минут уже, как определила Маринка по своим золотым часикам, купленным ей Пелагеей ко дню рождения — недавно исполнившемуся девятнадцатилетию.
На окраине поселка, когда подошли они к скотным дворам, Пелагея машинально шагнула было к дверям коровника, но Маринка на ходу оттеснила ее в сторону. Все же Пелагея успела увидеть в створе дверей круглое, с неправдоподобно белой от пластмассовых вставных зубов улыбкой, лицо своей дородной сменщицы Домны, ее коренастую фигуру с вилами в руках, услышать сказанное вслед: «Идите, идите. Порядок тут. Как в танке...» А про танк Домна помянула по привычке, потому что давным-давно, еще до войны, первый муж ее служил в танковых частях... .
В Могучий Трактор, на ферму, Пелагея с Маринкой ходили дважды в день — утром и ближе к вечеру, возвращаясь с обеда. А школа стояла на другом конце поселка, и бывала там Пелагея не часто. Раньше она как-то не обращала внимания на деревянный двухэтажный дом с высоким крыльцом и неизменным веником перед дверью, а сейчас подивилась, как уютно, покойно устроился он в глубине старинного парка под темными грустноватыми липами. Но дом доживал свои последние дни: поодаль, за низиной, громоздилась только что построенная лупоглазая хоромина из белого кирпича, куда предстояло переселиться школе нынешней осенью.
На крыльце встретила их молоденькая учительница Лина Николаевна — худая, в очках, с комсомольским значком на строгом темно-синем платье — и повела по светлому, в солнечных зайчиках коридору, по скрипучим, до желтизны выскобленным половицам в кабинет самого директора.
«И этот... зеленый совсем еще», — не то с осуждением, не то удивляясь, отметила про себя Пелагея.
Директор, видать, был сильно занят, Он недовольно поднял от бумаг лобастую шишковатую голову, вопросительно уставился на Лину Николаевну.
— Это Тишкины, — почему-то шепотом и явно робея, сказала учительница, глядя на веснушчатую, с тонким запястьем директорову руку так, будто ей очень хотелось погладить ее. Рука нетерпеливо постукивала карандашом по зеленому сукну стола. — Помните, Валерий Валентинович, вас председатель по телефону просил?
— Ах да! — оживился директор. —Я тут с годовым отчетом. Простите. Рад приветствовать. Особенно вас, уважаемая... э-э...
— Пелагея Ниловна, — торопливо подсказала учительница и мгновенная радость осветила и сделала привлекательным ее тусклое лицо.
Привстав, директор слегка поклонился Пелагее, а Маринке подмигнул незаметно для других, как давней знакомой.
— Так что, без вас начинать? — уныло спросила Лина Николаевна. — Вы же обещали...
— Да вот отчет этот некстати...
«Ну чистые дети... Сами вы еще дети, а туда же, учить», — думала Пелагея. Все здесь было ей интересно. И класс, куда привела их Лина Николаевна, оглядела с любопытством. Все оглядела — и щербатенький пол, и стены в пестреньких веселых обоях, и новенькие, но уже успевшие пострадать от перочинных ножей (конечно, мальчишки старались) парты, и портрет Ильича над исписанной мелом доской. Вождь был изображен в простецком виде — в кепчонке, с добрым прищуром глаз. В детстве Пелагея три зимы ходила в школу. Едва-едва, бочком будто, но все же была прилеплена она в свое время к школьному мирку. И теперь сравнивала то, что было, и то, что есть, вспомнила себя восьмилетней крохой с босыми, в цыпках, ногами, в замызганном, штопаном-перештопаном ситцевом платье, с чернильницей-невыливайкой, зажатой в грязном кулачке. Те, что ходили вшколу вместе с Пелагеей, были и потише этих, вставшихей навстречу девочек, и не носили они нарядной формы — коричневых платьев с белыми фартуками.
«Вот ведь вы какие справные — полненькие да грудастенькие, — думала Пелагея, опускаясь по знаку Лины Николаевны на стул за учительским столом. На столе, как и в директорском кабинете, поблескивал графин сводой и лежал толстый карандаш. — Павы писаные, девкичто надо, невесты совсем... Да, крупный пошел молодняк нонче, правильно говорят по радио, в газетах пишут, что... как ее?.. это самое...»
И, не вспомнив мудреного слова «акселерация», чувствуя на себе въедливые взгляды девочек, Пелагея вдругзасмущалась, заерзала на стуле, который теперь казался ей неудобным и жестким. Правда, успокаивало то, что Маринка и в самом деле сидела рядом, небрежно щурилась на школьниц. Понимала свое положение. Была она не сбоку припека, не бесплатное приложение к Пелагее, не просто дочка ее, а и сама по себе кое-что значила: известная в колхозе доярка, хотя и молодая еще. Лине Николаевне, конечно, ничего не оставалось, как посадить их вместе за почетным учительским столом, но в последнее мгновение она изловчилась-таки и подсунула Маринке стул похуже Пелагеиного, обшарпанный, с расшатанными ножками, подчеркнув тем самым, что полностью равнять гостей она все же не намерена.
— Садитесь, девочки, — сказала учительница, когда школьницы, приветствуя Пелагею, а заодно и Маринку, отстояли положенное правилами число секунд. — И не надо так громко стучать крышками парт... Ну что, успокоились? Прошу абсолютного внимания... Все вы только что закончили среднюю школу, и те из вас, кто не будет продолжать образование в институте или техникуме, должны выбрать себе профессию. И, как вы знаете, мы — Валерий Валентинович, весь педколлектив —надеемся, что некоторые из вас останутся на селе, продолжат дело своих отцов-земледельцев и матерей-животноводок... Девочкам, видно, было не внове слушать речи Лины Николаевны. Они позевывали, закрывая ладонями рты, поглядывали в раскрытые окна, изучали Маринкину модную прическу, сделанную ею в городе специально ко дню рождения.
«Раз, два, три...» — Пелагея зашевелила губами, считая. Девочек было одиннадцать — все выпускницы школы, все семнадцатилетнее население крупного колхоза, земли которого раскинулись на многие километры окрест всех восьми его деревень и одного поселка. Не густо... Ой, не густо! Только на одной ферме —в Могучем Тракторе вот-вот уйдут на пенсию сразу пять доярок, остальным фермам в нынешнем и будущем году понадобится еще больше работниц. Значит, если даже все эти девчата согласятся идти в доярки и то... Ох, уж лучше не под-: считывать!..
— Поэтому мы и пригласили в школу знатную колхозную доярку Пелагею Ниловну Тишкину, — будто издалека доносился до Пелагеи голос учительницы. — А также дочь ее, недавнюю ученицу нашей школы. Они побеседуют с вами, ответят на ваши вопросы. Итак, послушаем Пелагею Ниловну...
Пелагея, хотя и ждала этого момента, вздрогнула и беспомощно взглянула на Маринку.
— Что же вам такое сказать-то? Мне бы подумать еще... Пускай вон она... Маринка, первой выступает.
В классе тихонько захихикали.
— Гм... — Лина Николаевна стрельнула в Маринку холодным колким посверком очков. — Это в какой-то мере ломает нашу программу... Впрочем, если ваша дочь не возражает...
— А что, и выступлю, — сказала Маринка громко и чуточку сердито, будто недовольная была, что потревожили. Поднялась, тряхнула прической, как гривой, сгоняя к вискам, подальше от глаз непослушные кудряшки. — Работаю вместе с мамой. На ферме — третий год. Учусь заочно в институте. Жизнью пока довольна, а там видно будет... Ну и, как говорится, призываю следовать моему примеру.
Маринка села.
— И все? — спросила Лина Николаевна, ошеломленная краткостью Маринкиного выступления.
— Все! — отрезала Маринка и ущипнула за бок Пелагею. — Остальное мамуля скажет.
Пелагея медленно стащила с головы платок, старательно разгладила его ладонью на столе, потрогала пальцем бело-желтые ромашки на зеленом поле. Прислушалась к своему сердцу. Успокаиваясь, оно билось ровнее, тише. Цветы всегда умиротворяли ее, уводили память в прошлое — глядела она на них, трогала ли. Даже вот такие цветы, не настоящие...
— Я вам как на духу расскажу. Про жизнь свою, значит. Родилась в деревне Сладкие Соты, где и сейчас живу. Только была тогда наша деревня не хуже Могучего Трактора, в пятьдесят дворов. Что мужиков было, что баб, что девок с парнями — туча! Потому как мы тогда о городе и не думали, около земли жили, крестьянствовали, понимали, стало быть, свое назначение... чтоб, значит, хлеб растить, коров доить, кормить людей... этими... продуктами сельского хозяйства.
Лина Николаевна закивала головой одобрительно, и Пелагея, благодарная ей за эту безмолвную поддержку, начала стараться — говорить от души, как просил председатель Васильич, подбирать слова простые и ясные, как на ниточку их нанизывать.
— Ну, счастливого детства, не в пример вашему, у меня, известное дело, не было. Помню, привез отец из города булку такую, французской называлась, одну на всю братию. Дал сестренке моей старшей, покойнице, царство ей небесное, — дели, мол. А она, видать, разволновалась, ручонки тряслись, ну и урони булку. Нас четверо детишек было: три девки, один мальчонка, полезли мы гуртом под лавку — булку искать. А дело под вечер было, в хате уже темно, ничего не видать. Стукаемся мы головенками в потемках, ползаем по полу, а булка как провалилась. Тут мать запалила лампу, смотрим — Шарик, пес наш, у порога сидит, доедает булку. Бросились мы к нему, да где там!.. Он одни крошки нам кинул... Что тут реву было!..
Пелагея взглянула на школьниц. Кажись, слушают. Вон у той, с косами, глаза внимательные, ласковые, вперед подалась. Ее подружка по парте тоже слушает, в забывчивости ушко розовое теребит. И вон та — полная, румяная, с родинкой на подбородке (никак, Домнина дочка?) — слова не пропускает, щекой на кулак оперлась, улыбается светло так...
— А можно вас спросить? — Из заднего ряда тянулась рука. Поднялась девочка-недомерочка, недоросточка. Оказывается, и такие в десятом классе бывают. Пелагея ее и не заметила прежде за рослыми да плечистыми, и не посчитала, наверное, когда считала других. А девочка, видать, бойкая, вострая, голосок звонкий, задиристый. — Можно вас спросить о семейной вашей жизни: любили ли вы когда-нибудь и был ли у вас муж?
Все засмеялись.
— И ничего смешного! — крикнула востренькая. — Вовсе не смешно!
— Да, смешного тут мало, — согласилась Пелагея и покосилась на учительницу. Лина Николаевна, насторожившись, катала в пальцах карандаш. — Не маленькие, можно вам и про семейную жизнь. Она у меня короткая была: и годка не пожила со своим Васей, а он возьми да и помри. Поехал зимой в город на лошади, а одежонка худая. Обратно в пургу ехал злую, наморозился, жар у него сильный открылся... Я к соседке — тулуп одолжила, Васю в тот тулуп и на печку. Так он в тулупе на печке и помер...
Пелагея помолчала. Почитай, сорок почти годков с той поры минуло, а кажется, будто вчера было. Вот он в гробу лежит, Вася... Щупленький такой, в пиджачишке своем лучшем — в полоску, в косоворотке белой. В руку ему свеча вставлена, и старуха Архиповна, приглашенная к гробу, что-то божественное бормочет... По старому крестьянскому обычаю отпевали и хоронили Васю, честь честью, чтоб, значит, и на том свете не обижался... Она больше всего свечку эту запомнила — в Васиных руках, из пчелиного воску слепленную, коричневую, духовитую. От нее сладкий дымок по хате стлался. Уж так хорошо пахло!..
— Я его дюже любила, Васю-то, но не совру, девоньки: попался бы хороший человек, я во второй раз попытала бы судьбу свою женскую. Детишек ради. Очень мне хотелось иметь хоть одного дитенка. Но тут война грянула, и мужиков в деревне надолго не стало. Потом уж, в сорок пятом, начали возвращаться помаленьку, но я уже об ту пору перестаркой была, да к тому же вдовкой. Никому я не приглянулась, баба тридцатилетняя... А уж так ребеночка хотелось! Кажись, все б отдала за него, на все пошла...
Лина Николаевна постучала карандашом по графину.
— Да ты не бойся, милуша, — обернулась к ней Пелагея. — Я лишку не сболтну, хоть дело это женское, и все мы тут — свой брат. Болтать-то не о чем. Блюла я себя уж вот как!.. Гордая тогда еще была: ежели в сельсовет, по закону — посмотрим, подумаем, а чтобы так, баловства ради — лучше подальше от меня держись: ты не гляди, мол, что я тихая, я горячая, я и по щекам могу, за нахальство-то... А ребеночки стали мне уже и во сне, и наяву мерещиться, будто рехнулась я малость в одиночестве, умом тронулась. Но тут меня бог спас... Знаете детский дом в Липках? Тогда его только открыли, я и пристрастилась бегать туда. Там их сирот, детишек малых, душ до ста жило. Меня воспитательницы приметили, не гоняли, а я рада: какую-нибудь девочку жалкенькую на колени посажу, покачаю, побаюкаю, другой нос вытру, косички заплету. Мальчишку, шустряка какого, подхвачу на закорки, бегаю с ним заместо лошади. Ну, морковку им с огорода принесешь, репку. Случалось, меду доставала — тоже им... А потом взяла на примету одну девочку. Уж такая пригожая, светлая вся, волосенки, как волна льняная, глаза голубые и на Васю похожа — лоб его, нос...
Тут школьницы, сидевшие в классе, заметили, как внезапно покраснела эта задавака с модной прической — Маринка, как умоляюще зашептала она что-то Пелагее и как с досадой отпрянула, когда та, будто не слыша, продолжала рассказывать:
— ...Вот я и подумала: ежели возьму эту кроху к себе в дом, то будет она словно бы наша с Васей дочка. И живая душа тебе рядом в хате, и Вася будто тоже где-то недалеко, будто вышел ненадолго и скоро возвернется. Взяла я ее к себе и тут уж истинно — заглянуло солнце и в мое окошко. Девочка-то до чего ласковая, до чего послушная...
И тут Маринка не выдержала: прижимая ладони к горящим щекам, кинулась за дверь.
— Пусть себе, — спокойно сказала Пелагея. — Погуляет и придет. Стесняется, когда про нее...Так вот, взяла я ее...
Лина Николаевна кашлянула — вежливо, но достаточно громко.
— Что, не о том я? — спросила Пелагея с торопливой готовностью признать свою вину.
— Все это, конечно, интересно, но давайте ближе к теме. Девочки, — обратилась Лина Николаевна к классу. — Вы, разумеется, слышали о Пелагеиной тропе? Попросим нашу гостью рассказать о ней, И будем помнить, что это не просто тропа, это символ замечательной жизни — не тропа, а широкая дорога, светлый путь.
211
— Да что ж о тропе-то, — неуверенно промолвила Пелагея, разглаживая платок и скучая по Маринке. — Я, как впервой пошла на ферму в Могучий Трактор, так сразу и заприметила, что крюку даю версты полторы. По большаку-то. Вот и порешила ходить напрямки. Оно ничего: все по лугам, по лугам. Правда, в одном месте там болотина, я ее загатила, как могла, олешнику набросала, через речку в овражке кладочку перекинула. Ну и стала ходить. Старалась, конечно, по старым следам: где вчера шла, там и сегодня, где утром, там и вечером... Недельки через три тропа и проклюнулась в траве. Поначалу чуть притоптанная, одной мне заметная, а потом, к осени уже, совсем ясно обозначилась. Трава на ней перестала расти, земля твердой сделалась.
— Вы, надеюсь, понимаете, девочки, — сказала Лина Николаевна, — что проторила эту тропу Пелагея Ниловна не только для себя, но и для людей. Помните, что я вам говорила на уроках? Трудовому человеку всегда были чужды эгоизм, стремление соблюсти лишь свои, узко личные интересы... Кто еще ходит по вашей тропе, Пелагея Ниловна?
— Кому ж еще ходить? Маринка еще ходит. Я да Маринка. — Пелагея конфузливо улыбнулась, страдая, что опять, наверное, говорит не то, чего хотелось бы молодой учительнице. — В Сладких Сотах всего четыре души осталось. Вместе с нами. Дед Пахом возле хаты все копошится, бабка Анисья — та вовсе редко с печи слезает, разве что обед сготовить... Кому ходить-то?.. А Маринка бегает. Бывает, и без меня. Не на работу, а в клуб тутошний. На танцы, стало быть...
— Так, так, — сказала Лина Николаевна разочарованно. — Только вдвоем ходите?
— Вдвоем и ходим. — Пелагея вздохнула. — Я вот уже, считай, тридцать годков хожу.
— Тридцать! — тихонько ахнула толстая девочка, та, у которой была родинка на подбородке и — чего Пелагея не ожидала — зевнула, не таясь. — Умереть можно со скуки.
— Тебя как зовут? — спросила Пелагея. — Не Домны ли дочка будешь?.. Ну вот, я сразу признала. Что касаемо скуки, я тебе так скажу: иной раз скучно идти, иной — нет. Всего три версты, недалек, кажись, путь, а каждое утро, как внове идешь: сегодня солнышко светит, завтра дождик каплет, вчера метель в глаза кружила, а нонче спокой, снег лежит, будто холстина отбеленная, сверкает до жмури в глазах... Ну, а весной... Весной, девоньки вы мои родные, загляденье, да и только. Сколько трав разных в лугах растет, цветов!.. И у всех свои имена-звания. А много ль мы знаем? Ну лопушок там какой, ну щавель, ну ромашка... Бывает, станешь над травинкой и такая тебя досада возьмет, что не знаешь ее поимени... — Пелагея помолчала. — Понятное дело, и так бывает: иной раз бредешь и ничего вокруг не мило тебе, освоем думаешь. Особливо, когда нездоровится. Раньше, помоложе была, я свою тропу за двадцать минут пробегала, а теперь, бывает, еле плетусь, в грудях дыху не хватает... И так-то невесело на душе... Пелагея, подслеповато щурясь, погладила цветы на платке, опустила голову. — Да, старость не радость...
— Мы понимаем вас, дорогая Пелагея Ниловна, — торопливо закивала учительница. — Но главное — в огромном удовлетворении, которое вы испытываете, сознавая, что жизнь прожита недаром. Ведь так?
— Так... Только устаю я дуже. И руки по ночам болят. Уж так болят!.. Это у нас, доярок, почти у всех, от работы нашей, от дойки. К ночи задремлешь, а они начинают: сперва тихонько ноют, а потом... И на подушку их положишь, руки-то, и под подушку сунешь, и качаешь одну в другой, как дитенка малого. А они все болят. Порой так прижмут, аж заплачешь... Ей-бо!..
Пелагея не вдруг услышала настойчивый стук карандаша по графину, увидела встревоженное лицо учительницы и тут же, поправляясь, торопливо сказала сорвавшимся тонким голосом:
— У вас руки болеть не будут, девоньки. Вы не бойтесь. Потому как теперь электродойка.
Ей показалось, что толстая Катя, Домнина дочка, смотрела на нее насупясь, недоверчиво.
— Вы приходите ко мне на ферму, я с вами экскурсию проведу. Электродойка, она такая: поставил стаканчики на коровьи титьки и ж-ж-ж! — потекло молочко.
— Знаем мы, — сказала Катя. — Эка невидаль. Вы лучше о навозе. Когда будет механизация? Мама надорвалась с вилами да лопатой.
— Ты, дочушка, за маму не расписывайся. — Пелагея добро усмехнулась, представив себе дебелую, сильную в плечах Домну. — Она вил не боится. Опять же скотник у нас на ферме есть, он-то в основном с вилами... А механизация будет. Не все сразу.
— Не знаю, кто как, а я в деревне не останусь, — сказала Катя. — Отток рабочих рук из деревни в город — это закономерный процесс, я лектора из области слушала. Промышленность растет, развивается. Значит, нечего нас и агитировать.
— Да она не в промышленность, она в продавцы решила, — дала о себе знать востренькая. — Представляете, девочки? В белом колпаке наша Катерина, в кондитерском отделе... Будет дальше щеки наедать!
Девчата засмеялись, зашумели.
— Так-то оно так, можно и по торговой части. — Пелагея чуяла, что пора кончать затянувшуюся беседу, и было ей грустно, что серьезный разговор кончался вот так — криками да смехом. — Неволить вас никто не будет. Только и о том подумать надо: вот уйдем на пенсию мы, старухи, перемрем помаленьку — кому тогда работать?..
Ее уже никто не слушал, и говорила она для себя самой — размышляла вслух...
Маринка, выскочив за дверь класса, побежала по коридору и столкнулась нос к носу с директором ВалериемВалентиновичем. Ему, видно, наскучило сидеть за отчетом. Был он парень хоть куда, когда не сидел, горбясь, за письменным столом в кабинете. Был директор высок, худощав, с небольшой русой бородкой. Не боясь потерять авторитет руководителя, воспитателя, преподавателя серьезной науки — истории, он ходил по субботам на танцы в колхозный клуб. Там и встречалась с ним Маринка.
— Вы куда? — спросил Валерий Валентинович. — Такая красная?
— А вы куда? Такой бледный?
Несмотря на солидное число вальсов, танго и шейков, станцованных в паре друг с другом, они были на «вы»: Маринка по школьной привычке, он — чтобы не быть фамильярным с недавней своей ученицей.
— Я в десятый «А», — сообщил директор. — Как тамТишкина?
— Выступает.
— Ну и как?
— Классно выступает в десятом «А» классе, — сострила Маринка и хихикнула. — Захватывающе. Муха пролетит — слышно.
— Между прочим, почин может получиться.
— Какой почин?
— На всю область. Представляете? Первая полоса газеты, вверху жирным шрифтом: «Будем доярками! — заявляют выпускники Могуче-Тракторской средней школы».
Валерий Валентинович с веселым и несколько хищным блеском в зеленых круглых глазах потер руки.
— А вы тщеславны, — заметила Маринка кокетливо, щеголяя непростым словом.
— Ну! — сказал польщенный директор. — Может, выйдем в сад, поболтаем?
А пока они любезничали в саду, Пелагея спешно заканчивала беседу со школьницами. Теперь она точно знала, что агитатор из нее никакой и не обиделась на Лину Николаевну, когда та простилась с ней холодно — лишь кивнула небрежно.
— Вот и она, — сказала Маринка директору, увидев на школьном крыльце Пелагею. Они поднялись и пошли ей навстречу.
— Разрешите поблагодарить. — Директор осторожно потряс Пелагеину руку.
— Да, кажись, не за что. — Пелагея была тиха и задумчива. — Не обессудьте, коли что... Пойдем, дочушка?
Слегка озадаченный директор смотрел им вслед — дробной горбатенькой Пелагее и ладной фигуристой Маринке.
— Пора, давно пора, — поглаживая шею, пробормотал Валерий Валентинович, но даже сам себе он не мог бы объяснить толком, что значило это — пора...
Маринка же, успевшая забыть уже о директоре, прилаживаясь к мелким шажкам Пелагеи, пытала ее:
— Ну что, согласны они? Пойдут на ферму?
— А бог их знает. Разве в чужую душу заглянешь? Не знаешь, как и подступиться к вам, молодым. Катька, Домнина дочка, будто и слушала внимательно, щеку кулаком подперла, а потом так и отрезала напрямки — в деревне, мол, ни за какие коврижки не останусь, в городе слаже, мол, коврижки.
— Плохо, — сказала Маринка.
— Знамо, плохо. Чего уж хорошего...
Они подходили к коровнику.
— Заскочить, что ли? — оживилась Пелагея. — На минутку?
— Да ведь нас на целый день отпустили, — раздраженно сказала Маринка. —И за коровами Домнапосмотрит.
— И то, — устало махнула рукой Пелагея. — Скорей бы до хаты, дочушка. Нездоровится мне что-то...
Тропа привычно и легко легла ей под ноги. Пелагея шла ссутулясь, уставя глаза в землю, узнавая на стежке каждый бугорок, каждую трещинку.
— Не расстраивайся, — сказала Маринка. — Обойдется.
— Да ты только подумай, дочушка, как все негоже повернулось: я председателю обещала сагитировать девок, надеялся он... Ой, чуяла я! — Пелагея снова вспомнила, как невнимательны были девочки, ‚как шумели и смеялись. — Ой, чуяла я неладное!..
Защемило сердце. Побледнев, она опустилась на камень-валун.
— Отдохнем трохи, дочушка.
— Можно и отдохнуть, — сказала Маринка, — спешить теперь некуда. — И плюхнулась в густую траву.
— Вот он и пригодился родненький, — говорила Пелагея, борясь с одышкой, благодарно поглаживая неровный, в мелких рябинках бок валуна.
Тропа прямая, как натянутая веревка, в этом месте делала крюк, огибая камень. Как-то шел здесь с нею, вспомнила Пелагея, пожилой молчун — тракторист Кузькин. Давно это было, лет двадцать пять тому. Он тогда ухаживал за ней. Посмотрел на валун, покачал головой. «Ну что?» — спросила Пелагея, зная, что первым он не заговорит. «Неловко лежит, — отвечает, — стежку кривой делает, убрать надобно... Завтра трактор сюда пригоню с тросом... А?» Глядит на Пелагею покорно: мол, прикажи только... Не приказала... Сильный был Кузькин, крепкой кости мужик, казалось, износу не будет. А ведь давно уже лежит под березками, на кладбище. Болезнь к нему привязалась, раньше о такой в деревне и не слыхивали — рак. В полгода в дугу согнул Кузькина, кровь выпил, жилушки вытянул, в землю вогнал...
«Ой, трудно бабам без мужиков, — думала Пелагея. — А где их взять? Она-то знает, что и это гонит девчат из мест родных, В поре уже девки, хочется им и на свидание к дружку сбегать, и помиловаться. Год-другой — приспеет время семью заводить. А женихи где? Их по всей округе на пальцах можно пересчитать... Вот и Маринка беспокойной стала, переменчивой какой-то. То хохочет, как дурочка, без причины, то забьется в угол, молчит, глядит букой... Господи, хоть бы у нее с директором чтополучилось... Вот только если Лина Николаевна встрянет. Да нет, не должно быть, где ей тягаться с Маринкой...»
А Маринка лежала в траве и смотрела на Пелагею. И чем больше смотрела, тем больше жалела ее, старую и усталую. Наконец слезы закипели на Маринкиных глазах, она вскочила, порывисто прижалась лбом к Пелагеиному плечу, ощутив на миг его костлявую угловатость.
— Маманя, — зашептала горячо. — Не надо убиваться, слышишь? Ты свое сделала. Вот придут девчата домой и станут думать... Сразу они — хихоньки да хахоньки, а потом уж точно задумаются. И не может быть того, чтобы кто-нибудь не надумал остаться в колхозе... Вот увидишь!
— Где уж там‚ — слабо откликнулась Пелагея, но в голосе ее прозвучала надежда. — Была в классе одна — с косами и лицо ласковое. Уж как меня слушала!.. Может, она?..
— Я же говорю! — Маринка плача целовала морщинистую Пелагеину шею.
И Пелагея тоже заплакала. Заплакала легкими, смывающими докуку с сердца слезами, подумав, что выросла у нее Маринка не какой-нибудь, а славной и доброй — всем девкам девка.
— Наплевать мне на город, — говорила Маринка, всхлипывая, жалея уже не одну Пелагею, но и себя немножко. — Не хочу я от тебя никуда... Что в нем хорошего, в городе? Шум, гам... И никого нам с тобой не надо.
— Вот и хорошо, вот и ладно, — Пелагея бережно, едва касаясь ладонью, разглаживала тугие Маринкины кудряшки, любуясь их ровным и плотным блеском. — Ишь, платье мне слезами замочила... На-ко платок... И пойдем потихоньку, дочушка, пойдем...
Медленно встали они и пошли, обнявшись. Поднялись на взгорок. И там, где начиналась-кончалась Пелагеина тропа, увидели родную свою деревеньку Сладкие Соты. Пелагея украдкой перекрестилась и вздохнула глубоко и радостно, как вздыхала всякий раз при виде деревеньки и своей хаты под высоким кудрявым дубом, посаженным еще дедом ее.
Ах, что ей в этой жалкой, подслеповато мигающей оконцами, старчески немощно, как во сне, скользящей к концу, к гибели своей деревеньке! А поди ж ты, кажется, и дня без нее прожить невозможно. В Могучем Тракторе электрический свет с солнцем самим спорит, тут с керосинным тяжким духом, в рыжей рже семилинейка над головой; там радио с музыкой да песнями — не заскучаешь, тут гомон листьев над прохудившейся крышей; там голубое сияние телевизора, пресветлое око его блистающее, тут темный кут с божницей; там газовая плита с чистым синим пламенем, тут чумазое чело закопченной печи; там отверни кран — вот тебе, бабушка, и вода, тут с ведерками к кринице плетись... Ясно тебе, Пелагея Ниловна, где лучше жить? В Сладких твоих Сотах, хоть они и медовые, или в Могучем Тракторе, пусть он и железный?..
Древних да ветхих Пахома с Анисьей председатель оставил в покое, а Пелагею чуть ли не за подол тащил в Могучий Трактор, стыдил. Ты что, мол, совсем дикая, от пещерного века оторваться не можешь?.. А она и рада оторваться, да... В сотне шагов от ее избушки — кладбище старое. Лежит там и дед ее, и бабка, и отец — суровый сельский кузнец Нил, и мать — вечная труженица Марья Евлампиевна...Из земли рожденные, в землю ушедшие... На том кладбище — Вася, муж ее, вся родня Пелагеина, близкая и дальняя, весь крестьянский корень ее.
И как уйти от родных могил?..
Березовый сок
Вспоминается мне деревенский дом у дороги. Он приземистый, с темными от времени бревнами, а возле — веселый строй белых-пребелых берез, уже давно не молодых, но и не старых, в полной зрелости своих древесных сил. В стволах просверлены отверстия, вставлены туда жестяные желобки, а ниже висят привязанные веревочками стеклянные банки. Березовый сок где тонюсенькой струйкой, где капля за каплей точится в банки, и постепенно наполняются они прозрачной, с чуть заметной белесинкой влагой.
Весенние дни, когда березы дают сок, по-особому дороги хозяйке дома — одинокой старухе с выцветшими покорно-печальными глазами. Встает она рано утром, надевает лучшую свою кофту, накидывает на голову свой лучший платок и выходит на крыльцо. Сначала смотрит на небо и, если оно ясное, довольно улыбается и садится на лавочку возле дома.
Дорога тут не бойкая, но все ж то машина проедет, то прохожий пройдет. Машины всегда мчатся, спешат, редко какой шофер притормозит у бабкиного дома, а вот прохожих старуха останавливает сама.
— Милок, погодь маленько! — кричит она слабым надтреснутым голосом. — Березовиком напою.
И кто откажется испить березового сока, когда и солнышко уже припекает и пылью с дороги тянет — в горле першит? Берет «милок» из рук бабки тяжелую эмалированную кружку, до краев наполненную березовиком, и принимается пить. Пьет не торопясь, истово, с перерывами, вздыхая от удовольствия, роняя с губ щедрые капли.
— Пей, милок, вволю. Его Ваня мой дуже любил, сок этот, — говорит бабка и кончиком платка вытирает уголки глаз.
Кто и спросит, кто такой Ваня (погиб он, единственный ее сын, в сорок третьем), а кто и промолчит — лишь кивнет благодарно старухе и зашагает дальше.
И снова садится она на лавочку, снова всматривается вдаль — не идет ли кто...
Поит она березовиком всех — мужчин и женщин, старых и малых. Но дрожат ее темные большие руки только тогда, когда подносит она кружку молодым, тем, кто хоть отдаленно напоминает ей Ваню.
— Вишь, волосы русые, точь-в-точь как у него, и зубы его, и рот...
Она уверена, что думает это, а на самом деле говорит вслух, и парень перестает пить, подозрительно смотрит на старуху — что это там бормочет старая, может, из ума выжила?
А иной путник, вышедший на дорогу под веселым хмельком, не обратит на бабкино странное бормотанье никакого внимания, вернет ей пустую кружку, вытрет рукавом губы, лихо сдвинет набекрень кепчонку и двинется дальше с песней:
И не поймет, не догадается, что так оно и было сегодня; сама родина-мать поила его березовым соком из добрых натруженных материнских рук своих...
Под крутым берегом
Умер близкий мне человек. Тоска такая — хоть в голос кричи. И душа, спасаясь от надвинувшегося мрака, начинает еще вслепую, инстинктивно искать целительного отвлечения... Пойти пройтись по городу? Но каждая улица, каждый дом будет напоминать о нем. Отправиться к приятелю? Опять же разговор будет об умершем, только о нем. Посмотреть кино? Или сыграть в бильярд, послушать костяной стук шаров, заворожить взор снованием кия?..
Размышляю, а ноги сами собой несут меня в заветный закуток, где хранятся мои рыболовные снасти, руки — тоже сами собой — открывают ящик, перебирают рассеянно удочки, катушки с леской, крючки и мормышки. Я прилежный рыбак, а раз так — все у меня в полном порядке, все наготове — хоть сию минуту вскидывай ящик на плечо и счастливого пути до реки или озера.
На меня находит странное забытье. Я что-то делаю, не зная что, я куда-то иду, куда-то еду, провожая бессмысленным взглядом что-то белое и голубое, плывущее за окном. И как вспышка молнии — прозрение: ведь я в пригородном поезде, за окном вагона синее небо погожего январского утра, белеют заснеженные поля. И кажется, следующая остановка — моя...
В воскресенье на реке не найдешь в этом месте и квадратного метра льда, свободного от рыболовов. Но, благо, сегодня понедельник. Нигде не видно слишком уж общительных людей с пешнями и ледобурами. Хоть и сам принадлежу к этому племени, встречи с себе подобными не жажду и даже боюсь. Долго иду вниз по реке, туда, где и по воскресеньям всегда безлюдно. Это для страховки. Тут, что ли, остановиться? За поворотом, под крутым берегом, поросшим лозой и ольшаником.
Сделал три лунки, поставил, наживив мотылем, три удочки. Тупо уставился на кивки. Клева не было. Да и нужен ли мне этот клев? Я сижу на ящике скорчившись, зачем-то трогаю мысы своих черных валенок, зачем-то бью по ним варежкой, сметая звездочки снежинок. Но потом какая-то сила начинает распрямлять мое тело, поднимать подбородок и расширять глаза — для того, чтобы я наконец очнулся и посмотрел окрест. Я очнулся, посмотрел и впервые за эти дни понял, что внешний мир не скорбит вместе со мной. Покоем, тишиной, затаенной радостью полнились эти снега, эти деревья, это небо.
«Кру-кру!» — донеслось до меня. Из дальнего леса над холмами и долами летел ко мне вещий ворон. Он опустился на макушку ольхи, долго покачивался на тонком суку, не складывая крыльев, держа равновесие, потом прочно устроился и застыл, вперив в меня жутковато-осмысленный взгляд круглых и светлых глаз. «Что ж это такое, ворон, — пожаловался я. — Долго еще так будет продолжаться?» Я имел в виду свою тоску. Он покачал медленно головой: «Все там будем, все...» — «Это само собой — все. Но когда? Разве порядок — отправляться в лучший мир, когда тебе нет и сорока?» — «Каждому свое, каждому свое, человек. — Мне показалось, он усмехнулся свысока. — Я вот живу уже сто лет...» Он покряхтел, покашлял, изображая старость, затем издал жалобное «ау-ау», подражая плачу младенца. «Да, да, ты прав, — сказал я птице. — Такова жизнь...» Он еще полаял по-собачьи, покрякал по-утиному, поквохтал по-куриному, решив, наверное, хоть капельку развеселить меня. Весьма вероятно, что у этого ворона когда-то был хозяин, жила птица на деревенском подворье и запомниланаселявшие его звуки.
Ворон улетел, и тут же маленькая птаха, с белыми пухлыми щечками, с черной косынкой на светло-зеленой грудке, села на лозовый куст и коротко дзинькнула — давай, мол, знакомиться. И по тому, как встрепенулся я со смутной надеждой на что-то хорошее, мне стало ясно, что, уйдя в одиночество, я в то же время тяготилсяим и ждал встречи. Не с людьми, нет, а с любым живым существом, вроде ворона или этой вот синички. Чтобы скрепить с нею дружбу, я отсыпал на снег немного мотыля и отошел в сторону. Синичка спорхнула с куста, не торопясь взяла в клюв червяка цвета спелой малины и, не глотая, взглянула на меня: «А не жалко?» «Не жалко, ешь», — успокоил я синичку, и она принялась весело скакать по снегу, смешно вздыбив хвостик, поигрывая синими бусинками глаз и быстро-быстро склевывая мотыля...
Управившись с последним, она снова вспорхнула на куст и оттуда снова дзинькнула, радостно, будто сделала заявление: «Жизнь хороша!» Я промолчал, размышляя, чем бы еще угостить жизнерадостную птаху. Пошарил по карманам, но там ничего не оказалось, кроме завалявшейся шелухи подсолнухов. Я ее выбросил на снег, и тут мне почудилось, что кивок на одной удочке дрогнул. Поспешил нагнуться к лунке, вытащил леску, поправил червяка на крючке. Вдруг слышу, за моей спиной кто-то пищит возмущенно. Это синичка проверила шелушинки и, не обнаружив ни одного ядрышка, очень рассердилась на меня.
И так она суетилась, так громко пищала, что привлекла внимание любопытной сороки. Белобока качнула прямым хвостом, усаживаясь на куст, и стрекотнула сварливо, что-то спрашивая у синицы. Та отвечала тонким сердитым голоском. Наверное, насчет пустой шелухи. Сорока тоже возмутилась, долго ругала меня, нервно подпрыгивая, а потом снялась с ветки и полетела вниз по реке — рассказать всем, какой нехороший человек этот рыбак, который сидит на ящике у лозового куста и обманывает маленькую синичку.
Полностью прочувствовав свою вину, я полез в ящик и, вытащив кулек с едой, отрезал ломтик сала. Укрепил его в рогульке между двумя ветками и стал ждать, что будет делать синичка. Она уже, видимо, простила меня и, сидя на кромке снежного наста на берегу, одобрительно вертела головкой, искоса поглядывая на сало. «Прошу к столу», — сказал я, взмахнув варежкой, как салфеткой официант.
Но тут случилось непредвиденное. Вылетев откуда-то из-за берега, на сало спикировала крупная птица в рыжеватом оперении. Не успел я крикнуть «кыш!» и замахать руками, как сойка (это была она) схватила приготовленное для синички угощение и улетела с ним. Я был сконфужен. Синичка сказала что-то звонко-длинное, надо полагать, о сойке — птице бесцеремонной и наглой, которая просто не могла не присвоить себе чужого.
А короткий, как синичкин хвост, зимний день достиг между тем зрелости и стал клониться к исходу. Мои знакомцы ворон, сорока и сойка больше не прилетали, зато синичка, упорхнув, вскоре появилась снова, чтобы узнать, как у меня дела идут. Рыбацкие мои дела шли неважно: поймал я всего-навсего трех тощих плотвичек и одного окунька.
Перед закатом солнца синичка прилетела в последний раз. «Кончай ерундой заниматься, — сказала строго.— Сматывай удочки и марш домой».
Я так и сделал. Едкая тоска во мне сменилась спокойной печалью, но и она, знал я, скоро сменится легкой, как серебристый туман над снегами, грустью.
И пожалуйста, не верьте, что природа равнодушна к человеку. Ведь каждый из нас — лишь малая частица ее, и она, большая и добрая, мать-утешительница, приходит на помощь к нам в минуты тоски и скорби.