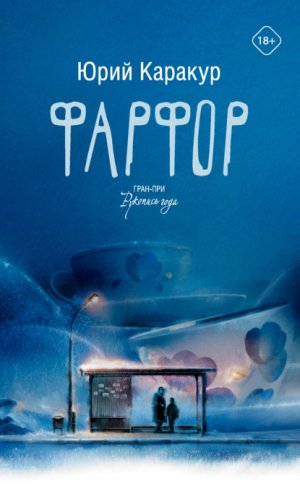
© Юрий Каракур, текст, 2020
© Алексей Курбатов, обложка, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
По зимней дороге
В самом начале я иду к бабушке. Зимняя учебная суббота, всего четыре урока. На географии показывали карту звёздного со складками неба. Небо темнело у доски, но поверить в него было сложно, потому что за окном – яркое солнце. И даже техничка, которая грелась у раздевалки на этом солнце, стала доброй и провожала нас ласково: «Бегите, бегите…» На улице морозно, около моего дома старается котельная, из трубы поднимается пар, не согнутый ветром. Яркая лестница в подъезде. Дома пахнет блинами, мама, нечёткая в дыму, стоит у плиты. Я поел, собрал портфель с тетрадями на выходные и пошёл к бабушке.
Хотя, кажется, я не видел никакого начала. Мир задолго до меня лёг на девятиэтажки нашего посёлка и покачивался. Зимой выяснилось, что если полчаса ехать по лесу на лыжах, а потом кататься с холма под соснами, то этот холм – то самое место, где я летом собирал маслята, под снегом – река. Как находчиво всё устроено, удивился я. А если пройти дальше за школу милиции, то в конце концов придёшь к памятнику павшим воинам, а за памятником, когда писаешь, открывается склон, далёкий лес и железная дорога. Как красиво, удивился я. Путь к бабушке знакомый – десять минут через гаражи и больничный двор. В гаражах мужики чистят снег деревянными широкими лопатами, из приоткрытых ворот подмигивают машины или, если меньше денег, циклопом смотрит мотоцикл. Я иду прямо, потом налево, но обязательно поворачиваю голову вправо: там, в конце линии, есть гараж, в котором повесился прапорщик. В заборе больничного двора проделана дыра, ею все пользовались, сокращая дорогу. В больничном дворе по снегу ловчит узенькая тропинка, топчется только около трубы, через которую приходится перелезать. Впрочем, я перепрыгиваю легко, ребёнок, суббота. Я смотрю в окна больницы: на первом этаже всё занавешено белым, там реанимация и берут анализы, а со второго этажа и выше окна свободные, чистые, в некоторых стоят от скуки люди. Я знаю, что соседка Тамара лежит сейчас в кардиологии, и думаю: вдруг она видит меня?
Наш посёлок тянулся вдоль Московского шоссе, но недолго, не успевал разбежаться. Его бросили строить, слегка надрезав лес домами. Казалось, что кому-то надоело. Девятиэтажек было немного, мы могли сосчитать их. По ним, как по высоким деревьям, ориентировались: та, где ЖЭК, та, где книжный магазин, та, где парикмахерская, та, которая за больницей, её видно из окон хирургии, и тоскливо, наверное, лежать после операции и смотреть на свой собственный дом, и три девятиэтажки – в рядок, на бабушкиной улице Михалькова, вот так, с мягким знаком. От девятиэтажек ступеньками отскакивали пятиэтажные дома, кое-где стеснялись двухэтажные, с круглым чердачным окном под крышей. А на старых узких улицах, бегущих вдоль Московского шоссе, мелкой щебёнкой были накиданы частные дома, без водопровода.
Я подошёл к девятиэтажкам. Смотреть на них было приятно и немного грустно, потому что там жили лучше, чем мы: лифт, большие кухни, цветной телевизор на холодильнике (это я видел у моего одноклассника Лёши, когда был у него в гостях). На застеклённой лоджии третьего этажа всегда чистота и порядок, а на таком солнце – загляденье. К потолку подвешены отдыхающие корзины. За девятиэтажками – бабушкин дом в дополнительной яме, из-за которой он казался братом-дошкольником. На боковой стене у него краснокирпичная надпись – 1984 г с щепетильной (ну буквально четвертинка кирпича) точкой. Мне нравилось замечать её каждый раз, когда я подходил к дому.
И – надо же! – бабушка выворачивает с другими женщинами из двора. В этой встрече есть что-то удивительное и даже красивое, словно кто-то предусмотрел нас заранее. Мне приятно и весело от этого, и бабушка, я вижу, тоже радуется.
– Мы с женщинами, – впервые говорит бабушка, – хотим прогуляться по лесной дороге. Пойдёшь с нами?
С бабушкой – Вера-певица, ведьма Настя, Евдокия, каждая улыбается мне. Я очень хочу с ними, поэтому, конечно, соглашаюсь.
– Оставь портфель дома, – даёт бабушка ключи, – и догоняй нас. Мы потихоньку пока пойдём.
Я бегу через двор, быстро, как будто подгорает пирог, поднимаюсь по ступенькам, с приятным чувством преодолеваю непривычную (мне редко доверяют ключи) сложность замка, анонсом вижу солнечную (окна на юг) бабушкину квартиру, но не приглядываюсь, всё это потом, кидаю портфель, разгадав (надо потянуть на себя), запираю дверь и с радостным предчувствием сбегаю по ступенькам, нетерпеливо, с заносом, огибаю дом и вижу четыре удалившиеся спины, которые от моего стремительного бега быстро увеличиваются.
Все четверо выглядят нарядно – монументальный драп, от коричневого до тёмно-бордового. У женщин из воротников просятся платки, серенькие, пушистые. У бабушки – мохеровый шарф, как у отца. От одного взгляда на него у меня чешется горло, а бабушка из-за мужского шарфа кажется сильной и крепкой. У Веры и Насти – косичкой вязанные яркие береты, как будто они купола Василия Блаженного. У бабушки – гордая каракулевая шапка. У Евдокии – сонная поседевшая норка с заплешиной сзади.
Грязь улицы отступает, остаются ждать нашего возвращения пятиэтажки, начинается белая лесная дорога. Здесь не ездят машины, только трактор неаккуратно чистит снег, сваливая его на обочине. В конце дороги (тут трактор, всё-таки стараясь, делает завиток) – забор, железные ворота, крикливые свободолюбивые собаки. Ворота никогда не открывались, а что за забором – я всё время забывал, хоть и часто спрашивал. Поэтому там просто конец мира, лающая пустота, дойти и развернуться. По этой дороге мы ходили туда-сюда именно зимой. Садовым летом – не до того, всюду прорастала, выгнувшись, жизнь, и ситцевые приусадебные женщины ухаживали за ней: пусть всего лишь клумба под окном, а спину погнуть придётся. А вот зимой гуляли – в мороз, против снега и ветра, превозмогая. Гипертония, артрит, болезни ЖКТ, но всё равно накладывали на себя килограммы зимней одежды, чтобы пойти в своё предобеденное паломничество и, проголодавшись, вернуться.
– Я курицу не покупаю, с кубиками варю, – говорит ведьма Настя, – и получается экономно, солёненький, жёлтенький такой бульон.
Настю во дворе не любят, называют ведьмой и поэтому молча осуждают её за то, что она только из кубика, без курицы, жадная.
– А я нажарила минтая вчера, хватит на три дня. Сколько там мне надо этого минтая, – говорит Евдокия, подчёркнуто одинокая.
– У меня суп есть всегда, – повторяет сказанное много раз Вера, и я уже предчувствую, как мы с бабушкой будем сплетничать о ней. – Сын без первого не может. Мамочка, говорит, какой сегодня супчик?
Вера улыбается, но сын её усатый, с красным лицом и часто пьяный.
– Даже картошку третий день ем, – грустит Евдокия.
– А я сварила крестьянский. Юрочка любит, – говорит бабушка, и я действительно люблю.
Лес будто специально был поделён: с одной стороны перемешались ёлки, берёзы, осины, а с другой – только торжественные промороженные сосны. «В берёзовом лесу резвиться, в сосновом молиться, а в еловом удавиться», – говорила бабушка со слов своей бабушки, ещё более мудрой, давно мёртвой. Но это летом. А зимой всюду храм, всё хрупкое, белое, стеклянное, кое-где чёрно-зелёное, если накануне был сильный ветер. Но и среди белой зимы вспоминалась такая летняя история: как-то вот тут, в берёзках, к Вере, пока она грибы брала, подкрался мужик. Вера не сразу его заметила, а как что-то зашуршало и она подняла голову, так и заорала: мужик стоял с расстёгнутой ширинкой и тряс, здесь при пересказе делалась пауза, намекающая на конкретное слово. Вера убежала, не растеряв, правда, грибов. Но домой пришла и разобрал смех: «Мужик хером напугал!» С тех пор, как только я видел эту рощицу, выскакивала Верина со смехом фраза «хером напугал» и даже показывался рисунок, который вырезали иногда на партах в школе: длинный и два круглых.
– Давайте посидим, женщины, – предложила бабушка, артрит коленного сустава.
Ближе к воротам около дороги лежало большое дерево со счищенной корой. Было известно, что у Евдокии геморрой, поэтому она не садилась, а вставала напротив нас, и со стороны могло показаться, что она поёт нам.
– Вчера так ныло колено, – говорит бабушка, – я его всё растирала, а потом плюнула и выпила водки, натрескалась картошки с селёдкой.
– А у меня кот не ест, – говорит ведьма Настя, – второй день уж.
– У меня так Маркиза не ела неделю и умерла под кроватью, – встаёт с носка на пятку Евдокия.
Оттого что кошки не едят и умирают и потому что не принято сочувствовать ведьме Насте, мы все замолкаем на несколько минут. Слышен только скрип под галошами Евдокии, которая делает зарядку (носок – пятка), и гул далёкой автомобильной трассы. Это за гаражами, за лесом – шоссе, большая полноводная автодорога «Волга», по которой машины едут в Москву. Там единственный в нашем посёлке светофор, мы пользуемся им, когда идём в библиотеку или в сад. На трассе всё всегда грохотало и стонало с какой-то целью, с прицепом, и этот шум напоминал нам, что где-то делаются большие дела. А для чего был этот заброшенный участок дороги перед закрытыми воротами? Для чего сидели мы вчетвером, разноцветные, на дереве перед раскачивающейся Евдокией? Конечно, всё это – только для красоты, больше ни для чего. Особенно в такой солнечный день. Прошлые выходные были оттепельные, тревожно кричали птицы, чёрными стаями выводили фигуры над деревьями и как будто куда-то звали или напоминали о чём-то, а помнить не хотелось. Но сегодня, в морозное солнце, всё стало ярче и понятнее. Подвисшие мягкие лица бабушкиных женщин раскраснелись и расправились. Евдокия уж какая была бледная, седая старуха, и та порозовела и подтянулась, у Веры красные, яблочные щёки. У бабушки яркие карие глаза, шапка чуть сползает на лоб, она её поправляет и улыбается. Лица ведьмы Насти я не вижу, на нём, наверное, надвигающаяся смерть кота, но варежки у неё чёрные, с вишенками, которые каким-то удивительным образом получаются из крестиков ниток. Только для красоты.
– Ну что, сидеть хорошо, – говорит бабушка, начиная подниматься.
Мы все встаём, идём до ворот и обратно, за деревьями виднеются наши дома. Потом решаем, что можно сходить ещё раз, погода хорошая, хоть и холодно. Понятно, что женщины проголодались, потому что снова говорят о еде, открывают мысленно холодильник и присматриваются: у Веры винегрет с солёными огурцами, котлеты остались, бабушка собирается поджарить путассу, а сверху луку, Юрочка любит, и я действительно люблю, ведьма Настя сардельки из Москвы привезла, два килограмма, и приморозила, у неё большой ведьмин морозильник, которому все завидуют. Евдокия не ужинает, только чай и два бутерброда с сыром, и вчера ей так захотелось печенья, что она маслом помазала и соединила.
– Это «Юбилейное»? – спрашивает Вера.
– Да, – говорит Евдокия.
– Да да нет да, – шутит бабушка.
Женщины смеются.
– Так они надоели с этим да да нет да, что даже идти не хочется, – говорит Евдокия.
– Как не идти, – удивляется Настя, – я схожу и проголосую везде «нет».
– Так везде-то не надо, надо наоборот голосовать, – убеждает бабушка.
– Да назло одни нет поставлю и всё, – упрямится Настя и смотрит вредным взглядом на лес.
– После того референдума я на новый не пойду, – говорит Вера. – Развалили страну, а теперь спрашивают, поддерживаем ли мы. Глаза бы мои на их рожи не глядели. Женщины, что-то ноги замёрзли у меня.
– Ну пойдёмте обратно, – соглашаются все.
У Веры протёрся валенок, поэтому она в сапогах, а сапоги, конечно, так не греют. У ведьмы Насти совсем тонкие рукавички. У меня пальцы ног замёрзли и начали колоться.
Как только лесная дорога закончилась, все напряглись и по нахоженной, накатанной улице пошли внимательно, тщательно, почти брезгливо выбирая, куда наступить, чтобы не упасть. Лёд острой болью отзывался, и нужно было осторожно нести свою хрупкую, бьющуюся старость. На прошлых выходных наделало шуму падение Дмитриевны (имени не было у неё, только отчество с намёком на собор, и фигура в зимнем пальто соборная – маленькая голова, широкие плечи): Дмитриевна гуляла с Галиной Андреевной и вдруг поскользнулась. Она взмахнула руками, попыталась выровняться, но уже не смогла и упала на спину, шапка отлетела. Дмитриевна лежала и думала, не поломала ли чего, над ней ещё это серое тревожное небо прошлых выходных, под которым особенно грустно и даже скучно лежать. И потом началась постепенная реставрация Дмитриевны: она перевернулась на бок, встала на колени, сделала несколько шагов на коленях за шапкой и только тогда по палке Галины Андреевны подтянулась, поставила шапку обратно, долго отряхивалась, дома растирала меновазином копчик и левый локоть. Самый сложный участок – спуск во двор, тут шли лесенкой, как лыжницы. На подошвах сапог у Веры наклеены крестами белые пластыри, чтобы не скользили и чтобы крестным как будто знамением благословляли каждый зимний шаг, у бабушки на галошах – вообще наждачная бумага, отец принёс из гаража, а бабушка наклеила «Моментом», у Насти и Евдокии по палке – старичок из третьего подъезда им срезал орешник. Пока спускались, взмокли.
– Ну, женщины, до завтра, – говорит бабушка, – пойду внука кормить.
Женщины улыбаются и прощаются, а Евдокия почему-то хвалит меня: «Юрочка умница!» Мы с бабушкой сворачиваем к подъезду, ступеньки скользкие, опасные, но присыпанные песком. Мы входим в подъезд и тут же чувствуем, что всё, на сегодня холод закончился, теперь будет тепло. Бабушка спрашивает, проголодался ли я. Но я не успеваю ответить, потому что из темноты лестницы на нас выплывает Лидия Сергеевна, которая живёт прямо под нами на первом этаже. Мы не любим встречаться с ней, говорит она медленно, тихо, старым-старым голосом, щёлкая челюстью. Дождаться конца её речи невозможно, да и непонятно, есть ли у той речи конец. Если мы слышали шевеление за дверью Лидии Сергеевны, мы старались побыстрее проскочить на улицу или помедлить и, пока она выползает из подъезда, не спускаться. Однажды мы прятались от неё у почтовых ящиков. Но тут Лидия Сергеевна нас поймала. Светлый пуховый платок на голове, под ним жёлтые кудри, неровно-розовые губы, припудренное лицо, огромное пальто, из которого она выглядывала, как из шкафа – из-за всего этого бабушка называла её мышь с муки.
– Гуляли? А я пойду купить хлеба белого, мне нужно для котлет, – начала Лидия Сергеевна, вглядываясь в нас, – решила сделать котлет, фарш у меня лежит давно…
При Лидии Сергеевне мы всегда как будто опаздывали, и бабушка уверенно стала обходить её:
– Сходите, конечно. Там под снежком скользко, имейте в виду.
– Скользко? – испугалась Лидия Сергеевна и сделала движение челюстью.
– Ну вы осторожненько.
Бабушка стала подниматься по лестнице, но Лидия Сергеевна сказала тише и доверительно, тоном показывая, что теперь важная тема:
– Всю ночь кашлял, почти не спала. И Митя разбитый утром.
От этого уже быстро не уйдёшь, и бабушка остановилась: у Лидии Сергеевны и её мужа Мити в прошлом году вернулся из тюрьмы сын. Теперь он болел туберкулёзом, пил водку, быстро, капризно пьянел, кричал. Мы иногда слышали эти крики, делали погромче телевизор.
– Вот на старости лет, Лидия Сергеевна, да?
– Никогда не думала, Галина Сафроновна, – в первый раз произносит бабушкино имя Лидия Сергеевна. – Что они там делают с людьми в этих тюрьмах, ведь он не был таким. Ну пил, конечно, но после тюрьмы – как подменили.
– Тюрьма ломает людей, – делает бабушка завершающий шаг. На лице Лидии Сергеевны появляется недосказанное, оборванное выражение: почему снова недослушали её? И она попыталась ещё:
– А теперь ведь сигареты каждый день по пачке. При таком кашле курить-то разве можно? Я говорю ему: ты хотя бы молоко пей, хожу два раза в неделю по бидону приношу. Ну это хотя бы пьёт, по стакану за раз.
Мы поднимаемся дальше, от почтовых ящиков, где не видно, бабушка машет на неё рукой и говорит притворно бодро:
– Молоко – это очень хорошо!
Лидия Сергеевна стоит внизу, по-рыбьи открывая челюсть, хочет ещё сказать, но мы больше не слушаем.
Бабушка отлила суп в ковшик и зажгла газ. И все замёрзшие женщины делали сейчас то же самое: разогревали в ковшике, кипятили в чайнике, включали радио, растирали меновазином, и тепло во всех этих квартирах полнилось, раскачивалось и пахло. И только после мороза (двадцать колючих пальцев) и после учебной школьной недели так ясно, будто протёрли очки, видна бабушкина квартира, тёплая, с подстеленными половиками, комната восемнадцать квадратных метров, диван и кровать, пол – волнами, потому что строители украли доски (так говорили) и постелили какую-то аббревиатуру (двп, дсп?), которая, конечно, взбухла и погнала скрипучую волну. Жёлтые занавески, провисшее сачком кресло, пледы (зелёные квадраты на чёрном и жёлтый, колючий), чёрно-белый новый телевизор и чёрно-белый старый, накрытый, как саваном, кружевной салфеткой. Я приподнимаю занавески, чтобы положить руки на батарею, пахнет сухим теплом. Хочется сразу открыть шкаф, тумбочку, достать карандаши из старого дипломата, игральные карты из плетёной шкатулки. И с чувством, что я скоро всё это открою, и только три часа дня, так много впереди, я иду на кухню.
Бабушка стоит у окна, ждёт, пока согреется суп, яркое зимнее солнце. Я знаю, что у бабушки ещё прохладные после улицы щёки. Неловкое детское счастье бьёт немного мимо цели, и вместо каких-то других слов я спрашиваю, пришло ли письмо от тёти Муси. И бабушка, помешивая, отвечает, что пришло и лежит на тумбочке. Я приношу конверт и сажусь читать. «Почитай вслух», – говорит бабушка. Я читаю: «Милая моя сестричка Галочка, здравствуй!» Я смотрю на бабушку, примеряя к ней Галочка, сестричка, милая моя, и запоминаю её в этой позе в этот солнечный день: она стоит на фоне белой улицы Михалькова, девятиэтажка показывает свой величественный кусочек, на бабушке зелёное зимнее платье, её тонкие седые волосы тихонько держатся в заколке. Тогда я продолжил читать и читал, пока не закипел суп. А потом сел писать сочинение по этой картине.
На помощь
Если отложить бабушку по оси абсцисс, а затем приподнять по оси ординат (ну не выше метра семидесяти), то получится одна маленькая чёрненькая точка. Удивительно, что Америка разглядела крохотную мою бабушку. Ведь есть же что-то большое: Миссисипи (не запутаться бы), Венеция, леса Амазонки, Тихий многоводный океан, и бабушка запросто могла бы затеряться, но – нет, Америка заметила её и послала к бабушке двух представительных женщин раннего пенсионного возраста. Женщины пришли морозным вечером и протяжно, задерживая палец на кнопке, звонили в дверь. Мы с бабушкой рассматривали их пуховиковые силуэты в замочную скважину и боялись открывать.
– Боря, я открою, – сказала бабушка ненастоящим голосом. Её научили, что если кто-то незнакомый звонит в дверь, нужно громко притвориться, что ты не одна дома, а с мужчиной, тогда злоумышленник испугается и уйдёт. И когда кто-нибудь, особенно вечером, звонил в дверь, бабушка оказывалась замужем за каким-то Борисом. – Кто там?
– Зоя Михайловна, – сказал один пуховик сомневающимся голосом и тут же сообразил: – Это из ассоциации пенсионеров. Галина Сафроновна здесь проживает?
Мы открыли с опаской, но у женщин были обычные, в беретах, лица, а у той, что говорила, высокий благородный лоб, и мы перестали бояться. Зоя Михайловна по открытке зачитала, что Америка направила гуманитарную помощь в ассоциацию пенсионеров, а ассоциация распределила её бабушке как старой, больной и неработающей. «Не блокадница?» – спросила другая женщина и с подозрением посмотрела. «Нет, не блокадница», – испугалась бабушка. Но женщины остались довольны: «Вот, с этой открыткой заберите помощь по адресу: улица Мира, какой-то дом. Там будет коробка, захватите верёвку или тележку».
И ушли. А мы с бабушкой в недоумении сели пить чай, бабушка надела очки, изучила открытку: нет ли там ошибки? Ошибки не было: Каракур Галина Сафроновна. Мятное свежее облако Америки поднялось надо мной. Амеееерика! Жевательная резинка, джинсы, мотоцикл, катер перепрыгивает волны, бегут фламинго, и торчат из темноты яркие небоскрёбы, полиция Майами.
– Бабушка, а где эта улица Мира?
– Далеко, там, где бассейн, дэ ка молодёжи.
Далеко – и город показался мне огромным, тёмным, загадочным, дэ ка (пояснила бабушка) – это дом культуры.
Бабушка решила никого не просить о помощи, а тихонечко сесть на автобус и спокойненько доехать самой, взять коробку и так же обратно – тихонечко, спокойненько. Зима и скользко, но у бабушки есть палка, чтобы не соскользнуть. «Поедешь со мной завтра?» – предложила бабушка. Я в город ездил всего пару раз: в гости к тёте Соне и на юбилей дяди Толи в зал торжеств, где было много толстых красных людей. И я, конечно, наполнился ветром и мечтой.
– Поеду! Поеду!
Забирать помощь нужно было с пяти до семи вечера. Мы неспешно пооообедали (круглые тарелки, сковородки, кастрюли), помыли посуду и пошли на остановку. Было морозно, но мы согреты едой, рейтузами, завёрнуты в платки и шарфы. Железная коробка остановки скромно стоит у дороги, а за ней – белое арктическое поле без краёв. На ветру нервничают отрывные объявления: продаю гараж, продаю сад, продаю кровать (почти новую), учитель англ. яз., звонить после 19. Мы встали в остановку и оформились рамкой: серое бабушкино пальто, сиреневый берет, пушистый, напоминающий полевой цветок, свёрток меня. «В ожидании автобуса».
Автобусы тогда ездили скупо, и мы долго, долго ждали, а потом ещё чуть-чуть. Бабушка сказала, что нужно не стоять на месте, а двигаться, сохранять тепло, и наша фотография затопталась: на правую – на левую, покружимся, сделаем пять шагов. Наконец автобус приехал, бело-синий и как будто добрый, сидячих мест – двадцать три.
Пока мы ждали, на улице уже взяло и смеркнулось, надломилось, и мы поехали вдоль ещё светлого, но уже отслужившего неба, матрасные полоски тополей, споткнулись о светофор, свернули на Московское шоссе, оставили позади и поэтому победили столовую. Дальше поехали вдоль густого изломанного леса, в нём на дне разливалось что-то тёмное, чернильное.
Если выпрямить историю и провести линию карандашом, то мы ехали за американской посылкой на старом автобусе и гадали, что же там. А если расслабить руки, свесить их с лодки и честно сказать себе, то выходит, что бог его знает, хоть и ехали за американской посылкой, а как будто просто раскачивались, как и обычно раскачиваемся, когда в дороге: вот улицы, по которым бабушка когда-то ходила, смотри, это кинотеатр «Буревестник», и если зайти за него, то можно оказаться на старой одноэтажной улице Парижской Коммуны, где бабушка прожила тридцать лет, и потом свернуть ещё и ещё, и заплакать, потому что тут же была жизнь и куда она ушла, и когда всё успело закончиться, там вот тётка Валя сидела под вишнями на синем таком (помнишь его?) покрывале, но это не драма, нет, а так, фоновая мелодия, и дальше выступают «Руслан» и через дорогу «Людмила», сервант городской филармонии, вот там сейчас выдохнет за поворотом кусок неба над стадионом, и дальше небо под косым углом срежется, пока автобус спускается вниз к театру, и пропадёт теперь уже до конца, а выскочит светящийся витринный универмаг, четыре этажа. Мы ехали и смотрели, подпрыгивали на выбоинах, звенели (негромко) своими небольшими жизнями – всё это где-то минут сорок.
Автобус высадил нас и быстро, обидно уехал. Был, наверное, шестой час. На улице стемнело, тускло-жёлтым мучились фонари. С нами случилось то, что бывает, когда выходишь на тёмную зимнюю остановку в далёкой части города: мы остро почувствовали, что теперь мы одни, и всё вокруг чёрное, холодное, чужое. Но бабушка воткнула палку и стала раскачивать улицу Мира, давай, давай, вперёд, нужно идти, и снова стало интересно.
Бабушка сощурилась и сморщилась: какой это дом? Не видно! Побеги посмотри. Я побежал: дом, к примеру, сорок один. Тогда, сказала бабушка, нам вот туда, пока не будет шестьдесят третий дом, второй корпус. Мы пошли, бабушка энергично опиралась на палку, как будто вся на секунду повисала на ней и – дальше. Я подбегал посмотреть на таблички с номерами домов, мне нравилось бегать, и это сохраняло тепло. Бабушку было жалко: она не бегала, значит, её тепло тратилось и уходило. Бабушка, ты замёрзла? На пути встретилась бесконечная школа с садом, за деревьями светились пленённые решётками окна первого этажа, рядом две пристройки. Это что, всё один дом считается? – удивлялся я. Но пара пятиэтажек были как подарок – стояли торцом к дороге, быстренькие. Наконец дом шестьдесят три, но теперь усложнение – корпус два, конечно, оступился и свалился с дороги. Мы свернули во двор.
Двор оказался тёмным. Где-то далеко, за углом, светил фонарь, но ничего не делал понятным, а только показывал, что тут скользко. Темнота поблёскивала гранями, перед такой темнотой замолкаешь, замираешь, и ничего не ждёшь, и, кажется, никого не любишь. В домах горели окна: люди кое-где пришли с работы или тихо умирали на пенсии с включённым электричеством. Какие-то человеческие шторы, абажуры, люстрочки, мелькание телевизионных теней – всё маленькое, слабое перед огромной темнотой. Это недолго, может быть, минуту, но как будто и навсегда.
– Бабушка? Куда теперь?
Двор был большой и даже бесконечный, с чёрными кустами и деревьями в центре. Нехотя проступали очертания зданий: там что-то двухэтажное, погасшее, дальше, кажется, парикмахерская (или почта?), ещё какая-то постройка вроде гаража. Ясной дорожки нет, всюду лёд – бугристый, присыпанный снегом убийца, ломатель рук, ног, шейки бедра. Неловко наступит бабушка, и всё, ляжет под потолок. Мы сначала одну ногу, потом, подождав, вторую, и теперь бабушка – не бабушка, а испуганный сжавшийся зверёк в пальто, палкой нащупывает, где жизнь, где смерть. В итоге, конечно, поскальзывается, и всё в бабушке отрывается и подпрыгивает, сердце – особенно высоко, секунда чистого ужаса. Но бабушке удаётся удержать старенькое своё равновесие. «Дай мне руку», – просит бабушка и берётся за меня нервной рукой, и вот мы четвероного ползём дальше, бабушкины шаги маленькие, смертные, а дыхание огромное, сильное, как-то связанное с богом.
Мы подходим к почте (не парикмахерская!). Оставив бабушку на палке, я обежал здание: никаких признаков ассоциации пенсионеров, номера дома тоже нету. Почта уже закрыта (вот кидайте ваши письма в синий равнодушный ящик), но открыт телеграф – дорогой мой утонувший «Титаник», пусть загорится, заволнуется снова: пойдём-ка мы с бабушкой в телеграф спросить. Мы, толстые водолазы в пальто, встаём посреди междугороднего ожидания. В телеграфе тепло и пахнет жёлтой бумагой, клеем, лакированной мебелью, ещё какой-то мелочью типа проводков, телеграмм, печатей, объявлений, трафаретных старых букв и, может быть, чуть-чуть луком. Вечером телеграф живёт сильной, красивой жизнью: на стульях сидят люди и волнуются перед телефонным соединением, у них нет домашнего телефона, и они хотят позвонить по межгороду тем, у кого он есть, домашненький, щёлкающий диском; лишь бы там, в Казани, в Новгороде, в Уржуме были дома и ждали их звонка, лишь бы соседская девочка не заняла надолго спаренную линию своими домашними заданиями. Очень тихо, слышно, как скрипят стулья – вот так ждут, слегка подслушивают чужие разговоры. В одной кабинке неискренний женский голос поздравляет какую-то Машу с днём рождения: «Всего тебе самого наилучшего, здоровья, хорошего настроения, и чтобы радовали дети. И дядя Миша тоже передаёт поздравления». Это подслушивать скучно. Телеграфистка – блондинка, волосы взбиты, уставшее воспоминание – кричит из-за перегородки: «Саратов, третья!», и тут же срывается птицей седая дама, и бежит к кабинке, и там неожиданно громко говорит: «Коля! Коля! Мы приедем шестого! Взяли билет!» Или так, страшно, Тверь, первая кабинка: «Тамара! Это Лариса, Митина жена, да. Ой, у нас несчастье…» Голос спотыкается, тянется куда-то кверху, и все в телеграфе растревожены и испуганы – вот так и мы, вот так и нам. Мы с мамой так же сидим раз в неделю и ждём наши пять минут с Кировом, где умерли дядя Юра и дед Яков, там одна в квартире на Октябрьском проспекте осталась мамина мама (двойной поцелуй), всё это нужно за пять минут успеть, а голосок в Кирове тихий, слабый, из деревянного подземного далёка, и скоро как рубанут по этому голоску, пять минут закончились, осторожнее там, осторожнее, на следующей неделе я позвоню в то же время! Всё это в конце концов невыносимо, и пусть уже Америка, гуманитарная помощь:
– Девушка, – спрашивает бабушка у телеграфистки, – а где здесь ассоциация пенсионеров?
Девушка качает головой: то ли не знает, то ли не собирается отвлекаться.
– Женщина, это в подвале дома, за почту там зайдите, – гордо говорит бабушке старуха, ждёт Ленинград («Таня! Это мама!»), будет потом идти домой и плакать («Таня! Когда приедешь?»), но пока гордо: – Пятиэтажка там, увидите.
Мы вышли, телеграф погас за нами и затонул, а мы заскользили к пятиэтажке мимо черноватой детской площадки, захороненной на ночь, потом под деревьями, и пропали, и не стало нас, а после деревьев появились опять. И тут – пятиэтажка, почти как наша.
– Побеги посмотри, в каком подъезде, – бабушка снова запускает меня, естественный спутник. Я убегаю, ничего не боюсь, интересно, а она повисает на палке, перекошенное пальто. На первом подъезде только номера квартир, в окне первого этажа красные занавески, я бегу ко второму, и вдруг бабушка кричит: «Юра! Юра!» Она нашла сама. Какая-то тётка выносила мусор, бабушка спросила, и вон – с торца дома вход в подвал, над дверью лампочка и написано «Ассоциация пенсионеров».
Мы с бабушкой спускаемся в подвал, тут темнота отступает, дорога выпрямляется, гуманитарная помощь из Америки делается яркой, важной, мы всё это время шли именно за ней: хэллоу! Толкаем дверь с силой, и наконец (день, свет, вермишель, остановка – кажется, это всё было очень давно) мы дошли. Внутри тускло, полированный стол, пахнет трубами, сыростью, старой подвальной тайной, но нам всё это безразлично: розовеет закатным солнцем огромный стеклянный небоскрёб (такой мы видели на календаре), глаза ищут что-то американское. Из-за стола торчит крепкая огородная пенсионерка, летом собравшая хороший урожай.
– За помощью? – спрашивает она. – Давайте открытку.
Бабушка расстёгивает пальто, открываются бабушкины более нежные, тёплые слои: шарф, кофта, зелёное платье. Бабушка достаёт открытку из внутреннего кармана.
– Не блокадница?
Пенсионерка уходит и возвращается с коробкой.
– Вот, распишитесь в журнале.
Бабушка скромно, по-школьному присаживается и, следуя за властным пальцем, выводит свои буквы (погладить бы их). Потом мы перевязываем коробку верёвкой от тётимусиной посылки (изюм, курага, сухой кизил, грецкие орехи) и удивляемся, что американская коробка ужасно тяжёлая, щедрая. «Вот это наложили американцы… – радуется бабушка. – Но своя ноша не тянет!» Бабушка хватается за коробку, я открываю дверь, мы вылезаем из подвала и сперва энергично идём, и даже какая-то песенка в бабушке вдруг звучит, кажутся нелепыми обиды. Двор быстрой перемоткой отступает назад: вот так, вот так, наискосок. Но вышли из двора на улицу Мира, и ноша всё-таки тянет, а посылка оказывается той тяжести, перед которой отступает биография, и нету жизни дальше того вот поворота, и не помнится никто, даже Мусенька, а только тянет руку. «Давай, я помогу, бабушка!» – я цепляюсь за веревку, но роста не хватает, чтобы нести, и я просто держусь, иду рядом. Господи, какая длинная улица проклятого Мира.
– Давай постоим, даже спина мокрая, – говорит бабушка после школы.
И мы встаём, не разговариваем. Мимо едут машины, всякий раз бросая нас. Нам ещё долго идти до остановки, и потом ждать автобуса, и потом от остановки к дому, мимо музыкальной школы, мимо магазина, мимо девятиэтажек (одна, вторая, третья, десятая, сороковая), бесконечно идти, и где же взять силы, и хоть мы уверены, что всё-таки доберёмся до чая, до батарейного тепла, путь кажется нам очень долгим, нужно было бы попросить у Лены с первого этажа тележку.
Но тут барабанами загромыхало. Сначала бабушка увидела высокие как бы двойные фары, потом как будто колбу с жёлтым светом, и всё это начало угрожающе проступать и потом, вдруг, подтвердилось: автобус, номер сорок два!
– Автобус! Бежим!
Мы вскидываемся всей нашей сложной конструкцией: палка, бабушка, артрит, коробка, моя цепкая несильная рука, мои быстрые детские ноги. Всё это дёрнулось, споткнулось, запаниковало и побежало как могло, впереди машет моя доверчивая надеющаяся рука: подождите! Автобус обогнал нас, затрясся на светофоре, укрепив нашу веру: вот же бог какой великодушный, улыбчивый, задержал автобус. Но бог дразнится: автобус двинулся к остановке, переждал троллейбус и стал выпускать людей, а нам ещё далеко.
– Беги один! Попроси подождать, скажи: бабушка – инвалид!
Я отпускаю коробку и бегу, хочу схватить автобус руками. В раскрытую дверь спокойно, гарантированно влезает большая задница в пальто. Я подбегаю, запрыгиваю на приступку и кричу:
– Подождите, там бабушка-инвалид! Блокадница!
Автобус недовольно зарычал, но остался ждать. Я обернулся. По улице Мира подпрыгивал поломанный хрупкий механизм моей бабушки, отложение солей, артрит, варикоз, испуганные глаза.
– Бабушка! Бабушка!
Бабушка неизвестным глаголом движения приближается к автобусу и протягивает мне руку, и я тащу её, старушку с беззащитным лицом, с коробкой и палкой, девочку, которая бегала по краю моря и вот состарилась, работницу завода «Автоприбор», которая одиноко, незамужне родила моего отца и вот состарилась, крупную женщину в купальнике, которая выходила из Азовского моря и вот состарилась, и вот Америка, поэтически переставляя слова, послала помощь ей, и вот я тащу состарившуюся бабушку в автобус, и бабушка – спасена! Закрываются двери, автобус разжал свою рычащую пружину и покатился. Мы тут же оказались в такой безопасности, которую можно получить, только если гнаться зимой за маленьким редким автобусом, и догнать, и даже найти место, и сесть. Пассажиры волновались (инвалид, блокадница!) и теперь чувствуют облегчение: водитель – хороший всё-таки мужик, мир добрый, легко едем! Бабушка, бежавшая, развалившаяся, как куст после ливня, задыхается и ищет валидол в кошельке. И как только закладывает таблетку под язык, кажется мне сразу поздоровевшей: всё в порядке, валидол.
У нас американская посылка в ногах, интересно, окно заледенело, но я растапливаю пальцем кружок, а там мелькают дома, магазины («Ткани», гастроном с номером), на остановках и перед светофорами мы замираем, и я вижу чёрных серьёзных людей в шапках, которые живут, не зная меня, и ждут автобуса, и идут с сумками домой, и сумки тянутся к земле, и снова нужно приложить палец, и ворота рынка, сквер, вечный огонь промелькнул, уже не вернуть, как ни поворачивайся. Потом город заканчивается, ровно, как по линейке, и наступает то ли страшная, то ли скучная чернота леса, и кружок затягивает белым льдом. После поста ГАИ через лес начинает проступать свет, так две тысячи лет, когда возвращаешься домой: сначала мелкий, а возле старого кафе – несомненный.
Мы выходим из автобуса, сочувственно смотрим на людей на противоположной остановке (мы уже вернулись, а они только выезжают) и наслаждаемся, что тут всё ясно, натоптанно: здесь сокращаем, тут обходим лёд, на лавке возле дома ставим коробку и отдыхаем, с интересом заглядываем в окна: Галина Андреевна дома, у Лены темно (наверное, на вечерней смене), у Маши свет, хотя Маша, конечно, умерла в прошлом году, но свет всегда – у Маши. Перед интересной соседской жизнью стоим мы с бабушкой и рассматриваем её. Фонари здесь тоже не горят, и позади нас, конечно, висит та же темнота, но мы её не замечаем: вон у Веры сын в окне.
Сейчас и мы будем в окне. Как мы скучали по нашему дорогому подъезду, привычно хлопает дверь, как и должна хлопать, под лестницей на первом этаже стоят, как и должны, санки. Дома мы быстрее включаем свет, чтобы отличаться от темноты на улице.
– Не открывай без меня! – кричу я бабушке из ванной.
Мы нависаем над коробкой. Бабушка осторожно ножницами разрезает клейкую ленту: что там? что там? Вот-вот заблестит, проступит яркое, красивое, американское. Что там?
А там: гречка, сахар, халва, макароны, рис – всё в пакетиках и завязано заботливым узелком. Вложена открытка (свеча, бенгальские огни, еловая веточка).
– Читай, – говорит бабушка.
Я читаю нечёткие печатные буквы:
Уважаемый(ая) Галина Сафроновна (вписано ручкой) Ассоциация Пенсионеров города Владимира поздравляет вас с Новым Годом!
Бабушка трясётся от смеха.
– Америка гречку подарила!
Я тоже начинаю смеяться, а бабушка расходится:
– Америка, спасибо, дорогая!
И мы хохочем в конце, а ведь стояли в полной темноте.
Нежными руками убрали в шкаф макароны, гречку, рис – будем их варить, и они будут на медленном огне, из-под крышки переговариваться. Халву раскололи, половину выложили в вазочку – к чаю. Сахар пересыпали в банку.
И ехали машины по улице Мира, и чернели там дома, и леденели дворы, и хотелось встретить где-нибудь когда-нибудь эту Зою Михайловну, которая принесла открытку, и рассмеяться с ней вместе, но мы не видели её больше никогда.
Песенник
Кажется, про Веру давно уже рассказано, но где – найти не могу, так что придётся заново. Вера (оглянитесь) живёт в соседнем подъезде, на каком-нибудь низком (окна в кусты) первом этаже, крупная, химически завитая, с проседью женщина. Сблизилась с нами одним жарким летом, без указания года, когда не уехала жить на дачу, потому что целый месяц была привязана к поликлинике: предынфарктное состояние, процедуры, уколы. Осталась на бабушкиных фотографиях: держит кошку, а сама в полосатой кофте, туфли лакированные.
Вероятно, какую-то рассаду Вера отдала бабушке, иначе откуда такая дружба: приходи, Вера, в гости, напеку коржиков. Коржики, огорчённые двойным ударом вилки, на тарелке под полотенчиком, варенье в вазочке под крышкой, заварочный чайник под курицей, всё готово, но слегка прикрыто и дожидается. Наконец Вера звонит в дверь – я бегу открывать. И Вера в плиссированной юбке (на животе – беспощадно обтянуто, а в коленях – лёгонько болтается, ножки тонкие), полосатая кофточка, газовый гороховый платок на шее.
Вера за чаем говорит с сердечной, сытой одышкой, подкашливая:
– Он так поблагодарил всех: спасибо, что собрались меня поздравить.
И от одышки всё сказанное Верой кажется особенно значительным, важным, хотя мы знаем, что потом-то сын её напился, и до утра кричали мужики из Вериных окон, и Вера не спала, а только выходила иногда в ночной рубашке: «Коля! Хватит, давайте уже отдыхать». Но они на неё ну как-то рукой: мать, отстань. И утром сын клевал носом на лавке во дворе, кто-то видел, кто-то пересказал ведьме Насте, а Настя уже разнесла всем. Но мы с бабушкой киваем официальной торжественной версии.
– Хорошо так сказал, – говорит Вера, подкачивает о и ш щеками, делает потолще, посолиднее, расставляет салфетки на праздничном столе, про которые на самом деле забыла, и все как будто в пиджаках, без красных лиц, без сигарет, как будто чёрно-белый фильм, московская квартира, не линолеум, а паркет блестит. – Все были довольны.
Допиваем чай и идём прогуляться. Лето, десятый час. Розовея, остывает небо. Мы спускаемся – мимо остановки – в поле, недолго и без цели идём как будто к роднику. Вздохнув, взглянув на тонкую щёлку горизонта (что там спрятано?), на далёкие с красными огоньками вышки, поворачиваем обратно. Над девятиэтажками летают стрижи.
Все знали (как все знали, что тот год был яблочный), что Верин муж закодировался весной, перестал пить, и Вера расцвела, пополнела, заулыбалась. Конечно, Верина жизнь была хрупкой и ненадёжной. Нужно смотреть в окно и проверять, занимается ли Вася машиной или ушёл куда-то. Нужно ждать с работы и с половины шестого волноваться: должен бы уже быть дома. Но если лежит под машиной или идёт, высокий, плечи, кудри, то слава богу, как хорошо – супчик, хлебушек, какое-то обеденное, с пережаркой, щебетание Веры над ним. Потом Вера оставляла Васю у телевизора и выходила во двор. Легко на душе, как после бани, а иногда и с мокрой головой выходила – сохнуть на ветерке.
Вера повезла нас с бабушкой к себе на дачу хвалиться. За рулём – муж, усатый, волосатый, золотозубый, а Вера гордо, превосходя нас, восседала на переднем сиденье и вела экскурсию: здесь Смирновы, здесь Таисия Егоровна, здесь старый военный с женой, здесь ведьма Настя, а вот – наша фазенда! Машина съехала на траву и, стукнув чем-то, затихла: приехали. Мы вышли, уже готовые восхищаться. За забором, за черёмухами дом в два этажа, и Вера царственно открывает калитку – заходите. «Какая красота!» – говорит бабушка фальшиво. Помидоры, огурцы, патиссоны, зелень – всё аккуратно. «Ну, Вера, как по линеечке!» – восхищается бабушка. У крыльца две развенчанные автомобильные шины выталкивают из себя анютины глазки. Я сфотографировал всех на фотоаппарат «Зенит», тем летом я много тренировался: Вера в цветочном халате (по нему наводил резкость), муж в зелёной плотной рубахе, бабушка туристически улыбается, цвет дома – синий.
На даче Вера накрыла большой стол, давно сосланный из квартиры (муж рубашку гладил, неловко поставил утюг, и вот по форме лодочки столешница потрескалась, будто рыбная чешуя), кормила чем-то вкусным вроде картошки с сосисками, огурчики, помидорчики. Мы чувствовали себя неловко, скованно, как на всякой малознакомой даче с малознакомыми людьми, и поэтому рассматривали, что там у Веры в старом серванте: в плену двух стёкол Васины родители, чёрно-белые, молодые, незнакомые, ну как-то жили, откуда, говоришь, они? Вязниковский район, говорит Вася, река Лух – это с особым значением, заглядывая назад, расстёгнута рубашка, и бежит, наверное, Вася к реке, рыбы было, пауза, обозначающая количество (огромное), – ну пусть бежит, пусть рыбы было много, мы не знаем, где это, да и скучно слушать бабушке про его пресное речное детство, когда сама она с морского берега, Новоазовск – и быстро бабушка переключается на сахарницу, была такая же, но разбила прямо вдребезги, вместе с сахаром выкинула, и дальше – рюмочки, пригнуть голову, заглянуть глубже, а оттуда мы сами и смотрим, бабушка и я, зеркальная стенка серванта.
Потом мы с бабушкой, сытые, вежливо ходили между грядками, восхищались укропчиком, редиской, огурчиками, кабачками белыми и в полоску, перцами, хотя бабушка даже на Парижской Коммуне (легендарная античная улица, снесённая, разрушенная, оттуда все вышли) с собственным огородом жила, а ничегошеньки не сажала, так что на Верины эти перцы бабушке тайно наплевать. И когда Вера собирает крыжовник, чтобы увезти с собой и сварить царское (толстым голосом) варенье, она кричит от кустов: «Пойди, Сафроновна, посмотри, какой лук у меня!», бабушка не выдерживает и говорит под нос: «Да подавись ты этим луком!» Но встаёт и идёт, по слогам: «За-ме-ча-тель-но!»
Приехали домой поздно, вымыли ноги и легли. Бабушке после дачных впечатлений не спится. Знаешь, говорит бабушка, когда мы к морю ходили, так ноги уставали иногда, и вот я сниму босоножки и в полынь зайду. Она такая мягкая, ногам приятно, и ноги потом полынью пахнут. Это ведь километров десять надо было идти, говорит бабушка со своей кровати и, наверное, идёт снова свои десять километров, перепрыгивая, то тут, то там показывается, снова и снова, мелькает море перед сном.
Пришла Вера и зимой. Принесла тыкву и величественно разделась: берет, платок, пальто – всё слегка присыпанное снегом. «Юрочка, повесь, пожалуйста». Я вешаю, а в комнате чашечно-стульная суета: вот сюда, Вера, твоя с цветочком, покрепче, с сахаром, бальзамчику добавить? Мёду, бальзаму, всё добавить. Сидят с красными лицами. Зимой, когда нет дачи, у Веры, оказывается, хор пенсионеров. Это в поссовете, человек двенадцать пенсионерок, два раза в неделю приходят, в тяжёлом пальто, по сугробам, запыхавшиеся. Но в актовом зале – раз, всё скинули, полегчало и встали у пюпитров. Раскачиваются: а снег идёт, и всё вокруг чего-то ждёт, лица вытягиваются, как для иконы, часа два поют. И потом обратно нащупывают в тусклых фонарях дорогу – кто мне любовь мою принёс, посмотрят вдруг вверх (ну не все двенадцать пусть, но некоторые) и подставят лицо снегу, отдохнуть у детского садика и дальше – с горки.
Вера говорит: «Вон у тебя песенник, Сафроновна. Давай споём чего-нибудь!» Я достаю с полки маленькую толстую книжку: от слова «Песенник» испуганно разлетаются белые голуби, красный фон. Вера надевает очки и, как семена, перебирает песни, пролистывает про Ленина, ищет что-то про любовь. Во дворе говорят (ведьма Настя, шёпотом), что муж, когда напивался, бил Веру, прямо в лицо, и мне страшно представить, как это Верино лицо, заинтересованное, в очках, меняется от испуга, как важная полная Вера бежит от него в другую комнату, а он догоняет её и бьёт по мягкому лицу. «Давайте „Севастопольский вальс“», – предлагает Вера. «Хорошая песня», – соглашается бабушка. Как там? Вера нащупывает мотив: как там? как там? тихо плещет волна, тихо плещет, тихо пле-щет волна, ярко свеее-тиит луна. И дальше, чуть задыхаясь, перехватывая дыхание – севастопольский вальс, золотые деньки, вдалеке маяки. Голос у Веры сиплый, шаткий, сердечная одышка, но Вера старается, тянет.
Бабушка спрашивает: «Вера, ты вторым голосом в хоре?» «Почему, – удивляется Вера, – первым». Дальше Вера радуется – вот это как раз разучивали. Не знаю прекраснее участи, судьбы не желаю иной, песня повсюду со мной, мы едем украсить обновками просторы степей и пустынь – Вера поёт громко, поднимает брови, как будто удивляется и страдает, но как заканчивает, лицо у Веры делается довольное и даже наевшееся, и она говорит, что женщина у них есть из Казахстана, Алла, вот она эту песню пела у себя в Казахстане. А вот эту знаешь, Сафроновна, «Под городом Горьким»?
Я иду ставить чайник. На Волге широкой, запевает Вера, на стрелке далёкой гудками кого-то зовёт пароход. В темноте зимней кухни тревожится газовый огонь под чайником: кого и куда зовёт далёкий пароход, гудит посреди огромной реки? Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем посёлке подруга живёт, – Вера отправила голос вниз, но не вытерпела, споткнулась кашлем и дальше засипела, но не сдаётся. И скажет: немало (вздох) я книжек читала (вздох), но нет ещё книжки про нашу любовь (кашель). Бабушка смотрит в стол, подперев голову, не подпевает. Ей тяжело от того, что Вера так задыхается и никак не перестанет петь, и даже самой как будто не хватает уже воздуха.
Вера лукаво улыбается:
– А я сейчас такую интересную книгу читаю, но мало, берегу глаза для шитья.
– А какую книгу? – спрашивает бабушка.
– Не скажу. Дочитаю – скажу.
Вера засиделась. У Веры совсем сел голос, так много она пела. А у бабушки даже голова разболелась, и как только Вера за дверь, бабушка говорит мне: «В следующий раз как придёт, надо песенник спрятать». Смеёмся. «Вот это первый голос!» Чашки, блюдца, розеточки – всё наконец уносим на кухню, ещё полчаса, и наша квартира забывает, что здесь сидела и пела Вера. Включаем телевизор. Но ещё несколько дней бабушка над раковиной напевала, без слов, только косточку песенки, заменяя Волгу, пароход на долгое на-нааааа-на-на-на-на. И пела, когда перебирала гречку, крупными внимательными глазами глядя через очки.
Веру мы стали звать певица. Она ещё какое-то время сияла, а на день советской армии муж снова запил, и Вера ходила тёмная, на дачу не звала, в гостях не бывала. В детской памяти много места, и вот я запомнил, как Вера зимним вечером вывернула мне навстречу из-за угла, то ли обречённо, то ли кокетливо наклонила голову к правому плечу.
– Здравствуйте.
– Здравствуй, Юрочка.
Поздоровались без восклицательных знаков и пошли дальше.
От воспоминаний о Верином пении хотелось поглубже вдохнуть, как будто отбирают воздух. Слава богу, не ходит, радовались мы. Но слушать бабушкино пение мне нравилось, и я листал время от времени песенник и просил её спеть. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути? – пела бабушка со значением. В этой песне чувствовался намёк на бабушкину старую любовь, на одиночество, на несправедливость жизни: родила ребёнка без мужа, замуж так и не вышла, всё одна, всё сама, односпальная кровать, неразложенный диван. Казалось, бабушка допоёт и расскажет. Но бабушка проводила пальцем по старому шраму, и ничего не болело. «Давай ужинать», – говорила бабушка, закончив песню, и вставала с кресла, большая, спокойная, прожившая жизнь.
Верины песни вспомнились мне в поезде, когда я ехал в Киров к бабушке Саше. Ночной поезд, отскучав на вокзале в Нижнем Новгороде двадцать минут, потянулся дальше. Мне не спалось, я смотрел в окно. Вагон дешёвый и неудобный даже для языка – плацкартный. Слышно, как кто-то проснулся: «Где мы?» – «Да, только Горький проехали». Поверх Нижнего проступила горчинка, и я вспомнил, как однажды зимой Вера пела нам с бабушкой: под городом Горьким что-то там зовёт пароход. Тёмный город, вдоль железной дороги слабенько катилась улица с каким-нибудь, наверное, названием. По ней ехал маленький автобус, силуэты людей висели на поручнях. Я случайно подсмотрел чужую жизнь: в автобусе юноша, как я, какая-то женщина, ещё кто-то толстый. Мы долгие секунды ехали параллельно, и я удерживал глазами лицо юноши, и не хотелось его отпускать. Но автобус, вдруг задохнувшись, отстал, за окнами выскочил пустырь, тёмный завод, поезд бросился на мост над рекой и застучал громче колёсами. Волга чернела под нами, фонарики показывали прямоугольник спящей баржи. Вот тут и звал кого-то куда-то пароход, сипло, с одышкой. И казалось, что Вера, которую иногда бил муж, когда-то видела эту реку, во всём этом разобралась и всё это понимала.
Ундевит
Маша умирала долго и кропотливо. Посмотреть бы назад и найти – когда это началось. Но не находится. Затошнило, устала, а кто не устаёт после птицефабрики, если зима и служебный автобус высаживает на повороте, и нужно потом идти две остановки по узенькой оступающейся тропинке, в пальто, с субпродуктами (желудочки, сердечки) в руках, а потом ещё у плиты. Да что тут говорить, уставали все. «Я пью ундевит, – сказала Галя-птичница. – И ты знаешь, лучше». У Гали золотые зубы полным рядом, работящий тихий муж, недавно купили что-то большое (видеомагнитофон?), хотелось быть как Галя, и Маша пошла в аптеку: «Дайте ундевит». Ну дали.
Маша вообще была сильная, крупноколенная женщина. Молодая, всего сорок девять лет (говорила бабушка), химическая завивка, проходила мимо улыбаясь и с гордостью, что такая она, по большому счёту, устроенная, аккуратная, порядочная. Сидела на лавочке всего пару раз: муж поднимал плитку для ванной, а она сторожила и, может быть, ключи забыла как-то. И всем она нравилась. С начала апреля все выходные Маша проводила в деревне: нужно открывать, что было закрыто на зиму, копать грядки, мыть не прогретый ещё дом, комнаты забыли всех после зимы. Но Маша не боялась ни холода, ни сырости, а смотрела через окна на грязную весеннюю землю, ставила чайник на электрическую плитку, разогревала на сковородке куриную печень с луком, важные толстые сардельки с макаронами, и зима отступала от Маши. В отпуск она тоже уезжала в деревню и там красила дом, полола, полола, рыхлила, окучивала, купалась в прудах, заходила в воду по-детски, смеясь и съёжившись, – так многие становятся снова детьми, когда входят в холодную воду. И плыла, стесняясь, не повзрослев, скромно раздвигала прохладу руками. И вот она успела посадить рассаду, в апреле ещё пыталась за ней ухаживать, но потом перестала поливать. И когда она перестала, сделалось очень страшно и мужу, и дочерям, все стали тихо, стараясь не скрипеть полами, ходить по квартире, как будто боялись спугнуть что-то.
До Машиных метастазов (во дворе знали, что в желудке, в костях и в лёгких) её домашние ходили быстро и по делам, ничем не отличались от остальных. А на фоне умирающей Маши и муж, и две дочки пошли иначе – по насыпи, увязая. В очереди в сберкассе или в магазине они оказывались выше прочих – гипсовые увеличенные люди, вот-вот треснут под тяжестью новообразований. Муж у Маши недавно устроился водителем на коммерческие автобусы в Москву, то есть не по расписанию и по билетам, а как наполнится, так и (грубым голосом) поедем, в дороге включали на чёрно-белом подвесном телевизоре двухсерийные советские фильмы, в самом начале первой серии проезжали поворот на Машину птицефабрику. Муж был молчаливый, с упрямым сухим лицом, здоровался кивком или подрезанным здрасьте, курил и плевался. Дочь Олю уже несколько лет для строгости звали Ольга, хотя в детстве была, конечно, Олюшка, Оля, но выросла комом – тройки, яркая помада, сигареты, пиво с друзьями, то есть Ольга. Была ещё младшая, донашивающая одежду девочка, остренькое имя Викуля, предшкольные шесть лет, с охотой помогала матери на огороде. Ольга тяпала медленно, скучала, чем стоять кверху задом легче купить, а ты сперва заработай, ну вот колледж брошу, пойду на рынок и заработаю, крики, даже слёзы. Только к вечеру, когда Маша ставила жариться картошку (и туда обязательно луку и почему-то моркови, вовремя закрыть крышкой) и огород отдыхал за окном, Маша смягчалась и говорила над тарелками, что им на работу приносили тени и не надо ли Ольге тени, и Ольга сразу веселела, потому что была рада, что на неё больше не сердятся. В общем, была Маша доброй, белым фланелевым пятном ходила ночью по тёмному дому, если у детей грипп, разгадывала кроссворды (всегда не до конца), взяла у женщины с работы книгу Даниэлы Стил и читала целое лето, скучая в библиотечной позе. Но заболела так, будто и не заслужила ничего хорошего.
Рак – речной, членистоногий, медленно ползущий по дну, усы – от этого я не мог отделаться, хоть и знал, что рак одновременно и то и другое, как ключ, лук, норка. Но сразу же после заболела раком появлялись клешни, вредная медлительность. Я не помню даже, какой орган, но бабушка говорила, что люди сгорают как свечки. Маша ещё успела посадить, но дальше легла, под самым небом – на пятом этаже. Рвота открылась страшная, говорила Вера-певица намекающим голосом. Когда Маша выходила к подъезду (в начале мая она ещё могла) посидеть на лавочке, все женщины из уважения к Маше старались не смотреть на неё, умирающую, только если мельком: на голове косынка, колени спрятались и не блестели, вообще похудела вдвое, потерялась в одежде, халаты и платья не ушивали, словно боялись признать, а новые не покупали, потому что всё-таки было уже очевидно. Я не жалел Машу, у неё под косынкой мне мерещились бигуди – кудри завьются, Маша наденет праздничное и выйдет к столу. Женщины на лавке разговаривали с Машей как с ребёнком, которого решили отвлечь и обмануть – бодро и о телевизоре: смотрели вчера «Поле чудес»? Вера-певица раньше советовалась с Машей об огородной жизни и даже соревновалась: посадили уже? чем удобряли? сколько банок? Но сейчас молчала об этом, было неловко от того, что она победила. Лидиякольна не выдерживала и иногда спрашивала: «Что говорят-то хоть, Маша?» И тогда охотно ругали врачей, замысел Машиной глупой смерти приоткрывался: врачи недоглядели! Не послали на анализы, не предупредили вовремя, не назначили процедуру, мерзавцы, сволочи, а Кравцова-то сидит разодетая, как в прогнозе погоды, только на свои ногти смотрит, так не повезло с участковым терапевтом, не зря от неё муж ушёл, да ведь он не ушёл, его убили в машине, он таксистом подрабатывал, ой, а я и не знала, только вижу – кольцо сняла, а это мне по секрету сказала Катя, которая медсестрой у лора. У Лидиякольны у самой был рак почки, но прошёл, и она бегала в сад по тоненькому брусочку и обещала этим надежду, хоть и характер дурной, хоть и чёрные усики над губой, но преодолела. И Маша еле-еле тянула надежду на пятый свой этаж, ломило в груди, отмирали звуки двора, дома тихо, и муж молчит и как будто ждёт, и пустые банки после зимы, которые раньше вывезли бы в деревню. Маша ложилась в кровать, поближе к краю, и хотелось верить в Лидиякольну.
Летом (рассаду кое-как высадили и почти не ездили поливать) Маша пропала с лавочки, и все знали, что она там лежит наверху, и не хотели думать о ней. Но всё-таки не могли совсем не думать, если кто-то засмеётся, а тут идёт Машина Ольга, или если выбивать половики во дворе и взглянуть на Машины чёрные окна. Казалось, Маша осуждает нас за смех, за стук выбивалки, за наше самоуверенное желание прибраться, ведь ей уже всё равно.
– А жива ли у Маши мама? – испугалась Галина Андреевна. Но её успокоили: нет, нет, лет пять как умерла, Маша тогда конфетами угощала. И Галина Андреевна облегчённо вздохнула: ну слава богу. Про отца Машиного не спрашивали, мужчинам это легче как-то.
Маше всё вспоминалась большая прошлогодняя стирка на пруду. Огромные Машины тряпки, в воде потемневшие, помудревшие – скатерть, покрывало, накидки на кресла. Сентябрь, но скопилось не растраченное за лето тепло, у воды, особенно за работой, жарко, и Маша забралась по колено, и мылила, и полоскала. И чистое, вымытое счастье, какое бывает от уборки после длинного деревенского лета. Теперь можно закрывать дом до следующей весны и пережидать скучный учебный год, домашние задания, зимние сапоги (у Маши высокий неудобный подъём, полные икры). Маше обидно было за свою надежду на урожай, больно было думать про семена и подготовленные грядки (кому это всё?) и что где-то сейчас Галя с золотыми зубами просто ест «Ундевит» и останется жить, а Машу обманули, выставили дурой. И постоянно (почти в бреду) нащупывался в прошлом, под подкладкой, на каком-то семейном празднике Машин глупый смех, связанный с песней Аллы Пугачёвой, и почему-то казалось, что именно тогда всё и пошло не так, что зря она тогда смеялась.
Ну сколько она, если вдуматься, покопалась, пособирала ягод, поопаздывала на работу, подогоняла автобус? Сколько она похлопотала над грядками, понасолила грибов, понагладила пододеяльников – на это-то зачем тратила время? Все пальто Машины за жизнь можно сосчитать, и получится четыре. Одна меховая шапка, хранила с полынью, мех ещё свежий, а уже пора, строго позвали.
А отчего бывает рак? – спросил я бабушку. Бабушка, конечно, не знала, но боялась. Мариупольские родственники стояли за плечами: брат Илья с саркомой кости, сестра Вера. Ну Илья хотя бы старый был, и давно его разлюбила бабушка, а вот сестра Вера, Верочка… Молчащим многоточием переживает бабушка, но я не понимаю: и что, умерла? Конечно, умерла. Ведь какие глупые были – мылись с Федей стиральным порошком. В сад выносили тазы и под виноградной лозой, под черешней мылись стиральным порошком, и радовались, что пенится лучше всякого мыла. И мягкий свет, и тени листьев. Кто знает – может, из-за порошка и лежит Вера в земле уже сколько лет. А мне (наверное, потому что Вера из Мариуполя) представлялись какие-то поля у моря, в которых бродит Вера, без лица (не помню её фотографий), но высокая, грустная, как лошадь.
Осенью про Машу почти не вспоминали. Лидиякольна только сказала, что совсем тяжело. Вывернуло, выкрутило, пережало Машу, и Маша потела, как будто сильно старалась. Каждый день приходила медсестра делать уколы. Однажды я встретил её в подъезде и от неожиданности поздоровался, а потом посмотрел в окно, как она между девятиэтажками идёт, в обычной курточке с капюшоном, хоть и видела пять минут назад то, что с Машей. А в декабре, в десятых где-то числах, когда о празднике ещё не думается, а просто темно и холодно, Маша умерла, будто кто-то в соседней комнате выключил гудящее радио. Её смерть стала неожиданностью, люди удивлялись. Конечно, была совсем плоха, на волоске висела, в шаге стояла, а всё-таки внезапно умерла.
Крышку гроба поставили у двери в подъезд: красная ткань, чёрный крест с дополнительными перекладинами, к которым я не привык, под крест прикололи Машину фотографию, чёрно-белую, серьёзную. Казалось, Маша на этой фотографии знает, что умрёт. Крышка днём стояла и напоминала, что в этом подъезде, если подняться на пятый этаж, плачут. На ночь крышку гроба занесли в подъезд, спрятали Машу от мороза, от ветра, а утром Маша снова серьёзно смотрела чёрно-белыми глазами на двор, на перекладины для выбивания половиков, на всех нас. Бабушка без страха долго разглядывала Машу. Конечно, так болела, сказала бабушка, отмучилась.
Вечером накануне похорон я спустился за кошкой Зиной. Она ушла днём, и мне было страшно, что она не вернётся ночевать. После лестницы – тёмный коридорчик между двумя дверями, в который я впускаю свет, и он ложится на строгий Машин взгляд. Когда дверь за мной закрывается, мы с Машей оказываемся в темноте, пахнет деревом Машиного гроба. Я открываю щёлочку на улицу (мороз хватает мои колени) и громко шепчу: Зина, Зина! Маша злится на меня, что я не здоровался с ней, когда проходил мимо с бабушкой Зинка! Зинка! что она умерла, а я всё равно включил проигрыватель и слушал мелодии и ритмы зарубежной эстрады Зинказинказинка! и танцевал на втором этаже под её трупом. Зинка! – закричал я в полный голос. В снежной жёлтой воронке под фонарями мелькнуло чёрное, и у меня в ногах появилась Зина. Я поднял её на руки, холодная шерсть, холодные лапки, и мы торжествуя побежали от Маши.
В день похорон мы с бабушкой вышли пораньше, чтобы не столкнуться с гробом в подъезде. У лавочки уже стояли приготовленные для Маши табуретки. До выноса (это слово употреблялось само по себе, но бабушка объяснила: тела, Маши) оставалось полчаса, и мы решили дойти до леса. Я гулял как обычно, а бабушка печально. Когда мы завернули обратно во двор, у подъезда уже было много людей, разноцветные шапки, норковые воротники, женщины с работы, по дороге разбросаны еловые ветки. Лидиякольна, Вера-певица, ведьма Настя, Галина Андреевна стояли на отдалении, пропуская вперёд тех, кто страдал сильнее, у каждой на лице – несправедливая арифметика и осуждение врачей. Мы с бабушкой подошли к Вере, и Вера сказала, что она уже успела сбегать за молоком и на повороте там очень скользко.
Машу вынесли в открытом гробу, спускали с пятого этажа с трудом, и мужики (два с работы и два пьющих соседа) выглядели тактичными и перепуганными. Следом вышли родственники со скомканными лицами, но мы отвели взгляд. Бабушка поправила шапку, стряхнула снежинки с плеч, вспомнила мариупольские похороны. Люди наклонялись к Маше – она беззащитно лежала в платье, худая, жёлтая, с белым шарфом на костистой голове, и по инерции казалось, что Маше холодно, но снег падал на её руки, на лицо и не таял. Священник с большим красным лбом и белой бородой хмуро читал над Машей молитву, Вера-певица подхватывала иногда Господи, помилуй. Машу подняли те же мужики, обнажив табуретки с ярко-зелёными сиденьями, о которых все уже забыли и теперь удивились. Машу как в лодке проносили, и лодка накренялась, качалась на волнах уставших рук.
Мы сели в автобус, который дала Маше птицефабрика, и поехали на кладбище. Я редко ездил на автобусе, мне нравилось сидеть у окна и смотреть: белое, раскатанное рулоном поле бежало к сереньким деревьям вдалеке, чтобы там загрустить, обелиск павшим воинам, насупившись, ждал в снегу девятого мая, частный разноцветный сектор, симметричные улицы с буквами я б р: Ноябрьская, Рябиновая. Электрические вышки на повороте к кладбищу стояли густо и за забором, как яблони во фруктовом саду. Мне хотелось ехать подольше и совсем не думалось о Маше, которую везли впереди. На кладбище было холодно, и всё по-зимнему непривычно: обычно я оказывался на кладбище во время летних каникул в Кирове, памятники выглядывали из зелени, даже весело, если на солнце, и бархатцы, особенно красные, с обожжёнными краешками лепестков. Я минут десять постоял возле Раисы Ивановны, крупной серьёзной женщины, фамилия в снегу, которая умерла (вычитание) три года назад в сентябре, стал замерзать, и бабушка послала меня в автобус, чтобы я грелся. В автобусе водитель слушал радио, некоторые песни мне нравились, ай эм ё лейдииии. Я через морозный иней на стекле смотрел, как густели тёмные пальто. Бабушка, простившаяся, румяная, вошла в автобус первой и села рядом со мной. Я проверил её часы: мультфильмы в четыре, а сейчас половина первого. Бабушка долго вытирала носовым платком руку, испачканную землёй.
Оказалось, что мы едем не к дому, а на поминки в столовую. Столовая была на перекрёстке с Московским шоссе, на вывеске написано красивым почерком с большой буквы – Столовая, от я отходит в сторону Москвы хвостик, желающий предложения. В зале вдоль окна – подготовленный длинный стол, ходят угрюмые (но не по случаю, а просто так) официантки. Мы разделись, хоть и не готовились показывать свои домашние штопаные кофты, тёплые халаты (у Галины Андреевны даже без пуговицы на груди, и она прикрывалась шарфиком), вежливо сели с края. Бабушка пахнет шкафом, Лидиякольна – мазью Вишневского. Во главе стола упрямился Машин муж, рядом Ольга и какая-то ещё женщина (сестра из Кольчугина, сказала Вера-певица). Младшую девочку оставили у знакомых, и она, наверное, во что-то сейчас играла. Ненадёжно опершись спиной о вазу, стояла фотография Маши с крышки гроба, но тут уже её строгий взгляд был не заметен: от меня её загораживали бутылки. Вокруг мёд в блюдцах, блины, нарезанная ветчина, селёдка с луком – всё это победило Машу, завтракали давно. К бабушке подсела толстая женщина, представилась Зоей с птицефабрики. Все тихо и с уважением к Маше двигали вилками. Зоя встала первая, с рюмкой, улыбаясь: «Я хочу сказать как коллега». И она упрашивающим голосом вспоминала Машу: всегда готова была помочь, всегда весёлая, всегда шутила, всегда подтянутая и бодрая, любящая жена, нежная мать. И все слушали, стараясь не жевать, и зарыдала Ольга, но даже сквозь слёзы не узнавала Машу в этих словах, казалось, что Зоя что-то перепутала, соврала. Зоя выпила ещё водки, раскраснелась, стала хвалить блины, рассказала бабушке, как она ахнула, когда увидела похудевшую Машу в гробу. Речей после Зои не произносили, тихонько переговаривались, в том числе о Маше. Ведьма Настя сказала, что вчера даже всплакнула (равнодушные приставка и суффикс). Бабушка засобиралась домой, тут же поднялась Лидиякольна, которая давно хотела пойти, но стеснялась одна. «Земля чтобы была пухом Маше», – произнесла Лидиякольна через стол – как бы обращая это мужу и Ольге, но не глядя на них, и кто-то закивал, попросили передать сыр. Пока мы шли через рынок, мимо поссовета, бабушка с Лидиякольной обсуждали толстую Зою и как быстро она окривела. Лидиякольна свернула в магазин, кефиру и маргарину бы, она хочет испечь коржики, такие, знаете, маргарин, два стакана муки, сахар, вилочкой ткнуть. Знаю, да, сказала бабушка. Ну вот испеку, попрощалась с нами Лидиякольна, но успела только до голубых елей дойти у входа в магазин и вдруг опомнилась, обернулась: «Галина Сафроновна, вот жизнь…» Бабушка согласилась: «И не говорите…»
От Маши осталось вот что: когда уже вытянулись месяцы после Машиной смерти, когда бодро побежали годы, всё равно вдруг – намылишь голову, свесишься смывать – господи, умерла мама, и Ольге сделается больно в особом месте в горле. Или попадётся старый вагон в электричке с деревянными лакированными сиденьями – через это попросится Маша. А ещё: фасон платья, берет, чужая осанка или старая фотография. И муж Машин по дороге в Москву всегда замечал, как со страданием уходит дорога в сторону птицефабрики, мучается ямами. Но это, наверное, так первый год, потом он перестал работать на междугороднем автобусе. А Викуле, в её-то шесть, почти ничего не досталось: на кухне против солнца с чем-то в руках – водяной знак мамы. Голос Машин постепенно забылся, кроме, может быть, того, как она звала с огорода детей, громко и резко, словно надеясь, что это запомнится, и кроме особенно выразительного смеха на каком-то семейном празднике. Но невозможно уже представить себе, как она говорила: Чай будем пить? Передай чёрного хлеба. В среду была у врача.
До мультфильмов час, можно не торопиться. Тополя отмеряли дорогу, вот ещё четыре, и постоим. И постояли. Снег был мягкий, не мешал, а только делал лучше. Я хотел подойти к ёлке у сберкассы, чтобы проверить, не украсили ли. Бабушка отпустила меня одного, а сама оперлась о палку, смотрела в поле за дорогой и думала. Ёлку к сберкассе привезли вчера, она стояла ещё по-лесному, без лампочек, чем-то (тогда я не понял чем) напоминала Машу. Я побежал обратно к бабушке, во мне поднялась радость, что дома есть компот из сухофруктов, много всего интересного в программе телепередач («Флинстоуны», «Форт Боярд»), скоро Новый год. У нас во дворе валялись похоронные ветки (теперь понял), слегка исправленные снегом, я обходил их, потому что кто-то рассказал мне о примете: если наступишь на похоронные ёлки, скоро умрёшь. «Бабушка, не наступай на ветки!» – сказал я. Но бабушка не услышала или не обратила внимания и шла прямо по веткам, не перешагивая. Зиинаа! Зинка! – позвал я. Мы подождали, но кошка не пришла. «Пойдём, Юрочка, а то холодно», – сказала бабушка и пошла к подъезду. Снег лежал на отворотах её пальто, на шапке и не таял.
Приход
Капа пришла к Богу прямо из бухгалтерии. Бог был тогда далёким и неприступным, как Ален Делон на кухонной двери, мы боялись его и не знали, с каким лицом к нему подступиться. А Капа, кроткая, тихая, будто дождик моросит, Капа не испугалась.
Пока Капа работала в бухгалтерии, её недолюбливали: хна, вечно подкрашенные губки, лакированная сумочка. Но потом её сократили, как-то особенно кроваво – прямо в день рождения, что ли. Во дворе ей посочувствовали, потому что на руках у Капы старая, очень седая, очень глухая мать и сын, странненький, разговорчивый, который иногда так кричит на третьем этаже, что на улице слышно. Потом Капа как-то пропала, перестала бегать водомеркой на работу и обратно, и никто не заметил, в какой момент Капа стала верующей. Косыночка или шарфик на голове не насторожили – ну мало ли, не помыла голову. Ситцевое платье не удивило – ну мало ли, нет теперь денег или ходила на картофельный участок. Перестала красить губы – тоже понятно: для кого их красить, для продавщицы в магазине? Капа, если встретить её во дворе, шла и немного наклоняла голову вбок, будто не хотела, чтобы ветер надул в правое ухо. Но это было в ней всегда – кокетливый наклон головы. А что она улыбается, тоже можно понять: хорошая погода, сын закончил девятый класс и поступил в школу милиции, а это тут, недалеко, даже ехать на автобусе не надо. Тамара собирала деньги на Машины похороны, заглянула к Капе и поразилась: Капа перестала краситься и завязала волосы в узелок. Тамара спросила: «Больше не красишься, Капа?» И потом пересказывала ответ: «Богу мы нравимся любыми!» Лена сказала: «Ой, я всё-таки покрашусь, а то стыдно богу на глаза показываться». Все смеялись. Но однажды Галина Андреевна встретила Капину седую, глухую мать у машины с молоком и прокричала ей: «Не устроилась Капа на работу? Молодая ведь ещё». А Капина мать не поняла сразу и морщинами сосредоточила лицо, а когда Галина Андреевна прокричала снова, просветлела, разгладилась, потому что подцепила слова, дослышала и ответила: «Да она в церкву сейчас ходит каждый день». И тогда всё сошлось: и платочек, и платье, и верующий наклон головы. «Когда только успела!» – удивлялась на лавочке Галина Андреевна.
Осенью в больнице, над отделением неврологии, под самым небом, открыли церковь. Врачи лечили молча и зло, мест в больнице не хватало, а если удавалось прорваться, нужно было принести свои бинты, шприцы, капельницы и лежать тихо, не спрашивать, выживешь ли ты, пройдут ли шумы, спадёт ли отёчность. Лет-то вам сколько? Чего же вы хотите? Церковь во всём этом пришлась кстати. Туда поднимались сразу после регистратуры поставить свечку. Из стационара приходили на службу. Перед операцией подолгу молились, даже исповедовались, и делалось не так страшно. И вот оказалось, что Капа прислуживает в этой церкви: моет полы, чистит подсвечники, продаёт молитвенники, иконки-календарики, свечки разной длины и ширины, и если покупают обоим родителям, то советует взять подороже.
Бог спал высоко над красной звездой и вдруг заметил работников социалистического труда. И чтобы нас, грешников из пятого дома по улице Михалькова и некоторых из четвёртого, привести в царствие небесное (или это уже после смерти? мы путались), Бог приложился к Капе губами и отправил к нам во двор посланницей. Уволили Капу в феврале, а к следующей зиме у Капы стало блестящее личико, прикреплённое к кроткому драповому телу, из воротника прямо свет поднимался.
Первая пришла к Капе Евдокия. Ей каждую пасхальную весну вспоминалось её детство, двадцать второго года рождения. В тёмном углу Евдокииной (длинной, пятисложной) памяти пахло этим жёлтым, густым, тягучим, потому что её мама тайно праздновала Пасху. Отец был против, произносил какие-то речи, а мама всё равно за занавеской ставила свои тоненькие свечки, которые вкусно так пахли, красила всем детям и себе – по яичку, и Евдокия любила этот сговор против отца, который кричал и ругался, особенно если приходил с пьяным злым лицом. И Евдокия подумала, что неплохо бы теперь, когда можно стало, креститься – против старой вредной воли отца и ради встречи с мамой.
– Капа, крестят ли у вас в церкви? – спросила Евдокия.
– Меня саму только летом крестил отец Андрей, – сказала Капа и заулыбалась, будто достала из внутреннего кармана припрятанную красивую вещицу.
Некоторые ездили в церковь в город, отстаивали службы, святили яйца и куличи. Но это, считалось у нас во дворе, для молодых: ехать долго, транспорт ходит плохо, толкнут в автобусе – и всё. Поэтому в основном женщины в нашем дворе были вдали от Бога, хотя им он пригодился бы, особенно после Машиной онкологии. Ведь у самих тоже болячки не из простых: у Лидиякольны одна почка, у Тамары сердце, у Алевтины вообще инфаркт, у Зинаиды эпилепсия. У Солдатовых погиб на стройке школы Митенька, у Тимофеевых умер от лейкемии Сашенька, у сына Малашина взорвался аккумулятор в руках, и он почти ослеп, видит только свет и тьму. За здравие, за упокой, за счастье – куда пойти поставить свечку?
И вот теперь в больнице открыли церковь. Евдокия покрестилась и осталась очень довольна. Выбрала крестик, но на лавочке показать отказалась: «Крест для бога, а не для показа». Потом, конечно, показала всем: «Просто при Насте не хотелось, сглазит ведь». За Евдокией в церковь сходила Алевтина, и ей Капа сказала, чтобы она не всю службу стояла, а присела на лавочке, потому что Богу и так хорошо, главное, что Алевтина пришла. Зинаиде (в одном подъезде) Капа принесла просвирку и объяснила: «Завтра натощак ешьте, сперва Божья пища!» И улыбнулась. И Зинаида поняла её намёк: натощак лучше подействует. Съела и сказала: «Господи, прости!» Но до весны решила в церковь не ходить: скользко, упаришься в пальто. Сходила как-то Тамара, сходила Вера, Тоня Тимофеева поставила свечку. Кочетковы крестили трёхмесячную Иринку, и она почти не плакала.
Если не идёте в церковь, читайте молитву дома, учила Капа. Вера собирала вырезки из «Комсомольской правды» и зачитывала их с выражением. Особенно ценились молитвы покороче, память уже не та. «Сначала святый Боже, – учила Вера Трисвятое, отсчитывая кивком головы, – потом святый крепкий, потом святый бессмертный, и наконец – помилуй нас!» Вера довольно хлопала по коленям: запомнила. «И перекреститься», – передавала Вера совет газеты. И крестилась, делая обречённое лицо: все под богом ходим. Алевтина купила на овощном рынке книжицу «Молитвы для огорода», и оттуда все полюбили на хорошую погоду, на урожай и от воров. Иди вор-враг не в дом, а в овраг (перекрестить замок три раза). Тамара выучила длинную молитву к Пресвятой Троице, читала как фокус, хотела без ошибок, но сбивалась. В конце просила: «Святой дух, посети и исцели немощи наши имени твоего ради».
Капа много рассказывала про батюшку: что и кому сказал, что посоветовал, как посмотрел. Отец Андрей был молодой, не слишком бородатый священник небольшого росту, крепкий, ходил энергично. Это как-то не подходило Богу, что отец Андрей вечно бежит куда-то, но дел, улыбалась Капа, очень много: «Всякую ведь минуту кто-то рождается, кто-то умирает, а некоторые хотят освятить машину или квартиру». Женщины закивали и подумали, что сейчас вот кто-то умер. Говорил отец Андрей низко и неожиданно мягко, будто знал что-то, но не хотел огорчать. Капа рассказала по секрету, что отец Андрей планирует жениться. «А им можно, что ли?» – удивилась Вера, по телевизору тогда показывали «Поющих в терновнике». Решили, что нашим можно, а за границей нельзя. Невестой была молоденькая девушка – то ли сама она Фая, то ли мать у неё Фая. «Так что у нас скоро будет матушка», – радовалась Капа. Алевтина сходила к отцу Андрею на исповедь, пересказывала со всеми таинствами. Взял за руку и говорит: „Не держи зла на невестку, это большой грех“. А когда батюшка читал по заупокойному списку и доходил до Александра, всегда смотрел на Антонину, потому что знал, что это её, её Сашенька, и она всё скорбит, всё плачет о нём по ночам или вдруг в гастрономе.
(В скобках сидит Галина Андреевна, нога на ногу, крепкие икры бывшей железнодорожницы, стрелочницы, несгибаемой атеистки. И за последним вздохом Галины Андреевны – тишина и тьма, нет ни облаков, ни лёгкого дуновения от ангельских крыл, ни ада, ни рая. Галина Андреевна завещала сыну кремировать её. Вера даже испугалась и зажмурилась, когда узнала, что Галина Андреевна будет так сильно гореть. «А чем лучше червей кормить?» – спросила Галина Андреевна, синий берет, очки с зелёными стёклами от катаракты, начало яркой слепящей весны. «Андреевна, ты прямо Штирлиц», – сказала ей Тамара. Все засмеялись, а Галина Андреевна рукой только махнула.)
Пасха выпала на первое мая, поэтому чувствовалась общая, немного красноватая торжественность. Многие напекли куличи, наварили яиц в луковой шелухе и обменивались. Радоваться Христу женщины не умели, но привыкли возлагать, и пасхальным утром (погода почти летняя – плюс шестнадцать, солнечно, голуби в клювах тянут шарики, предчувствуется День Победы) собрались на кладбище. Христос-то воскрес, а, Митенька? Сашенька? Николай Петрович? Вы тут? Возвращались заплаканные, торжественные и смирившиеся. Все там будем, вместе с Сашенькой. Воистину, воистину.
Но на бабушкиных глазах Пасха споткнулась, и из неё посыпались ах, пах, страх, и никуда мы не поехали, и не пекли куличей, а только несложно покрасили яйца. Бабушка так хохотала в Страстную пятницу первого мая пятьдесят девятого года! Май, мир, труд, на заводе был праздник, и она танцевала с кем-то, уже не вспомнить имени, молодая, незамужняя, про сына Володю не рассказала. Это было неважно, ведь речка движется и не движется. А Володя с ребятами откопал немецкий снаряд за домами у Клязьмы. Пока бабушка танцевала, он тащил снаряд к костру. И посреди мира, труда, Страстной пятницы рвануло. И кровавый её мальчик лежал в белых простынях больницы Красного Креста, и она хотела бы умереть вместо него, если бы могла. Но Володя не умер, бабушка не умерла, никого не спросили, кому умереть. Витьку сразу насмерть, а Людкин Слава и её Володя получили осколками. Ноги пострадали больше всего. Осколок в кости, говорил врач. «Нашли, когда куражиться, – шипела тётка Валя, бабушкина старшая сестра. – В Страстную пятницу! Христос мёртвый, а ты песни поёшь!» Да откуда же она знала, обижалась бабушка, Пасха же третьего только. «Вот третьего бы и пела, когда воскрес уже!» И бабушка неделями обтирала раны и ссадины на ногах сына своего, плакала о нём и отпевала его как могла, песнями своей мамы, пока он наконец не начал улыбаться. В школу пошёл на год позже. Бабушка испугалась Пасхи на всю жизнь.
А на День Победы иронично похолодало – плюс пять, ночью минус один. Всех куличей не съели, Вере пришлось пересушивать на сухари, Тамара покрошила голубям, воробьёв отгоняла: они наглые, клевали Христа. Наша школа озябшим парадом пошла к обелиску по перекрытому Московскому шоссе. Там учительница химии, которая была депутатом, произносила праздничную речь, привычно, химически картавя: хлог, углегод, кислогод, пагад, подвиг нагода. Динамики хрипели, ветер вырывал слова, начинался дождь. Торжество закончилось быстро, люди оставили у обелиска нарциссы, а кое-кто и крашеные яйца – пусть солдатики покушают. Запустили накопившееся движение, толпа боковыми улочками через частный сектор стала возвращаться. Я выделился из толпы, свернул к пруду за старшеклассниками, после рынка прошёл почти один (только девочки какие-то сзади смеялись) через школьный двор, наконец совсем один пробежал через гаражи и пришёл к бабушке. Бабушка открыла дверь, а сама плачет: совсем нога разболелась, ну что же это за наказание, хоть отрубай.
Левое колено, отложение солей – главное событие бабушкиной старости. «Откуда это берётся?» – бабушка, успокоившись, гладила блестящую, моложавую в общем-то коленку. Она так легко бегала и плавала всегда быстрее сестёр. И какой была дурой: надевала маленькие часики на правую руку и шла по краю воды, немного хромая. Ей казалось, что это так красиво – хромать. Высокая, волос много, и при этом слегка хромает, словно какую тайну несёт. И часики ещё. И вот как заканчивается жизнь – хромотой и капустным листом на коленке.
Капустный лист не помогал. И лопух. И йодовая сетка. И ревень с солью. И нашатырь с подорожником. Хирург назначил укол, но бабушка пока не решилась. А утром следующего дня, вторник, десятого мая, бабушка после магазина на палку повесила сумку с молоком и отдыхала, прежде чем перейти дорогу. И тут – подосланная Капа. Отдыхаете, Галина Сафроновна? И головку вбок, и улыбнулась. Совсем, говорит бабушка, отказывает нога, чего только не перепробовала, какие только настойки не делала. А вы Бога попросите о помощи, говорит Капа, без молитвы настойки не берут. Приходите, Галина Сафроновна, в церковь. А бабушке неудобно: ведь за всю жизнь не сходила, а теперь вдруг явится, и Бог скажет ей, что уже поздно, приёма нет и раньше надо было думать. «Да только бога гневить…» – засмущалась бабушка. Ну что вы, улыбалась Капа, Бог не такой, он прощает всех и принимает неверных, к Богу никогда не поздно прийти. И детей возьмите, пусть тоже помолятся за вас. И бабушка решилась, наметила на воскресенье – пятнадцатое, Галине Андреевне решила не говорить.
В ночь на воскресенье снова случились заморозки, и хоть утром появилось солнце, но было заметно, что ночью стоял мороз, земля лежала скованная, мокрая, как после слёз. В больничном дворе мы встретились с моим другом Игорем и пошли втроём просить бога о бабушкином артрите. Вход в церковь пометили крестом и объявлением о службах. Раньше в этот подъезд входили, чтобы сдать анализы крови, а теперь на анализы нужно было идти через регистратуру. Церковь располагалась на последнем, четвёртом, этаже, над неврологией. На лестнице мы встретили несколько больных в халатах, они медленно, болея, поднимались на службу. На третьем этаже бабушка задохнулась. «Как высоко забралась Капа», – сказала она и встала отдышаться. Мы открыли железную дверь и тут же испугались полной женщины на костылях, у которой из халата торчала только одна нога. Она стояла в одиночестве тяжело больного человека. «Диабет, наверное…» – грустно сказала бабушка и сняла с меня шапку. Мы прошли через маленькую яркую комнатку, где продавались книги и свечи, и оказались в большом полутёмном помещении, сразу же увидели Капу: она суетилась, улыбалась, расставляла людей и выглядела именинницей, длинный шарфик был повязан вокруг её головы, но не покрывал, а показывал, как секрет, седую Капину сердцевину. Помещение было тщательно замаскировано и, кажется, боялось разоблачения: плиточный пол покрыт половиками, на стенах несколько икон, перед которыми стояли подсвечники на длинной ножке, свечи горели, горбясь и капая. По задней стене тянулась лавка, над которой висели календари с иконами, открытки с храмами, в этом почему-то чувствовалась Капина рука. Капа взяла нас с Игорем за плечи и повела в первый ряд, на лучшие места, бабушка пошла следом, сдержанно, как при учителе, поздоровалась с Розой Гавриловной и Зинаидой. Зинаида кожаной кепкой и носом напоминала птицу. Стёкла здесь были толстыми, зелёными, больничными, почти не пропускали света, поэтому их не занавешивали, но в каждом проёме висели на цепочках лампады, в которых тихо страдало пламя. По центру потолка (Капа спросила: «Знаете, как называется?» Мы не знали) торжествовало паникадило, названием напоминающее мне польскую девушку из телевизионного фильма, лампочки, изображающие свечи, неярко тлели. Людей пришло много, стало тесно и жарко, Игорь хотел сказать мне что-то, но вдруг совсем рядом случилось движение: Капа нырнула и появилась впереди, сделала другое лицо и начала не своим, приподнятым голосом говорить непонятный текст, из которого проступали только некоторые как будто перепуганные слова: тебе, тебе, слава богу земле уста твою твою слава. Мы с Игорем удивились, бабушка смотрела на потолок с вежливым видом, а когда Капа неожиданно понятно простонала не остави меня господи боже мой, кивнула. Казалось, Капа перебирает незнакомые слова, пробует их, откидывает, а те, которые все знают, подтягивает подольше: утро утро слава слава тебе боже. Потом она затянула какое-то известное, пружинящее в середине слово, но так тесно приставила его к предыдущему, что я не сразу сообразил аллилуйа аллилуйа аллилуйа. Люди дёрнулись и вслед за кем-то первым перекрестились. Перекрестились, опаздывая, и мы с Игорем. Бабушка держала перед собой руку со сложенными, как для щепотки соли, пальцами. Откуда-то быстро вышел, почти выскочил священник, похожий на небольшой шкаф, и стал энергично размахивать дымом на цыпочке, запахло вкусно, хотелось вдохнуть этот дым глубоко и не сразу отдавать обратно. Роза Гавриловна закашлялась. Священник говорил быстро, осуждающим басом, тут вообще было ничего не понять, но чувствовалось, что он нами недоволен. Игорь всё время оглядывался: ему хотелось посмотреть на женщину с одной ногой. Пока священник бубнил, я заметил, что рядом со мной старушка в пушистой кофте, надетой на халат, крестится всегда первая и поднимает волну. Теперь я следил за ней и, как только она начинала, тут же подхватывал. «Не в ту сторону!» – шепчет бабушка и показывает на Игоря. Игорь и правда делает слева направо, и я говорю ему: «В другую сторону!» «Чего?» – не понимает Игорь. «Крестись в другую сторону», – говорю я громче, но Роза Гавриловна с потным лицом (похолодало, и она в зимнем пальто пришла, а тут жарко) шикает на нас, чтобы мы не разговаривали. Бабушка стоит красная, блестящая, устала, Зинаида тоже осунулась, вытирается платочком, ждёт перемены. Внезапно женщина в кофте встаёт на колени. Бабушка с недоверием смотрит на неё, ведь артрит, обязательно ли это? Роза Гавриловна мнётся, не может решиться, но всё-таки опускается, а потом оборачивается ко мне и от какой-то вредности дёргает меня за штанину. Я встаю на колени, Зинаида сзади шепчет «Господи помилуй» и кряхтя тоже встаёт. Бабушка отводит взгляд, как будто не заметила, что кто-то встал на колени, а Игорь возвышается надо мной и крестится, давясь от смеха, – не в ту сторону.
После службы Капа выстраивает очередь к батюшке. Мы с Игорем переглядываемся: на исповедь. Накануне вечером мы долго сидели в тусклом подъезде и решали, что нужно рассказывать и большой ли это грех. Наш друг Миша целовал Лузганову и возжелал её – вот это грех. У меня есть игральные карты, на которых голые мужчины и женщины, но совсем бесстыдные места у них загорожены бутончиками розы. У богатого одноклассника Шамеса мы с Игорем видели без бутончиков – такие, наверное, совсем страшно, а про мои можно и не говорить. Кроме того, мы воровали вкладыши у Колчанова, сквернословили, врали о том, куда пошли гулять, и оба скрываем даже друг от друга то, что было на прошлых летних каникулах. Игорь скрывает, что всё-таки выдумал, а на самом деле не видел, а я скрываю, что видел и что мне понравилось. И я не верю, что нужно рассказывать, как мы с Игорем однажды залезли в старую церковь, но об этом мы с ним не разговариваем. Очередь на исповедь оказывается очередью целовать икону. Я вздыхаю с облегчением, а Игорь брезгливо кривится. Капа целует для образца. Роза Гавриловна обливается потом и мокро целует Деву Марию в лицо, Зинаида дотрагивается до стекла носом, а губами не дотягивается, но стесняется дальше. Следующая – Лидиякольна с усиками над верхней губой, она готовит губы заранее и дотрагивается до плеча Девы Марии. Капа разворачивается к нам с Игорем и ждёт. «Давай ты», – шепчет Игорь. Я выбираю, как мне кажется, самое чистое место и целую прямо над головой маленького Иисуса, Игорь следом целует мои губы на стекле. Евдокия после Игоря целует воздух, и нам обидно: мы не знали, что так можно. Потом идёт бабушка и тоже целует воздух. Капа улыбается, белое праздничное лицо.
– Жара как в аду, – сказала бабушка на лестнице.
(Во вторых скобках мы с Мишей и Игорем сбежали на речку в Спасское. Митенька недавно погиб на стройке новой школы, и нас не пускали на любую глубину. А мы сбежали. Шли через лес, потом по полю и под дачным склоном решили купаться голыми, потому что не хотелось после купания идти в мокрых трусах, а плавок мы для маскировки не взяли. Из-за близости дач мы чувствовали себя особенно обнажёнными, все окна смотрели на нас, и мы поспешили в воду, чтобы спрятать голое. Тёмная вода волновалась внизу приятной прохладной тяжестью. Миша рассказывал про Машу Лузганову. Она разрешила расстегнуть, и он – дрожащими руками, а она поцеловала его. Вдруг пошёл дождь – сперва глупые крупные капли, а потом ливануло, и нашу одежду на берегу намочило. И мы, оттого что нас обдурили и не удастся сохранить сухими не только трусы, но и футболки, шорты, стали смеяться, подпрыгивать, вылезать из реки и снова с разбегу прыгать туда. Граница воды пропала, и всюду мокро, и всюду весело, и уже не страшно показать наготу. Игорь напрыгивает на меня сзади, но его стаскивает Миша, бросает в воду, кричит: «Аста ла виста, бейби!» Игорь ложится на спину и удерживает себя над водой, как никто из нас, кроме него, не умеет. Дождь разбивается об Игоря, в его раскинувшейся позе есть что-то перезревшее, как будто лопнул и показал внутренность фрукт. Он переворачивается и ныряет, мелькнув попой, начинает вылезать из реки, а я хватаю его кольцом рук и тяну обратно, и под моими руками скользкое, с костями, тело Игоря. Игорь от остроумия борьбы решает не сопротивляться, а повиснуть. Я пытаюсь удержать его, но мне не хватает сил, он сползает по мне в воду и, разыгрывая смерть, ложится на дно. Я смотрю на него, замутнённого илистой водой, и замечаю, что я голый, хоть мы уже привыкли к этому. Когда совсем заканчивается воздух, Игорь подтягивается по моей ноге – треугольник чёлки, мокрые фонтанные губы. Дождь проходит, мы решаем ехать обратно на автобусе, а не тащиться через лес, и идём к остановке. Снова жарко. Прилипая, на нас сохнет одежда. Мы хотим залезть в старую красную церковь у остановки, раз уж оказались здесь. Двери надёжно заперты на большие замки, но окна без стёкол, и мы подпрыгиваем, подтягиваемся. Пахнет подвалом, гнилью, кирпичом. Мы с Игорем от радости, что залезли, беснуемся, изображаем Мишу с Лузгановой, обнимаемся и стонем церковным эхом. Игорь хватает меня сзади и между ног и громко поёт: «Ааа-ааа-ве! Марииия!» Миша смеётся: «Дураки!» А я смотрю на Игоря, вдыхаю влажный песочный запах его шеи и волос, он замечает мой взгляд, но не убирает руки. Нам делается стыдно ещё до того, как приходит автобус.)
А в июле к нам приехали американцы, чтобы выступить с концертом на сцене у леса. Сцену построили несколько лет назад – гордый козырёк крыши, дощатый красный пол, ряды лавок для зрителей. Здесь планировалось устраивать поселковые праздники, но ни разу не попробовали. Все поздравления звучали со ступеней поссовета, там же пели, проводили викторины, а сцена пустовала и даже начала стареть. Когда кто-то сказал, что в воскресенье вечером на сцене будет концерт американцев, мы, конечно, всю неделю ждали, а воскресным вечером побежали, расселись, над головой комары.
Американцев мы много видели в сериале «Санта-Барбара» и очень ими интересовались. В том году в «Санта-Барбаре» погибла монахиня Мэри, которую любил Мейсон Кэпвелл, и погибла глупо, бессмысленно. Они с Мейсоном поднялись на крышу семейного отеля Кэпвеллов и ругались там. На крыше светились огромные буквы, образующие со всеми причудами правил чтения (C, A, W) фамилию Кэпвелл, ветер крепчал, начинался ураган. Первая буква С раскачивалась от ветра всю серию и в конце упала – на Мэри. Мейсон был безутешен, продюсеры Бриджет Жопсон, Жером Жопсон. Мы с бабушкой выключили телевизор и сели смотреть в окно: как жалко Мэри, и что же они так плохо крепят эти свои буквы. И теперь, казалось нам, приедут американцы, как-то связанные с Санта-Барбарой: полицейский Круз Кастильо в узких джинсах и в расстёгнутой на груди рубашке, начало волос; дочка миллионера Келли в плечистом пиджаке; Иден, которая носит волосы как бы на одну сторону и, если идёт подумать на свежем воздухе, берёт под мышку маленькую бессмысленную сумочку, Тамара всегда смеялась над ней: сама она не женщина, а вол, ходит только с хозяйственной сумкой в магазин. А ещё летняя бывшая жена Августа Локридж, собачий Лайонел, намекающая на Белоруссию вдова Минкс. Таких людей, встреть мы их в гастрономе, мы безошибочно распознали бы. А приехали другие и почему-то на старой «Ниве» – мы удивились и даже разочаровались.
Три женщины в длинных белых юбках, с распущенными волосами, в которых очевидно плутала седина, не были похожи на красавиц из сериала. А двое мужчин из-за одинаковых очков казались братьями – старшим и младшим, совсем не напоминали Круза, Мейсона и даже Тэда. Американцы улыбались нам, как детям – зубастой простой улыбкой. Мы пытались отвечать, но скоро заболели лица, и мы сели просто так, в задумчивых позах, стесняясь, веткой сирени прогоняя комаров. Наконец началось: сперва заговорил старший брат, медленно, ай эм Джеф, и показал какой-то значок у себя на рубашке. Мы ничего не понимали, а на значке как будто голубь. Он что-то сказал Алевтине, а она не поняла, но сделала мудрое лицо. А когда посмотрел на Тамару, она громко крикнула Йес! и засмеялась в руку, как не делала со школы, и рядом с ней женщины тоже засмеялись. Американец повторил Yes и два раза глубоко кивнул, соглашаясь со смехом Тамары. Старший брат продолжил говорить, а Вера прошептала бабушке: «Простенькие такие туфельки у девушек, но со вкусом». И от парадокса подняла бровь. Вдруг женщины запели – тонкими улыбающимися голосами. Все замолчали и присмирели от того, что вот так, без музыки, не поднимаясь на сцену, под облаком комаров запели три американских женщины в белых юбках, даже неловко было смотреть на них, и многие отводили взгляд. Откуда-то появились бубны, и мужчины стали хлопать по ним, производя звон, а женщины закивали, соглашаясь с этими звонкими ударами оу йес, и тогда мужчины на удивление чистыми голосами подхватили песню вторым рядом, повторяя за женщинами слова, и женщины этому как будто обрадовались. Когда песню закончили, мужчины подняли бубны вверх и, торжествуя конец песни, загремели ими. Публика культурно, как в филармонии, захлопала. Вера, умевшая петь, одобрила: «Молодцы!» Старший брат снова что-то заговорил и тут уже показал бумажку, на которой были голуби и женщина в накидке. Он поднял картинку и многозначительно замолчал. Тамара снова крикнула Йес! И снова засмеялся американский мужчина, а второй хлопнул в бубен, и на этот его хлопок засмеялись американские женщины. Женщины стали раздавать такие же бумажки всем, и мы брали скромно, деликатно, Алевтина взяла две («Я для соседки, она не смогла прийти», – пояснила она), Вера поблагодарила: «Вери мач». Мы стали смотреть на бумажки, и тут до Алевтины дошло: «Так это же Христос!» Женщина в накидке действительно при ближайшем рассмотрении оказалась Христом в сиреневом плаще. Американки снова запели, мужчины сразу вступили с ними, и после открытия Алевтины в песне все мы (только Тамара вслушивалась и не могла никак разобрать) расслышали Джизас, Джизас, а кое-кто ещё и Крайст, и Вера даже попыталась подпеть. Потом старший брат назвал всех по именам. Джеф – повторил как будто специально для забывчивой Евдокии и ткнул в себя пальцем. Марк – младший брат, и мы узнали это имя по сериалу, и сделалось приятно. «Совсем не похож», – удивилась Тамара. Сьюзен, Роуз. «Это как Роза по-нашему», – пояснила Вера, и все посмотрели на Розу Гавриловну, она смущалась. Дайайая что-то, мы не поняли, но Тамара сообразила: Диана. Джеф показал фотографии, где девушка в белой одежде стоит в воде, а рядом мужчина придерживает её, словно она может упасть. Потом они снова запели, и так пели до розовых сумерек, мы уже легко узнавали американского Иисуса – Джизаса и хлопали вместе с бубнами. На прощание Джеф всем, кто не испугался, жал руку. Тамара показала ему, что у него на лице сидит комар, и он ответил ей: «Пасиба ольшое». По пути домой Вера сказала: «У Сьюзен такая цепочка красивая, я обратила внимание».
На неделе выяснилось, что эти американцы – евангелисты.
– Они не православные, – предостерегла Капа и немного обиделась, – и песни у них другие.
– Да вроде про Иисуса Христа, – удивилась Тамара.
– Но они совсем по-другому верят, – настаивала Капа, – вы бы лучше к вечерней службе к отцу Андрею сходили.
Но к вечерней надо было подниматься на высокий четвёртый этаж, а больница на летнем солнце прогревалась, и в церкви было жарко, душно, и Алевтина осталась недовольна: еле выстояла, вышла с мокрой жопой. А вечером, когда свежо, сиди себе на лавочке и слушай про Джизаса, а если помазать ноги меновазином, то и комары не так пристают. Поэтому и на следующей неделе мы пошли на концерт. Джеф снова улыбался, раздавал листовки, и там теперь было на споткнувшемся русском: посещайте на выходных в церковь «Часовня у Голгофе», улица Степана Разина, иди и молись с нами. И нарисован такой голубь, летящий вниз, как у Джефа на значке.
– В Америке я бы ходил в церковь, – прошептал мне Игорь, ему очень нравилась Роуз.
– А Голгофа-то что такое? – спросила Вера.
– Это где Христа распяли, – сказала в недоумении Тамара.
Капе решили не рассказывать. Антонина поехала в эту часовню, привезла оттуда детские цветные книги.
Капе летом было не до нас. Господь вдруг хмуро посмотрел на неё, и она вытянулась в неудобной позе. Сын Капы нашёл на балконе сумку с грязными банками и удивился, откуда это и почему мать не помыла, а прямо грязными поставила на балкон. Да и не мог вспомнить, чтобы они ели голубцы, фаршированные мясом и рисом в томатном соусе, кашу гречневую с тушёнкой, пахло старой кислой грязью. А потом присмотрелся и понял, что сумка эта – бабкина, и что он видел её с этой сумкой на улице и удивился ещё тогда, что она там несёт так много, ведь в магазин она не ходит. И тут всё зашевелилось и сложилось – Капин сын был рад, как от ловкого решения задачи: это бабка принесла с помойки. Он обследовал балкон, уже предчувствуя, как будет по-учительски отчитывать её, нашёл ещё перевязанные журналы, ковшик со сгоревшим дном, разбитый светильник и побежал с удовольствием кричать на бабку. Даже номер дома на журналах, кричал он, не наш. Она понимала, что он чем-то недоволен, но не сразу разбирала слова, а только через время додумывала: что за что-то вно что-то шила. Говно пришила, догадалась Капина мать, а что за говно? Но когда она увидела, что он с балкона несёт её сумку с банками, она вдруг (говно притащила!) поняла, что сейчас он выкинет или разобьёт, и стала у него отнимать, а он злой, сильный, из школы милиции, и когда она схватила руками его сцепленный кулак и стала тянуть, он дёрнул, и её рука отскочила ей же по губе, и совсем вроде несильный удар, но синяк тут же, как пятно краски, растёкся по губе, и она заплакала, обидевшись и сморщив сразу всё лицо. Он забегал по квартире и от ужаса, что всё выглядит так, будто он ударил старуху, начал кричать на неё, что она выжила из ума, совсем уже, и зная, что она плохо слышит, он наклонялся к ней, как будто переводил – крутил пальцем у виска. А когда Капа пришла со службы и увидела синяк, Капе больно было представить, что этот синяк появился на лице, которое она помнит с детства, и мать сидела с мокрыми щеками и умной, смиренной рукой придерживала рот, а сын истошно кричал, что на балконе воняет помойкой и что она старая дура. И Капа развязала внутри узел, чего не делала ни разу за этот год в церкви, и стала сама кричать истерично, с неприятным чувством узнавая в своём крике интонации сына, чтобы он, малолетний пиздюк (плюнула она ядом и получила удовлетворение и сразу же повторила – как гвоздь вколотила) пиздюк не смел тут распускать руки, маленький пиздюк (сверлом сверлила), и она схватила даже ремень по старой привычке воспитывать его, как она делала всю школу, последний раз в начале девятого класса. Но сын дёрнул ремень у неё из рук так, что она поранилась о пряжку, кинул в кухню со всей силы (там что-то зазвенело) и закричал дрожащим от страха голосом: «Ещё бить меня будет!» Капа зажала рану, зарыдала и побежала на кухню, уже планируя повязку, а сын выскочил из квартиры, хлопнул дверью, и всё в Капе дрожало, и седое суровое лицо Бога смотрело внутри Капы, и она уже раскаивалась и начала искать какие-то слова, но пока всё дрожало, слова не находились. Сын вернулся всего через десять минут, решительно открыл дверь, она даже подумала, что он вернулся, как бывало с ним раньше, чтобы продолжить кричать. Но он сказал странным голосом, предназначенным для посторонних:
– Мать, там тебя спрашивают, у Кочетковых трагедия.
Она не поняла, что за трагедия, и он так неумело выговорил это непривычное, у подъезда, наверное, подобранное слово, что она спросила:
– Кто сказал?
Но в прихожей уже звал испуганный голос Тамары:
– Капа!
«Пятёрка», утомлённая речным зноем, с остатками еды, с пляжными одеялами в багажнике, просела на железнодорожном переезде, и фирменный поезд Москва – Пермь ещё километр толкал её, прежде чем остановиться. Отпускные люди, возвращавшиеся в Пермь через Москву, почувствовали толчок и с интересом посмотрели в окно, кто-то расплескал чай. В «пятёрке» не спасся никто, умерли оптом: Михаил, Светка, их дочь Лена с мужем и двумя дочерьми, четыре года и пять месяцев, куколка, погремушки. Ни долгой раковой опухоли, ни инфаркта, ни почечной недостаточности, ни разорвавшихся сосудов – только одна случайная глупая минута, когда поезд неотвратимо ехал на них, и закричали, наверное, дети, хочется зажмуриться. Поезд назывался «Кама», был ярко-голубой, и мы с Мишей не раз махали ему с холма. Из всей семьи осталась только Рита, полноватая, близорукая, с приятным детским лицом, глаза увеличены очками и поэтому всегда удивлены – вторая дочь Михаила и Светки. В квартире было тесно, а станет свободно. И от того, что теперь Рите одной плакать по шестерым, что придётся пересчитывать гробы, заказывать сразу шесть крестов на кладбище – от этой арифметики всем делалось страшно.
Наш двор стонал в голос. Мы видали смерть, но такого не ожидали. В Перми встречали родных из Геленджика: загар, корабль в бутылочке, пляжные фотографии. И прислушивались к ракушкам, и волны шумели в их живых, счастливых ушах. Всё-таки, Господи, раз уж ты еси на небеси, скажи нам, в чём Твой план? Ведь всего пять месяцев, Господи! И кричали, наверное, от страха, нет, нет, невозможно. Евдокии (соседка по этажу, сидела несколько раз с детьми) хотелось молиться, но молитва казалась неискренней, не помилует нас, как ни проси. И Твоё ли это царствие, Господи? И на всё ли воля Твоя? И святится ли имя Твоё после такого, Господи? Нашу новую нежную веру расчертили рельсами и шпалами, и даже Капа ходила с пристыженным лицом, особенно когда Рита закричала на неё: «Не пойду я ни в какую церковь, тётя Капа!» Отец Андрей сказал: «Хорошо, что успели покрестить девочку». Капа согласилась, но не могла потом понять, почему это хорошо, кому это хорошо, и даже представляла, как мать могла бы в последнюю секунду выкинуть девочку из окна, а не прижимать к себе, и даже подстилала под маленькую эту Иринку мягкую густую траву, в которой она лежала бы, ждала бы, когда её подберут, и Бог бы улыбался с неба тому, что спас невинную жизнь. Но он не спас, а прибрал.
Накануне похорон шесть гробов разного размера подняли в квартиру. Таков был обычай: покойник ночь проводил дома, а утром уезжал навсегда. Только один, Светкин, гроб раскрытый: её как-то выбросило, синяки, опухшие губы, но показать можно. А пять заколоченных: внутри – синева, кое-как, ненадёжно (а зачем надёжно?) выпрямленные переломы, на крышках – фотографии, чтобы не спутать. Светку поставили на раздвинутый обеденный стол, детские разместили на журнальном столике и на телевизионной тумбе, а Лену с мужем положили в той же комнате на разобранный диван. Не поместился только Михаил, его оставили в коридоре на трёх табуретках. Рита испугалась ночевать, ушла к школьной подруге, и там вся семья сидела вокруг Риты тихая, без аппетита.
А Капа вызвалась ночью читать молитвы у гробов.
Капа однажды покупала у Светки малину и сразу узнала мебель в коридоре, зеркало на стене. Она разулась, чтобы не натоптать Светке, смутилась от этой мысли, заметила изобилие тапочек, но побыстрее отвела глаза. Капа дотронулась до Михаила и прошла к другим гробам. Ей показалось, что открытая Светка представляет всех и что с ней и нужно говорить. За окном смеркалось нестрашными летними сумерками, Капа включила маленький ночник, зажгла свечу и села рядом со Светкой. Капа читала молитву по книжке, которую купила у себя в церкви. Поначалу ей было страшно смотреть на ударившееся Светкино лицо, но она быстро привыкла и смотрела на Светку без предвзятости и страха, а с пониманием: теперь Светка такая. Капу смущало, что она, кажется, не нравилась Светке. Капа пришла тогда за малиной и дружелюбно, многословно заговорила со Светкой, даже начала вспоминать, как ела малину в детстве со сметаной, но Светка не отвечала, а молча, сурово отсыпала ей в банку ягоды, и Капа осеклась, остановилась, и уже просто улыбалась без слов, поняв, что Света не поверила ей. Потом Света попрощалась без дружбы в голосе, и Капа даже, спускаясь по лестнице, подумала, что вот какие невоспитанные люди – не могут поддержать разговор. А теперь она читает над Светкой молитву. Капа чувствовала вину, что она сидит такая живая перед страшно умершей Светкой и её заколоченной семьёй. От напряжения у Капы заныла шея, запершило в горле, и когда свечка догорела, она подумала, что вполне, наверное, допускается сделать перерыв и выпить чая, Бог вряд ли против. Капа встала и увидела в серванте фотографию, прислонённую к фарфоровой пирамиде из блюдец и чашек: Светка, увалень Михаил, две девочки-погодки, море, что ли, у них там сзади. Капа подошла, и правда: на фотографии подпись Феодосия 79-й год. Мёртвые люди на фотографии показались ей грустными и умными, а Ритка, напротив, легкомысленно смотрела через очки. Капа вышла в коридор, снова ободряюще дотронулась до Михаила, как будто Михаил сидел в очереди и Капа хотела сказать ему, что ещё чуть-чуть осталось подождать. На улице стемнело, коридор спрятался, и Капа пошла на кухню, угадывая направление по планировке Веры, которая жила в такой же квартире, но на первом этаже, и долго искала выключатель в темноте. Он оказался не наверху, как у всех, а почему-то ниже, на уровне пояса. Наверное, догадалась Капа, потому что так легче было включать детям. И когда Капа поняла, что это Михаил, который сейчас лежал на табуретках в коридоре, сделал выключатель пониже, чтобы девочки могли доставать, она как раз открыла шкафчик над раковиной в поисках чашки и увидела там маленькую детскую кружку, лиса и журавль, намекающую на пальчики, какие были у её сына в детстве, и она вдруг заплакала и заохала, и охала и плакала громко, в чужой кухне, хоть ей и стыдно было, что она так громко плачет не у себя дома, и казалось, что кто-то слышит её и сейчас войдёт и пристыдит, что плачет она громко, и не только по мёртвым детям, по Михаилу, но и, как догадывался этот кто-то, по себе, по своей матери, по ушедшему детству и по какой-то ещё мелочи, которую Капа не могла даже назвать. И она плакала, плакала и говорила ой, ой, и в голове у неё кружилось, и она, плача, налила воду в размазанный чайник, зажгла мокрый газ и стала искать чай в чужих Светкиных шкафах. Уж прости, Света, проносилось у неё в голове, прости, Света, и она нашла чай и заварила. И пока пила, успокоилась. Из-за слёз Капа как будто сблизилась со Светой и теперь имела больше прав сидеть у Светы и читать по ней молитву. И когда она вернулась в комнату, сказала: «Вот так, Светочка…» И нежно села на табуретку. Капа открыла жёлтостраничную книжицу, похожую на учебное пособие. Старый, вязкий, обнимающий шрифт жучками-паучками расползался по странице и что-то обещал. И Капе легко и уютно сделалось от этой страницы, и она прочла:
– Безначальная Троице Святая, Боже Отче и Сыне и Душе Святый, в лице святых причти душу преставленнаго раба Твоего и огня вечнаго избави…
Утро было ясным и уже жарким. Похороны начались рано, пришло много людей. Бабушка не спустилась, болела нога, и не хотелось видеть, как плачут. Я смотрел из окна подъезда. Отпевать позвали не отца Андрея, а кого-то из города, священник у гробов волновался складками рясы, но его толстое бородатое лицо сурово одобряло Бога. Рита в чёрной косынке обиженно плакала, прикладывая руку к груди, как будто надеясь на понимание. Катафалки, извинившись, выползли из двора. Всех, кто хотел ехать на кладбище, собрал большой автобус. Я не поехал и поэтому заметил, что двор выдохнул, расслабился, и сначала нерешительно, а потом всё увереннее пошли люди по делам.
День похорон – день наших летних каникул, и мы с Игорем, конечно, не можем этого остановить. В солнечном дырявом лесу мы ступаем осторожно, боимся змей, выходим у сцены. Среда, середина тёплой летней пустоты, и до воскресного Джизаса ещё далеко. В дальнем углу сцены выломаны доски, тут мы спускаемся под сцену. Сначала Игорь, потом я. Под сценой можно двигаться только в согнутом виде, здесь у нас есть старая покрышка, чтобы сидеть, и кусок плёнки. От уединения во мне нагибается ветка, пружинит, может обломиться. Зачем мы залезли сюда, мы точно не знаем, но нам именно сюда хотелось. У Игоря всегда с собой сигареты, которые изображают цель: мы залезли, чтобы курить. Мы курим одну на двоих, я беру фильтр после него и держу осторожными губами. Сигаретный дым прячется в темноте, только в нескольких местах широкие щели между досок ловят его.
– Ну что, – говорит Игорь, – будем сегодня?
– Давай.
Игорь снимает футболку, белая сутулость выкатывается колесом. Он поворачивается спиной и опускается на колени на плёнку. Я сажусь сзади, рассматриваю его позвонки, моё молчание уплотняется и раскачивается между нами. Наконец я решаюсь и пользуюсь голосом незнакомого мальчика без лица, без отца, с сигаретной горечью во рту. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, протягиваю руку, провожу пальцем от шеи вниз и перечёркиваю, ехал поезд запоздалый, огибаю большую мягкую родинку, из последнего вагона вдруг просыпалось зерно, пришли куры, выклевали, пришли гуси, схватили и потянули, потащили нас всех, пришел дворник и подметал, подметал. Я заканчиваю массаж и неискренне хлопаю его по спине: «Письмо шло и пришло!» Игорь говорит: «Хорошо!»
В выходные отец повёз нас на мотоцикле купаться в Нерли. Выезжать семьёй было страшно, и мама подумала, что так вот и останется Денис один, если что, без родителей, бабушки и младшего брата, и, совсем испугавшись, мама утешилась тем, что Денис сможет переехать в Киров к другой бабушке, и мы поехали. Такая хорошая погода, что будем жалеть потом, если не искупаемся. Мама села за отцом и держалась за него, почти обнимая, а мы с бабушкой залезли в коляску. Отец натянул над нами брезентовый тент, чтобы не пекло голову и не дуло. Обогнув город, мы покатились по Суздальской дороге, обгоняя автобусы и некоторые грузовики. Иже еси на небеси, громко читала бабушка на светофоре, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Мотоцикл грохочет, и слышит ли её кто-нибудь, кроме меня?
В августе отыграли свадьбу отца Андрея, Капа сама вышила наволочку, прихожанки тоже дарили всякое – и деньги, и фужеры. Матушка отныне всегда приходила в церковь на службу, высокая, молодая, красилась неярко. Галина Андреевна, правда, видела, как матушка в мини-юбке выгуливала огромную волосатую колли. Это в будний день, уговаривала её Капа, в будний можно, а в Господне воскресение ну разве что стрелочки себе сделает матушка и всё. Но прошло полгода, матушка вернулась раньше времени из колледжа и поймала отца Андрея с любовницей – блондинка, чёрные брови, смазанный красный рот. Галина Андреевна как узнала – хохотала до слёз. Матушку уговаривали все, и даже мать матушки просила успокоиться: всё-таки отец Андрей крепко стоит на ногах, а время безденежное. Но матушка была непреклонна: подала на развод, написала церковному начальству, и отец Андрей лишился прихода и, кажется, сана. Из города прислали нового священника – отца Дмитрия, старого, седого, пьющего, путающего имена прислужниц. Многим он не понравился, приход пустел. Регулярно приходили только больные из отделений, пахли перевязкой. Капа по-прежнему держалась церкви, но новый священник не различал её, а просто давал задания, неласково называя голубушка, чем напоминал Капе её бывшую начальницу в бухгалтерии.
Бабушка в церковь в больнице больше не ходила: очень высоко, девяносто две ступеньки. Колено болело без изменений, иногда обманывая надеждой: вот так ногу положишь, и вроде меньше болит, а встанешь – и снова. Молитва, как и настойка из цветов одуванчиков на водке, не помогала, хоть бабушка и продолжала всем этим пользоваться, и Пресвятая Богородица Дева всегда сильно пахла водочкой.
Капина мать приносила вещи с помойки до глубокой осени. Зимой к помойке было не пробраться, и она перестала, но периодически обнаруживались тайники еды, которые она делала в квартире: завёрнутые в платок сушки, котлеты, кусок сыру. В кухне появились тараканы и испуганно разбегались, если включить свет. Сын кричал, свирепо выкидывал всё найденное и однажды выбросил даже Капину подборку «Крестьянки», решил, что это тоже с помойки. Капа ему не перечила неделями, но, если он вдруг обзывался, а мать, расслышав, начинала плакать, Капа чувствовала внезапную яркую злобу и тоже кричала, чтобы он (после паузы) гадёныш (так она договорилась с Богом заменять мат) закрыл поганый рот свой и не смел орать на старого человека, за ремень она больше не хваталась.
После того как Капа просидела всю ночь с шестью гробами, её стали звать к покойникам. Она научилась обмывать и правильно готовить человека, когда-то жившего и отдыхавшего в Феодосии, к гробу. За одну зиму Капа обмыла Лизу из двухэтажного дома, мужа бывшей коллеги, который ни разу не поздоровался с Капой, когда приходил к жене на работу, онкобольную Катю, которая ещё в церкви рассказала Капе, во что её одеть и где она это хранит, соседку Веры по даче – старуху с сиреневыми волосами, которую Капа иногда видела на рынке, но не знала даже имени, и вот выяснила – новоприставившаяся Софья. И даже Галину Андреевну, когда она упала от инсульта в ванной и там же (нашли вечером) умерла. Хоть Галина Андреевна и предупреждала сына, но невестка запаниковала и решила на всякий случай попросить Капу читать молитвы и даже священника наняла для отпевания. Все во дворе знали, что Галина Андреевна не верила и не хотела бы этого, и поэтому она всем показалась недовольной в гробу. Платили Капе щедро, благодарили, но и сторонились: Капа теперь вместе со смертью приходила и была в глазах людей как-то с ней связана, белое лицо Капы перестало светиться и напоминало о трауре: чёрное на бледном фоне. Евдокия так пошутила накануне своего юбилея (семьдесят пять лет): «Капу звать не буду. Помру – пусть тогда приходит». И Капа со временем пришла.
По талой тропинке больничного двора идёт грешник – я. Над больницей, над небом – Бог. Но я от стыда не поднимаю головы, мы слишком хорошо друг друга знаем. Я молюсь о прощении за мой грех, невольно вспоминается поцелуй, рука, стена подъезда, но я брезгливо морщусь, отгоняя сюжет. Когда Бог наказывает, родители ругаются за стеной и нечем дышать под одеялом. Святый боже, святый бессмертный, святый крепкий, ну! Но на третьем этаже я теряю надежду, различаю голоса, они уже кричат, и внутри всё делается холодным и ломким, и завтра первым уроком алгебра, никто не помилует меня. У соседей громко работает телевизор, я завидую им. Я решаю подняться ещё на пролёт и посидеть на подоконнике. Над гаражами в свете фонарей мучается снег. Дальше – конец, всё отрезано стеной чёрного леса, пахнет изгнанной из чьей-то квартиры геранью. Я сижу, жду паузы в криках и, когда она наступает, вхожу домой. Плотный воздух скандала, свет в каждой комнате и на кухне, видно, что здесь недавно бегали и хлопали дверьми, опрокинута табуретка. Сегодня мы с Богом больше не разговариваем.
Наничку
I
Ну пусть полдень.
Из высоких Евдокииных окон первого этажа тянется песня. Евдокия глуховата, поэтому на улице всегда слышно, что она смотрит по телевизору. И вот сейчас – сериал «Никто, кроме тебя», песня на языке, которого мы не понимаем и даже не знаем, что это за язык (мексиканский?), но по первым нотам узнаём. Дон корасон авентурьеро. Что это значит – не ясно, но очень, очень красиво. Потом в газете «Антенна» написали, что корасон – это сердце по-испански: дон сердце – лжец, дон сердце – авантюрист. Мне казалось, что эти русские слова не очень-то и подходят, там должно быть что-то другое, не про сердце.
Сонный дневной повтор сериала смотрит только Евдокия, потому что вчера задремала, а мы сидим в тени, на лавочке, выглядываем из ситца (косыночка, кепочка, сарафан) и пытаемся разгадать замысел: как же так? почему так колет сердце? чего добивается этот Ельцин? что ещё за ваучер? когда будет пенсия? Мы знаем, что в заставке сериала солнечно, красивая, увесисто-макияжная девушка Ракел идёт по берегу моря (бабушка сразу вспоминала Азовское, но у Азовского волны маленькие, игрушечные, а здесь – огромные, намного сильнее человека), и садится на скалу, и смотрит в морскую чёрно-белую, а поэтому едва различимую даль. Но если купить цветной телевизор, то даль вдруг делалась яркой, синей, незабываемой, дон корасон, маэстро дйамор.
Громкая Васина машина («ауди» с заплатками) ворует звук телевизора и возвращает, когда неприятный гнусавый голос уже пересказывает краткое содержание предыдущих серий: Антонио Ламбардо получает огромное наследство и попадает в аварию, виновник аварии – его брат Максимильян, Антонио спасается и вплавь добирается до необитаемого острова, но тут в него стреляют, и Маура, его бывшая любовница уоу-уоу-уоу-о.
Всё это произвело для нас мексиканское телевидение и повесило где-то наверху, в районе рая: белый дом с колоннами, брючный женский костюмчик с голой спиной, клипсы золотым венком, томная, шубкой приправленная походка – какая, господи, роскошь. Но и бедность была неузнаваемой – многокомнатная, с отдельной, без спальных мест, столовой, в центре которой свободный, не прижавшийся к стене стол. Особенно поражал бабушку сифон, советская редкость, запросто стоявшая на бедном мексиканском столе. Сифон бытовой, предназначенный для газирования (детское ха-ха-ха!) воды – коробка из-под сифона осталась в саду (помнишь?), в ней сейчас детки чеснока (жалко тыкать в землю), а сифона и не было никогда, это от тёти Лары коробка попала к нам (оберегала бутылку бальзама в дороге).
– Почему Антонио всё время ходит в библиотеку? Он же не учится, а всё в библиотеку, – спрашивает Алевтина, третий подъезд, второй этаж.
– Так это комната такая, – отвечает Лидиякольна, первый подъезд, первый второсортный этаж, угловая трёшка.
– Комната?
– Ну с книгами, отдельная.
– Аааа.
– Он там, наверное, на диване сидит, читает да сигару курит.
– Аааа, – выдыхала, как будто зевая, Алевтина, – точно, точно, я поняла.
И грустно было смотреть на гаражи.
– Сколько же в ней метров, интересно?
Больше пятнадцати никто не мог вообразить: хрущёвский район, серия 1-527, кухня шесть метров, но есть кладовка, очень удобно. Книги у Алевтины – над диваном на двух полках ступеньками (осторожно-голову-береги): Жюль Верн, Майн Рид, «Вокруг света на „Коршуне“» – стоят иронично, как будто Алевтина мечтает о путешествиях (но это сына, а она даже не открывала), потом красный песенник, не сразу дающийся языку случайный Брет Гарт (дали за макулатуру), дальше загорожено фотографией внука Илюши, и с краю, чтобы не двигать стекло, – «Рецепты народной медицины» с торчащими закладками: давление, запор, геморрой, варикоз.
II
И вот цветной телевизор. От него не уйти, он – «Горизонт», обступает со всех сторон и обозначает предел. Вот туда бы, туда бы, там так красиво розовеет. Были ещё два – «Рекорд» и «Рубин», высокий и драгоценный, тоже недостижимые.
Тамара (появляется) – невысокая раздражённая сердечница, волосами завязанная на злой узел. Что-то вроде горькой луковицы. Тамара очень хотела цветной телевизор. У неё стоял чёрно-белый, на тонких ножках, с нависающей чёлкой-салфеткой, ещё мама когда-то помогала купить. Оттуда чёрно-белые демоны рассказывали Тамаре про приватизацию, про ваучеры, про доллар, и она кричала на них: «Козлы! Козлы! Такую страну просрали!» И давно уже хотелось цветной. Зимой, в темноте, которая, извините, с четырёх дня уже, и по серому предсмертному снегу Фая из соседнего дома ведёт свою потускневшую колли – вот тогда бы включить «Горизонт», и пусть разноцветно тлеет концертом: «Льдинка, льдинка, скоро май!»
Тамара всегда получала мало, работала птичницей в институте защиты животных, легко провожала кур на смерть. И после пятидесяти пяти планировала работать и откладывать пенсию – на телевизор. Но как только достигла возраста, только одну ногу занесла, её тут же, как топором, сократили – по достижении. И ещё раскричались в отделе кадров: посмотрите, что делается, молодым работать негде! И так Тамара, раненная, оказалась на лавке у подъезда. Она сильно переживала, усилились рези в сердце, но на лавке сидела как-то цепко, и было видно, что, во-первых, так просто её отсюда не сгонишь, а во-вторых, она будет мстить.
– Козлы! – кричала Тамара. – Козлы!
И Тамара мстила. В основном летом и ранней осенью. Она решила воровать (у Ельцина, кажется) всё, что плохо, с краю, росло: горох, кукурузу, свёклу, картошку с колхозных полей, иногда забиралась в колхозные сады за мелкими сливами, кислыми яблоками, вяжущими грушами, возле школы милиции черноплодная рябина, возле аптеки шиповник, и Тамара прогуливалась туда вечером, когда око уже дремлет, приходила домой с пузатыми карманами.
Тамару на лавочке недолюбливали: резкая, злая, назидательная. Зачем ты так солишь, делать тебе нечего! Кто же так квасит капусту! Да кто так яблоки сушит! Вот старый дурак! Вон пошла проститутка! Да ну, ещё я буду портить глаза твоими «Поющими в терновнике»! Или просто посмотрит без слов, одним восклицательным знаком – как ударит. Но меня Тамара любила. Я как-то шёл к бабушке тёмными гаражами, старухи увидели меня и испугались: что же ты идёшь по такой темноте, ведь там шпана и алкаши! А я говорю: да под фонарями больше шпаны встретишь. «Вот точно! – сказала Тамара. – Не слушай никого, ходи где потемнее!» А в другой раз я назвал Раису Максимовну Горбачёву мандавошкой, поддакивая общей ругани. Я, правда, не знал тогда, что это значит, и слово мандавошка казалось мне хоть и ругательным, но уютным: мандавошечка ты моя, прыгучая, родная мандавошечка. Все притихли, бабушка задумчиво посмотрела на небо, а Тамара хрюкнула от удовольствия – и с тех пор считала меня за своего.
– Да эта Раиса – старая проститутка! – подтвердила Тамара.
Бабушка дома указала мне пальцем на свой подол (разноцветные маргаритки): вот где живут эти вши. Я недоумевал: где? где? «Ты знаешь, что такое манда?» – тихо, но решительно спросила бабушка. И снова показала на разноцветные маргаритки. Со временем я понял.
На воровство Тамара сколачивала банду. Ей, кажется, нравилось, что мы вот так все вместе идём, мировой пожар в крови, и покажем им чёрта на куличиках, господи, благослови. Обычно в банду входил Тамарин улыбчивый муж Слава, две-три старухи из соседних подъездов, сумасшедший Артём. А вот теперь и меня позвала.
– Пойдёшь с нами за горохом, Юрочка?
Тра-та-та! Вышли на следующий день после утренних сериалов.
До горохового поля нужно было идти через три леса. Первый – придомный лес, весь расчерчен и размечен. По бокам – гаражи, возле дороги – канавы с водой, две перекладины для чистки ковров приколочены к деревьям. Лес глухо и хозяйственно хлопал выбивалкой, особенно в выходные, особенно перед праздниками, а мы с Игорем свисали с этих перекладин вниз головой, переворачивали мир. Здесь в тряпочке из маминого халата захоронен под весёленькими берёзками мой хомяк Пуфик, которого Артём вы- и закапывал раз в неделю, ему очень нравился ритуал. Он снимал венок из одуванчиков с головы, и получались похороны: от Артёма – Пуфику, вечная память. Артём всё время переносил могилу на более подходящее место: холмик, под ёлками, в орешнике, «простимся с рабом божьим Пуфиком, господу помооооо» – басом гудел он, а я требовал вернуть хомяка и однажды нашёл в вырытой могиле уж совсем неожиданное… Впрочем, вот второй лес – за гаражами, густой, тропа на косой пробор и только одна лысина – пруд. Но всерьёз этот лес мы тоже не воспринимали: несколько наших насиженных шалашей, землянка, тарзанка над оврагом (хорошо лететь ногами вперёд) и всего пятнадцать минут от тропы до инфекционной больницы или до новых огромных небоскребущих девятиэтажек. А вот третий лес, отчёркнутый заброшенной дорогой, уже ширится без границ. Начинается он загадочной станцией второго подъёма. Где первый подъём? И что это вообще такое – станция подъёма? Ну вода там! – отвечала Тамара. Ааа, вода! Чувствовалась в этом какая-то торжественность. Станцию охраняли собаки, которые, заслышав нас, лаяли. Из-за них было немного страшно.
В третьем лесу узкая нерасчёсанная тропа, и мы, шестеро, идём строго друг за другом: зачинщица Тамара, тра-та-та, добрый Слава, гипертоническая Евдокия, пережившая рак почки Лидиякольна (из-под ситцевого платьица торчат тренировочные), сумасшедший Артём, начинающий вор я. Евдокия не рассчитала и выпила лекарство от давления, а оно мочегонное, и мы останавливаемся время от времени. «Весь лес зассышь!» – кричит Тамара. Все смеются, пока Евдокия стесняется там в листиках, а когда она вылезает, пристыженная, обратно, мы идём дальше. Идём минут сорок, начинаем уставать, но вдруг лес выдыхает полем – всё оказалось не всерьёз.
Поле – репетиционное, не гороховое, с какой-то травой по колено. Мы переходим его, рассекая траву, словно позируем для открытки: Артём побежал вперёд – киль, надрезающий море, следом женщины в косынках, особенно высоко повязана у Евдокии, у Славы – рюкзак за плечами, седая голова, я в беленькой кепке с пластиковым козырьком.
И наконец – горох. Большой квадрат горохового поля, три стороны – лес, а последняя, незакрытая, с горизонтом – дачный овраг, речка, печка, огурчики, бутончики, яблочки, чк, чн, делается уютно и спокойно, как будто с мягким знаком.
Мы начинаем собирать горох, шесть вороватых спин. В основном нам нет ещё и семидесяти, а если есть (Лидиякольна), то только немного торчит краешек, у нас есть силы, и мы хотим побольше собрать, закатать в банки, на крышку приклеить пластырь и надписать ручкой 1992 год, заставить долину под кроватью. И потом зимой (если доживём, конечно – это приставлено ко всему, на небе написано, и страшнее всего – Лидиякольне, она смотрела куда нельзя), и вот зимой, встав на колени перед пролетевшим летом, доверительно заглянем под свисающее покрывало, вдохнём пыль и будем двигать пыльные тайные банки, доставать и удивляться: ох, это вот оно что. А у Тамары – кладовка. Всё раздражённо выкинула и освободила для заготовок, Слава сделал полки, провёл свет. Включишь – и всё видно: варенье из яблок, светленькое, весёленькое, тёмный, загадочный компот из черноплодки, сложные тесные грибы (чесночок, листочки) в трёхлитровой банке, упорядоченный, геометрически верный горошек. А выключишь свет и – всё гаснет, ждёт в покое.
Печёт спину, мы переговариваемся, перекидываемся рецептами, пастеризуете ли банки, класть ли перец, сколько соли, Евдокия сама раньше не консервировала горох. Мы слышим отдалённое тарахтение, оно запуталось среди ветра, птиц, далёкой дороги за деревней, но вот выпуталось, окрепло, и Тамара всё поняла:
– Патруль!
Все разогнулись, глаза испуганные.
– Где?!
– Батюшки!
– Господи!
– Где?
– Не слышишь, что ли?
– Что?
– Да мотоцикл едет.
Что-то хрустнуло, и как будто порвали верёвку – все грузно побежали в лес. Минуточку, сейчас и я побегу, но пока посмотрю на крупный пожилой бег, пригнули спины, чтобы уменьшиться в размерах, ох-ох, вступило, зажало, дёрнулось за ребром – всё это быстро, страшно, весело. И красиво мелькает ситцевый подол Лидиякольны. Артём (белая футболка) уже вскрыл рощицу, и в эту щель мы пролезли.
Тамара командует спуститься в овражек и там сесть, и мы осторожно пристраиваемся. Евдокии бы помочиться, но Тамара приказывает сидеть, пока мотоцикл не отъедет. «А то повяжут тебя прямо без трусов!» Мы все трясёмся от смеха, а Евдокия смеётся испуганно, удержаться бы. Мотоцикл рычит совсем рядом, потом удаляется, вероятно, поворачивает, уходит за поле, уже не так страшно, оставляет тоненький след, пузыри на воде, и пропадает, деревья, птицы, ветерок. Тамара боится хитрости сторожа и отправляет Артёма (палочкой тыкает в капкан) посмотреть, уехал ли мотоцикл. Артём возвращается радостный: уехал! Мы выходим из леса и воруем с дополнительным азартом: мы не просто воры, но и ловкачи. Получайте! Вот вам!
Обратно идём увесисто (пять кило, не меньше), и как будто сложилась жизнь. Выясняется, что у всех есть планы на вечер, и все даже торопятся домой: к телевизору, к внукам, и варенье ещё доваривать, знаете какое (рецепт).
А вечером, часов в девять, можно увидеть Тамару на лавке, смягчённую закатом и халатом. Она выхватила у жизни гороху, прожила удачный день и теперь смотрит по сторонам, пахнет жареными семечками.
– Козлы!
III
Вот так волновались и радовались, а всё оказалось только прологом. Дальше так.
Тамара знала все грибные места в округе и как будто владела ими. Находила всюду: под еловыми ветками, в травке за берёзовой рощицей, среди надменных, церковных сосен, на пне, за пнём, в канавке, на пригорке. Но никому ни разу не выдала ни одной грибницы. Тамара никого, кроме Славы, не брала с собой, а если случайно встретить Тамару в лесу и спросить, где это она набрала такие красивые красноголовики, она разозлится и скажет, что здесь никаких грибов нет, а нужно идти в сторону Спасского, потом повернуть на север, и через два километра, за старой березой, снова повернуть и вот оттуда уже прямо идти на хуй (гром и молния). Зато около дома охотно показывала соседкам: «Смотрите, какие у меня белые, смотрите, какие подберёзовики!» Все охали, а она золотыми зубами улыбалась. Потом наступали опята, и Тамара со Славой приходили с огромными корзинами наперевес. Груздей почти не было в наших лесах, и Тамара собирала валуи, которые многие считали несъедобными, а Тамара собирала и отмачивала (валуи плавали в тазу обиженные), чтобы засолить их в высокие банки под пластиковую крышку.
В девяносто втором году случилось на редкость черничное лето. Говорили, что черники в лесах – ну это просто неприлично сколько, чёрные от ягод поляны. Люди несли вёдрами, протирали с сахаром, варили, некоторые даже замораживали – это если был отдельно дрожащий морозильник на кухне. Черника бушевала уже недели две, а Тамара никак не могла до неё добраться. За черникой нужно было идти в другую сторону – за Московское шоссе, спуститься с холма мимо городских садов, перейти железную дорогу, и вот там, в болотистом лесу – черника. Тамара того леса не знала и даже побаивалась из-за болота, но и чернику Тамара хотела, поэтому стала искать кого-нибудь, кто согласится отвести её.
И нашла. За шоссе в двухэтажном доме старой постройки жила тихая пенсионерка-садовод Тоня. Мы часто встречали Тоню, поднимавшуюся из сада, всегда уравновешенную двумя тяжёлыми сумками, она здоровалась, превозмогая одышку. Тониного мужа Колю давно парализовало, перекосило, отняло правую сторону и не вернуло: язык не произносил слов, как умел раньше, на лице схватилось свирепое смятое выражение, и рука, и нога – отказывались. Но Коля был молоденький совсем – ну шестьдесят пять лет, энергия в нём осталась, и Тоня подвязывала ему правую руку косынкой, выдавала палку, клала на голову кепку и выпускала на улицу. Коля куда-то ковылял, гремел собранными бутылками, как-то крутился в нашей общей воронке. Тонин сад был прямо у железной дороги, три сотки, ухоженный, унавоженный, солнечные грядки, синенький дом-фургончик, у домика две яблони и недавно посаженная слива-ребёнок, яркое пятно сиреневых флоксов у бочки. Тоня сгибалась над грядками, выставляла васильковый зад (старое платье доживало в саду), поезда проезжали мимо неё, и, может быть, кто-то даже запомнил васильковую Тонину задницу в огороде. А прямо за железной дорогой стоял большой лес, перед которым Тонин сад – ну брошечка. По краям лес разлинован соснами, а дальше – намешано. Тоня знала этот лес, собирала там маслята. Поэтому Тамара предложила Тоне сходить за черникой вместе. Тоня согласилась.
– Юрочка, пойдёшь? – спросила Тамара. – Мать отпустит?
Конечно, отпустит, конечно, пойду.
– Но вставать придётся рано! – предупредила Тамара. – Нужно успеть до жары, так что будь готов в полшестого.
Лёг пораньше, когда летняя ночь ещё не наступила, а только припугнула и красиво висела с жёлтыми разливами, остро кричали стрижи за окном. Будущий день уже постукивал у меня в голове, и я долго не мог уснуть. Но проснулся быстро и легко. А небо – как не ложилось, снова посветлевшее, разбавленное. Мама дала мне фляжку воды с вареньем, бутерброды с сыром и какие-то пусть будут печенья. Я надел курточку от спецодежды, которую мама принесла с работы, плотные брюки, резиновые сапоги (на них особенно настаивала Тоня), бейсболку USA California (новенькая, на затылке сеточка), взял эмалированный, орфографически неловкий бидон (скрипучая ручка, отколовшаяся краска, кто-то давно ударил и забыл, а бидон не оправился) и спустился к Тамаре на второй этаж. Звонок у Тамары с упругой жёлтой кнопкой, я недавно начал до них дотягиваться и поэтому нажал с удовольствием. За дверью резкий звон, энергичные шаги, Тамара открывает: пахнет зубной пастой, лицо пока ночное, не вступившее в силу, ясно, что ещё не собралась.
– Юрочка, вот посиди тут.
Я сел в коридоре на табуретку. Я проснулся вовремя, собрался, на мне бейсболка, и мне очень приятно и спокойно подглядывать за утренней Тамариной жизнью. Слава выходит из комнаты – как по учебнику: по-доброму выбрит, майка белая, синие тренировочные штаны. На кухне открыто окно, и там деревья, которые я знаю только с земли. На столе – вазочка с вареньем, сахарница, чашки, хлеб, набросок завтрака. И вот Тамара готова, тоже в спецовке (Слава принёс с работы), с рюкзаком за спиной, надевает резиновые сапоги. Мы со Славой молчим и смотрим на её ноги. Ну, с богом (Тамара берёт большую корзину), пошли, Юрочка. С богом, подтвердил Слава и закрыл за нами дверь. И мы с Тамарой ножками по ступенькам раз, раз, бидон скрип-скрип, вышли на улицу.
Летом всё самое красивое, новое, прохладное начинается как раз в районе шести утра, когда можно любое место застать врасплох, а оно – голубенькое, незлое. Мы свернули за дом и шли как будто к почте, а потом как будто в школу, а потом будто вдруг передумали и – на рынок, а потом бог с ним, пойдём в старое кафе, и в итоге (скрип-скрип) дошли до светофора и встали перед Московским шоссе. Мимо осторожно проезжали редкие, невыспавшиеся машины, и огромные изначальные грузовики сотрясали землю, везли далёкий, уставший в пути груз: куда они так рано? где Москва, направо или налево? Впрочем, всё равно. Перешли дорогу, завернули за клуб и там – Тонин двухэтажный дом. Мы открываем подъездную дверь, в темноте виднеется ненадёжный скелет деревянной лестницы, а нам навстречу – Тоня. Оказывается, она ждала нас у окна и вот спустилась, белокосыночная, в спецовке (унесла с работы, когда вышла на пенсию), улыбается.
Мы идём втроём: взрослая библиотека, дом моей учительницы, потом будто к нашим садам, и вот уже видна водонапорная вышка, красненькая, уверенная в себе, не знает, что её в конце концов снесут, и теперь бы вниз к садам – но мы сворачиваем. И всё сразу же преломилось и подсветилось новым: тут я ещё ни разу не ходил. А оказалось, что там разное есть: сперва немного смотрящих друг на друга сарайчиков, перед которыми раскидано сено, мелкие какашки, за дверями притаилась запертая животная жизнь (куриная? козья?), и кто-то там сейчас смотрит блестящим глазом, услышав наши шаги, хлопает крылом, но мы не останавливаемся. После сараев – лабиринт гаражей: прямо, направо, налево, разноцветные, как набор фломастеров, ворота (даже жёлтые есть!). Мы идём направо. Гаражи, помелькав, закончились у леса. Дорога рассыпалась щебёнкой, быстро повела вниз с холма (энергично скрип-скрип-скрип-скрип). Вдалеке вдруг споткнулся какой-то механический звук и стал расти. Я тут же узнал: поезд. Звук креп, обосновывался и наконец громко заколотился по рельсам совсем рядом, за деревьями. А когда щебёнка переменилась на песок и лес закончился, перед нами показалась железная дорога. И всё уже неважно по сравнению с ней. Железная дорога величественно расходится в две стороны, разрезает мир пополам блестящими сильными рельсами. Вдоль неё навытяжку стоят столбы, держат спину. Мы, маленькие, подходим к насыпи и осторожно забираемся, чтобы идти какое-то время по железной дороге. Тоне и Тамаре, кажется, всё равно, лишь бы не споткнуться о шпалы и не упасть (перелом бедра, долгая горячая постель), а я иду ювелирно, перебирая, потому что знаю, что там, где сходятся, обманув нас, рельсы, – новый, лучше старого, Уренгой, нижний огромный стальной Тагил, мягкий, синенький (в цвет вагонов) Пермь, блестящая полноводная Лена – на всех этих поездах я ездил к бабушке в Киров. Какое-то время мы идём по шпалам, пародируем великие поезда. Справа шагают по холму сады, слева лес стоит декорацией: густая зелёная темнота, только иногда берёзовый орнамент или ногастая сосна. Потом Тоня даёт сигнал, и мы уходим с железной дороги. Из леса торчит незаметный кончик тропинки, и, если бы не Тоня, мы никогда не заметили бы её. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на железную дорогу ещё разок, перед разлукой.
– За полчаса, наверное, дойдём до поля, – говорит Тоня.
IV
Тут достаточно длинного тире: шли – и пришли. Но невозможно смириться, ведь, кажется, у нас и нету ничего, кроме этой дороги. Нам нужно перейти лес, потом большое поле, снова войти в лес, и вот там, в объятиях болота – черника.
Лес берёт нас и тут же прячет, никто и не подумал бы, что только что по шпалам шли три небольших человека. С неба через деревья тянется где может неуверенный свет. Внизу тихо, темно и тесно, а если запрокинуть голову, то там берёзы, сосны, осины, освободившись от глупостей орешника, движутся с ветром, шевелят листьями – красивый высокий порядок. И что там внутри, внизу, у пяток – лесу всё равно.
Тамара достала маленькую красную баночку с золотой звездой – бальзам «Звёздочка».
– От комаров, – сказала она.
Запахло бабушкиной профилактикой против гриппа. Тамара нанесла мне несколько мазков на лоб, щёки и подбородок, помазалась сама и дала баночку Тоне. Глаза заслезились.
Мы шли и не разговаривали. Лес помелькал и быстро стал неинтересен. Только, может, арки из орешника над тропой удивляли намеренной формой, как будто кто-то специально сделал их так, сами они не додумались бы. Завтрак, планы на день, заготовки увязались за нами и тянулись, не отпускали. Так что пусть у Тони мешок песка за дверью в спальне, стоит с зимы, и хорошо бы протереть чернику, а не сварить, но тут же появились чёрные пятна фитофторы, главного врага Тониных помидоров, и нужно бы развести золу и обработать, потому что в прошлом году – и прочее, прочее, на каждую грядку мысленно заглянула. А у Тамары пусть грибы сушатся на решётке над плитой, что-то из холодильника мелькает в памяти (сметана?), и как мама снимала пенки с варенья и складывала их в такую мисочку, и варенье пахло, и детский лёгкий дом пах и поднимался повыше над землёй, а Тамара давно не варила варенье, не очень-то и ели они со Славой, но с такой властью станешь что угодно варить и заготавливать, вместо конфет с чаем пить, козлы, просрали, дальше совсем уже что-то неразборчиво, и пусть так. А что же я? А я ничего, звеню серединой летних каникул, может быть, внутри у меня какая-то песенка, которая тем летом вылетала из проезжающих машин, перелезала через забор из соседских садов (радиоприёмник на крылечке), скользила по озеру с того берега и висела над водой, над дорогой и всякой пылью: стэээй виииз мииии. Лес ослабел, стал пропускать деревья и закончился. Тропинка, вывалившись в траву, быстро убежала в поле.