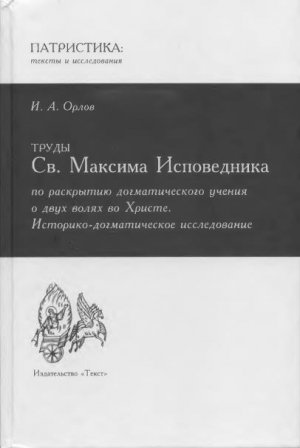
Вместо предисловия
«Ὁ λόγος σαρξ ἐγένετο» [Слово плоть бысть] (Ин. 1:14) — вот обширнейшая тема для христианского богословского умозрения, данная в богословии первого и величайшего в христианском мире богослова Евангелиста Иоанна. Над уяснением и раскрытием этой темы, т. е. над приближением заключающейся в ней величайшей и непостижимой для ума человеческого тайны явления Христа во плоти к пониманию просвещенного светом евангельского учения человеческого разума, много потрудились великие христианские богословы, отцы и учители Церкви первых семи веков христианства. Благодаря трудам великих отцов и учителей Церкви, Церковь Христова in corpore [в своем полном составе], при содействии просвещающей благодати Божией, насколько возможно, раскрыла и изложила учение о лице Богочеловека в вероопределениях первых шести Вселенских соборов. Она раз навсегда заключила его в краткие, но точные и строго определенные формулы (символы), тем самым ограждая христологическое учение от произвольных еретических искажений и вместе с тем давая простор христианскому богословскому умозрению в пределах, указанных в символах. Таким путем христологическое учение о лице Богочеловека постепенно, в течение целых семи веков, и весьма последовательно раскрывалось и уяснялось в сознании христианского общества. После отвержения нечестивого мнения Ария о неединосущии и неравенстве Сына Божия с Богом Отцом и установления неизменного положения об истинности Божественной природы Богочеловека богословствующие умы Церкви обратились к другой стороне лица Богочеловека — к Его человечеству, ставя вопрос об истинности человеческой природы Христа. После отвержения докетического заблуждения о призрачности человеческой природы Христа и после формулирования учения о двух совершенных природах Христа, нераздельно и неслитно соединенных в одном лице Богочеловека, неизбежно и весьма последовательно возникали в христианском сознании вопросы: насколько совершенна человеческая природа Христа по соединении ее с Божественной, и каково отношение двух совершенных природ между собой и к единой ипостаси Богочеловека? Вопросы эти, сами собой естественно возникавшие из вероопределения Халкидонского собора о природном двойстве при личном единстве Богочеловека, в VII веке, благодаря сплетению церковных и государственных интересов и возобновившимся в начале столетия униальным попыткам, сделались предметом оживленной и весьма продолжительной полемики и в силу этого настоятельно требовали точного определения и, по возможности, всестороннего обсуждения со стороны той и другой из спорящих партий. Над разрешением, уяснением и раскрытием этих и соприкасающихся с ними вопросов со стороны православных весьма много — по крайней мере, гораздо больше, чем кто-либо не только в его, но и во все последующее время — потрудился греческий монах св. Максим Исповедник, которого, тем не менее, постигла довольно странная судьба в истории.
Библиографический указатель источников и пособий
Migne. Patrologiae cursus completus. S. Gr.:
Tom. XC, XCI. S. Maximi confessoris opera. Edit. Fr. Combefis. 1865.
Tom. XXVI, XXVIII. Athanasii, archiepiscopi Alexandrini, opera. Edit. monachorum ordinis S. Benedicti. 1857.
Tom. XXXVI. S. Gregorii theologi (Nasianzeni) opera. Ed. monachorum ordinis S. Benedicti. 1858.
Tom. LXXIII, LXXV, LXXVII. S. Cyrilli, Alexandriae archiepiscopi, opera, tom. 6, 8, 10. Ed. Ioannis Auberti. 1859.
Tom. XLVI, XLV, XLVI. S. Gregorii, episc. Nysseni, opera. (Ed. Morell. 1638). 1858.
Tom. XXXIII. S. Cyrilli, archiepiscopi Hierosolymitani, opera. Ed. Toutaei. 1857.
Tom. XCIV. S. Ioannis Damasceni opera. Ed. M. le Quien. 1864. De fide orthodoxa.
Tom. CIII. Photii, C. P. patriarchae, opera; tom. 3. 1860.
S. Dionysii Areopagitae opera. Ed. B. Corderii. Parisiis. M. DC. XLIV.
Mansi. Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio. Tom. X и XI. Florentiae. MDCCLIV и MDCCLXV.
Harduin. Acta conciliorum et epistolae decretales. Tom. III. Parisiis, MDCCXIV.
Anastasii Bibliothecarii Historia ecclesiastica, de vitis Romanorum Pontificum. Parisiis, M. DC. XLIX.
Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Theophanis chronographia. Ex recensione Ioan. Classeni. Volumen I. Bonnae. MDCCCXXXIX.
Pagi. Critica historico-chronologica in Annales Baronii. Tom. II, III. Antverpiae. M. DCCV.
M. le Quien. Oriens christianus. Tom. I, II. Parisiis. M. DCCXC.
I. S. Assemanus. Bibliotheca orientalis Clementino–Vaticana. Tom. II. Romae. MDCCXXI.
Iaffé. Regesta Pontificum Romanorum. Berolini. MDCCCLI.
Muralt. Chronographie Byzantine (de 395 a 1057). St. Pétersbourg. 1855.
Chronique de Jean Evêque de Nikiou. Ed. Zotenberg. Paris. 1873.
Hefele. Conciliengeschichte. Bnd. III. Freiburg im Breisgau. 1858.
Walch. Ketzerhistorie. Band IX. Leipzig. 1780.
Ebrard. Kirchen-und Dogmen-Geschichte. Erster Band. Erlangen. 1865.
Gieseler. Variae de Christi persona opiniones Monophysitarum. Commentationis particulae I et II. Gottingae. 1835,1838.
Braun. Der Begriff «Person» in seiner Anwendung auf die Lehre von der Trinität und Incarnation. Mainz. 1876.
Schwane. Dogmengeschichte der patristischen Zeit. Münster. 1869.
Dorner. Die Lehre von der Person Christi. Theil II. Berlin. 1853.
F. Ch. Baur. Die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes. Zweiter Theil. Tübingen. 1842.
Thomasius. Die Christliche Dogmengeschichte. Band. I. Erlangen. 1874.
Leo Allatius. Graecia orthodoxa. Tom. I. Romae, MDCLII.
Photii Bibliotheca, ex recensione Imman. Bekkeri. Tom. 1. Berolini. 1824.
Fabricius. Bibliotheca Graeca. Ed. Harles, vol. IX. Hamburgi, MDCCXXIX.
Cave. Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria. Volumen I. Oxonii. MDCCXL.
I. M. Schröckh. Christliche Kirchengeschichte. Theil XX. Leipzig. 1794.
Макарий, архиепископ Харьковский. Православно-догматическое Богословие. Том II СПб. 1868.
Филарет, архиепископ Черниговский. Историческое учение об отцах Церкви. Том III. Издание второе. СПб. 1882.
Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Сочинения. Общедоступное издание, том VI. СПб. 1873.
Деяния Вселенских соборов в русском переводе. Том VI. Казань. 1871.
Православный Собеседник за 1857 г. Житие св. Максима Исповедника.
Часть первая, историческая
Глава I.
Жизнь и деятельность св. Максима в связи с историей возникновения и развития монофелитского движения.
Источники, из которых мы черпаем сведения о жизни и деятельности Максима Исповедника, составляют следующие памятники древности, помещенные в начале первого тома его творений: [1]
1) Похвальное слово Максиму Исповеднику, представляющее краткий очерк всей его жизни; [2] оно составлено неизвестным для нас автором по просьбе какого-то Николая, как видно, почитателя творений Максима Исповедника. [3] Хотя автор его в самом начале слова и сознается, что он не в силах предложить полного и подробного очерка жизни Максима, тем не менее, этот памятник весьма ценен для нас, потому что он — единственный в своем роде. В рассуждении об обстоятельствах жизнедеятельности Максима к нему должно относиться с большой осмотрительностью. Во-первых, это далеко не полное, как и сам автор его прямо сознается, жизнеописание: в нем есть, как увидим потом, значительные пробелы, которые приходится восполнять данными, заключающимися в письмах Максима. Во-вторых, к нему примешиваются комментарии Комбефи, по местам не совсем удачные, а по местам и вовсе не согласные с исторической правдой: к ним должно относиться еще с большей осторожностью, чем к самим комментируемым сообщениям.
2) Два документа, довольно подробно изображающие порядок судопроизводства над Максимом и его учениками, двумя Анастасиями, со всеми сопутствовавшими этому судопроизводству обстоятельствами. [4] Автор этих документов, нужно думать, Анастасий — римский апокрисиарий, ученик и соучастник страданий Максима. [5] Документы эти составлены во время происшествия описываемых в них событий, по горячим следам. [6] Автор жизнеописания имел под рукой эти документы. [7]
3) Письмо Анастасия, пресвитера и римского апокрисиария, к Феодосию, пресвитеру Гангрскому, [8] рисующее печальную картину последних дней жизни и смерти Максима.
4) И, наконец, «Памятная запись» («Гипомнестикон») Феодосия, епископа Гангрского, [9] по содержанию сходная с письмом Анастасия. Впрочем, в «Гипомнестиконе» содержится еще краткое описание последних дней жизни и кончины обоих учеников Максима и Мартина, папы Римского.
Кроме того, некоторые отрывочные сведения о жизни и деятельности Максима можно находить в его письмах к разным лицам.
Максим Исповедник родился в 580 году [10] в Константинополе от богатых и знатных родителей, отличавшихся христианским благочестием. [11] Обладая богатыми средствами и высоким положением в государстве, они дали своему сыну блестящее по тому времени образование. Молодой Максим тщательно изучал грамматику, риторику и другие «свободные» (как выражается автор жизнеописания) науки, составлявшие тогда, нужно полагать, курс общеобразовательных наук. [12] С особенным рвением юный Максим занимался философией, думая найти в ней смысл жизни, решение основных вопросов знания о Боге, мире и человеке. [13] Важное значение занятий философией состояло в том, что они возбудили в Максиме жажду знаний и приучили его ум к диалектически строгому и правильному мышлению, что после, в полемике с монофелитами, дало ему сильное оружие для борьбы.
В отношении воспитания в Максиме сильно сказалась предрасположенность к христианскому благочестию. Эта черта нравственного воспитания Максима ярко оттенила весь склад его характера: единственно ценным украшением человеческой жизни, превосходящим всякую человеческую славу, Максим считал скромность, отсутствие гордой самомнительности, сознание своего ничтожества. Эта-то скромность, соединенная с благочестием, и была одной из причин того обстоятельства, что еще в молодых годах Максим предпочел монастырское уединение видному, блестящему положению при дворе. А известно, что знатность рода, необыкновенные дарования [14] и блестящее по тому времени образование Максима обратило на него внимание императора Ираклия, и Максим был сделан первым секретарем императора. При дворе, как и дома, в период своего воспитания, Максим вел самую скромную и строгую жизнь. Шумная придворная жизнь, не отвечавшая складу его ума и характера, с одной стороны, и угрожавшее миру Церкви, все более и более усиливавшееся монофелитство (в форме моноэргизма) — с другой, пришлись не по душе умному и благочестивому Максиму, вследствие чего он покинул двор и поселился в Хрисопольском монастыре, [15] лежавшем на противоположном берегу Константинополя (ныне Скутари) и там принял монашество. [16]
Сведения о жизни Максима в монастыре слишком кратки и отрывочны. Известно только то, что, живя в монастыре, Максим отличался примерной строгостью жизни при стремлении к осуществлению высокого, начертанного им самим идеала монашества, [17] что обращало на него изумленные взоры братии и было причиной того, что по смерти настоятеля он был избран братией в игумена (авва) Хрисопольского монастыря, [18] несмотря на то, что он не имел степени священства, оставаясь, по его собственному признанию, «простым монахом». [19]
Недолго Максим оставался в монастырском уединении. То же самое обстоятельство, которое привело Максима из царского дворца в монастырь, побудило его покинуть стены монастыря: положение дел Церкви заставило его переменить роль монастырского отшельника на роль открытого защитника православия.
Обстоятельства, среди которых началась открытая полемическая деятельность Максима, были таковы.
Осужденное на IV Вселенском соборе монофизитство и после церковного осуждения продолжало довольно прочно держаться даже в VI и VII веках, имея довольно многочисленных приверженцев, особенно в Сирии и Египте. В начале VII века условия церковно–политической жизни византийского государства сложились довольно благоприятным для монофизитства образом, и оно вновь заявило о себе под покровом видоизмененного учения сначала в форме моноэргизма, а потом в форме монофелитизма. Обстоятельством, благоприятствовавшим возрождению монофизитства, послужило стремление к воссоединению отделившихся от союза со Вселенской Церковью армянских монофизитов, [20] сильно сказавшееся, вследствие политических соображений, в царствовавшем тогда византийском императоре Ираклии. Дело в том, что в первые годы царствования Ираклия (с 610 года) персы возобновили начатые под предводительством Фоки походы против Византийской империи: опустошили восточные провинции (Сирию и Палестину), захватили множество пленных, и в числе их иерусалимского патриарха Захарию (в 616), завоевали (в 619) Египет, опустошили Каппадокию, пробрались в Халкидон и угрожали самому Константинополю. Византийский император Ираклий хотел было заключить мир, но персидский шах Хозрой II решительно отверг это предложение. Тогда Ираклий двинулся в поход против персов 4 апреля 622 года. [21] При начале похода, в 622 году, во время пребывания в Армении, имея в виду церковное объединение восточных провинций, император имел случай в Феодосиополе разговаривать с главой тамошних монофизитов, с представителем партии Севера Павлом Одноглазым. В разговоре был затронут вопрос о «действовании» (ἐνεργεία) во Христе. [22] Как условие воссоединения монофизитов с господствующей Церковью, со стороны императора была предложена формула «μία ἐνέργεια» [единое действование], внушенная императору константинопольским патриархом Сергием. Сергию, насколько нам известно, первому пришла в голову мысль воспользоваться для осуществления задуманной в Константинополе унии учением о «μία ἐνέργεια», как соответствующим цели средством. Ему же принадлежит и почин в деле осуществления унии на началах моноэргизма. Из слов Максима, сказанных им в ответ на упрек Пирра в несвоевременном возбуждении Софронием спора относительно действования во Христе, [23] очевидно, что еще до 619 года Сергий имел сношения с Феодором Фаранским и павлианистом Георгием, так называемым Арзой, предлагая в письмах своих к ним учение о μία ἐνέργεια [24] как средство воссоединения монофизитов с православной Церковью; и что со стороны Феодора Фаранского последовало полное согласие на предложение Сергия. Из слов Максима одинаково видно, что подобного рода сношения Сергий имел за время пребывания в Феодосиополе с северианином Павлом Одноглазым, посылая и ему то же послание Мины и ответное на послание Сергия письмо Феодора Фаранского. Когда Сергий был в Феодосиополе и имел там сношения с Павлом, из слов Максима не видно. Известно, что во время пребывания Ираклия в Армении Сергий находился в свите императора; в это время, значит, Сергий и имел сношения с Павлом и тогда же, если не раньше, внушил императору согласительную формулу «μία ἐνέργεια». А император, радея об унии, естественно, предложил ее в разговоре Павлу. [25] То обстоятельство, что в письме к папе Гонорию Сергий совершенно умалчивает о своем, столь деятельном, участии в возбуждении вопроса о μία ἐνέργεια и почин в этом деле приписывает всецело императору, должно быть понимаемо как дело простого благоразумия и хитрой политики Сергия.
С той же целью — достигнуть воссоединения монофизитов — император имел переговоры во время пребывания в Колхиде в 626 году [26] с Киром, епископом Фазиса. Император предлагал Киру формулу «μία ἐνέργεια» и спрашивал мнение последнего о том, одно или два действования (μίαν или δύο ἐνεργείας) должно признавать во Христе? Кир отвечал уклончиво. За советом по этому вопросу император рекомендовал Киру обратиться к Сергию.
Таково было на самом деле начало [27] монофелитского движения.
О переговорах императора с Киром мы узнаем из писем императора и Кира к Сергию и Сергия к Киру. Так, еще из Колхиды император писал в Константинополь Сергию, прося его высказаться относительно формулы «μία ἐνέργεια». [28] Вместе с тем, Сергий получил письмо от Кира, в котором последний спрашивал Сергия, μίαν или δύο ἐνεργείας до́лжно признавать во Христе. В ответном послании к Киру, составленном, должно полагать, до созвания того домашнего собора в 626 году (так называемый «Pseudo-Synodus»), на котором Сергий извещал отцов собора о собеседованиях императора с Павлом и Киром, об обращении императора и Кира к нему, Сергию, о том, что он ответил императору и Киру. [29] Сергий писал, что, хотя никакого определения Вселенских соборов по возбужденному вопросу нельзя найти, так как этот вопрос не подвергался соборному обсуждению, но что некоторые из знаменитых отцов, в особенности св. Кирилл Александрийский [30] учили, что «у Христа, истинного Бога нашего, μία ζωοποιός ἐνέργεια (одно животворящее действование)», между тем как «никто не говорил, что во Христе Боге нашем δύο ἐνέργειαι [два действования]». [31]
В послании Сергия к Киру довольно резко бьет в глаза тенденция — дать перевес учению об одном действовании во Христе. Говоря, что никакого определения Вселенских соборов по возбужденному вопросу нельзя найти, так как этот вопрос не подвергался церковному обсуждению, патриарх Константинопольский или намеренно игнорировал определение Халкидонского собора, которым утверждается учение о двух природах и проистекающих отсюда двух действованиях, или, как монофизитствующий, он молчаливо выключал Халкидонский собор из разряда Вселенских, что менее вероятно, так как в таком случае он рисковал потерять в глазах Кира значение беспристрастного третейского судьи.
Без сомнения, послание Сергия к Киру произвело на последнего самое решительное влияние. По крайней мере, ниоткуда не видно, чтобы по получении ответного послания Сергия Кир колебался или снова обращался к Сергию или к кому другому за разъяснениями по возбужденному вопросу.
Таким образом, формула «μια ἐνέργεια», как условие воссоединения монофизитов с господствующей Церковью была принята Киром. Оставалось начать дело унии. Обстоятельства положения внешних дел Церкви, видимо, благоприятствовали осуществлению задуманного дела. В 630 году умер Георгий, патриарх Александрийский; на его место, в известных видах, [32] был возведен Кир, епископ Фазиса. Три патриаршие кафедры оказались теперь заняты явными сторонниками монофизитских идей и унии: константинопольская — Сергием, антиохийская — Афанасием и александрийская — Киром. Этот последний недолго медлил с выполнением возложенного на него поручения. В 633 году [33] Кир созвал в Александрии собор, на котором были опубликованы «9 согласительных глав», которые должны были лечь в основу унии. Несмотря на такое, видимо благоприятствовавшее успеху начатого дела, положение церковных дел, уния не привилась. Правда, на первых же порах введения унии в Александрии Кир особым восторженным посланием[34] извещал Сергия о том, что в Александрии целые тысячи монофизитов-феодосиан [35]приняли унию. Но подобное сообщение самого Кира совершенно теряет свой кредит ввиду более достоверного сообщения, находимого в Хронике Иоанна Никиуского, которое говорит о том, что монофизиты обзывали Кира «халкидонцем» («Cyrus, patriarche chalcédonien»). [36] Уже одно это обстоятельство красноречивее всяких данных говорит о том, что уния не привилась в Александрии. Не привилась она потому, что в основе ее лежали начала, не удовлетворявшие ни ту, ни другую из объединяемых сторон.
Содержание униатских глав [37] — чисто моноэргистического характера, совершенно противное православному учению. В особенности это должно сказать относительно 7-й главы. В последней, между прочим, читаем: «Один и Тот же Христос и Сын совершает и Богоприличное, и человеку свойственное, по выражению св. Дионисия, одним богомужным действованием» и т. д. (αὐτὸν ἕνα Χριστὸν καὶ Υἱὸν ἑνεργοῦντα τὰ θεωπρεπῆ καὶ ἀνθρώπινα μία θεανδρικῇ ἐνεργείᾳ…). [38] Несколько ниже прибавлялось, что разделение Божественного и человеческого действований только представляется нашему уму. Из целого изложения как этого члена в особенности, так и всех вообще, видно, что Кир настаивает на чисто монофизитском северианском принципе единства (в смысле μίας θεανδρικῇς ἐνεργείας [единого богомужного действования]), в каковом смысле истолковывает и приведенное выражение Дионисия. Отсюда очевидно, что положительное содержание униатских глав, противное учению православных, могло еще удовлетворять монофизитов. Но то обстоятельство, что в них совершенно умалчивалось о Халкидонском соборе и тем самым значение его не отрицалось сполна, совершенно парализовало в глазах истого монофизита значение заманчивого содержания униатских глав.
Таким образом, в себе самой уния не заключала ничего такого, что могло бы привлекать к ней симпатии той или другой из объединяемых ею сторон. А к этому присоединилось еще одно внешнее обстоятельство, которое вконец подорвало и без того малый кредит унии. В то самое время, когда Кир был намерен ввести в Александрии унию, здесь случайно находился ученый палестинский монах Софроний, который с этого времени выступает в качестве первого защитника Вселенского учения о двух действованиях во Христе. Кир предложил Софронию на рассмотрение составленный им «Libellus». [39] Прочитав его, Софроний, по словам Максима, [40] униженно, со слезами горечи и отчаяния, просил, умолял, требовал не обнародовать составленного Киром исповедания. В самом факте протеста со стороны Софрония против обнародования униатских глав, авторизованных Киром, впервые сказалась действительная невозможность унии на таких началах.
Вскоре после только что описанного столкновения Софрония с Киром Софроний является в Константинополь [41] и здесь вступает в переговоры с Сергием. [42] Сергий берет с Софрония слово не возбуждать на будущее время вопроса ни о μία ἐνέργεια ни о δύο ἐνέργειαι. Подобное Сергий писал и Киру.
Сделавшись по смерти Модеста [43] патриархом Иерусалимским в самом конце 633 или в начале 634 года [44] Софроний издает «Окружное послание» [45] и рассылает его из Иерусалима по всем церквам. В этом послании Софроний довольно решительно высказывает и довольно подробно развивает то положение, что во Христе до́лжно исповедовать «два действования», [46] в силу двойства природ неизменно пребывающих в одной ипостаси Слова — положение, как раз противное тому, которое легло в основу унии, а именно, что во Христе до́лжно признавать «одно богомужное действование, в силу личного единства».
Узнав о содержании послания Софрония, [47] Сергий не мог, разумеется, более сомневаться в том, что Софроний — не только плохой союзник в деле унии, но и прямо враг ее, и что открытое противодействие со стороны его может вконец разрушить так удачно — по словам Кира — начатое в Александрии дело унии. Не имея в себе самом достаточно сил для борьбы с Софронием, Сергий обращается с особым посланием к римскому папе Гонорию, [48] спрашивая его мнение по возбужденному спорному вопросу и стараясь склонить его на свою сторону для того, чтобы авторитету новопоставленного иерусалимского епископа Софрония иметь возможность противопоставить великий авторитет римского папы. В своем послании [49] к папе Сергий излагает обстоятельства возникновения спорного вопроса; сообщает свой ответ Киру, прилагая и копию с самого письма; говорит об успехах унии в Александрии, предпринятой Киром; жалуется на противодействие этим успехам со стороны Софрония, намеренно, нужно полагать, унижая последнего через заявление, что, несмотря на просьбу его, Сергия, и других [50] подтвердить свое мнение о двух действованиях во Христе свидетельствами из отцов Церкви, Софроний не в состоянии был сделать этого. Говорит об инструкции, данной им Киру, предписывавшей не говорить ни об одном, ни о двух действованиях во Христе, но внушать исповедовать, согласно учению Вселенских соборов, что «всякое богоприличное и человеку свойственное действование происходит нераздельно от Одного и Того же воплотившегося Бога Слова…, исповедовать так ради того, что выражение „μία ἐνέργεια“, хотя и употребляется некоторыми из св. отцов, странно звучит в ушах некоторых, предполагающих, что оно произносится в смысле уничтожения двух естеств… — да не будет! — равно как соблазняет многих и выражение „δύο ἐνέργειαι“, как не употребляющееся ни у кого из достославных отцов, следовать которому при том же значило бы предпочитать две противные одна другой воли… и вводить, таким образом, двух желающих противного, что нечестиво. Невозможно, чтобы в одном субъекте существовали вместе две противные одна другой воли… Учение отцов ясно внушает, что плоть Господа никогда не совершала своего естественного движение из собственного импульса (μηδέποτε τὴν σάρκα Κυρίου ἐξ οἰκείας ὁρμῆς τὴν φυσικήν κίνησιν ποιήσασθαι), вопреки мановению ипостасно соединенного с ней Слова». [51] Проводится далее параллель между отношением двух природ Христа и отношением, существующим между душой и телом у нас.
Из содержания целого послания нельзя не видеть того, что Сергий довольно искусно, под прикрытием изворотов мысли, развивает в существе дела чисто монофелитский принцип единства воли во Христе. Правда, Сергий прямо не говорит, что во Христе должно признавать «ἕν θέλημα» [одну волю]; но, все равно, он приходит к необходимости признания этого положение за истинное путем отрицательным, когда утверждает невозможность совмещения в лице Богочеловека двух воль, мысля две воли не иначе, как противные одна другой. Т. е., внося термин «θέλημα», Сергий не употребляет только той формулы («ἕν θέλημα»), которая по почину Гонория сделалась обычной на языке монофелитов, не совсем полно выражая собой сущность монофелитского учения. При этом достойно внимания то обстоятельство, что в четырех (последних) довольно сжатых положениях послания Сергия выражена почти сполна сущность монофелитского учения: его основоположение, основной аргумент и монофелитское воззрение на плоть Христа. Последующие представители монофелитизма, как увидим потом при систематическом обзоре учения Максима Исповедника, развивают в существе дела положения, намеченные в послании Сергия. На основании сказанного, послание Сергия должно признать переходной ступенью от моноэргизма к монофелитизму. Поступаясь выражением «μία ἐνέργεια», так как оно все-таки «странно звучит в ушах некоторых», и ни на минуту не допуская выражения «δύο ἐνέργειαι», Сергий переходит от понятия «ἐνέργεια» к понятию «θέλημα» в том расчете, что под формой этого термина легче достигнуть соглашения.
Итак, обращаясь с особым посланием к папе Гонорию, Сергий делает только вид (льстя присущей всем папам претензии — предписывать правила веры Восточной церкви), что он нуждается в решающем мнении папы по спорному вопросу; а на самом деле с достаточной решительностью заявляет свое мнение по quasi недоуменному для него вопросу, предначертывая программу желательного для него ответа со стороны папы, и всякими неправдами старается склонить папу на свою сторону. Так, во-первых, поведение Софрония Сергий старается выставить в довольно невыгодном для последнего свете, жалуясь на то, что Софроний проповедует новшество и вносит в Церковь раздор. Во-вторых, подтасовкой самых выражений (которые мы нарочно подчеркнули в тексте) старается представить состояние спорного вопроса в таком свете, что преобладающее большинство стоит за «μία ἐνέργεια», т. е. на стороне унии, и что принятие выражение «δύο ἐνέργειαι», как вовсе несогласного с учением достославных отцов Церкви, повело бы к расколу. Наконец, в-третьих, переходя от понятия «ἐνέργεια» к понятию «θέλημα», из допущения выражения «δύο ἐνέργειαι» строит совершенно произвольный вывод, а именно, что признание двух воль, непременно противоположных одна другой, повело бы с необходимостью к признанию двух лиц, противодействующих одно другому. Две воли мыслятся Сергием непременно как «противные» одна другой, так как плоть Христа, по нему, не имела собственного естественного движения (хотения). И, следовательно (так должен был умозаключать Сергий), при допущении существования во Христе двух воль плоть Христа пришлось бы мыслить обладающей противоестественной, т. е. греховной волей, которая, разумеется, противодействовала бы Божественной воле Христа, что нечестиво.
Маневр, на который рассчитывал Сергий, обращаясь к Гонорию, вполне удался ему. Гонорий отвечал [52] Сергию как папа. Считая себя компетентным в решении спорного вопроса, Гонорий не захотел идти по следам достославных отцов Церкви и, не справляясь о положении дела в действительности, с решительностью принял сторону Сергия. Отклоняя вопрос о двух действованиях во Христе, как вопрос нераскрытый, Гонорий соглашается с Сергием в том, что лучше исповедовать «Одного действующего в Божественном и человеческом естестве». Далее, стараясь отрешиться, подобно Сергию, от понятия «ἐνέργεια» и заменяя его понятием «θέλημα», Гонорий, увлеченный полемикой Сергия против возможности допущения двух взаимно противоположных воль во Христе, с положительностью утверждает, что во Христе должно исповедовать ἕν θέλημα. Т. е. мысль о единстве воли во Христе, выраженную у Сергия лишь отрицательно, Гонорий облекает в положительную формулу «ἕν θέλημα», и в этом он делает решительный шаг вперед сравнительно с Сергием.
Одновременно с написанием послания Сергию, Гонорий, как третейский судья, написал послания к Софронию и Киру. В обоих этих посланиях Гонорий убеждает их, не употребляя нового спорного выражения «μία ἢ διπλὴ ἐνέργεια», проповедовать вместе с ним, что «Один Христос Господь совершал и Божеские и человеческие дела в том и другом естестве» (τὸν ἕνα Χριστὸν Κύρτον ἐνεργοῦντα τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἐν ἑκατέραις ταῖς φύσεσι). [53]
Все три послания были написаны Гонорием, без сомнения, с той целью, чтобы примирить спорящие партии. Гонорий, подобно Сергию, думал, что, поступаясь выражениями «μία ἐνέργεια» и «δύο ἐνέργειαι», спорящие партии сойдутся в исповедании «Одного действующего в обоих естествах». Это выражение само по себе ни православно, ни неправославно. Но, рассматриваемое как основа, как исходный пункт христологического воззрения, со строгой последовательностью оно могло приводить к чисто моноэргистическому положению: «если деятель просто один, то и действование одно». Таким образом, положение «Один действующий в обоих естествах», в существе дела безразличное, в целом — моноэргистично. Притом это положение (будь оно на самом деле безразличным) могло служить, в крайнем случае, средством лишь к уничтожению повода к спорам; между тем, требовалось положительное средство к примирению. Таким средством и должна была служить, по мысли Гонория, формула «ἕν θέλημα», употребленная им в послании к Сергию; а эта формула красноречивее, чем содержание всего послания изобличала Гонория прямо в монофелитизме.
Само собой разумеется, что цель посланий Гонория не была достигнута: примирение при таких условиях не могло состояться. Мало этого, вместо умиротворения спорящих партий своими посланиями и особенно употреблением формулы «ἕν θέλημα» Гонорий еще больше разжег возгоревшийся спор. И хотя в другом своем послании к Сергию, [54] написанном, должно полагать, вскоре после написание первого, Гонорий умалчивает о злополучном «ἕν θέλημα» и, следовательно, как бы берет его назад, но это обстоятельство не могло уже окончательно смыть с Гонория черного пятна, наложенного на него первым посланием, и потушить возгоревшийся спор.
Итак, римский папа самым решительным образом принял сторону Сергия.
Получив послание (первое) Гонория, Сергий, вероятно — не долго думая, приступил к осуществлению своего нового плана воссоединение монофизитов с православными, проектированного им в послании к папе и безусловно одобренного этим последним. С этой целью Сергий побудил императора Ираклия от своего имени издать в сентябре месяце 638 года составленный самим Сергием [55] декрет веры, известный под именем «Ἔκθεσις τῆς πίστεως» [Изложение веры]. В этом эдикте впервые является на Востоке формула Гонория «ἕν θέλημα». Согласно с советом Гонория, в «Ектесисе» запрещается говорить об одном или двух действованиях и повелевается исповедовать, что во Христе Господе нашем ἕν θέλημα, так как (аргумент тот же самый, что и в послании Сергия к Гонорию) «разумно одушевленная плоть Его раздельно и из собственного импульса, вопреки мановению (ἔναντίως τῷ νεύματι) ипостасно соединенного с ней Бога Слова, никогда не совершала своего естественного движения (желания), но когда, как и сколько хотело само Слово» (ἀλλ΄ ὁποτε, καὶ οἵαν καὶ ὅσην αὐτὸς ὁ Θεὸς Λόγος ἠβούλετο). [56]
В последней четверти [57] 638 года в Константинополе Сергием был созван собор для утверждения «Ектесиса», которое состояло в собрании подписей присутствовавших на соборе. Римские апокрисиарии, явившиеся в Константинополь за утверждением (consecratio) Северина, избранного на место умершего Гонория, отказались от подписи «Ектесиса» (dogmaticam chartam), заявив, что это выше их полномочий, и с согласия собора взяли хартию в Рим для представления на рассмотрение папе. [58] Таким образом, дело отобрания подписей отсрочилось на неопределенное время. Между тем, в самом непродолжительном времени после созвания собора, а именно в начале декабря 638 года, Сергий скончался. [59]
Преемник Сергия Пирр на первых же порах по вступлении на патриаршую кафедру [60] открыто и решительно заявил себя сторонником унии, провозглашенной Сергием. [61] На соборе (conciliabulum), созванном, вероятно, по случаю вступления Пирра на патриаршую кафедру и состоявшемся под его председательством (что́ видно из «Диспута Максима с Пирром») [62] «decreta… а Sergio et Cyro Phasiano (т. е. Capitula IX и Ἔκθεσις) Pyrrhus corroboravit». [63] Мало того, Пирр не только вновь подтвердил «Ектесис», но позаботился и о том, чтобы и отсутствующие епископы изъявили свое согласие на принятие его. В Александрии Кир принял «Ектесис» с великой радостью, прославляя Бога за то, что Он даровал своему народу столь мудрого царя. [64]
Не смотря на такое радение константинопольских патриархов об унии, новая попытка введения унии (на началах монофелитизма, уния Сергия) едва ли имела больший успех, чем первая (уния Кира, на началах моноэргизма). С одной стороны, нет оснований думать, чтобы монофизиты охотнее принимали унию Сергия, чем унию Кира, хотя провозглашения начал той и другой — учения о μία ἐνέργεια и об ἕν θέλημα — они, разумеется, не могли не приветствовать как торжества своего учения. С другой стороны, православные были так тверды и строго последовательны в исповедании Халкидонского вероопределения, что были слишком далеки от пожертвования выражением «δύο ἐνέργειαι» и от принятия новой формулы «ἕν θέλημα». Нам известен уже характер отношения ортодоксии в лице Софрония к унии Кира. Те же черты безусловного отрицания при апологетическом стремлении доказать несостоятельность чужого и законность собственного воззрения характеризуют отношение ортодоксии и к унии Сергия. Деятелями православия в этот новый (второй) период истории монофелитских движений являются: на Западе преемственно один за другим следовавшие папы (Северин, Феодор, Иоанн IV и Мартин), а на Востоке — Максим Исповедник, вполне заменивший собой Софрония, благотворное влияние которого на ход церковных дел сначала было прервано, вследствие осадного положения и взятия Иерусалима в 638 году, а потом и совсем должно было прекратиться за смертью его, последовавшей 11 марта 639 года. [65]
Таковы были обстоятельства, среди которых Максим открыто выступил на защиту интересов православия. Начало полемической деятельности Максима находится в связи со временем удаления его из монастыря. Известно, что Максим недолго оставался в монастырском уединении. Так, в 633 году мы застаем его уже в Александрии, где он, по его собственным словам, [66] вращался вместе с Софронием. Когда именно Максим покинул монастырь, и что́ собственно привело его в Александрию, решительно никаких сведений об этом в жизнеописании Максима мы не находим: биограф Максима совершенно умалчивает о путешествии Максима в Александрию и говорит лишь о путешествии его в Африку. А письма самого Максима вообще крайне скудны сведениями, касающимися обстоятельств внешней его жизни. Тем не менее, отчасти на основании содержания писем Максима, отчасти на основании некоторых черт детального характера, заключающихся в них, можно составить некоторое приблизительное представление об обстоятельствах путешествия Максима.
И, прежде всего, что касается причины удаления Максима из монастыря, то в этом отношении крайне ценно единственное в своем роде показание самого Максима. В письме к Иоанну пресвитеру Максим выражает желание вернуться на родину, «если только действительно совсем миновал страх (причиненный нашествием) внешних врагов, [67] из боязни перед которыми, ради сохранения жизни, он переплыл столь обширные пространства морей». [68] Настоящее письмо написано в 643 или в 644 году из Африки, [69] и в только что приведенном месте до́лжно видеть ближайшим образом указание на грозное нашествие сарацин (арабов) на Египет и взятие Александрии в 639 году, наведшее на жителей страшную панику и сопровождавшееся переселением многих из Египта в североафриканские провинции. Максим в этом случае, как видно, подвергся участи этих многих и из Александрии переселился морем в Африку. Ближайшим образом, повторяем, здесь до́лжно видеть указание на это обстоятельство из жизни Максима. Но ничто не препятствует видеть в приведенных словах Максима указание и на причину первоначального удаления его из монастыря в Египет, тем более, что время нашествия сарацин на малоазийские провинции совпадает со временем удаления Максима из монастыря: сарацины начали угрожать целости Восточной империи, и именно, прежде всего, Сирии, с 631 года; [70] к тому же приблизительно времени должно быть отнесено и удаление Максима из монастыря. Разумеется, для Максима могли быть и иного рода побуждения: усиление монофелитизма, не дававшее ему покоя во дворце, естественно, мешало ему успокоиться и в монастыре, и его влекло туда, откуда должно было начаться распространение унии. Действительно, на первых же порах по удалении из монастыря мы застаем Максима в Александрии.
План путешествия, на основании некоторых данных, заключающихся в письмах Максима, можно представить себе в таком виде. Было ли в намерении у Максима прямо отправиться в Александрию, или подобная мысль пришла ему в голову потом уже, по удалении из монастыря, неизвестно. Во всяком случае, он не сразу, нужно полагать, очутился в Александрии. Есть основание предполагать, что по удалении из монастыря Максим, прежде всего, посетил о. Крит. Среди писем Максима к Марину находим одно, посвященное воспоминанию о пребывании его на о. Крите и о происходившем там собеседовании с лже-епископами северианами. Письмо это, как увидим потом, написано сравнительно поздно, в 641–645 годах, за время пребывания Максима в пределах Африки. На основании характера самого воспоминания об этом событии, как о событии отдаленном, [71] можно заключать к тому, что означенное пребывание было сравнительно задолго до времени написания письма, в котором упоминается о нем. А предмет диспута, происходившего за означенное пребывание и воспроизведенного Максимом по памяти, позволяет еще ближе определить время самого события. То обстоятельство, что в этом диспуте Максим, по воспоминаниям его самого, полемизирует лишь против учений Севера и Нестория и совсем не упоминает ни о «Ектесисе» Сергия, ни о «религиозном новшестве», введенном в Александрии, как сам он иногда называет унию Кира (между тем как в полемике последующего времени, направленной хотя бы то и против Севера, Максим нигде не упускает из виду ни того, ни другого декрета), не оставляет места сомнению в том, что диспут с северианами, а следовательно, и самое пребывание на о. Крите должно быть отнесено ко времени до введения унии в Александрии, значит — к 632 или к началу 633 года.
С о. Крита Максим направился в Александрию, [72] где и застаем мы его в 633 году обращающимся, как выше было замечено, с Софронием. Из того письма Максима к Петру, в котором находится упоминание о протесте Софрония против обнародования униатских глав Кира, не видно, как держал себя Максим на первых порах пребывания в Александрии в отношении к унии Кира. Но другое его письмо к Петру проливает некоторый свет на положение, какое занял Максим относительно унии. На основании этого другого письма [73] можно судить о том, что на первых же порах Максим заявил себя явным сторонником Софрония, которого он называет отцом и учителем, [74] разумеется — прежде всего, своим. После того, как протест Софрония не был уважен Киром, Максим, подобно Софронию, думал найти поддержку ортодоксальной партии в Константинополе. С этой целью Максим писал в Константинополь к сенатору Петру, прося его оказать содействие Софронию, который тогда нарочно за этим явился в Константинополь.
Прибыл Максим в Александрию в начале 633 года или, по крайней мере, не позже конца 632 года, а удалился в 639 году, и все это время, около шести лет, он провел, нужно полагать, в Александрии или в окрестностях ее, вообще в Египте. Не подлежит сомнению, что в Африку Максим явился из Александрии: об этом достаточно говорит указанное выше обстоятельство, заставившее его переселиться в Африку. Оно же говорит и о том, что событие это случилось не раньше 639 года, и, вероятно — в этом именно году. С другой стороны, нет решительно никакого основания предполагать, что после более или менее продолжительного пребывания в Александрии Максим возвратился в Хрисопольский монастырь, как обыкновенно представляют дело, [75] а затем вторично явился в Александрию: было бы более чем непонятно, по каким побуждениям и зачем Максим вторично прибыл в Александрию. Напротив, есть некоторые данные, косвенно указывающие на то, что Максим не возвращался в Хрисополис после путешествия в Александрию. Сюда должны быть отнесены, во-первых, вышеприведенные слова Пирра: «мы, — говорит Пирр про себя и Сергия, — не знали тебя в лицо»; едва ли бы подобное явление было возможно, если бы Максим вернулся из Александрии и жил в монастыре. Во-вторых, за то же говорит и то обстоятельство, что в письме к сенатору Петру, написанном уже из Африки, Максим рассказывает про известное столкновение Софрония с Киром в Александрии. Если бы Максим вернулся из Александрии в монастырь, то он постарался бы, конечно, не раз побывать в Константинополе у Петра, к которому он раньше обращался письменно за содействием. И быть не может, чтобы при личном свидании Максим не рассказал про это столкновение. Разумеется, странно было бы представлять дело и так, что все шесть лет Максим высидел в самой Александрии: ничто не мешало ему путешествовать по окрестностям города с проповедью обличения «религиозного новшества, появившегося в Александрии». Но где именно и в чем собственно провел Максим все эти шесть лет, об этом положительно нельзя ничего сказать. Кроме упомянутого выше письма к сенатору Петру, сохранились еще два письма, написание которых должно быть отнесено к самому концу этого, александрийского, периода. Это письма к Косьме, диакону Александрийской церкви, и другое (рекомендательное) к Петру (смотр. во II отделе: время, место, цель и повод написания писем Максима). Но они ровно ничего не поясняют нам относительно пребывания и деятельности Максима в Александрии или вообще в Египте. Правда, одно из них — к Петру — показывает, что Максим работал в это время в направлении, указанном полемикой, углубляясь в самые основы ее; но это указание слишком общо, и не может быть распространено на весь александрийский период.
Со времени переселения Максима в Африку начинается новый период его жизни — период открытой, непрерывной и оживленной деятельности, всецело направленной на борьбу с широко распространившимся злом Церкви, всему Востоку угрожавшим серьезной опасностью. Дело в том, что до 40-х годов в Североафриканской церкви о монофелитизме знали лишь по слухам; но с 40 года и сюда начала проникать преступная пропаганда монофелитизма. Она занесена была сюда переселенцами из Египта, принужденными удалиться оттуда вследствие указанного выше обстоятельства, среди которых было, разумеется, немало и приверженцев монофелитизма. Понятно, что среди такого положения дел в Североафриканской церкви появление и деятельность здесь Максима были как нельзя более своевременны.
Прекрасно характеризует деятельность Максима в Африке за это время автор похвального слова Максиму. «Вступая в разговор с африканскими епископами, — говорится в жизнеописании Максима, — он своими божественными устами утверждал их в вере, наставлял и вразумлял их, как избегать коварства врагов и опровергать софистические умствования их. Многоопытный муж этот хорошо понимал, что для нас необходимы великое искусство и навык в диалектике, если хотим победить противников и низложить их надменную гордость, попирающую истинное знание. Поэтому он всячески возбуждал их (православных), одушевлял, воспламенял в них дух мужества, исполнял духом ревности. Правда, они (епископы) превышали его саном, но в отношении мудрости были гораздо ниже его, не говоря уже о других высоких качествах этого мужа. И они охотно внимали его речам, беспрекословно повиновались его убеждениям и советам, польза которых была так очевидна… И не только клир и все епископы, но и народ, и все начальники — все чувствовали в себе какое-то непреодолимое влечение к нему. Все жители не только Африки, но и близ лежавших островов почитали Максима как своего наставника, учителя и вождя». [76]
Деятельность Максима за время пребывания в Африке не ограничивалась одними устными собеседованиями с африканскими епископами. Одновременно он вел полемику и письменно: из Африки Максим написал бо́льшую часть сохранившихся до нашего времени своих писем. Следя за развитием монофелитизма, насколько позволяли ему это обстоятельства его внешней жизни и пространственная отдаленность от центров монофелитского движения, в письмах, написанных за это время, Максим полемизирует, главным образом, против основного положения собственно монофелитизма, впервые сформулированного в известном послании Гонория.
Помимо прямого своего интереса — догматического (а с этой стороны они особенно ценны) — письма рассматриваемого периода, который можно назвать по месту нахождения Максима африканским, не безынтересны для нас еще в том отношении, что в них и только в них мы находим некоторые довольно ценные биографические данные относительно места деятельности Максима за время пребывания в Африке, относительно времени написания самых писем и т. п. Так, из одного письма к Марину, пресвитеру Кипрской церкви (t. II, col. 133–137), очевидно, что Максим вращался сначала в Бизаценской области (ἐν τῷ Βυζακίῳ), а потом в проконсульской Африке, и именно в Карфагене. [77] В другом письме — к Иоанну кубикулярию (col. 460–509) — находим прямое указание на время и повод написания его. [78] При сопоставлении этих двух указаний мы приходим к следующему заключению: перед и во время написания упомянутого письма к Иоанну кубикулярию Максим проживал в Карфагене. [79] Следовательно, пребывание Максима в Карфагене падает на 641 год. А пребывание в Бизаценской области, на основании письма к Марину, должно быть отнесено к непосредственно предшествовавшему времени, т. е. или к началу 641, или к концу 640 года. А мы знаем, что как раз около этого последнего времени Максим и прибыл в Африку. Следовательно, по удалении из Александрии Максим явился, прежде всего, в Бизацинию, и именно, быть может, в Адрумет — приморский портовый город; затем переселился в Карфаген. Обращая внимание на то обстоятельство, что впоследствии епископы трех африканских провинций — Бизацинии, Нумидии и Мавритании — на соборах, составившихся в этих провинциях, решительно высказались против монофелитизма, можно допустить, что после пребывания в Карфагене, более или менее продолжительного, Максим путешествовал по Нумидии и Мавритании и отсюда снова вернулся в Карфаген.
Максим прожил в Африке около пяти лет. Пятилетнее пребывание его здесь завершилось весьма знаменательным фактом, имевшим значение не только в жизни Африканской церкви, но и в целой истории монофелитских движений. Это знаменитый диспут между Максимом и экс-патриархом Пирром. Дело в том, что после довольно непродолжительного управления Константинопольским патриархатом в октябре 641 года [80] Пирр должен был сложить с себя патриаршее звание [81] и бежал через Халкидон [82] в Африку. Время появления Пирра в Африке неизвестно. Известно только, что в Африке Пирр имел несколько столкновений с Максимом, после чего между ними состоялся публичный диспут. Это было в июне месяце 645 года. Хотя о месте столь важного события нигде не упоминается, но, скорее всего, можно допустить, что оно имело место в Карфагене, резиденции наместника Африки. На диспуте присутствовали несколько епископов, Григорий «εὐσεβέστατος» патриций и много «знатных и благочестивых» мужей. [83]
Предметом [84] диспута служил, главным образом, вопрос о θέλημα в приложении ко Христу. Пирр настаивал на необходимости признания одной воли во Христе, в силу единичности ипостаси. Максим, напротив, доказывал необходимость исповедания двух природных воль и действований, в силу двойства природ Христа. Разбивая шаг за шагом положения и возражения противника, Максим не оставил ни одного возражения Пирра неотраженным, ни одного своего положения — неоправданным и вышел из этой диалектически тонкой борьбы торжествующим победителем. Диспут закончился публичным признанием со стороны Пирра своего и своих предшественников заблуждения и желанием примириться с Вселенской Церковью. Во исполнение желания, Пирр тут же просил Максима о том, чтобы ему, Пирру, было позволено лично предстать пред лицо римского первосвященника и собственноручно вручить последнему акт отречения от своих заблуждений. [85]
Согласно желанию Пирра, в том же 645 году Максим вместе с Пирром [86] отправился в Рим. Здесь перед лицом папы, публично, в присутствии многочисленного клира и большого собрания народа, Пирр прочитал им самим составленный «Libellus», анафематствовавший монофелитство и «Ектесис», после чего был принят папой в церковное общение и восстановлен в звании патриарха Константинопольского. [87]
Что касается самого Максима, то мы решительно затрудняемся сказать что-либо определенное относительно времени его пребывания на этот раз в Риме, а, тем более, относительно деятельности его за это пребывание. Биограф Максима решительно умалчивает как об этом путешествии Максима вместе с Пирром в Рим, так и вообще о времени и обстоятельствах появления и пребывания Максима в Риме. Несомненно лишь то, что в 645 или в 646 году Максим был в Риме: помимо прямого сообщения об этом, сделанного самим Максимом или другим кем от его имени в приложении к актам диспута с Пирром, мы имеем стороннее указание на пребывание Максима за это время в Риме. В актах судопроизводства над Максимом мы встречаемся, между прочим, с такого рода обвинением, выставленным против Максима при начале судебного процесса в 655 году: 9 лет тому назад (т. е. в конце 645 года), через устную передачу сна папе Феодору Максим возбуждал Григория, префекта Африки, к возмущению против империи. [88] Правда, обвинение — ложное: Максим отверг его, но для нас важна отмеченная нами подробность обвинения. На основании этой последней заключаем, что в конце 645 или в начале 646 года Максим был в Риме. Долго ли на этот раз Максим оставался здесь, неизвестно. Судя по тому, что в 647 году мы снова застаем Максима в Африке, [89] правдоподобно представлять дело в таком виде, что после довольно непродолжительного пребывания в Риме Максим вернулся в Африку для завершения своей долговременной полемической деятельности там и для упрочения фактического торжества ортодоксии над монофелитизмом, впервые сказавшегося в победе Максима над Пирром. Подобное соображение может находить для себя некоторое оправдание в том обстоятельстве, что по инициативе Максима и, быть может, в его личном присутствии в первой половине 646 года [90] в Африке составились соборы из епископов Африки и соседних островов [91] под председательством трех провинциальных митрополитов (primarum sedium episcopi): Колумба Нумидийского, Стефана Бизаценского и Репарата Мавританского. [92] На них торжественно было осуждено монофелитство, как ересь. Об этих африканских соборах говорят три соборных послания и письмо Виктора, епископа Карфагенского, читанные на латеранском соборе 649 года. Одно из них, составленное на соборе представителей трех упомянутых провинций, представляет коллективную просьбу папе Феодору принять решительные меры против ереси. [93] Другое — соборное послание к константинопольскому патриарху Павлу от лица епископов всей Африки (исключая проконсульскую провинцию) с заявлением о прекращения церковного общения Африканской церкви с константинопольским епископом, если этот последний не отречется от ереси и не сорвет с церковных дверей «Ектесиса». [94] Третье — послание к императору Констансу от епископов Бизаценской провинции с такой же просьбой, как и к папе Феодору. [95]
Так отнеслась одна часть Запада, Африка, к религиозному новшеству, вышедшему из Константинополя. Бросим беглый взгляд назад и посмотрим, как отнеслись в Риме к новой попытке введения унии Сергием на началах, выраженных в «Ектесисе».
Выше было замечено, что за получением императорского утверждения избранного сразу же по смерти Гонория Северина в Константинополь были посланы из Рима апокрисиарии. В качестве условия утверждения новоизбранного папы им было предложено тогда подписать «Ектесис». Они отказались дать подпись, и «Ектесис» был послан в Рим новоизбранному Северину. А так как этот последний не давал своей подписи под «Ектесисом», то дело утверждения затянулось на довольно продолжительное время. Императорское утверждение было получено лишь 28 мая 640 года [96] при обещании, данном легатами, принятия «Ектесиса» со стороны папы. [97] Но обещание так и осталось обещанием. Получив утверждение, Северин издал декрет, осуждавший монофелитство. [98] Спустя 2 месяца и 4 дня после утверждения, 2 августа 640 года Северин скончался и 4 числа был погребен. [99]
Преемник Северина, Иоанн IV, вступивший на папский престол 25 декабря 640 года после 4 месяцев и 24 дней интерпонтификата, [100] еще более решительно высказался против монофелитизма, узакониваемого «Ектесисом». В самом же начале своего правления, в январе 641 года, Иоанн IV созвал в Риме собор, на котором отверг «Ектесис» и анафематствовал монофелитское лжеучение. [101] Об отвержении «Ектесиса» папа тотчас же послал известие патриарху Пирру, чем и побудил умирающего Ираклия сложить с себя вину в авторстве «Ектесиса» на умершего Сергия в известном письме к Иоанну IV. [102] Несколько позднее, уже по смерти Ираклия, папа отправил послание к молодым императорам, сыновьям Ираклия, Константину и Ираклиону, предлагая в нем Τὕπος православного учения (— о двух волях и действованиях во Христе) и апологию предшественника своего Гонория. [103]
На послание Иоанна IV отвечал, по смерти своего отца Константина († 29 мая 641 года), император Констанс, обещая сорвать с церковных дверей «Ектесис» и предать его огню. [104]
Следующий папа Феодор (с 24 ноября 642 по 14 мая 649 года) [105] не менее решительно, чем его предшественник, заявил себя противником монофелитизма. По получении вышеупомянутого соборного послания трех африканских митрополитов Феодор писал в Константинополь патриарху Павлу о своем недоумении, вызванном поведением патриарха по отношению к «Ектесису», так как «Ектесис» — не смотря на обещание императора Констанса уничтожить его и уверение самого Павла в том, что он держится православного образа мыслей — фактически продолжал существовать. [106] На послание Феодора Павел отвечал довольно высокомерно. В кратких, строго определенных и логически весьма последовательных положениях в послании Павла дано, в существе дела, compendium доктрины монофелитизма. «По причине нераздельного соединения (природ) в ипостаси, — говорит Павел, — мы признаем только одну волю Господа нашего, чтобы избежать необходимости мыслить двух волящих; одну) потому что разумно одушевленная плоть Христа, по причине теснейшей связи с Божеством, никогда не совершала своего естественного движения из собственного импульса, вопреки мановению ипостасно соединенного с ней Слова, но…» и т. д. (точь-в-точь та же аргументация, что и в послании Сергия к Гонорию). В заключение — ссылка на известное изречение Христа: «Я пришел исполнить не мою волю, но волю Пославшего Меня». [107] На послание Павла папа отвечал низложением его.
Если к сказанному об отношении Рима к господствовавшему над умами Востока униальному декрету «Ектесису» прибавим, что кроме Африки и в других провинциях Запада составлялись соборы, осудившие монофелитизм, [108] то мы увидим, что весь Запад, хотя не вдруг, но решительно, высказался против монофелитизма, о чем несколько преждевременно заявлял еще папа Иоанн IV.
Столь решительный протест почти всего Запада против униальных попыток Востока на началах монофелитизма, выраженных в «Ектесисе», неоднократно заявленный в форме соборных декретов и петиций, предъявленных императору и константинопольскому патриарху, не мог, разумеется, остаться без последствий, особенно при таком критическом положении государства, в какое была поставлена в то время Византийская империя завоеваниями Египта (в 640 году) и Африки (в 647 году) со стороны мусульман. Именно вследствие такого положения дел Церкви и государства, в видах умиротворения, главным образом, Запада и соглашения Западной и Восточной церквей, император Констанс отменил в 648 году «Ἔκθεσις», однако, так, что на его место издал так называемый «Τύπος τῆς πίστεως» [Образец веры], составленный патриархом Павлом. [109] Второй преемник Сергия, Павел, оказался в данном случае дальновиднее и последовательнее, чем его предшественник, хитрый и изворотливый Сергий. Дальновиднее — потому, что Сергий придал своему произведению не совсем подходящую форму символа, а Павел — более подходящую форму императорского эдикта; последовательнее — потому, что «Ектесис», запрещая спор об одной или двух энергиях, на самом деле проповедовал одну волю (монофелитизм), а «Типос» более последовательно на ряду с «μία ἐνέργεια» отверг также и «ἕν θέλημα», хотя не пощадил и «δύο θέληματα», одинаково запрещая как монофелитизм, так и ортодоксальный диофелитизм. Нарушителям своего запрещения, как ослушникам велений императорского эдикта, «Типос» угрожает тяжкими, сообразными со званием и положением нарушителей наказаниями. [110]
Одинаково запрещая как моноэргизм и монофелитизм, так и диофелитизм, «Типос» мог претендовать на беспристрастность и, видимо, должен был способствовать достижению той цели, с какой он был издан. На самом деле, как вышедший из рук поборника монофелитизма, того самого, который незадолго перед тем самым решительным и определенным образом высказался за «одну волю Господа нашего», «Типос» представлял по своему замыслу последнюю довольно тонкую попытку монофелитской партии через подавление ортодоксального диофелитизма (так как этот последний ставился на одну доску с ересью) дать торжество своему лжеучению. Понятно, что при такой своей мнимой беспристрастности «Типос» не достиг рассчитанной им цели, несмотря на свои угрозы. Осторожный папа Феодор отвечал на издание «Типоса» отлучением его автора Павла, не затрагивая самого эдикта. [111]
Преемник Феодора († 14 мая 649 года) [112] папа Мартин I (с 5 июля 649 года) [113] отнесся к «Типосу» гораздо строже, чем его предшественник. Папа Мартин был одним из выдающихся на Западе деятелей православия своего времени: его имя по справедливости может быть поставлено наряду с высокими ревнителями и мужественными борцами православия на Востоке — Софронием и Максимом. На самых же первых порах по вступлении на римскую епископскую кафедру, по совету Максима, [114] явившегося к тому времени [115] из Африки в Рим, Мартин созвал в Риме большой латеранский собор, заседания которого были открыты 5 октября 649 года. [116] Во время созвания собора явился в Рим камергер царского двора, экзарх Италии Олимпий с поручением похлопотать о подписи «Типоса» и свергнуть папу. [117] Но миссия Олимпия имела совершенно противоположный, благоприятный для папы исход, и собор состоялся. На соборе присутствовали 150 епископов. Присутствовал на соборе и авва Максим, в числе 37 греческих авв (проживавших долгое время в Риме), которые были допущены на второе заседание собора. А что в актах собора вовсе не упоминается о Максиме, так это, по мнению греческого историка Феофана, совершенно в порядке вещей. Известно, что аввы и пресвитеры, хотя и присутствовали на соборах, не имели права голоса и собственноручной подписи под соборными определениями, а Максим был простой монах. [118]
По предварительном рассмотрении (в первом заседании) учения отцов Церкви о двух волях и действованиях во Христе и (во втором заседании) еретического учения об одной воле и действовании Христа и по прочтении (в третьем заседании) некоторых писем вожаков монофелитизма, начиная с Феодора Фаранского (на следующих заседаниях), собор окончательно постановил исповедовать православное учение о двух волях и действованиях во Христе и это свое определение изложил в особом «символе». Латеранский «символ» представляет простое повторение и переложение Халкидонского символа, от слов: «ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν…» [Одного и Того же] до слов: «…Ἰησοῦν Χριστὸν» [Иисуса Христа]. Нового в нем против Халкидонского символа только следующее весьма важное определение относительно двух воль и действований во Христе: «et duas ejusdem sicuti naturas unitas inconfuse, ita et duas naturales voluntates (т. е. credimus), divinam et humanam, et duas naturales operationes, divinam et humanam, in approbatione perfecta et indiminuta eundem veraciter esse perfectum Deum, et hominem perfectum, secundum veritatem eundem atque unum dominum nostrum et Deum Jesum Christum, utpote volentem et operantem divine et humane nostram salutem». [119] Монофелитизм был осужден, поборники его: Кир, Сергий, Пирр и Павел (о Гонории ни полслова) — преданы анафеме; отвергнуты были и два императорских эдикта: «Ектесис» Ираклия и «Типос» Констанса II.
Акты собора с особой энцикликой папы были разосланы во все христианские страны («ad omnes Christi fideles» [всем верующим во Христа]). Экземпляр соборных актов вместе с особым посланием от имени папы и всего собора был послан и императору с требованием восстановить православие. [120] Таков был ответ папы Мартина на требование императора относительно принятия «Типоса», предъявленное экзархом Олимпием. Получив послание и акты собора, император в гневе приказал привести из Рима папу Мартина и его советника авву Максима. С такого рода поручением 15 июня 653 года явился в Рим с равеннским войском новый экзарх Каллиопа. 17 июня, по словам самого Мартина, [121] он был арестован в церкви св. Константина и объявлен низложенным, а 29 числа был отведен под стражей на корабль и в качестве государственного преступника отправлен в Константинополь. По прибытии 17 сентября в Константинополь, Мартин в течение трех месяцев содержался под стражей, после чего 20 декабря был допрошен (допросы касались исповедания веры, писем и доставления денег сарацинам, отношения к Олимпию и обращения с Пирром в Риме), отлучен от Церкви и заключен в тюрьму. В следующем 654 году, около половины марта, был сослан в Херсонес Таврический, куда прибыл 15 мая. Через год и 4 месяца Мартина не было уже в живых († 16 сентября 655 года). [122]
Одновременно с Мартином [123] взят был под стражу и Максим вместе с двумя своими учениками: Анастасием монахом и Анастасием, бывшим апокрисиарием Римской церкви при константинопольском патриархе. [124]
Участь Максима по прибытии его в Константинополь [125] была еще печальнее участи Мартина: ему пришлось претерпеть необычайно тяжелые и продолжительные пытки и мучения. Долговременными всевозможными обещаниями, прельщениями, угрозами, пытками и истязаниями старались вынудить у Максима признание «Типоса» и если не отречение от своих религиозных убеждений, то, по меньшей мере, обещание не проповедовать своих мыслей, а молчать, как было приказано в «Типосе».
С корабля, на котором Максим был привезен в Константинополь, отряд грубых солдат повлек его, босого и полунагого, по многолюдным улицам города, после чего он был заключен в тюрьму. [126] Затем, над Максимом, как над политическим преступником, [127] было наряжено судебное следствие. Максим обвинялся в следующих преступлениях, взводимых на него его врагами-монофелитами: а) в тайных сношениях с сарацинами, b) в возбуждении к восстанию Григория, префекта Африки, и с) вообще в проявлении за время пребывания его в Африке и Риме презрительного отношения к церковным и гражданским властям империи. Это презрительное отношение к властям было, между прочим, причиной того, что латеранский собор по инициативе Максима произнес анафему на константинопольских патриархов и самих императоров, d) Максим — причина волнений в Церкви и происходящего отсюда неустройства в государстве, е) Максим насилием вынудил у Пирра отречение от монофелитства и т. п. Словом — намеренное, враждебное измышление, чего, само собой очевидно, не могло не сознавать и само обвинявшее его правительство. И если последнее привлекло его к суду по обвинению de-jure в означенных политических преступлениях, то, de-facto оно хотело только под страхом наказаний за приписываемые ему преступления вынудить у него признание «Типоса» и отречение, хотя бы только наружное, от православия. И если бы Максим показал только вид, что он принимает «Типос», то, несомненно, его ожидали бы царские милости и почести. [128]
Из тюрьмы Максим вместе с обоими своими учениками был приведен на суд в сенат. Допрос открылся вопросом со стороны сакеллария (фискала): «Chistianus es?» [христианин ли ты?] — и прочтением вины Максима. Упрекнув Максима в ненависти к императору, фискал заявил, что Максим — виновник завоевания сарацинами Египта, Александрии, Пентаполя и Африки. Затем выступили поочередно четыре обвинителя, обвинения которых состояли в следующем: а) Максим еще при жизни Ираклия, 22 года тому назад, способствовал отложению Египта, советуя префекту Петру Нумидийскому, вопреки приказанию императора Ираклия, не предпринимать похода в Египет; [129] b) девять лет тому назад передачей сна папе Феодору Максим возбуждал Григория, префекта Африки, к восстанию против империи; [130] с) Максим насмехался над императором и d) Анастасий, ученик Максима, говорил, что «император не достоин быть священником». По первым трем обвинениям Максим не признал себя виновным, а на последнее обвинение отвечал, что действительно эти слова были сказаны, но только не Анастасием, а им самим, и что он говорил это в том смысле, что «исследовать и определять спасительные догматы веры — дело священников, а не императоров». [131] Затем Максима и его учеников отвели в тюрьму.
В тот же день Максим вторично был приведен в зал суда. Обвинение аввы Мины в приверженности самого Максима и в возбуждении им народа к оригенизму Максим отверг, произнеся анафему на Оригена. [132]
Вечером того же дня в темницу к Максиму приходили Троил патриций и Сергий Евкрат, начальник царской трапезы. Они спрашивали Максима, почему он не хочет вступить в общение с Константинопольской церковью. Потому, был ответ, что предстоятели ее еретики, что видно, между прочим, из того, что они постоянно меняют формулы исповедания (IX членов Кира, «Ектесис» Сергия, «Типос» Павла). Послы заявили, что завтра же Римская церковь вступит в общение с константинопольским патриархом. Максим на это им ответил, что он не придает никакого вероятия подобному сообщению, так как общение возможно лишь под одним условием: если Константинопольская церковь примет учение о двух волях и действованиях во Христе. В заключение Максим выразил сожаление, что император (Констанс II) поддался влиянию епископа Павла и издал «Типос»; также он сказал, что для ограждения своей чести Констансу следует сделать то же, что сделал Ираклий относительно «Ектесиса». [133] Этим и закончился первый допрос.
Через несколько дней после первого допроса, 22 апреля в день Преполовения, [134] к Максиму в темницу явилась депутация от константинопольского патриарха (Пирра) с предложением вступить в общение с Константинопольской церковью под условием принятия следующей согласительной формулы, через которую достигнуто будто бы единение всех церквей (Константинопольской, Римской, Антиохийской, Александрийской и Иерусалимской): «Исповедуем во Христе два действования (δύο ἐνεργείας), по причине различия (естеств) и одно действование (καὶ μίαν), по причине единства (лица)». [135]
Максим с решительностью отверг это предложение, не смотря даже на то, что в случае отказа с его стороны ему угрожали от имени императора и патриарха церковным отлучением и смертной казнью.
Летом (alio sabbato) 655 года, уже по смерти Пирра, [136] Максим с обоими учениками опять был позван на суд. На этот раз при допросе присутствовали два патриарха (константинопольский Петр и антиохийский Македоний), но они все время молчали. Обвинителями выступили те же, что и в один из предшествовавших допросов: Константин и авва Мина. На их обвинение, состоявшее в том, что Максим анафематствовал императора, обвиняемый с твердостью отвечал, что он анафематствовал императорский эдикт («Типос»), но не самого императора. [137]
После этого допроса Максим был сослан во Фракию и заключен здесь в небольшую крепость Бизию. Два ученика Максима также были сосланы во Фракию.
24 августа 656 года [138] сюда, в крепость, к Максиму явилась депутация: от имени патриарха Константинопольского — Феодосий, епископ Кесарии Вифинской, и от имени императора — консулы Павел и Феодосий. На вопрос Феодосия, епископа: почему он удаляется от общения с Константинопольской церковью, Максим отвечал указанием на господство в Константинопольской церкви ереси и еретичество константинопольских патриархов, как на причину такого удаления с его стороны. Подвергнув затем довольно подробному рассмотрению содержание монофелитского учения, Максим раскрывает несостоятельность его основоположений, главным образом, со стороны тех нелепых выводов, которые с неотразимой последовательностью вытекают из них; [139] указал на неосновательность содержания «Типоса» (с последним Феодосий согласился); категорически, но со свойственным ему смирением заявил, что общение его с Константинопольской церковью при настоящих условиях немыслимо. Снова был поднят вопрос о волях: Феодосий защищал единоволие и ссылался на свидетельства будто бы Григория Чудотворца, Афанасия и Златоуста. Максим опроверг доводы Феодосия, доказав, что приводимые последним свидетельства принадлежат Аполлинарию и Несторию. После довольно продолжительных прений по вопросу о волях во Христе епископ Феодосий сознался (думается, показывал только вид…) в своем заблуждении. Он под клятвой обещал устроить дело воссоединения еретиков с Церковью, а консул Феодосий выразил уверенность, что император согласится на это. Свидание депутатов с Максимом закончилось трогательным прощанием. Максим получил даже от епископа Феодосия материальную поддержку. [140]
Казалось, восстановление мира Церкви было близко. 8 сентября 656 года к Максиму в крепость явился консул Павел, которому от имени императора дан был приказ перевести Максима «с великою честью и уважением», как говорилось в приказе, в монастырь св. Феодора близ Константинополя. [141] Но положение Максима с переводом в монастырь, вопреки ожиданию, ухудшилось. 13 сентября к нему явилась депутация в лице двух патрициев, Епифания и Троила; с ними был и епископ Феодосий. Депутация явилась объявить Максиму волю императора, состоявшую в надежде, что Максим примет «Типос» и вступит в общение с монофелитской партией, при исполнении чего со стороны Максима ему обещались царские милости. [142] «Мы твердо уверены, — говорилось в конце приказа, — что если ты вступишь в общение с нами, то присоединятся к нам все, которые ради тебя и под твоим руководством отпали от общения (с нами)». [143] В ответ на это льстивое предложение императора Максим заявил: «…все небесные силы не убедят меня сделать то, что вы предлагаете». Раздраженные непреложной твердостью Максима, патриции с яростью набросились на него и с ругательствами жестоко побили. Епископ Феодосий едва мог остановить их горячность и дерзкое обращение с Максимом. [144] На другой день, 14 сентября, по воле императора Максим вторично был сослан сперва в Селемврию (город во Фракии), а потом в Перверу, и там был заключен в темницу. [145] Около пяти лет томился здесь узник. Наконец, еще раз и последний Максим был вызван из ссылки в Константинополь с единственной, кажется, целью — излить на престарелого страдальца тираническую злобу.
По прибытии в Константинополь, Максим тотчас же был приведен в судебную камеру и наказан воловьими жилами, после чего ему отрезали язык и правую руку (орган и орудие полемики) и измученного и обезображенного провели по всем кварталам города для общего посмеяния. После всего этого Максим был сослан в Колхиду, страну лазов (на берегу Черного моря). Сюда же были сосланы и оба ученика Максима. Максим был заключен в крепость Шемари и здесь в скором времени, 13 августа 662 года, мирно скончался. [146] Максим Исповедник причтен Церковью к лику святых.
Кровавые, бесчеловечные меры преследования, обрушившиеся на головы отважных борцов православия, окончательно, по–видимому, подавили всякий протест против монофелитизма: никто не осмеливался открыто возвышать свой голос в защиту православия; православие на Востоке было, по-видимому, совершенно подавлено. Ближайшим следствием такого состояния дел церковных было разделение Восточной и Западной церквей: в последней в качестве ортодоксального содержалось учение о двух природных волях и действованиях во Христе, в первой за таковое принималось учение об одной воле и об одном действовании Христа. Как гибельно отразилось на общем течении дел церковных господство монофелитизма, об этом весьма красноречиво свидетельствуют следующие слова одного современника тех событий: «Иерархи сделались иересиархами и вместо мира возвещали народу распрю, сеяли на церковной ниве вместо пшеницы плевелы; вино (истина) мешалось с водой (ересью), и поили ближнего мутной смесью; волк принимался за ягненка, ягненок — за волка; ложь считалась истиной, и истина — ложью, нечестие пожирало благочестие. Перепутались все дела Церкви». [147]
Таким образом, дело воссоединения церквей, предпринятое по чисто политическим расчетам императора и веденное на почве более политической, чем церковной, привело к совершенно противоположным результатам. Нельзя с достоверностью сказать, скоро ли бы кончились продолжительные, занявшие собой две трети VII столетия, монофелитские споры, если бы император Константин Погонат, сознавая всю неуместность светских мер в решении вопросов веры, не пришел под влиянием Запада к благой мысли — «созвать глаза Церкви, иереев, для расследования истины». [148] В 680 году, в ноябре месяце, в Константинополе составился VI Вселенский собор, на котором представителями Востока и Запада было тщательно рассмотрено, окончательно решено и строго формулировано учение о двух природных волях и двух природных действованиях во Христе, а монофелитизм со всеми его вожаками и последователями подвергся церковной анафеме. В основу соборных вероопределений легли два послания Агафона. Как почтил собор память и труды великого поборника православия св. Максима Исповедника, об этом мы скажем в заключительном отделе.
Глава II.
Частный обзор догматико-полемических трудов св. Максима.
Из представленного очерка жизнедеятельности св. Максима Исповедника видно, что почти всю свою жизнь, по удалении от императорского двора, он провел преимущественно в борьбе с современным ему лжеучением монофелитов. Полемика велась им двояко: устно и письменно. Так мы видели, что он имел устные прения с лже-епископами монофизитской фракции Севера на о. Кипре, с экс-патриархом Пирром в Карфагене и с Феодосием, епископом Кесарии Вифинской, во Фракии. Письменным памятником полемических трудов св. Максима служит множество дошедших до нас писем его, написанных им в разное время к различным лицам.
Все полемические этого рода труды Максима Исповедника предметом своим имеют, главным образом, разъяснение догматического учения о двух волях во Христе. Исходными пунктами при разъяснении этого учения для св. отца служили следующие два основоположения, составляющие сущность Халкидонского вероопределения: одно — во Христе две природы; другое — при двух природах во Христе одна ипостась. Общее развитие этих двух основоположений в полемических трудах св. Максима представляется в следующем виде. Прежде всего, он старается установить то положение (одно из основоположений собственно диофелитизма), что воля (θέλημα) составляет существенное определение природы (φὑσις), а не лица (ὑπόστασις), как мыслили монофелиты. Выходя из первого основоположения и утверждая, вопреки мнению Севера, целость обеих природ Христа и по соединении их, Максим развивает (против монофелитов и моноэргистов) ту мысль, что во Христе до́лжно признавать две воли (δύο θελήματα) и два действования (δύο ἐνέργειαι). Справедливость своего понимания он обосновывает на изречениях Св. Писания и на свидетельствах всеми признанных авторитетов Церкви (главным образом, Дионисия Ареопагита, Григория Богослова и Кирилла Александрийского, на которых особенно часто ссылались монофелиты), везде указывая при этом истинный смысл их выражений. Переходя от первого основоположения ко второму и ставя себе вопрос, как возможно существование двух природ в одном лице, св. Максим указывает на необходимость различения φὑσις и ὑπόστασις, смешиваемых монофелитами, и на поставленный вопрос отвечает тем положением, что во Христе σύνθετος ὑπόστασις [сложная ипостась] — ипостась Бога Слова, служащая ипостасью и для человечества Христа. А исход из неразрешимого с точки зрения монофелитизма затруднения, представляемого существованием двух воль и действований в одном лице Богочеловека, находит в указании на то, что решающий принцип в Богочеловеке представляет Его Божественная воля, которой в силу самой природы безгрешного человечества во всем следует Его человеческая воля. Следствием такого отношения природного двойства к личному единству Богочеловека является то, что Максим разъясняет под формой понятий «περιχώρησις» [перихорисис, взаимопроникновение], «ἀντίδοσις» [обмен (свойствами)] и «θέωσις» [обожение] человеческой воли Христа.
Таково в существеннейших и самых общих чертах содержание всех вообще разговоров и писем Максима, посвященных раскрытию учения о двух волях во Христе, которые (разговоры и письма) относительно содержания и тона справедливо могут быть названы обще догматико-полемическими трудами Максима Исповедника.
Все догматико-полемические труды св. отца относительно содержания с удобством могут быть поделены на две группы на том основании, что в одних из них раскрывается учение исключительно о двух природах во Христе и полемика направляется против монофизитизма (первая группа), а в других — главным образом учение о двух волях и действованиях во Христе и полемика ведется против моноэргизма и монофелитизма (вторая группа).
Первую группу догматико-полемических трудов Максима составляют письма его: к Иоанну кубикулярию, к сенатору Петру, к диакону Косьме, к Юлиану схоластику и некоторые другие. В них раскрывается учение исключительно о двух природах во Христе и полемика направляется против монофелитов вообще, и в частности — против Севера.
а) К некоему знаменитому [149] Петру было написано Максимом несколько писем: по крайней мере, мы можем указать три таких письма. Но для нас имеет значение лишь одно из них, [150] догматико-полемическое, направленное против учения Севера и имеющее предметом своим двойство природ во Христе (t. II, col. 509–533). Судя, с одной стороны, по тому обстоятельству, что Софроний представляется находящимся в Константинополе [151] и называется просто аввой (значит, в то время он не был еще епископом), а с другой, по тому, что в конце письма (col. 533) находится краткая рекомендация Софрония, время написания настоящего письма можно с вероятностью отнести к 633 году. Местом написания, согласно со временем написания, до́лжно признать Александрию.
Содержание письма составляет развитие следующих положений. Число не есть начало разделения или соединения; вместе с качественным различием природ Христа до соединения их необходимо исповедовать природное двойство и по соединении (col. 513–516). Христос не есть одна сложная природа, но единая (μοναδικὴ) сложная ипостась (σύνθετος ὑπόστασις), соединяющая в себе две совершенные природы, остающиеся таковыми и по соединении (col. 517–525). Выражение «μία σύνθετος ὑπόστασις» [одна сложная ипостась] имеет относительный смысл и строго православно; а выражение «μία σύνθετος φύσις» [одна сложная природа] заключает в себе еретическую мысль о некотором реальном смешении природ — мысль, совершенно не согласную с тайной воплощения (col. 525–532).
b) Письмо к Косьме, диакону Александрийской церкви (t. II, col. 544–580), состоит из отдельных трактатов чисто догматического характера, из так называемых «догматических глав» об естестве и об ипостаси. Судя по тому, что настоящее письмо служит ответом на вопросы Косьмы, предложенные Максиму (устно) еще прежде написания того рекомендательного письма к Петру, в котором упоминается об этом самом обстоятельстве (col. 537), написание его должно отнести ко времени до 640 года или к самому началу 640 года. Местом написания была, должно полагать, Александрия.
c) Писем к Иоанну кубикулярию [152] сохранилось достаточное количество (числом 8). Для нас представляет интерес, и интерес довольно значительный, только одно из восьми [153] — «О догматах православной Церкви», направленное против учения Севера. [154] Это одно интересно по своему содержанию: в нем полнее, чем в других письмах этой группы раскрываются два указанные выше основоположения Халкидонского вероопределения и опровергаются некоторые возражения со стороны Севера.
Повод к написанию настоящего послания — письма августы Мартины на имя префекта Африки с предписанием о преследовании сектантов Северовой фракции, живущих в монастырях (col. 460–464). Содержание — изложение «православного исповедания» (ἔκθεσις τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας). Необходимость признания во Христе двух совершенных природ (col. 465–468), и по соединении неизменно пребывающих в Нем неслитно, но и нераздельно. Разграничение понятий «διαφορὰ» [различение] и «διαίρεσις» [разделение], согласно учению Кирилла Александрийского и других отцов Церкви (col. 469–472). Двойство природ не нарушает личного единства, потому что вообще число не есть начало разделения, но лишь выражение качественного отличия исчисляемых предметов (Πᾶς ἀριθμὸς… τοῦ ποσοῦ τῶν ὑποκειμένων ἐστὶ δηλοτικὸς, ἀλλ΄ οὐ τῆς διαιρέσεως) выяснение этого общего положения на примере «двухцветного и пятицветного камня» (col. 473–476). Удостоверение справедливости положения о числе свидетельством Кирилла Александрийского; разъяснение и вывод из этого свидетельства (col. 477–480). Непротиворечивость выражения «ἐν δύο» [в двух] (в отношении природ Христа) признанию «одной природы Бога Слова воплощенной» при правильном, чуждом заблуждению Нестория, понимании двойства природ (col. 481–484). Две качественно различные природы Христа составляют сложную ипостась, но не сложную природу, как мыслит Север (col. 485–493). Краткое опровержение возражения Севера против выражения «ἐν δύο». Отсутствие противоречия в утверждении единства и двойства, вследствие неодинаковости смысла в речениях «ἕν» [одно] καὶ «δύο» [два]. Разбор подходящих сюда изречений Григория Богослова («ἕν ἐξ ἀμφοῖν, καὶ δι' ἐνὸς ἀμφὸτερα» [одно из обоих, и оба посредством одного]) и Кирилла Александрийского («Ὥστε τὰ δύο μηκέτι μὲν εἰναι δύο, δι' ἀμφοῖν δὲ τὸ ἕν ἀποτελεῖσθαι ζῶον» [Так что двое уже не суть двое, но из двоих получается одно живое существо]) (col. 492–496). Совет с мудрой осмотрительностью и осторожностью относиться к учению еретиков (col. 497). Краткое разъяснение смысла некоторых выражений относительно Христа: выражений Афанасия Великого «одна природа Бога Слова воплощенная» (выводы из него: взаимодействие природ и общение свойств, признание двух рождений Христа и исповедание Девы Марии в собственном и истинном смысле Богородицей); послания к Римлянам, XII:2; книги Иова, X:21,22 и др. (col. 500–509).
По ясному указанию, находящемуся в самом послании, рассматриваемое послание написано в ноябре месяце XV индиктиона, в правление патриции Мартины, [155] жены императора Ираклия, что́ соответствует 641 году.
d) Содержание довольно краткого письма к Юлиану, [156] схоластику александрийскому, о воплощении Сына Божия состоит из следующих, мало развитых, положений. Цель воплощения по отношению к человеческой природе — ее обновление. Действительность и целость человеческой природы Христа до, во время и после воплощения. Непреложность Божества Христа в акте воплощения. Неслитное, нераздельное и неизменное пребывание обеих природ Христа при личном соединении. Ссылка на отцов Церкви: выражение (Кирилла Александрийского) относительно правильности понимания со стороны кафолической Церкви непреложности человеческой природы Христа при личном соединении с Божеством.
Настоящее письмо написано по поводу какой–то просьбы Юлиана и Христопемта, обращенной через посредство Максима к Георгию, префекту Африки. [157] Выходя из того соображения, что означенную просьбу, по словам (приведенным в примечании) конца письма, Максим передал префекту, и тот обещал исполнить ее, можно безошибочно заключать к тому, что письмо послано за время пребывания Максима в Карфагене.
e) Сюда же, к первой группе догматико-полемических трудов Максима, должно быть отнесено небольшое письмо к отшельницам, отпавшим от кафолической Церкви в Александрии, написанное от имени Георгия, префекта Африки (col. 584–589). Содержание догматической части письма отчасти сходно с содержанием письма к Юлиану. При утверждении двойства природ во Христе здесь развивается, главным образом, мысль о качественном различии Божественной и человеческой природ Христа, неизменно пребывающих во Христе и по соединении: «ἡ διαφορά τῶν ἐξ ὡν ἐστιν ὁ Χριστὸς φύσεων καὶ μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀσυγχύτως τε καὶ ἀδιαιρέτως ἐν Χριστῷ σωζομένων…» [различие природ, из которых состоит Христос, и которые и по соединении сохраняются во Христе неслитно и нераздельно] и т. д. (col. 588; сравни: 586). Письмо написано от имени Георгия, префекта Африки, в ответ на упомянутую выше просьбу. Отсюда заключаем что оно написано в Карфагене несколько позднее письма к Юлиану, с которым оно имеет указанную связь; следовательно, не раньше 641 года, но и не позже: письмо написано во время совместного царствования в Византийской империи двух императоров. [158] Будем ли мы видеть здесь указание на совместное управление государством Ираклия старшего с сыном Константином, окончившееся со смертью Ираклия 11 февраля 641 года, или на слишком кратковременное (в продолжение всего лишь 130 дней) совместное царствование Константина с Ираклионом, окончившееся со смертью Константина 29 мая 641 года, или, наконец, на правление Ираклиона с матерью Мартиной, продолжавшееся всего лишь 6 месяцев, во всяком случае написание письма должны будем признать современным 641 году.
Вторая группа догматико-полемических трудов Максима.
а) Среди всех догматико-полемических произведений Максима первое место после «Диспута с Пирром» занимает, бесспорно, превосходное в догматическом отношении послание «О двух волях Христа Бога нашего» (col. 184–208). Первостепенная важность его в догматическом отношении обусловливается тем обстоятельством, что в нем Максим, как искусный полемист, поражает своего противника, как говорится, не в бровь, а прямо в глаз: касаясь самых основ монофелитизма, Максим весьма умело разоблачает несостоятельность монофелитизма как доктрины в самом его корне. Все рассуждения Максима запечатлены характером строго научной, философской мысли; все доводы «за» и «против» дышат неотразимой силой логики. В этом послании, как нигде более, сказывается весь Максим — человек высокообразованный, великий мыслитель-богослов и весьма искусный полемист.
К величайшему сожалению, о настоящем послании мы не можем более или менее положительно сказать ни того, кому оно адресовано, ни того, когда и где оно написано. Относительно первого вопроса мы склонны разделять мнение Фотия, относящего написание этого послания к Стефану игумену, [159] если под этим Стефаном он разумел известного Стефана, епископа Дорского. Не зная, чем аргументирует Фотий свое мнение, некоторое основание быть согласными с ним мы находим в том обстоятельстве, что другое послание, прямо адресованное на имя Стефана, епископа Дорского, вне связи с настоящим посланием представлялось бы чем-то вроде венца здания без основания и корпуса. А настоящее послание, при всей логичности и относительной убедительности с точки зрения человеческого разума содержащихся в нем рассуждений, может показаться неубедительным для всякого, в деле столь высокой догматической важности желающего опереться на тот или другой церковный авторитет, что́ и дано в послании к Стефану, епископу Дорскому. Поставляя в такое отношение два указанных послания, написание рассматриваемого мы должны будем отнести к более раннему времени, чем написание другого послания к тому же лицу: ко времени до 645 года, когда Стефан не состоял еще в епископском сане, а был, что не невероятно, игуменом, так что позволительно думать вместе с Фотием, что рассматриваемое послание написано к «Стефану игумену».
Содержание послания. Опровержение коренного заблуждения монофелитизма — смешения природной воли как силы хотения с направлением воли и с объектом хотения и разграничение этих трех терминов (col. 185–188). Необходимость признания положения относительно численности воль, вытекающие из признания их различия (инаковости) (col. 189). Обожествление человеческой природы Христа не лишает ее принадлежащего ей по существу бытия, а следовательно — и воли: аналогия с раскаленным в огне мечом (col. 189–192). Разграничение понятий «природная воля» и «самопроизвольная склонность» (τὸ γνωμικὸν θέλημα) и установление положения о неодинаковости различия с противоположностью (col. 192–193). Опровержение монофелитского мнения об обнаружении человеческой воли Христа только во время страдании (col. 196). Утверждение и разъяснение основного положения: действование есть свойство природы, а не лица и вытекающая отсюда необходимость признания в силу двойства природ двух природных действований (col. 197–201). Совместимость природного различия с единством лица при относительной сложности этого последнего (col. 201–204). Разъяснение понятий «τὸ μὴ ἀνυπόστατον» [не безыпостасное] (в отношении к природе) и «τὸ μὴ ἀνούσιον» [не бессущностное] (в отношении к лицу); основанный на нем смысл исповедания природ Христа «истинно существующими» (μὴ ἀνυπόστατοι) и деятельными (μὴ ἀνεργήτοι) [не бездеятельными], заключение от этого исповедания к бытию не ипостасей или деятелей, а существенных определений природ (col. 204–205). Выяснение смысла святоотеческого изречения, говорящего о признании во Христе «πᾶσαν θείαν καὶ ἀνθρωπίνην ἐνέργειαν» [всякого божественного и человеческого действования] (col. 208).
b) Так называемое «догматическое» послание к Стефану, епископу Дорскому. Содержание его. Необходимость мыслить человеческую природу Христа со всеми существенными определениями ее: свободной волей и действованием (col. 156–157). Свидетельства из Евангелия и из отцов Церкви, удостоверяющих присущие Христу как Божественной, так и человеческой воли (col. 157–165) и двух природных действований (col. 165–168). Мнения вожаков ереси об одной воле и об одном действовании во Христе (col. 169–173). Указание истинного смысла изречений некоторых отцов Церкви, ложно трактуемых еретиками (col. 176), и действительных авторитетов, на которые опирается «Ектесис» (180).
Написано из Рима (как прямо указано в надписании послания, col. 156), следовательно, не раньше конца 645 года; с другой стороны — до времени латеранского собора 649 года, так как на этом соборе Стефан Дорский сам лично присутствовал и участвовал в осуждении «Ектесиса» и его редактора и издателя. Впрочем, конечный предел времени написания рассматриваемого послания можно еще более ограничить: оно написано раньше издания «Типоса», так как об этом последнем в нем нет и помину. Итак, написано в 646–648 годы.
c) Письма к Марину. К Марину есть несколько писем чисто догматического характера.
Одно из них носит такое надписание: «Догматическое послание к Марину, диакону (πρὸς Μαρῖνον διάκονον), на о. Кипр» (col. 69–89). Так как в надписаниях других писем к Марину последний титулуется пресвитером, а не диаконом, то Комбефи и некоторые другие склонны предполагать, что и настоящее письмо адресовано к Марину пресвитеру, а не диакону. [160] В качестве основания для такого предположения указывают на следующее выражение, встречающееся в самом послании: «Οὐδὲν γὰρ οὕτω τῆς κατὰ σὲ θείας ἱερωσύνης εἰκονίζει τὸ ἔργον, ὡς» [Ибо ничто так не изображает дело твоего священства, как…] и т. д. [161] Правда, понятие «ἱερωσύνη» [священство] ближайшим образом значит «священнический чин» и служит для обозначения второй степени священства (пресвитера), но, понимаемое в широком смысле, оно обнимает все три степени священства, следовательно, и диаконский чин. Так что означенное выражение само по себе не дает достаточного основания для исключительности понимания его в том или другом смысле. Предпочтительность же понимания его в первом из указанных смысле ослабляется другим выражением, стоящим в начале послания: «πανάγιε Θεοῦ θεράπον» [всесвятой Божий служитель]. [162] А что касается того обстоятельства, что другие послания адресованы к Марину пресвитеру, а не диакону, то сила его совершенно парализуется тем простым соображением, приводимым и у Комбефи, [163] что ничто не мешало Марину из диакона последовательно стать пресвитером.
Оставаясь при том мнении, что настоящее послание написано к Марину, когда он был еще диаконом, по вопросу о времени, а вместе с тем и о месте написания рассматриваемого послания мы можем сказать хоть одно то, что оно написано раньше других писем к Марину, что и подтверждается одним кратким замечанием другого письма к Марину, написанного из Карфагена в 644–645 годах. Безотносительно же к другим посланиям можно сказать только, что оно написано после 635 года, во время разгара полемики. Следовательно, времени написания настоящего послания приходится отвести довольно широкие границы: 635–644 годы.
Содержание послания. Наряду с Божественной природой и волей во Христе необходимо исповедовать и человеческую природную волю, в соответствие Его человеческой природе (col. 77–80). Согласие человеческой воли Христа в ее проявлениях с Божественной Его волей (col. 80–81). Крайности, вытекающие из отвержения человеческой воли во Христе (col. 81). Изречения Дионисия и Кирилла относительно двух действований во Христе (col. 84–89).
Другое по времени написания послание к Марину пресвитеру представляет краткое рассуждение по поводу затронутого в определениях римского собора (собор 641 года, незадолго до смерти Ираклия, под председательством папы Иоанна IV) учения об исхождении Св. Духа и о воплощении Бога Слова (col. 133–137) и рассуждение по поводу прочтения сочинения Феодора Фаранского «о сущности и природе, об ипостаси и лице и об остальных главах». [164] К сожалению, от него сохранились только отрывки.
Относительно этого послания мы имели случай говорить, что оно ценно в отношении биографических данных, касающихся обстоятельств жизни Максима. Кроме того, оно ценно еще и потому, что при помощи его мы можем определить, хоть сравнительно, время написания весьма важных для нас посланий к Марину. Так, из него мы узнаем: а) что настоящее послание написано в ответ на послание Марина из Карфагена следовательно — в 641 году; б) что оно не первое по времени написания послание к Марину, а что и прежде него Максим писал к Марину, и этот последний одобрил слова и учение Максима [165] (в этом последнем сообщении можно видеть указание на известное послание к Марину диакону); в) что послание к Марину, представляющее психологический очерк души и ее проявлений, написано после настоящего послания. [166]
Третье по счету письмо к Марину, в состав содержания которого входит изображение волевого (col. 9–20) и умственного (col. 20–21) процессов и развитие двух положений: о невозможности допущения после воскресения одной воли Бога и святых при одинаковости объекта воли (col. 21–27) и о невозможности признания во Христе одной, какой бы то ни было, воли (col. 27–37) — неизвестно, когда именно написано. На основании находящегося во втором письме указания, можно сказать лишь только то, что оно написано после отправления второго. Но следовало ли написание третьего за отправлением второго вскоре, или между написанием того и другого следовал более или менее значительный промежуток времени, написано ли оно поэтому из Карфагена или же из какого–нибудь другого места, и признавать ли третье по счету письмо к Марину третьим и по времени написания — все такие и подобные им вопросы остаются для нас открытыми.
Ничего определенного относительно времени и места написания нельзя также сказать и про другое письмо к Марину, четвертое по счету. Содержание его составляют два трактата: один — о действованиях и волях во Христе (col. 39–45) и другой — относительно учения отцов Церкви о двух природных волях во Христе. К нему примыкает рассуждение по поводу воспоминания о пребывании на о. Крите и о происходившем там собеседовании Максима с лже-епископами северианами (col. 45–49).
Впрочем, относительно времени написания третьего и четвертого писем к Марину можно, пожалуй, признать за достоверное то, что они написаны до времени диспута с Пирром, так как ни в том, ни в другом нет даже намека на него. Едва ли бы это было возможно, если бы они были написаны после этого, бесспорно, весьма крупного события из истории полемической деятельности св. Максима.
Пятое по счету письмо к Марину (col. 228–245) представляет апологию, писанную в защиту Анастасия Синаита, Григория Богослова и папы Гонория. В сочинении Анастасия, архиепископа Антиохийского, «Κατὰ τοῦ Διαιτητοῦ» (т. е. против Нестория, «разделителя») встречается выражение «διὸ μίαν μὲν τὴν ἐνέργειαν ἐπὶ Χριστοῦ καὶ ἡμεῖς φάμεν» [поэтому и мы говорим об одном действовании у Христа], которое монофелиты приводили в качестве оправдания для своего собственного учения. Восстанавливая целостный образ учения Анастасия о действовании во Христе, Максим разъясняет, что Анастасий признает как одно, в силу общения природ, так и два действования во Христе, в силу существенного различия природных свойств (col. 232–233). Из Григория Богослова трактуется известное его изречение о противлении человеческой воли воле Божественной в сопоставлении с другим его изречением, говорящим об отсутствии такого противления (col. 233–237). Особенно пространна апология в защиту Гонория: довольно подробно разбирается известное послание Гонория к Сергию. Суждение об отношении Максима к Гонорию и к его ответному посланию мы будем иметь впереди.
К определению времени написания апологии может служить указанное в самом послании следующее обстоятельство: аббат Иоанн, впоследствии папа Иоанн IV, принимавший участие, по словам Максима, [167] в составлении и написании ответного послания Гонория к Сергию, во время написания апологии не был еще папой. Следовательно, апология написана, с одной стороны, прежде вступления Иоанна IV на римскую епископскую кафедру, т. е. до 641 года, с другой, бесспорно — после смерти Гонория, т. е. после 638 года. Значит, апология написана в 639 или в 640 году.
d) «Копия с письма от св. Максима к святейшему епископу господину Никандру, о двух во Христе действованиях» (Ἴσον ἐπιστολῆς γενομένης πρὸς τὸν ἁγιώτατου ἐπίσκοπον κύριον Νίκανδρον, παρὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Μαξίμου, περὶ τῶν δύο ἐν Χριστῷ ἐνεργειῶν). Такое надписание носит одно из писем, среди догматико-полемических трудов Максима занимающее не последнее место. Имя «Никандр» (Νίκαηδρος), стоящее в надписании письма, правдоподобнее принимать в нарицательном смысле: в значении «победителя» (врагов Церкви), храброго защитника (интересов православия). Некоторые черты в содержании письма (тяжесть собственного положения, обусловливающаяся лишением свободы, проживание в чужой, далекой стороне под покровом «тихого пристанища» — католической [168] Церкви и т. п.) заставляют видеть в этом епископе иерарха именно Римской церкви, между тем в Римской церкви во времена Максима не было епископа с таким именем. Несомненно, значит, что епископ, к которому адресовано настоящее письмо — римский папа и именно, как можно догадываться на основании начальных слов письма, Мартин. В начальных словах: «Αὐτὸς,… φερωνύμως ἔχων μετὰ τῆς ἀνδρείας, τὴν κατὰ πάντων… πολεμούντων ἐχθρῶν ἱερωτάτην νίκην» [Он, вместе с мужеством имея (себе) знаменательным именованием священнейшую победу против всех воюющих врагов] (col. 89) — с одинаковым правом позволительно видеть указание на имя «Мартин», как и на имя «Никандр». Весьма возможное явление, что первоначальный издатель настоящего письма на основании только что приведенных слов поставил в надписании письма вместо первого имени второе. В характеристике личности адресата, заключающейся в приведенных словах, можно видеть указание на осуждение монофелитизма на латеранском соборе 649 года. В молитве Максима о том, чтобы Бог явил правый исход дела, [169] можно видеть намек на императорский приказ о свержении Мартина. Одним словом, все говорит за то, что настоящее письмо написано папе Мартину. Согласно с таким заключением, написание письма до́лжно отнести к периоду времени от 649 до 653 года.
Содержание догматической части письма слагается из развития следующих положений. Человеческая природа Христа по соединении с Божественной не утратила своих природных свойств (col. 93). В силу двойства природ во Христе до́лжно исповедовать две воли и два действования (col. 96). Существа разумные от природы одарены способностью вполне сознательного действования и хотения (col. 97). Несообразности при мысленном представлении одной воли во Христе. Истинный смысл святоотеческих изречений, ложно трактуемых еретиками: Дионисия Ареопагита — «ἡ Θεανδρικὴ ἐνέργεια» [богомужное действование] (col. 100); Кирилла Александрийского — «μία (καὶ) συγγενὴς δι' ἀμφοῖν ἐπιδεδειγμένη ἐνέργεια» [одно и сродное действование, являемое посредством обоих] (смысл слова «συγγενὴς» по значению и по употреблению у отцов Церкви) (col. 101–105). Новизна и нелепость мнения об одном действовании во Христе (col. 108–109).
е) Небольшое письмо к Георгию, [170] пресвитеру и игумену (col. 56–61), решительно неизвестно, когда и где написано. Каких бы то ни было данных, могущих служить к определению времени и места написания настоящего письма, нет ни в нем самом, ни в других письмах. В целом письме (собственно, в догматической его части) развивается мысль о том, насколько истинна и совершенна человеческая природа Христа. Развивается она при помощи следующих положений. Воспринятое Спасителем человечество, по самой природе во всем, кроме греха (указание на образ рождения Христа по человечеству), подобно носимому нами (ἀλλὰ ταὐτόν, — т. е. τὸ κατὰ τὸν Σωτῆρα ἀνθρώπινον, — τῆ οὐσία καὶ ἀπαράλλακτον..., πλὴν μὸνης τῆς ἁμαρτίας [но оно, — т. е. Спасителево человечество, — то же самое (что и наше) по сущности и ничуть не отличное…, за исключением лишь греха]). Совершенное, безгрешное по самой природе человечество Христа не имело (в себе самом) ничего противного (αὐτός δε πάσης κατὰ φύσιν ἐλεύθερος ὥν ἁμαρτίας,… οὐδὲν ἐναντίον εἶχεν [Он же, будучи по природе свободен от всякого греха,… не имел ничего противного]) тем более, что оно было всецело обожествлено (ταύτην, т. е. οὐσίαν, μετ' ἐκείνων ἁπάντων ἐθέωσε [сию, т. е. сущность, вместе со всеми теми обожил]). Человеческая природная воля Христа также во всем была подобна нашей; отличается от последней лишь своим направлением — сверхъестественным (καὶ τὸ θέλειν αὐτοῦ κυρίως μὲν ὄν φυσικὸν καθ' ἡμᾶς, τοποῦμενον δὲ θεϊκῶς ὑπὲρ ἡμᾶς [и Его воление, будучи в точном смысле слова естественным, как у нас, располагается божески превыше (того, что обычно для) нас]). Col. 60. Образ рождения Христа по человечеству не должен служить препятствием к отождествлению человеческой природы Христа с нашей, подобно тому, как ипостасное отличие Сына не нарушает единосущия Его с Богом Отцом. Разбор изречения Григория Богослова о противлении человеческой воли воле Божественной (col. 60–61).
f) Последнее по времени написания письмо — к сицилийцам (col. 112–132). По предмету и цели написания оно имеет близкое сродство с письмами Максима к Анастасию монаху (t. I, col. 132–133) и Анастасия к каларийским (в Сардинии) монахам (t. I, col. 133–136). Предмет и цель написания всех трех совершенно одинаковы: отвержение и опровержение нового монофелитского мнения, предложенного Максиму на втором допросе в качестве согласительной формулы, о двух и об одной волях и действованиях во Христе. Столь тесная связь рассматриваемого письма с двумя названными письмами дает неоспоримое право на сопоставление их относительно времени написания. Письмо Максима к Анастасию написано после известного второго допроса Максиму, происходившего в 655 году, 22 апреля. И письмо к сицилийцам написано, до́лжно полагать, также после второго допроса: предмет и цель написания письма, как таковые, уместны были именно в это время или вообще во время судебного процесса над Максимом, когда он вынужден был защищаться от взведенных на него обвинений. А в письме к сицилийцам он оправдывается от вымышленных обвинений в солидарности с монофелитами относительно новой униальной формулы [171] и в приязненном отношении к Пирру. [172] Максим не оправдывается здесь в других многочисленных обвинениях, нужно полагать, просто потому, что обвинениям чисто политического характера он не придавал ровно никакого значения, заботясь лишь об ограждении православного исповедания, проповедуемого и защищаемого им, от произвольных искажений со стороны еретичествующих. Письмо Анастасия к каларийцам написано, как об этом прямо сказано в предисловии Анастасия к своему письму, [173] по просьбе Максима, переданной в письме к Анастасию. Следовательно, письмо к каларийцам написано также после времени второго допроса. Между тем предмет и цель написания его совершенно тождественны с предметом и целью написания письма к сицилийцам: о чем Максим писал через посредство Анастасия каларийцам, о том и, нужно думать, в то же самое время он лично писал к сицилийцам. Итак, связь письма к сицилийцам с двумя другими письмами дает основание думать, что оно написано не раньше второй четверти 655 года. С другой стороны, оно написано не позже 661 года, так как со времени последнего вызова в Константинополь Максим не имел физической возможности ни говорить, ни писать. Согласно времени написания, местом написания до́лжно считать или Константинополь, или места ссылки во Фракии, а не самый остров Сицилию, как полагает Комбефи на основании самого надписания письма. [174]
Содержание письма таково. Невозможно приписать Христу три воли и три действования, т. е. две и вместе одну волю, два и вместе одно действование (col. 113). Признание во Христе одного действования приводит к отрицанию единосущия Сына с Отцом и с Матерью и к превращению тварного человеческого существа в творческое, чудодейственное (col. 116, 117). Возражение монофелитов, основанное на признании личного единства двух природ Христа, разрешение этого возражения с точки зрения монофелитизма (одно действование Христа, как целого) и с точки зрения православия: общение свойств и обожествление человеческой природы Христа (col. 117, 120). Разъяснение смысла выражения св. Кирилла относительно «средних» или «общих» изречений Св. Писания в приложении ко Христу (col. 121–124). Истинный смысл выражения Кирилла «μὶαν τε καὶ συγγενῆ δι΄ἀμφοῖν ἐπιδεικνὺς τὴν ἐνέργειαν» [одно и сродное показав посредством обеих действование] и значение слова «συγγενὴς» (col. 124–125). Неопределенность и голословность монофелитского мнения об одном действовании Христа, как целого, и о двух природных действованиях (col. 125–128). Смысл одобрительного отношения Максима к Пирру, сказавшегося в ответном письме первого к последнему (col. 129–132).
Заканчивая обзор догматико-полемических писем [175] Максима, отметим одну общую всем им формальную особенность, характеризующую отношение его к лицам-адресатам. Во всех письмах отношение к лицам, к которым адресованы они, обрисовывается следующими чертами: повсюду, во всех письмах св. Максим восхваляет высокие качества (преимущественно благочестие и умственную зрелость) лиц, к которым он обращается (чем, обыкновенно, и начинаются письма), и смиренно исповедует свое ничтожество. [176] Обычный на языке Максима образ такого отношения к этим лицам — отношение ученика и слуги (раба) к учителю и господину. [177] Письма заканчиваются (обычно) просьбой помолиться за него и славословием Пресвятой Троицы. [178]
Рассмотренными письмами не исчерпывается весь круг письменных догматико-полемических трудов св. Максима по разъяснению догматического учения о двух волях во Христе. Кроме писем есть немало отдельных, по большей части довольно небольших по своему объему трактатов, посвященных раскрытию того или другого из догматических положений (большинство из них носит полемический характер) или уяснению и определению того или другого из философско-психологических понятий, затрагиваемых христологическим учением о двух волях во Христе. Таковы трактаты догматико-полемического характера: а) против настаивающих на признании одной энергии во Христе «κατ΄ ἐπικράτειαν» [по превосходству]; б) против признающих одно действование Божества и человечества Христа по аналогии с одним действованием производителя и орудия действия; в) против утверждающих одно сложное действование во Христе (col. 64); г) толкование 39 ст. XXVI гл. Евангелия от Матфея (col. 65–69); д) 10 глав «о двух природах Христа», против Ария, Нестория, Савеллия и Евтихия (col. 145–149); е) трактат о том, «ὅτι ἀδύνατον ἕν θέλημα λέγειν ἐπὶ Χριστοῦ» [что невозможно говорить об одной воле применительно ко Христу] (col. 268–269); ж) 10 глав о двух волях Христа — трактат, написанный к православным (col. 269–273).
Философско–психологического характера: а) «Ὅροι διάφοροι» [различные определения] (определение понятий «οὐσία» [сущность] и «φύσις τὸ ἐνυπόστατον» [природа (— это есть) воипостасное] — «ὁμοούσιον» [единосущное] — «ἐνούσιον» [всущественное, то-что-в-сущности] — «ὁμοϋπόστατον» [единоипостасное, тождественное по ипостаси], «οὐσιώδης ἕνωσις» [сущностное единство] и др. (col. 149–153); b) «Περὶ ὅρων διαστολῶν» [О пределах различий] (col. 212); с) «Ὅροι ἑνώσεων» [Пределы соединений] (col. 216), «Κεφάλαια περ΄ οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεως τε καὶ προσώπου» [Главы о сущности и природе, ипостаси и лице] (col. 260–264) и d) трактат «περὶ ψυχῆς» [о душе]: о бытии, сущности, природе и бессмертии души (col. 351–361). Сюда же, ко второй группе трактатов, может быть отнесено и одно из писем, родственное с ними по содержанию. Это письмо, неизвестно, когда и откуда написанное, к Феодору, пресвитеру Мацары (приморский город в Сицилии), «Περὶ ποιότητος, ἰδιότητος, καὶ διαφορᾶς» [О качестве, особенности и различии] (col. 245–257).
Относительно времени и места написания, а также назначения этих трактатов мы остаемся в совершенном неведении: назначались ли они для кого-нибудь или же на них до́лжно смотреть, как на заметки св. Максима, составленные им лично для себя — произнести об этом какой-либо окончательный приговор мы воздерживаемся. Судя по надписанию одного из трактатов («ἐγράφη δὲ πρὸς ὀρθοδόξους» [написано для православных], col. 269), позволительно догадываться, что и другие трактаты имели подобное же назначение. Но подобная догадка не дает решительного права на такое обобщение, произвол которого обнаруживается, между прочим, из того обстоятельства, что в трактате, носящем приведенное надписание, не раз встречается обращение («εὐλογημένοι» [благословенные], col. 272, 273), положим — безличное, но, тем не менее, оправдывающее надписание. Между тем, во всех прочих трактатах даже и такого общего или вообще какого бы то ни было обращения нигде не встречается.
«Диспут Максима с Пирром» по содержанию и характеру заключающихся в нем рассуждений Максима — так же, а по полноте и всесторонности захватываемого им христологического учения — еще и с большим правом, чем любое из рассмотренных писем, должен быть отнесен к догматико-полемическим трудам Максима Исповедника. Но, в силу той же полноты и всесторонности, он не может быть отнесен ни к той, ни к другой группе догматико-полемических трудов: полнее, чем каждое из писем, взятое в отдельности, он захватывает содержание той и другой группы, удерживая и направление полемики писем обеих групп. Вследствие особенной важности его содержания, а также в виду того обстоятельства, что при систематическом обзоре учения Максима нам придется обращаться к нему особенно часто, мы позволим себе представить более подробный, чем это мы делали по отношению к рассмотренным письмам, анализ содержания его, чтобы наши читатели имели возможность, специально не знакомясь с творениями св. Максима, убедиться в непроизвольности наших суждении и выводов при систематическом обзоре христологического учения Максима Исповедника.
Анализ содержания «Диспута Максима с Пирром».
Публичное состязание Максима с Пирром открылось вопросом со стороны последнего: «Я и предшественник мой (Сергий) что худого сделали тебе, господин авва Максим, что ты так сильно поносишь нас, публично приписывая нам еретическое мнение?» Максим отвечает, что причина этого заключается в отвержении со стороны Пирра и его предшественника Сергия православного учения, в утверждении одной воли Божества и человечества Христа (ἕν θέλημα τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἀνθρωπότητος αὐτοῦ δοξάσαντες [учивших об одной воле божества Христова и Его человечества]) и в навязывании своего измышления другим через «Ектесис». На вопрос Пирра, почему же такое учение о воле Христа Максим считает лжеучением, последний отвечает указанием на смешение Божественной творческой воли Христа с проявлениями Его человеческой воли, как на главную причину этого (col. 288). Не отвечая (пока) прямо на положение Пирра о единстве лица (εἰς ὁ Χριστός [единый Христос]), выставленное им в качестве основания для признания одной воли во Христе, единству лица Максим противопоставляет двойство природ Христа и утверждает вытекающую отсюда необходимость признания двух природных воль и действований во Христе, так как никоторая из природ не лишена воли и действования (εἴπερ οὐδέτερα αὐτῶν ἀθέλητός ἐστιν, ἢ ἀνενέργητος). Возражение Пирра, что две воли предполагают также и двух волящих, Максим опровергает через ту обратную последовательность, что при таком положении необходимо было бы в силу единства воли в Св. Троице признать вместе с Савеллием в Ней и одну ипостась или в силу Троичности Лиц — и три воли, а следовательно — три и природы (арианство) (col. 289).
На возражение Пирра, что совместное существование двух воль в одном лице немыслимо без взаимного противодействия их, Максим отвечает указанием на отсутствие причины, которая бы производила борьбу между двумя волями. Нельзя искать причины этого противодействия в самой природе воль, потому что по природе они поставлены Творцом вне условий борьбы; не могло оно возникнуть во Христе и вследствие греха, потому что Христос свободен от всякого греха.
Против мыслимости природной воли во Христе Пирр возражает, что при таком понимании пришлось бы допустить, что у Бога и святых одна природа (μία φύσις), так как по учению отцов Церкви у них (quasi) одна воля (ἕν θέλημα). Упрекнув Пирра в смешении понятий «воля» и «объект воли», Максим разъясняет, что, говоря об одной воле Бога и святых, отцы Церкви разумеют объект воли, а не природную волю, которая у различных сущностей (τὰ ἐτερούσια) различна. Из этого последнего положения Пирр делает поспешный вывод о разновидности воли и природы, смотря по индивидууму (col. 292). Ошибочность такого вывода Максим разоблачает через разграничение понятий «τὸ θέλειν» [желать] и «τὸ πῶς θέλειν» [желать некоторым образом]. Направление воли меняется, смотря по индивидууму, а способность воли неизменна: она одинаково присуща всем людям, как τοῖς ὁμογενέσι καὶ ὁμοφυέσι [единородным и единоприродным].
В ответ на другое возражение Пирра против мыслимости природной воли, направленное против самого понятия «природный», неразлучно мыслимого, по мнению Пирра, с предикатом необходимости, отрицания свободы (и наследующий отсюда вывод в отношении к «природным» волям Христа, утверждение которых равносильно отрицанию в Нем всякого свободного движения) — Максим показывает сначала фальшь самого исходного положения, на котором Пирр обосновывает свое возражение, а потом разоблачает нелепость его и со стороны тех выводов, которые с необходимостью следуют из него, резюмируя их в следующем общем положении. Если все природное имеет характер необходимости, принужденности, то не только Бог, абсолютная воля, но и все одаренное разумом, как обладающее природной волей, не свободно в своем волении, а все неразумное, не имеющее способности воли будет иметь свободное, непринужденное стремление (col. 293).
Уступая Максиму и допуская вместе с ним две природные воли во Христе, Пирр предлагает Максиму признать вместе с тем и одну волю Христа, в том же самом смысле, в каком говорится об одной сложной ипостаси Христа. Решительно отвергая предложение Пирра, св. отец представляет три довода против мыслимости подобного рода единства воли, сводя их к следующему общему положению: предполагаемое соединение двух воль, как и природ, немыслимо, потому что между ними нет ничего общего, кроме ипостаси. А общность славы и уничижения, о которой говорят отцы Церкви, объясняется τῷ τῆς ἀντιδόσεως τρόπῳ [образом обмена (свойствами)], существование которого предполагает позади себя двойство природ и воль (col. 296).
Не настаивая на необходимости признания одной сложной воли, Пирр снова направляется к высказанному им вначале основоположению, затрагивая вопрос о воле как principium movens, и спрашивает: «движение (т. е. хотение) плоти не определялось ли мановением (т. е. волей) соединенного с ней Слова?» Указав на непригодность точки зрения Нестория на лицо Христа, с которой только и может быть понято возражение Пирра, Максим доказывает, что человеческая природа Христа совершала свои естественные движения из собственного импульса, причем ссылается на существование во Христе врожденной человеку силы самосохранения, показателем которой служит, например, чувство страха перед смертью (col. 297). Вторично Пирр делает попытку вовлечь Максима в компромисс: показывая вид, что разногласие между ними сводится, в существе дела, «к утонченному и для большинства непонятному способу выражения», Пирр приглашает Максима, оставив спорные выражения, исповедовать Одного и Того же, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве. Максим отвечает ему ссылкой на отцов Церкви и соборы, которые заповедали признавать не только две природы, но и свойства каждой природы, следовательно — и две воли, так как, по мнению даже самих противников, хотение составляет существенное свойство природы. Некоторое побуждение для признания двух воль Максим указывает также в антитезе лжеучению Аполлинария и Ария (col. 300).
Снова Пирр возвращается к понятию «природной» воли, признать которую сам он не прочь, но его соблазняет «общественное мнение», не допускающее существования «природной» воли. Выходя из сопоставления отличительных свойств трех родов органической жизни, Максим устанавливает то неоспоримое положение, что отличительное свойство природы разумных существ составляет свобода воли или вообще способность воли (ἡ αὐτεξούσιος κίνησις [самовластное движение]), откуда само собой следует, что во Христе должно исповедовать две природные воли. Пирр соглашается с тем, что во Христе — природные воли и отказывается от слияния их в одну (Ἐγὼ… ἐπείσθην, φυσικὰ εἶναι τὰ ἐπὶ Χριστοῦ θελήματα… καὶ ὃτι οὐ δυνατὸν εἰς ἓν θέλημα ποτε συμπεσεῖν ἀλλήλοις [Я… убедился, что воли у Христа являются природными… и что им невозможно когда-либо соединиться в одну волю] (col. 301)). Но, хотя он и говорит, что в высшей степени убежден (ἐγὼ μὲν ἢδη ἐν τοῖς φθάσασι ἐπείσθην), что во Христе — природные воли, однако безусловного согласия на признание положения противника не дает. Во-первых, он осторожно избегает употребления выражения «δύο», а во-вторых, он еще колеблется, его смущает отрицательное мнение «византийцев» относительно действительности человеческой воли Христа, по которому Христос усвоил Себе человеческую волю лишь относительно (κατ΄ οἰκείωσιν) [по присвоению]. Приступая к опровержению этого последнего мнения, Максим возвращается к ранее установленному им положению о воле как существенном свойстве человеческой природы, аргументируя его в настоящем случае более подробно. Аргументация слагается из четырех доводов, исходящих из понятий а) прирожденности, b) разумности, с) общности всем людям и d) из воззрения на человека, как на образ Божий. Убедив противника в том, что воля врожденна человеку (col. 304), Максим показывает нелепость мнения «византийцев» (т. е. монофелитов) со стороны того вывода, который неминуемо следует из него: вочеловечение Христа — фикция, а не действительность. Мнение отцов Церкви о подчинении человеческой воли Христа воле Божественной не на руку монофелитам: оно имеет нравственный смысл (col. 305).
В ответ на замечание Пирра, что в видах установления высочайшего единства воли, византийцы учат о «θέλημα γνωμικὸν», Максим разъясняет, что о «θέλημα γνωμικὸν», как о произвольной склонности воли, предваряемой изысканием средств для осуществления намеченной цели, колебанием и решимостью на выбор между «да» и «нет», не может быть и речи в приложении к человеческой природе Христа (col. 308), потому что человеческая природа вообще, по самому бытию своему и через сопричастность Божеству, а тем более человеческая природа Христа Богочеловека, имела исключительную склонность к добру и отвращение от зла. На вопрос Пирра о причине неодинаковой добродетельности в людях, не смотря на прирожденность ее, Максим отвечает указанием на различие в образе жизни людей (col. 309). Пирр разделяет приговор Максима относительно «θέλημα γνωμικὸν». Уклоняясь на время в сторону и сделав замечание о различных значениях, соединяемых со словом «γνώμη» в Св. Писании и у отцов Церкви, Максим снова обращается к учению византийцев, рассматривая его на этот раз со стороны цели, преследуемой им. Никак нельзя согласиться с тем положением, что во Христе «одна» воля, потому что такая воля не может быть названа ни Божественной, ни ангельской (в смысле посреднической), ни человеческой. Вопреки мнению византийцев (ἐπιτηδειότητι προσεῖναι, т. е. τὸ θέλημα, ἡμῖν φάσιν) [не могу перевести без контекста], нельзя считать ее и нашей личной собственностью, так как допущение подобной воли во Христе приводит к несторианскому воззрению на лицо Христа (постепенное нравственное совершенствование), разделяемому монофелитами; она не может быть названа и «θέλημα ὔποστατικὸν» [ипостасная воля] или «θέλημα παρὰ φύσιν» [воля вопреки природе, противоестественная воля] (col. 312–313). Существования во Христе «одной» воли нельзя допустить также и потому, что одна воля заставляет мыслить одну и природу, а общей обеим природам воли не может быть.
Доводы Максима Пирр признает вполне убедительными; он хотел бы только знать, насколько правы византийцы, ссылаясь на учение отцов Церкви. Максим отвечает указанием истинного, произвольно искажаемого монофелитами смысла тех изречений отцов Церкви, на которые обыкновенно ссылаются противники. Это следующие изречения: Григория Богослова — «τὸ γὰρ ἐκείνου θέλειν οὐδεν ὑπεναντίον τῷ Θεῷ, θεοωθὲν ὅλον» [Ибо Его воление ни в чем не противно Богу, полностью обожено] (col. 316); Григория Нисского — «ἡ ψυχἡ θέλει, το σῶμα ἅπτεται δι΄ἀμφοτέρων φεύγει τὸ πάθος» [Душа волит, тело прикасается, посредством обоих уходит недуг] (толкование на Мф. VIII:3; Мк. I:41; Лк. V:13); Афанасия Великого — «Νοῦς Κυρίου οὔπω Κύριος, ἀλλ΄ ἢ θέλησις, ἢ βοὺλησις, ἢ ἐνέργεια πρός τι» [Ум Господень — еще не Господь, но воля, желание, действование, направленное на что-то]; его же другое — «Εγεννήθη ἐκ γυναικός, ἐκ τῆς πρώτης πλάσεως τὴν ἀνθρώπου μορφὴν ἑαυτῷ ἀναστησάμενος, ἐν ἐπιδείξει σαρκὸς, δίχα δὲ σαρκικῶν θελημάτων, καὶ λογισμῶν ἀνθρωπίνων, ἐν εἰκόνι καινότητος. Ἡ γὰρ θέλησις, θεότητος μόνης» [Родился от жены, от первого создания восставив Себе человеческий образ, в принятии плоти, но без плотских желаний и человеческих помышлений, во образ обновления. Ибо воление — одного лишь божества]. Разбор приведенных изречений отцов Церкви Максим заключает такими словами: «Итак, богомудрые учители Церкви, в полном согласии с евангелистами, апостолами и пророками, учили, что Господь наш и Бог Иисус Христос по обеим своим природам хотел и действовал наше спасение». В удостоверение того, что учение признанных авторитетов Церкви имеет для себя твердое основание в Св. Писании Ветхого и Нового Заветов и вполне согласно с ним, Максим приводит, по просьбе Пирра, следующие места Писания: а) говорящие о проявлениях «человеческой воли» Христа (col. 317, 320): Ин. I:43 и XVIII:24; Мф. XXVII:34; Ин. VII:1; Мк. IX:30; Лк. VII:24; Мк. VI:48; Лк. XX:8–9; Филип. II:8; Пс. XXXIX:7–9; Быт. I:26. Из толкования последнего места Максим делает тот вывод, что человек, как образ Божества (абсолютно свободного Высочайшего Существа), от природы наделен свободной волей (col. 321, 324). (По поводу слова «αὐτεξουσιότης» [самовластие] Максим мимоходом замечает, что «αὐτεξουσιότης» как и «φύσις», имеют различные степени совершенства в Боге, ангелах и человеке). Христос по своему человечеству также обладал человеческой природной волей: восприятие ее в ипостасное единство Слова было необходимо для всецелого изъятия нас от греха, как следствия падения, первовиновницей которого была свободная воля первого Адама. b) В удостоверение проявлений «Божественной природной воли» Христа приводятся два места: Мф. XXIII:37–38 и Ин. V:21 (col. 325). «Таково учение (δόγμα) евангелистов, апостолов и пророков, — заключает Максим, — удостоверяющее, как нельзя более, в том, что Христос по природе обладал способностью воли и как Бог, и как человек».
Пирр вполне разделяет такое заключение Максима, но его смущают трактат (λίβελλον) Мины об «одной» воле, полученный папой Вигилием, и ответное послание Гонория к Сергию. Оставляя в стороне послание Мины, так как сообщения о нем Сергия и Пирра разноречивы, в рассуждении относительно характера послания Гонория Максим указывает на известную апологию Иоанна IV, выясняющую, что, отвечая на послание Сергия, Гонорий говорил о «ἕν θέλημα» не Божества и человечества Христа вместе, а только человечества. На замечание Пирра, что предшественник его, Сергий, взглянул на послание Гонория проще, Максим упрекает Сергия в непостоянстве и изменчивости в делах веры (col. 328, 329), вопреки которым сочинение (χάρτας, т. е. ἔκθεσις) последнего опубликовано и принято монофелитами и послужило причиной разделения церквей. Извиняя Сергия и себя в издании и принятии «Ектесиса», Пирр сваливает вину в церковных нестроениях на Софрония, несвоевременно возбудившего вопрос о действованиях. Указав на существование предшествовавших времени выступления Софрония на полемическое поприще письменных переговоров Сергия с Феодором Фаранским, Павлом Одноглазым, павлианистом Арзой и Киром относительно принятия униальной формулы «μιά ἐνέργεια», Максим очевидным образом дает своему противнику понять, что не Софроний, а изворотливый Сергий, «предложивший собственную язву (т. е. лжеучение) обществу», αἴτιος τοῦ τοιούτου γέγονε σκανδάλου.
После того, как вопрос о волях, по признанию самого Пирра, был достаточно исчерпан и все доводы его ниспровергнуты, Максим без особенного желания со стороны оппонента входит в рассуждение о действованиях. Начав с того, что Пирр приписывает Христу, как целому, одно действование (μίαν ἐνέργειαν Χριστοῦ, ὡς ὅλου), Максим разъясняет, что такое одно действование есть личное (ἐνέργεια ὑποστατικὴ), допущение которого равносильно разделению и извращению лица Христа (col. 332–333).
Пирр возражает, говоря, что если в рассуждении о действованиях во Христе исходить из понятия о различии природ, то Христу придется приписать не два, а три природные действования, на том основании, что человек состоит из двух неодинаковых природ. Указав на то, что рассуждающие подобным образом обращают собственное оружие против самих же себя, Максим разъясняет, что понятие «человек» есть родовое понятие (εἶδος), обнимающее душу и тело, и что когда говорится о природном действовании человека, то разумеется ἡ κατ΄ εἶδος ἐνέργεια [действование, соответствующее виду], а не κατ΄ οὐσίαν ψυχῆς καὶ σώματος [соответствующее сущности души и тела], почему и говорится не неопределенно (άπροσδοιορίστως), не просто «ἐνέργεια», но с прибавлением (ἀλλὰ προσεπάγοντες) «τοῦ ἀνθρώπου» [человека].
Другое возражение Пирра против двойства природных действований (а именно: различие действований предполагает различие лиц) по существу своему совершенно одинаково с подобным же возражением против двойства воль. В опровержение настоящего возражения Максим говорит то же самое, что́ сказано было им в опровержение возражения против двойства воль, присоединяя в настоящем случае лишь то общее положение, что природное действование у всех людей совершенно одинаково (одно и то же), не смотря на бесконечное множество лиц, индивидуумов. В интересах приближения к человеческому пониманию возможности совместного существования двух действований в одном лице Богочеловека Максим приводит две аналогии: одну он заимствует от нас самих (единство сознания при двойственности состоянии), другую — от явления раскаленного меча (совмещение двух свойств в одном предмете) (col. 336–337).
Исходя из того основоположения, что εἷς ἦν ὁ ἐνεργῶν [был лишь один действующий (субъект)] во Христе, Пирр признает μίαν ἐνέργειαν Христа. Максим доказывает неуместность исходной точки зрения Пирра и ложность его воззрения. Действование, как и воля, есть свойство природы, а не лица, отсюда во Христе — δύο ἐνέργειαι, в силу двойства природ. Признание ἐνέργεια за ὑποστατικὴ приводит к абсурду и к извращению лица Богочеловека. Пирр возразил было, что они признают μίαν ἐνέργειαν τῆς θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ… ἑνώσεως τρόπῳ [одно действование божества и человечества Христова… в смысле единения]. Максим ответил ему на это, что такое воззрение приводит к не меньшему абсурду: к отрицанию силы творчества во Христе до соединения с плотью и к отрицанию бытия Бога Отца и Духа Святаго; кроме того, слияние двух действований с совершенно противоположными определениями решительно невозможно. На вопрос Пирра о том, не солидарен ли Максим с теми, которые произведение (τὸ ἀποτέλεσμα) совершенных Христом дел (ἔργων) признают за μιά ἐνέργεια, Максим отвечает, что два природных действования, несмотря на соединение их в одном лице, производят не одно, а двоякое действие. Для разъяснения этого положения он и здесь прибегает к аналогии раскаленного меча (col. 340–341).
С почвы умозрений Пирр переносит разговор на почву строго церковную. Обращаясь к учению церковных авторитетов, он находит, что «благочестивому мнению» противника о двух волях во Христе противоречит учение Кирилла Александрийского, который выражался, между прочим, так: «Христос обнаружил μίαν συγγενῆ δι΄ἀμφοῖν ἐνέργειαν» [одно сродное посредством обоих действование]. Максим разъясняет, что приведенное выражение говорит «не об одном природном действовании Божества и человечества Христа вместе, но об одном Божеском действовании, καὶ ἄνευ σαρκὸς, καὶ μετὰ σαρκὸς [и без плоти, и с плотью], существенно присущем воплотившемуся Богу Слову», в силу которого Он совершал свойственное Божеству двояким образом (δι΄ἀμφοῖν): «не только ἀσωμάτως [бестелесно], через творческое мановение», но вместе с тем и «σωματικῶς [телесно], через прикосновение собственной плоти». Равным образом и в совершении через человеческое природное действование свойственного человеку в Нем сказывался вместе с тем «действующий по природе Бог». Соглашаясь с тем, что приведенное изречение св. Кирилла вовсе не противоречит признанию двух действований во Христе, Пирр недоумевает, как понимать такое выражение Дионисия Ареопагита о Христе: «Он явил ἐν ήμῖν καινήν τινα θεανδρικὴν ἐνέργειαν». Указав на невозможность понимания богомужного действования в смысле «количественно нового», Максим объясняет, что, понимаемое в смысле «качественно нового», «новое богомужное действование» обозначает не μίαν ἐνέργειαν, но «новый и неизъяснимый образ обнаружения природных действований Христа» (col. 344–345). На вопрос Пирра, не обозначает ли «ἡ θεανδρικὴ» «μίαν, т. е. ἐνέργειαν», Максим отвечает, что описательное выражение «θεανδρικὴ» указывает на «τὰς ἐνεργείας τῶν ἀριθμουμένων [действования перечисляемых] (в этом слове) φύσεων [природ]», помимо которых (природных действований) нельзя мыслить какого-нибудь иного, среднего действования, одного богомужного, не нарушая равенства Сына с Богом Отцом. В ответ на неожиданное замечание Пирра, что θεανδρακὴ ἐνέργεια берется в смысле «существенно новой», Максим разъясняет, что и такое понимание все равно приводит к отрицанию единосущия и равенства (тождества в отношении Божеского действования, проявляющегося в творении, промышлении и в совершении чудес) Сына с Отцом после воплощения, вопреки ясному свидетельству целого ряда евангельских изречений: Ин. V:17, 19, 21; Ин. X:38, 25. Последнее объяснение, данное Пирром в оправдание учения об одном действовании, принимаемого «οὐκ ἐπ΄ ἀναιρέσει τῆς ἀνθρωπινής ἐνεργείας· ἁλλ΄ ἐπειδὴ ἀντιδιαστελλομένη τῇ θείᾳ ἐνεργειᾳ, πάθος λέγεται (т. е. ἀνθρωπίνη ἐνέργεια) κατὰ τοῦτο» [не к упразднению человеческого действования, но так как, будучи противопоставляемо божественному действованию, оно (т. е. человеческое действование) называется поэтому страданием], Максим изобличает в нелогичности и произвольности. Бытие (ὕπαρξις) всякой вещи познается или определяется не через противоположение (col. 348–349), и отцы Церкви называли человеческое действование страданием (πάθος) не в смысле противоположения его Божественному.
Приведенный доводами Максима к сознанию того, что учение об одном действовании, принимаемое в каком бы то ни было смысле, есть действительно нелепость, Пирр более не возражал. Чем закончилось публичное состязание Максима с Пирром, нам известно.
Против подлинности «Диспута» в том его виде, в каком он сохранился до нашего времени, существуют два возражения: одно касается характера изложения содержания «Диспута», другое — поведения Пирра в разговоре с Максимом. Указывают, во-первых, на то, что «Разговор Максима с Пирром» в сохранившихся до нас актах представляет скорее последовательное изложение православного учения, чем разрешение возражений противника; во-вторых — на то, что в споре с Максимом Пирр обнаруживает слишком большую уступчивость. [179]
Первое возражение, бесспорно, имеет свое основание в том положении дела, что разговор Максима с Пирром был записан нотариями и ими же, вероятно, а не самим Максимом был описан. [180] Довольно правдоподобное и весьма возможное явление, что разговор был воспроизведен (описан) не целиком, а с возможными и довольно уместными сокращениями, касающимися развития положений Пирра, чем и может быть объяснена сравнительная краткость этих последних. Но едва ли эти сокращения можно распространять и на положения Максима: они довольно пространны и при том в большей части представляют прямо разрешение возражений Пирра, а не наоборот, как думает Гефеле.
Что касается другого возражения, то разрешение для себя оно находит отчасти в предполагаемом сокращении положений Пирра, а главным образом — в поведении и положении Пирра. Пирр, подобно своему предшественнику Сергию, которого в разговоре с Пирром Максим справедливо упрекал «в изменчивости и непостоянстве мысли» [181] (а косвенным образом, думается, Максим посылал этот упрек и самому Пирру), не отличался ни прямотой, ни твердостью убеждений в делах веры, о чем красноречиво говорит вся дальнейшая история его жизни. Хорошо понимая свое положение и, вероятно, имея в виду, вследствие ожидаемой политической перемены, через уступчивость в публичном состязании заявить о своем исправлении и таким путем добиться сближения с православными и, быть может, даже восстановления в патриаршем звании (что и оправдывается путешествием его в Рим), Пирр, надо полагать, намеренно вел себя уступчиво по отношению к Максиму. По крайней мере, то обстоятельство, что после, как мы видели, Пирр снова вернулся к тому самому заблуждению, в котором он публично сознался перед Максимом и исповедался перед папой, достаточно говорит за то, что поведение Пирра в разговоре с Максимом не было искренно.
Часть вторая, догматическая
Систематический очерк христологического воззрения Максима Исповедника
Догматико-полемические труды Максима Исповедника, посвященные раскрытию догматического учения о двух волях во Христе, дробятся на множество писем и трактатов, предназначавшихся различным лицам. В силу последнего обстоятельства, изучаемые нами труды св. Максима в том виде, в каком они существуют, и в их общей совокупности не представляют из себя упорядоченного целостного труда. Из представленного нами в конце первой части нашего исследования краткого очерка главного содержания догматико-полемических трудов св. отца видно, что письма и трактаты, адресованные к различным лицам, не представляют относительно друг друга ни продолжения, ни дальнейшего развития и логической последовательности, ни обобщений и выводов или чего-либо подобного; одним словом — не представляют из себя с внешней стороны целостного систематического труда. Тем не менее, они — более чем один только богатый догматический материал, как некоторые смотрят на догматико-полемические труды св. Максима. [182] Связанные единством общего предмета и цели, относительно отдельных положений в большинстве (особенно диспут с Пирром и догматическое послание «о двух волях Христа») они представляют явные следы внутренней связи, в силу чего на содержание их позволительно смотреть как на отдельные моменты того целостного воззрения, какое должен был иметь св. Максим на раскрываемое в его трудах христологическое учение. Связать эти отдельные моменты в одно целое, т. е. путем общего обзора всех догматико-полемических трудов св. отца дать целостное представление о христологическом воззрении Максима или — что то же — представить систематический очерк христологического воззрения Максима на раскрываемое в его трудах учение и составляет задачу настоящей, второй, части нашего исследования.
Путь или направление, по которому мы должны следовать при выполнении настоящей нелегкой задачи, намечен отчасти самим Максимом: аналогия «раскаленного меча», которой в широких размерах пользуется он для приближения к пониманию со стороны человеческого разума таинственного и беспримерного явления Бога Слова во плоти, в значительной степени облегчает труд воспроизведения образа целостного представления о христологическом воззрении Максима Исповедника.
При всем том, возможно, что строгая систематизация учения св. Максима о двух волях во Христе — дело поистине нелегкое. Предмет, полный богословских тонкостей, каково учение о двух волях во Христе, облекается у св. отца в форму отвлеченных философских умозрений, осложняемых привнесением в них нравственного или психологического элемента. Серьезная трудность работы по существу увеличивается еще вследствие того обстоятельства, что догматико-полемические труды Максима до сих пор, насколько нам известно, не подвергались более или менее обстоятельному (не говорим — специальному) исследованию ученых богословов. Слава и значение этого замечательного в свое время ученого полемиста умерли вместе с ним. Все, что сделано до сих пор по части изучения рассматриваемых нами трудов, ограничивается небольшими трактатами немецких, католических и протестантских, богословов: Брауна, Шване, Дорнера, Баура, Томазиуса и некоторых других, в своих более или менее специальных исследованиях уделяющих рассуждениям относительно учения Максима всего лишь по несколько страниц. Притом все они главное внимание обращают на диспут Максима с Пирром, как на главный момент монофелитских споров, указывая главные черты его содержания и по местам вставляя краткие критические замечания относительно тех или других положений св. Максима и его противника.
Ценный сам по себе небольшой труд Брауна учения Максима почти вовсе не затрагивает. И собственно для нас он представляет интерес лишь потому, что, верно понимая задачи монофелитского движения и отчасти сущность диофелитизма, он может служить для нас верным указателем того, какого направления нам до́лжно держаться при разъяснении недостаточно полно и ясно выраженного у Максима учения об отношении двух совершенных природ Христа к единой ипостаси Слова. В этом отношении Браун оказывает нам немаловажную и незаменимую услугу.
Между остальными вышеназванными богословами первое место принадлежит, бесспорно, католическому богослову Шване. Его рассуждения отличаются трезвостью взгляда, делающей честь почтенному богослову, но им недостает того, что называет с я глубиной анализирующей мысли. Приводя известное положение диофелитизма или монофелитизма, в разъяснении его Шване не идет далее ясно выраженного в нем, чем и объясняется, между прочим, то обстоятельство, что при разъяснении учения Максима он ограничивается приведением и подбором собственных выражений св. отца. Другое видное достоинство рассуждений Шване состоит в том, что в них заметны следы некоторой систематизации учения Максима. Он последовательно и раздельно трактует: под рубриками 1 и 2 — о положительных доказательствах, приводимых Максимом в оправдание диофелитизма; 3 — о целости обеих природ Христа, как «самом важном рациональном основании для диофелитизма»; 4 — об образе действия человеческой природы Христа; 5 — о присущей человечеству Христа свободной воле и об отсутствии в нем «θέλημα γηωμικὸν»; 6 — об известном основании, заимствуемом от тайны Троичности; 7 — о различии между объектом воли и способностью воли (природной волей); и 8 — об ошибочности познания сущности вещей через противоположение. [183] Как католик, он остается верен Максиму и во взгляде последнего на Гонория: [184] в этом отношении он небеспристрастен, хотя и не непоследователен.
При высоком взгляде на личность Максима как богослова-полемиста, суждения протестантского богослова Дорнера в большинстве пристрастны и ошибочны по существу. Отдавая должное значению полемической деятельности Максима и высоко ценя заслуги его как богослова-догматиста, [185] Дорнер, как истый протестант, совершенно ошибочно считает Максима выразителем, даже первым провозвестником начал «нравственной» христологии, [186] граничащих, по его мнению, с несторианством.
Не менее ошибочны, но еще более односторонни взгляды другого протестантского богослова Баура. Этот последний не придает ровно никакого значения вообще диофелитизму, как явлению историческому, усматривая в нем шаг назад и ставя его на одну доску с монофелитизмом. [187] Личное воззрение Баура на диофелитизм как ортодоксальное учение таково же, как и воззрение Дорнера. [188]
Такого же воззрения на диофелитизм держится и Томазиус. [189] Достойно внимания то обстоятельство, что все три — Дорнер, Баур и Томазиус (особенно первый и последний) — смотрят на Максима как на выразителя того истинного диофелитизма, каким он должен быть, по их протестантскому воззрению, [190] на самом деле. В явлении же церковного диофелитизма (т. е. как он определился на VI Вселенском соборе), отличаемого ими от воззрения св. Максима, видят уклонение от истинного диофелитизма Максима [191] или заблуждение, более или менее близкое будто бы к монофелитизму.
Вот почти и все, что можно встретить в иностранной литературе нашего предмета. А в русской (печатной) богословской литературе не найдете ни слова по части изучения занимающего нас предмета; самые творения Максима Исповедника до сих пор не переведены на русский язык.
Отлично сознавая трудность выполнения задачи, вторую часть нашего исследования безопаснее было бы назвать попыткой систематизации разбираемого учения Максима.
Рассматривая догматико-полемические труды Максима, легко заметить, что догматическое учение о двух волях во Христе раскрывается у Максима везде с двух сторон: с положительной стороны (положительное учение православной Церкви) и со стороны отрицательной (путем опровержения и отвержения монофелитизма). Причем эти две стороны раскрытия означенного учения до того крепко переплетаются, что попытка совершенно раздельного в этом смысле изложения, чем бы ее ни мотивировали, была бы совершенно напрасна и неуместна. Тем не менее, в видах раздельности изложения, где и насколько, разумеется, она возможна, мы предлагаем очерк христологического воззрения Максима сначала с положительной стороны.
Глава I.
Учение о двух естествах, как исходный пункт христологии Максима.
В силу тесной связи диофелитизма (так будем называть, для краткости, православное учение о двух волях во Христе) с вероопределением Халкидонского собора, исходным пунктом при решении вопроса, прямо поставленного при самом начале монофелитского движения, для Максима, как и для всякого другого защитника православного учения, служила та сторона соборного вероопределения, по которой Христос признается обладающим двумя совершенными природами, Божеской и человеческой. Причина такой именно, а не иной постановки дела кроется в природе или характере того предмета, о котором был поднят вопрос.
«Во Христе две природы» (δύο φύσεις) — вот положение, которое одни принимали за безусловно истинное, другие, напротив, более или менее решительно отвергали. Неодинаковость подобного отношения зависела исключительно от неодинаковости определения понятий «φύσις» и «ὑπόστασις».
В определении понятий «φύσις» и «ὑπόστασις» христология Максима стоит на той точке зрения, по которой φύσις и οὐσία (сущность) есть одно и то же. [192] От них отличается ὑπόστασις, тождественное с πρόσωπον, [193] но не одинаковое с τὸ ἄτομον (individuum), которое имеет несколько иной смысл, чем ὑπόστασις. [194] Не таково употребление этих понятий у монофизитов, и монофелитов, и отчасти у несториан.
Монофизиты, а вслед за ними и монофелиты, не разграничивают между понятием «φύσις» и понятиями «ὑπόστασις» и «τὸ ἄτομον» [неделимое]: все три понятия употребляются у них как тождественные. Во взгляде на значение понятия «οὐσία» две крупные партии монофизитов, севериане и юлианисты, расходятся между собой. Севериане отличали его от понятий «ипостась», «природа» и «индивидуум». [195] Уча об одной природе (φύσις) Христа, они различали в Нем две сущности (οὐσίαι). А юлианисты отождествляли все четыре понятия: по их учению, во Христе не только одна природа (μία φύσις), но одна и сущность (μία οὐσία). [196]
На языке несториан понятия «φύσις» и «ὑπόστασις» сводятся также к одному и тому же: во Христе две природы, следовательно (умозаключали они) — два и лица (ὑποστάσεις). Но наряду с признанием двух лиц они учили прикровенно об «ἕν πρόσωπον», [197] ссылаясь при этом на образ выражения Кирилла Александрийского, у которого (во втором письме к Сукцессу), между прочим, есть такое выражение: «После принятия плоти, разумно одушевленной, οὐκ εἰς δύο μερισθήσεται διὰ τοῦτο πρόσωπα καὶ υἱοὺς, ἀλλὰ μεμένηκεν εἰς, πλὴν οὐκ ἄσαρκος» [не разделится из-за этого на два лица и на двух сынов, но пребыл одним, разве что не бесплотным]. [198]
С понятиями «φύσις» и «ὑπόστασις» у Максима соединяется такой смысл. Мыслимая in abstracto природа (φύσις) или сущность (οὐσία) есть нечто общее (κοινὸν) — «τὸ εἶδος [вид, род], прилагаемое ко многим, численно различным, через что нечто становится тем, что оно есть» (ἐν τῷ ὁποῖὸν τί ἐστι). [199] Лицо (ὑπόστασις), в отличие от природы, есть нечто особенное (ἴδιον). [200] Например, понятие «человек» есть обозначение природы, общей всем людям, а имя каждого отдельного человека (Петр, Павел и т. п.) есть обозначение лица или индивидуума, отличающегося от всех прочих людей индивидуальными особенностями (ἰδίοις προσωπικοῖς ἰδιώμασι). [201] Как нечто общее, как τὸ εἶδος, природа есть просто предикат всего того, что имеет бытие, что́ существует (ἡ μὲν φύσις τὸν τοῦ εἶναι λόγον κοινὸν ἐπέχει, ἡ δὲ ὑπόστασις, καὶ τὸν τοῦ καθ΄ ἑαυτό εἶναι) [природа обладает общим логосом бытия, а ипостась — также и логосом бытия по самому себе (т. е. самостоятельного, индивидуального)], [202] и сама по себе не имеет самостоятельного действительного существования. Самостоятельность и реальность бытия всякая природа получает в индивидууме, [203] а человеческая природа — в ипостаси или в лице, отличительную особенность которого составляет независимое, самостоятельное бытие (τὸ καθ΄ ἑαυτὸ εἶναι). [204] Отсюда природа называется ἐνυπόστατος — существующей в ипостаси, так как в действительности, in concreto, природа никогда не бывает ἀνυπόστατος, т. е. безличной. [205] В самом деле, мы не знаем ни одного такого примера, чтобы, например, человеческая индивидуальная природа в действительности не принадлежала какому-либо лицу: индивидуальной безличной природы вовсе не существует. Следовательно, поскольку общая природа мыслится в действительности, in concreto, она мыслится принадлежащей непременно одному определенному лицу, т. е. всякая природа в действительности непременно индивидуальна. [206] А так как реальность бытия или действительное существование всякая общая природа приобретает именно через принадлежность определенному индивидууму, то самое существование конкретной природы имеет необходимую связь с признаком индивидуальности: последняя составляет непременное условие первого. Следовательно, и существование общей разумной природы (οὐσία ἔμψυχος λογικὴ [сущность одушевленная, разумная] или νοερὰ [умная]), т. е. природы разумных существ, связано с принадлежностью определенному индивидууму, носящему особое название лица (ὑπόστασις), которое (название) имеет свой глубокий смысл. Таким образом, понятия «individuum» и «ὑπόστασις» имеют между собой связь и в некоторой степени являются однозначащими. Отличительную особенность их составляет одно (так как τὸ ὑφιστάμενον, прилагаемое к индивидууму, равно τὸ καθ΄ ἑαυτό εἶναι, прилагаемому к лицу), [207] и это одно есть отдельное, самостоятельное существование, бытие через себя (в противоположность общей природе); отсюда — индивидуальность есть некоторый признак личности. Вот, где скрывается основание для отождествления этих двух понятий у монофизитов и монофелитов.
Под условием индивидуализации общей природы, последняя приобретает определенное реальное содержание: это совокупность всех свойств, существенных и случайных (αἱ ποιότητες οὐσιώδεις καὶ ἐπουσιώδεις; например — ἐπιστήμη ἐν ψυχῇ [знание в душе] и χρῶμα ἐν σώματι [цвет в теле]), которые сами по себе не составляют сущности и отдельно от нее не существуют, но всегда мыслятся существующими в сущности и неотделимы от нее, [208] почему вся совокупность их и называется «τὸ ἐνούσιον» [всущественное] [209] или «τὸ φυσικον» [природное]. [210] Существенные свойства носят особое название: «ἰδιότητες φύσεως», [211] «свойства индивидуальной природы» — название, указывающее как раз на то, что истинное совершенное бытие (реальность содержания) природа получает в том или другом индивидууме, почему ἰδιότητες φύσεως и называются «γνωρίσματα τῆς τελειότητος» [признаки совершенства], [212] «приметами, знаками совершенства природы» или просто «совершенствами природы». К числу совершенств природы относятся, между прочим, и такие, которые служат показателями относительного совершенства различных (по роду) природ. Кроме «τῆς θείας ζωῆς» [божественной жизни], Максим различает три [213] рода сущностей (οὐσία) или три рода жизни (εἴδη ζωῆς): «οὐσια αὐξητικὴ» [растущая жизнь] или «φυτικὴ ζωὴ» [растительная жизнь] (растение), «οὐσία ἔμψυχος αὐσθητικὴ» [сущность одушевленная чувственная] или «αὐσθητικὴ ζωὴ» [чувственная жизнь] (всякое животное) и «οὐσία ἔμψυχος αὐσθητικὴ καὶ λογικὴ» [сущность чувственная и разумная] или «νοερὰ ζωὴ» [умная жизнь] [214] (человек). Каждому роду жизни свойственна известная особенность (ἴδιον), указывающая на степень его относительного совершенства. Разумно одушевленному существу, человеку принадлежит высшая степень совершенства. По самой природе своей он обладает свободой (ὴ αὐτεξούσιος κίνησις [самовластное движение]) или волей (θέλησις), так как по употреблению у отцов понятия «воля» и «свобода» в некотором смысле тождественны. [215] Кроме свойств, общих всем индивидуумам известной природы, каждый индивидуум обладает известными индивидуальными особенностями (ἰδίοις προσωπικοῖς ἰδιώμασι), отличающими его от всех прочих, которые с ним ὁμοούσιοι [единосущны]. [216] Таковы, например, в Боге нерожденность Отца, вечная рождаемость Сына от Бога Отца и вечное исхождение Духа Святаго от Отца. [217]. Все φυσικὸν [природное], все ἰδιότητες φύσεως [особенности природы] одинаково существенны для понятия одушевленной природы (разумеется, индивидуальной), столь же существенны, как и признак бытия, [218] и в действительности неотделимы от природы. Но из всех существенных определений для понятия разумно одушевленной природы самое существенное, самое характерное [219] — «αὐτεξουσιότης», присущее душе и как «γνώρισμα» относительного совершенства указывающее на особенное значение души для жизни человека. [220]
Во взгляде на отношение между ὑπόστασις и φύσις Максим примыкает к господствовавшему в христианской патристической литературе III и IV веков воззрению на этот предмет. Это отношение представляется здесь в таком виде. Так как в действительности природа принадлежит тому или другому определенному лицу, то отношение между ὑπόστασις и φύσις представляется как отношение собственника, владетеля к тому, что составляет предмет его собственности, предмет обладания, орудие его действия: лицо — носитель, владетель, господин природы; природа — орудие действия, составляющее его собственность. Такого рода отношение между ὑπόστασις и φύσις совершенно аналогично с отношением, существующим между душой и телом. [221] Излюбленное отцами Церкви сравнение этих двух отношений имеет свое глубокое основание в том неизменном status quo существования индивидуальной человеческой природы, по которому душа представляется седалищем личности в человеке и принципом покоя и движения. [222] В силу господственного отношения лица к природе, лицу приписывается, как его собственность, не только бытие природы, но и все различные свойства и действия интеллектуальной природы, присущие душе и проистекающие из нее, [223] и лицо трактуется на этом основании как субъект всего того, что свойственно интеллектуальной природе. Лицу усвояется бытие, потому что действительность существования природа получает под условием принадлежности определенному лицу. Лицу приписываются все свойства природы, потому что реальность природа приобретает также в лице. Лицу усваиваются, наконец, действия и поступки природы на том основании, что только конкретная природа может действовать, а конкретно природа существует только в лице.
Таким образом, в действительности понятия «φύσις» (природа интеллектуальная, а, следовательно, вместе с тем и индивидуальная) и «ὑπόστασις» (лицо) сводятся почти к одному и тому же. Выходя отсюда, легко было прийти к полному отождествлению этих двух понятии, что и сделали монофизиты и монофелиты. Интеллектуальная природа есть непременно ἐνυπόστατος, следовательно, (заключали монофелиты) φύσις есть непременно и ὑπόστασις. Коренным заблуждением монофелитизма и было именно ложное понятие об ὑπόστασις. Известно, что невозможность допущения во Христе двух воль монофелиты аргументировали, главным образом, тем, что вместе с понятием воли (θέλημα) вносится понятие о «волящем» (ὁ θέλων [волящий] = πρόσωπον = ὑπόστασις), и что допущение совместного существования двух воль в одном лице Слова равносильно разделению Христа на два лица, что нечестиво. Так рассуждал Сергий в письме к Гонорию, Пирр в разговоре с Максимом, Павел в письме к папе Феодору; так рассуждали и все монофелиты, следуя внушениям и образу мыслей своих вожаков. Т. е. основное заблуждение монофелитизма состоит в незаконном отождествлении понятия личности, субъекта с понятием воли, поскольку оно обнимает собой все свойства интеллектуальной природы.
Совершенно справедливо, так рассуждает Максим, что в действительности природа (φύσις) никогда не бывает безличной (ἀνυπόστατος). Но «нелишенность ипостаси (τὸ μὴ ἀνυπόστατον), согласно преданию святых, делает природу не ипостасью, но лишь существующей в ипостаси (ἐνυπόστατον)», т. е., доставляет ей лишь то, что в ипостаси или в лице природа, в качестве формы (εἶδος), получает истинное, действительное существование, переставая быть чем–то случайным, существующим лишь только в уме. «Точно так же и нелишенность сущности (τὸ μὸ ἀνούσιον) не делает ипостась сущностью, доставляя ей лишь нераздельное от природы существование или бытие в сущности». Так что в действительности существует «не голая ἰδίωμα (= ὑπόστασις)», не отвлеченное понятие совокупности всех индивидуальных особенностей, но ἰδίωμα, облеченная тем, в чем она существует, т. е. деятельное существо. [224] Таким образом, на том основании, что природа в действительности всегда существует в форме лица, незаконно «сводить существующее в ипостаси в ипостась» и отождествлять природу с ипостасью. Это одинаково незаконно, как если бы кто-нибудь из того, что тело не непричастно форме или цвету, стал заключать к тому, что форма или цвет и есть тело, а не усматривается только в теле. [225] Если бы вывод, делаемый монофелитами из указанной справедливой посылки, был законен, то было бы законно и обратное ему положение: ипостась есть природа, так как «ипостась никогда не бывает лишена сущности» (т. е. лицо в действительности неотделимо от природы). Между тем, ложность этого обратного вывода не будут оспаривать и сами монофелиты: ὑπόστασις не то же, что φύσις, следовательно, и φύσις не тождественно с ὑπόστασις. Догмат Троичности исключает всякую возможность отождествления понятий «ὑπόστασις» и «φύσις». [226]
Только что приведенное рассуждение Максима сводится, в существе дела, к утверждению той истины, что хотя в действительности природа и лицо неотделимы друг от друга, но нераздельность существования не дает права на отождествление их. При всей одинаковости содержания, мыслимого в понятии конкретной интеллектуальной природы и в понятии лица как индивидуума духовной природы, между ними существует действительное различие, которое может быть опытно познано.
К понятию лица как носителя духовной природы мы всегда примышляем нечто такое, что собственно и отличает ὑπόστασις от φύσις и делает интеллектуальную природу личной; это — понятие личности. Личность есть ничто иное, как определенный образ существования интеллектуальной природы в лице (τρόπος τῆς ὑπάρξεως), определенный образ жизни духовно-нравственного существа (τρόπος ζωῆς), ставящий природу в известное указанное отношение к лицу. [227] Как «modus existendi», личность не прибавляет к целости интеллектуальной природы, существующей в лице, ничего такого, что можно было бы рассматривать как отличную от содержания природы существенность, реальность. Приложение понятий «φύσις» и «ὑπόστασις» к догмату воплощения представляет полную возможность опытно убедиться в справедливости высказанного понимания личности. По учению отцов Церкви, человеческая природа Христа не лишена была ничего из того, что составляет существенное содержание интеллектуальной природы, между тем последняя не имела в Нем собственной, ей соответствующей личности. [228]
После всего сказанного о значении понятий «φύσις» и «ὑπόστασις» становится понятным, почему для Максима, как и для всякого другого защитника православного учения, исходным пунктом (termino a quo) при решении спорного вопроса служило Халкидонское вероопределение о двойстве природ, и почему эта точка зрения была непригодна для другой спорящей партии, исходившей из учения о единой ипостаси Слова, учения, составляющего другую сторону того же вероопределения.
В учении Максима о двойстве природ Христа обращает на себя внимание особый образ выражений, употребляемый им, а также то обстоятельство, что везде, где идет речь о природном двойстве Христа, умственный взор Максима обращается к учению св. Кирилла и к учению Севера. Особенное значение и связь этих двух явлений сделаются для нас совершенно понятными, если обратимся к учению монофизитов вообще и в частности к учению Севера.
Отлично сознавая известное требование идеи воплощения, в силу которой примирение человека с Богом и Бога с человеком могло совершиться только через такого посредника (μεσίτης), каким был Богочеловек, [229] и имея позади себя печальное явление докетизма, монофизиты, а за ними и монофелиты не могли, разумеется, вовсе отрицать двойство природ Христа и в принципе признавали его. Но признание двух различных, совершенных природ представлялось им (с их точки зрения на φύσις и ὑπόστασις — совершенно последовательно) не иным чем, как возвращением к несторианству. Монофизитам, таким образом, предстояла задача примирения природного двойства с единством ипостаси Слова во Христе. Более умеренные из них, каков, например, Север, указывают такой путь примирения.
Следуя учению Кирилла Александрийского, Север учил, что Христос состоит «из двух природ» (ἐκ δύο φύσεων), [230] которые при соединении не потерпели никакого изменения. По соединении же они утратили свою целость и образовали одну сложную природу, названную по почину Дионисия Ареопагита «богомужной». [231] В ипостаси Христа нельзя уже различать двух природ: различие между ними существует лишь в умопредставлении, [232] хотя можно различать свойства той и другой природы. «Говорить, что две природы во Христе (δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ), достойно всякого осуждения, если и многими св. отцами сказано». «И пусть никто не говорит, что выражение „две природы“ употребляли некоторые из отцов, ведь они употребляли его безвинно; когда же во времена св. Кирилла язва новшеств Нестория стала опустошать церкви, то выражение это большинством было не одобрено. Нельзя ссылаться на места из отцов, безвредно пользовавшихся этим выражением, если бы даже это были места и из самого Кирилла». [233] Но и различие природных качеств (διαφορὰ τῶν φυσικῶν ποιοτήτων) или сущностей [234] есть только видимое или, как называет его Максим, голое (ψιλὴ), так как существенные свойства соединенных природ всегда пребывают во Христе как силы потенциальные и в действительности никогда не обнаруживаются; [235] так что и у Севера выходило некоторое соединение или слияние сущностей (συνουσίωσις), подобное соединению сущностей у Ария, Аполлинария и Евтихия. [236]
Некоторое подобие сложной природы Христа представляет человеческая индивидуальная природа, состоящая из двух сущностей души и тела.
Так как природы, вошедшие в качестве частей в состав «одной целой» природы Христа, по соединении утратили свой природный характер, то все действия Христа должны быть относимы не к той или другой части, но к целому — к одной богомужной природе или к сложной ипостаси Христа. Отсюда, все действия Христа, по мысли Севера, должны быть богомужны, каково, например, известное «хождение по водам». [237] Однако же, сам Север, стараясь следовать как во всем, так и в этом учению великого александрийского учителя, сознается, что не все действия Христа таковы, что есть действия видимо человеческие и есть действия видимо Божественные. В совершенном согласии с таким признанием его стоят следующие собственные слова его: «Ведь во многих (случаях) Слово не позволяло собственной плоти следовать законам плоти». [238] Значит, в некоторых случаях плоть, по соизволению Слова, действовала согласно с законами плоти. Следовательно, некоторые действия, как «произведение» человеческого действования, должны быть отнесены прямо к человеческой природе Христа. Таковы, например, по словам самого Севера, все, так называемые, добровольные и безгрешные страсти (τὰ πάθη τὰ ἑκούσια καὶ ἀδιάβλητα); таковы страдания, которые «Еммануил, как Бог, претерпел видимо (δοκήσει), а как человек — действительно (ἀληθείᾳ)»; таков страх смерти, обнаруживавшийся во время страданий. [239] С другой стороны, Север различает и такие действия, которые по природе свойственны лишь Божеству Христа: таковы, например, чудеса. [240] Одним словом, Север не не знает отличительных свойств и действий Божественной и человеческой природ, вошедших в состав одной сложной природы Христа, к которой, и только исключительно к ней, он хотел бы отнести все свойства и действия Христа, подобно всем монофизитам незаконно отождествляя ее со сложной ипостасью Христа. [241]
Если теперь поставить прямо вопрос о том, потерпела ли какое-либо изменение, по воззрению Севера, плоть Христа от соединения со Словом, то на него нельзя с решительностью ответить ни положительно, ни отрицательно, хотя скорее можно сказать «да», чем «нет». Основная мысль Севера, несомненно, была такова, что плоть Христа по соединении была свободна от законов существования человеческой природы. Это достаточно очевидно из связи вышеприведенных слов («Ведь во многих…» и т. д.) с тем, что говорится непосредственно перед ними и после них. В «Правдолюбивом слове» Севера читаем следующее: «Если Слово действует свойственное Слову, а тело (τὸ σῶμα) совершает свойственное телу, одно блистает чудесами, другое подвергается страданиям, [242] то выходит некоторое относительное общение природ, общение по добровольному расположению, как сказал безумный Несторий. Если же, и это действительно так, Слово изменило (μετεστοιχείωσεν) плоть (τὴν σάρκα) в образ Своей славы и действования (ἐνέργειαν), то как мы можем сказать согласно с Томом Льва, что та и другая природа без ущерба (sine defectu) сохраняет свою особенность?» Ясно ведь, что во многих случаях Слово не позволяло собственной плоти следовать законам плоти. Причем тут особенность (ἵδιον) тела, когда (Христос) ходит по воде, или когда после смерти от удара копья изливается струя горячей крови и воды? Но свое основное воззрение на плоть Христа Север далеко не провел до конца, если не сказать более: уже и в приведенной тираде звучит нота ограничения (только ἐν πολλοῖς [во многих], а не во всех), которая в других, нами выше указанных, местах переходит в резкий диссонанс с основным тоном воззрения. На поверку оказывается, таким образом, что рассмотренное воззрение Севера не только непоследовательно, но даже не чуждо внутреннего раздвоения и противоречия.
Непоследовательность Севера в данном случае довольно правдоподобно может быть объяснена, во-первых, очевидностью таких фактов евангельской истории, которые никаким образом нельзя было подвести под указанное основное воззрение, и, во-вторых, желанием во всем следовать учению великого александрийского учителя, который различал в жизни Христа проявления свойств Божественных от проявлений свойств Его человечества, хотя указывал на случаи и совместного проявления свойств той и другой природы. [243] А противоречивость Севера самому себе не иначе может быть объяснена, как из политики отношений. Дело в том, что в тех случаях, где Север раскрывает свое учение в противовес кафолическому учению (как, например, в письме к Иоанну вождю и в «Правдолюбивом слове»), он настаивает лишь на необходимости исповедания одной богомужной (в указанном смысле) природы. А лишь только он начинает развивать свое учение о μία θεανδρικὴ φύσις, имея в виду учение юлианистов (в книгах contra Iulianum или юлианистов, выше процитованных), он оставляет основную точку зрения на предмет и, становясь на совершенно иную, начинает довольно пространно трактовать о видимом различии свойств той и другой природы Христа. Подобная двойственность — явление довольно заурядное.
Имея в виду изложенное учение Севера и в противовес «Изложению веры» последнего, в письме к Иоанну кубикулярию Максим дает «Изложение православной веры». Здесь, между прочим, говорится, что, следуя учению отцов Церкви, мы должны исповедовать во Христе две различные по сущности природы (δύο φύσεις ἀνομοίους κατὰ τὴν οὐσίαν [две природы, неодинаковые по сущности]), которые и по соединении (μετὰ τὸ ἐνωθῆναι) неизменно пребывают такими же, какими они вошли в соединение, или какими были они, как выражается Север, при соединении. Т. е. и по личном соединении двух природ Христа последние пребывают в ипостаси Слова существенно или качественно различными природами, не сливаются (φύσεις ἀσυγχύτους [природы неслиянные]) в одну природу, количественно и качественно отличную от ипостасно соединенных природ. [244] Соединение, мыслимое во Христе — личное, ипостасное, а не субстанциальное: [245] не Божественная природа Христа (она сама мыслится существующей в ипостаси Слова), а ипостась Бога Слова входит в теснейшее соединение с человечеством Христа, или человечество Христа воспринимается в ипостась Бога Слова. Следовательно, по отношению к Христу не может быть и речи о «природном неделимом, образовавшемся через сложение», т. е. о слитии двух природ в одну как о некотором физическом смешении. [246] Допущение существования во Христе одной сложной природы равносильно, во-первых, отрицанию единосущия Христа по Божеству с Отцом и по человечеству с Матерью, а в лице ее — и со всем человечеством; [247] во–вторых — превращению Троицы в четверицу, так как Христос, как носитель сложной природы, не единосущен по соединении (как заметили сами монофизиты — противники севериан юлианисты) и с Богом Словом, и как Бог будет четвертым лицом подле трех лиц Святой Троицы. [248] Незаконно, значит, называть две природы Христа именем одной сложной природы, и переносить название от ипостаси Слова по соединении на Его природу. Выражения отцов Церкви, на которые обыкновенно ссылаются все вообще монофизиты и в частности Север, заключают в себе, по мнению Максима, совершенно иной смысл, чем какой придают им монофизиты и монофелиты.
И, прежде всего, что касается известного изречения Дионисия Ареопагита, на которое ссылается, между прочим, Север — то относительно его предварительно до́лжно заметить, что в творениях Дионисия Ареопагита нигде нет такого изречения, которое говорило бы о «богомужной» природе. [249] У него есть подобное изречение, но оно говорит не о богомужной природе, а о богомужном действовании. А сказанное о действовании монофизиты не в праве были переносить на природу, так как, по ним, действованию соответствует не природа, а лицо. Кстати, относительно действительного изречения Дионисия Ареопагита, весьма популярного среди монофелитов, [250] должно сказать, что иногда (например, в III письме Севера к Иоанну вождю и в VII анафематизме Кира) оно приводится с прибавкой спереди слова «μίαν» (т. е. читается так: «Христос показал нам μίαν καινὴν τινὰ τὴν θεανδρικὴν ἐνέργειαν» [одно новое некое богомужное действование]), а иногда (например, в разговоре с Максимом у Пирра) — без этой прибавки. Максим несколько раз [251] обращается к этому изречению и везде приводит его без прибавки «μίαν»; он прямо и положительно говорит, что учение о численно одном действовании Христа чуждо Дионисию, [252] чем и дает понять, что прибавка «μίαν» — позднейшего происхождения и незаконна. Обращаясь к тому месту из творений, известных с именем Дионисия Ареопагита, мы, действительно, и видим, что в подлиннике слова «μίαν» нет. В IV письме Дионисия к некоему Кайю читаем: «Христос совершал Божественные дела (точнее: свойственное Богу) не только как Бог, и человеческие — не только как человек, но, как вочеловечившийся Бог, Он показал нам новое, в некотором смысле богомужное действование». [253] Какой смысл имеет приведенное изречение, об этом более уместно будет сказать потом; здесь же достаточно будет заметить, что если монофизиты, вопреки основному своему воззрению на φύσις, находили возможным сказанное о действовании переносить на природу, то Максим совершенно законно и последовательно мог утверждать, что описательное выражение «θεανδρικὴ» указывает на двойную природу Христа [254] и именно — на образ существования двух природ во Христе.
Обратимся теперь к другому изречению, которое было обычной формулой на языке монофизитов: к известному изречению Афанасия Великого: «Одна природа Бога Слова воплощенная» (μία φύσις Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη). [255] Ссылка монофизитов на эти слова св. отца, будто ими он исповедал природное (в монофизитском смысле) единство, по мнению Максима, неосновательна. «Мы признаем, — говорит Максим, — и одну природу Бога Слова воплощенную. Этим описательным относительно соединения выражением через название и термин ясно указывается на две природы; и именно слова „одна природа Слова“ указывают на общность (т. е. для всех трех лиц) сущности при ипостасном отличии; а термин „воплощенная“, согласно с объяснением самого Кирилла, указывает на одинаковую с нашей сущность, т. е. на природу плоти, обладающую мыслящей и разумной душой. Так что говорящий „одна природа Бога Слова воплощенная“ (тем самым) указывает на то, что Бог Слово пребывает вместе с одушевленной плотью». [256] Короче и проще смысл этого не совсем легкого для понимания выражения, по объяснению Максима, таков: Бог Слово воспринял в ипостасное единство человеческую природу, т. е. плоть, разумно одушевленную. Самая форма выражения указывает на ипостасное единство, а название (природа Бога) и термин «воплощенная» указывают на две природы Христа, ипостасно соединенные в Слове. Уместность и законность такого понимания со стороны Максима станут для нас совершенно понятными, если мы припомним, что св. Афанасий излагал учение «о воплощении Слова», во-первых, в противовес учению Ария о слиянии двух сущностей во Христе и о неравенстве (неединосущии) Сына с Отцом (почему учение Ария Максим и приравнивает к учению монофизитов вообще), а во-вторых, в противовес учению аполлинаристов, этих более ранних монофизитов (почему Максим и ставит Аполлинария и Севера на одну доску), [257] которые, отвергая присутствие во Христе разумной души, учили о слиянии или смешении двух природ Христа через возвышение плоти на степень природы, единосущной с природой Слова, и через поглощение последней первой. [258]
Итак, выражение Афанасия Великого никоим образом не говорит о природном единстве, образовавшемся через слияние сущностей, т. е. как понимают его монофизиты. В нем заключается мысль об ипостасном соединении природ, которое иначе может быть названо и «природным» (φυσικὴ ἕνωσις), но природным, по объяснению самого св. Кирилла, «не в смысле уничтожения двух природ, из которых состоит Христос после соединения», [259] а просто в смысле принадлежности двух природ одному и тому же лицу.
Объяснение, какое дает Максим этому обычному на языке монофизитов выражению, в глазах этих последних могло иметь вес в виду того многозначащего обстоятельства, что справедливость своего понимания Максим обосновывает на авторитете св. Кирилла. Помимо сказанного относительно согласия Максима с Кириллом в понимании этого места, в том же письме к Иоанну кубикулярию (col. 477) приводятся подлинные слова Кирилла из письма к Евлогию, красноречиво свидетельствующие о полной солидарности Максима с Кириллом в указанном отношении. Это следующие слова: «Так и Несторий хотя признает две природы, указывая тем самым на различие плоти и Бога Слова, однако не исповедует вместе с нами единства (τὴν ἕνωσιν). А мы ведь, говоря о соединении их (буквально: „соединяя их“ — „ἑνώσαντες ταῦτα“), исповедуем одного (ἕνα) Христа, одного Сына, одного Господа и, наконец, одну природу Сына воплощенную». [260] На основании той связи, в какой стоят слова «одна природа Сына воплощенная», Максим старается выяснить, между прочим (главный предмет — положение о числе), то, что под единством, о котором говорится в выражении «одна природа Бога Слова воплощенная», св. Кирилл разумеет ипостасное единство, которым не нарушается природное двойство, или, точнее выражаясь, двойство природ по соединении.
Теперь, так как природы, из которых состоит Христос, сохраняют свой природный характер и существенное различие и по соединении, т. е. существуют в ипостаси Слова неслитно и неизменно, то наряду с выражением «ἑκ δύο φύσεων» получает столь же законное право на употребление и выражение «ἑν δύο φύσεσιν». Смысл их один и тот же: «Говоря, что Христос состоит из двух природ, мы мыслим Его состоящим из Божества и человечества, как целое из частей (ὡς ἐκ μερῶν ὅλον); точно так же, говоря, что после соединения (Он пребывает) в двух природах, мы верим, что Он пребывает в Божестве и человечестве, как целое в частях (ὡς ὅλον ἐν μἐρεσι). Части же Христа суть Божество Его и человечество, из которых и в которых Он лично существует (ὑφἐστηκε)». [261] Отсюда очевидно, что оба выражения «из двух естеств» и «в двух естествах» — указывают на отношение природ Христа к ипостаси Слова: ипостась есть целое, а природы — части, его составляющие. Разница между этими двумя выражениями та, что первое («из двух») указывает на соединение природ, [262] а второе («в двух») — на неслиянность их по соединении. На неслиянность же указывает и выражение «два естества», которое по своей форме имеет свой особый смысл: тот, что «один и тот же есть истинно Бог и вместе человек». [263] Выражения «в двух естествах» и «два естества» получают вполне определенный смысл в зависимости от того, как понимать неслиянность двух природ Христа. А православная Церковь учит о неслиянности двух природ Христа не в смысле разделения одного и того же на два лица, а лишь в том смысле, что различие природ всегда остается неизменным. [264] Не должно соблазнять самое число «δύο», так как «всякое вообще число, по словам Григория Богослова (in orat. IV De theologia), служит для обозначения качества (= различия), а не разделения», [265] справедливость чего засвидетельствовал сам «святейший» Кирилл. [266]
Итак, во Христе две природы, качественно различные: Божеская и человеческая. Святые отцы и учители православной Церкви «все согласно учили как об иной и иной, т. е. Божественной и человеческой, и (численно) двойной природе Одного и Того же». [267] «Христос есть истинно Бог и вместе человек». Само собой разумеется, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, потому что понятие Божественной и человеческой природ мыслится со всеми существенными свойствами или качествами, так называемыми «совершенствами» природы, без которых немыслимо самое существование природы. Так что Христос не был бы и Богом, если бы Он не был совершенным Богом, и вовсе не был бы человеком, если бы не был совершенным человеком. [268] Значит, положение о двойстве природ Христа сводится к положению о совершенстве или целости природ, и образ неслитного соединения природ ничто иное обозначает, как сохранение целости обеих природ Христа по соединении.
Что Христос есть истинный и во всем совершенный Бог, этого никто — ни монофизиты, ни монофелиты — и не оспаривал не только в принципе, но и в своих выводах. Напротив, в учении монофизитов-севериан [269] об одной богомужной природе и монофелитов-моноэргистов об одном богомужном действовании явный перевес всегда оказывался на стороне Божества Христа; человечество Христа трактовалось как бездушный орган действий Божества, движимый Словом. [270] Положение, не нуждающееся в подробностях разъяснения; достаточно заметить, что учение Севера «об едином богомужном естестве» последовательно приводило к утверждению того абсурда, что само Божество Христа подвержено было законам существования плоти, что́ однако, вопреки последовательности себе, Север отрицал. Достаточно вспомнить обычный в памятниках монофелитской мысли аргумент в пользу «единого действования»: «плоть Христа не совершала своего естественного движения из собственного импульса, вопреки мановению ипостасно соединенного с ней Слова». Таким образом, истина Божественности лица Христа не входила в программу тогдашней полемики, зато здесь был подчеркнут вопрос о целости или совершенстве человечества Христа. В творениях Максима мы находим полный отклик на такого рода запрос полемики.
Везде, где идет речь о природном двойстве во Христе, Максим с особенной силой настаивает на необходимости признания за человечеством Христа его целости. Эта мысль является господствующей в догматико-полемических трудах не только первой группы, но и второй. Все, что говорится у Максима в разных местах о целости человеческой природы Христа, может быть сведено к следующим четырем положениям:
а) Христос как человек во всем, кроме греха, подобен нам; [271]
б) Бог Слово соединил с Собой человеческую природу в том ее виде, какой вначале Сам же создал ее; [272]
в) Христос воспринял нашу плоть со всеми, без всякого недостатка, существенными качествами и отличительными особенностями человеческой природы; [273] т. е. — и это особенно важно;
г) Христос воспринял мыслящую и разумную душу (ψυχὴν νοερὰν καὶ λογικὴν) со сродным ей телом (μετὰ τοῦ συμφυοῦς σώματος), т. е. целую, совершенную человеческую природу (т. е. τέλειον ἄνθρωπον [совершенного человека]). [274]
К а). Образ рождения Христа по человечеству, аналогичный с образом происхождения первого человека, не должен служить препятствием к отождествлению воспринятой Христом человеческой природы с нашей, [275] подобно тому, как рожденность Сына нимало не нарушает единосущия Сына с Богом Отцом. Таинственным и неизъяснимым образом образовавшаяся «из чистейших кровей святейшей Девы и Богоматери» плоть Христа была совершенно одинакова с нашей по существу, была единосущна нашей (ταυτὸν τῇ οὐσία) [то же самое по сущности]. [276] А так как плоть Христа образовалась помимо участия семени мужа, силой животворного наития Св. Духа, или, как в одном месте [277] выражается Максим, так как «рождением Его (т. е. Христа по человечеству) управлял не закон греха, а закон Божественной правды», то в силу самого своего рождения плоть Христова была совершенно свободна от той язвы греха, которая передается из рода в род путем естественного рождения: «в членах ее не было иного закона (греха), противоборствующего закону ума». Хотя Максим нигде прямо и не говорит о том, что в силу рождения плоть Христа была свободна лишь от наследственного, прародительского греха, и что мысленно, вне соединения со Словом, для нее не исключалась возможность уклонения от преобладающей склонности к добру, но, несомненно, Максим различал между этой отвлеченной безгрешностью человечества Христа, которую можно назвать относительной, и той абсолютной, исключающей всякую возможность мысленной склонности ко греху действительной безгрешностью, какая на самом деле была присуща Христу-человеку в силу восприятия плоти в ипостась Бога Слова. Что подобное различение предносилось уму Максима, это достаточно ясно, во-первых, из различия доводов, приводимых за безгрешность человечества Христа: безгрешность (в указанном смысле) рождения Христа по плоти и восприятие плоти в ипостасное единство с Божеством; во-вторых, из сравнения Христа с Адамом по образу происхождения (δίχα σπορᾶς — без семени мужа). [278] Полагаем, ни то, ни другое основание не нуждается в разъяснении. Кроме того, есть одно место, где все природное Максим прямо признает внегреховным: «Ведь все природное и непорочное (т. е. не имеющее язвы порока) не противится Богу (а грех есть противление Богу), хотя не всецело и соединено с Богом». [279] Из сопоставления этого выражения с неподалеку от него стоящими словами, говорящими о том, что в силу ипостасного единства человеческая природа была всецело обожествлена, вследствие чего она на самом деле была совершенно непричастна греху, [280] очевидно, что Максим различал между отвлеченной относительной и абсолютной действительной безгрешностью Христа. Сравнение Христа с Адамом, не ограничивающееся одним происхождением, приводит к другому положению:
б) Бог Слово соединил с Собой человеческую природу такой, какой Сам же вначале создал ее; т. е. Христос, как новый Адам, имел все и в таком виде, что и в каком виде имел ветхий Адам в невинном состоянии. Этим сравнением, помимо всего прочего, [281] Максим хочет указать, главным образом, на то, что Христос по своему человечеству обладал природной волей, [282] но об этом у нас речь впереди.
в) Христос воспринял нашу плоть со всеми существенными свойствами и отличительными особенностями человеческой природы (μετὰ πάντων τῶν προσόντων αὐτῇ φυσικῶς). К первым Максим относит все то, что составляет отличительную особенность живого существа, например — дыхание, произвольное движение, внешние и внутренние физиологические чувства (голод, жажда, утомление и т. п.), потребность в соответствующем удовлетворении их и тому подобные телесные состояния. [283] Совокупность всех их составляет проявление или обнаружение так называемой «жизненной энергии» или жизненной силы (ζωτικὴ ἐνέργεια), проистекающей из души и присущей телу (ἐκ τῆς ψυχῆς ἐνδιδομένη τῷ σώματι [от души подаваемой телу]). [284] Отличительные особенности собственно человеческой природы составляет все то, в чем сказывается жизнь духа, и обще называется «мыслительной способностью» (λογικὴ ἐνέργεια) или просто «волей» (θέλησις или θέλημα), так как воля, как жизнь духа, есть «ἐνέργεια ψυχῆς λογικῆς» [действование разумной души]. [285] Таким образом, плоть Христа была не только ἔμψυχος αἰσθητικὴ φύσις [одушевленная чувственная природа], но ἔμψυχος αἰσθητικὴ καὶ λογική ἤ νοερὰ φύσις [одушевленная чувственная и разумная или мыслящая природа]; т. е. телу Христа была присуща не только жизненная сила, но и мыслящая душа. Отсюда рассматриваемое положение точнее может быть выражено, словами самого Максима, в такой форме:
г) «Христос воспринял мыслящую и разумную душу со сродным ей телом». Понятие «мыслящая и разумная душа» тождественно с понятием «дух». При таком значении слов «мыслящая и разумная душа» вышеприведенное определение плоти Христа получает следующий смысл: плоть Христа была не только одушевлена или оживотворена (подобно всем живым тварям), но и одухотворена (подобно всем людям); в человеческом теле Христа жила человеческая душа, жил дух человека. К нему-то, к этой высшей стороне человеческой природы и должны быть отнесены те существеннейшие отличительные свойства духовно-нравственного существа, которые Максим обще называет «действованием мыслящей души» или «волей». В силу такого значения души для тела человека признание плоти Христа обладающей разумной и мыслящей душой получает особенную важность в христологическом учении. Только при таком воззрении на плоть Христа становится понятным, с одной стороны, то, почему исповедание двух совершенных природ во Христе равносильно признанию в Нем двух природных энергий и двух природных воль; а с другой — то, почему монофизиты-юлианисты и их предшественники по времени (ариане и особенно аполлинаристы), отрицая присутствие в теле Христа разумной души, должны были отрицать двойство действований и воль; и почему Север, уча об одной сложной природе, мог в то же время говорить о различии свойств и, изрекая анафему (in epist. ad Pmosdocium medicum) на кафоликов, учивших о различии двух действований, в конце концов, должен был сознаться (насколько приписывал Христу так называемые «безгрешные» страсти и отрицал принадлежность их Божеству Христа), что плоть Христа обладает иной, отличной от действования Божества Христа «жизненной силой» (ζωτικὴ ἐνέργεια). Кроме того, только с точки зрения рассматриваемого воззрения на плоть Христа становится возможным постоянное неразрывное общение Слова с Его человечеством, не прекращавшееся и во время пребывания Христа во гробе. За всем тем присутствие в теле Христа мыслящей и разумной души возводит человеческую природу Христа на такую степень совершенства и целости, что, не смотря на то, что плоть Христа не имела отличного от ипостаси Слова ей одной по природе свойственного владетеля или носителя, т. е. лица, ей ничего не недоставало из того, чем в действительности бывает интеллектуальная природа. На вопрос: если бы воспринятая Христом человеческая природа не была ипостасно соединена со Словом, то была ли бы она лицом? — Максим, полагаем, ответил бы точно так же, как ответил на подобный вопрос Гуго Викторин: «Esset quidem persona et haberet suam personantiam ex sua rationalitate» [Была бы, конечно, лицом и имела бы свою личностность от своей разумности]. [286]
Но разумность или вообще духовность природы, как выше было замечено, не тождественна с личностью: духовность есть, так сказать, физическая реальность природы, а личность — лишь метафизический образ существования интеллектуальной природы, к содержанию последней ровно ничего не прибавляющий. Если бы это было не так, т. е. если бы понятие духовной природы и понятие личности были тождественны, то числу лиц всегда соответствовало бы число духовных природ. В Боге на основании единичности духовной природы пришлось бы признать одно лицо (саввелианизм) и в то же время на основании Троичности Лиц пришлось бы допустить тройственность Божественной природы (арианство).
То же самое пришлось бы сказать и относительно единства общей для всех людей духовной природы и множества лиц. [287] А если на самом деле числу лиц не соответствует число природ и обратно, то двойство совершенных природ Христа вовсе не обязывает, как думают монофизиты, к признанию во Христе двух различных лиц, соответствующих двум природам: духовность человеческой природы Христа не требует необходимо ей одной соответствующего лица. Обычное обвинение противников (монофизитов) в возврате к несторианству, взводимое на православных, по меньшей мере, неосновательно. Справедливо, что духовная природа, как бы тесно она ни была соединена с другой, не может существовать иначе как лично, но несправедливо, что она сама и есть лицо. Православная Церковь так ведь и учит: хотя разумно одушевленная плоть Христа не имела ей одной соответствующего лица, иного подле ипостаси Бога Слова, но она не была безлична, так как она была воспринята в ипостась (была ἐνυπόστατος) Бога Слова, которая с безусловно первого момента соединения, не переставая быть ипостасью Божества Слова, сделалась собственной ипостасью плоти Христа. [288]
Итак, во Христе — две совершенные природы, Божеская и человеческая, неизменно и неслитно пребывающие в ипостаси Бога Слова и по соединении.
Глава II.
Учение о двух волях и действованиях во Христе.
Целость обеих природ Христа по соединении составляет, по Максиму, главное основание для признания во Христе двух действований и двух воль — в соответствие двум природам. [289] В этом все безусловно согласны, [290] да иначе это и быть не могло. В самом деле, если та и другая природа Христа при соединении не утратила каким бы то ни было образом своих существенных и отличительных свойств, т. е. (так как действование или воля составляет, как выше было замечено, самое существенное свойство природы) не была лишена свойственного ей природного действования и природной воли, [291] — а это действительно так — то отсюда прямой вывод следовал тот, что во Христе δύο φυσικά θελήματα καὶ αἱ τούτων ἰσάριθμοι, καὶ οὐσιώδεις ἐνέργειαι [две природные воли и равночисленные им сущностные действования]. [292] Законность подобного вывода в общем признавали и сами монофизиты (по крайней мере, севериане), поскольку они учили о различии свойств во Христе на основании различия двух сущностей. [293] Они оспаривали лишь, и даже вовсе отрицали, применимость его к действованию или воле на том основании, что ἐνέργεια или θέλημα составляет, по ним, не свойство природы, а свойство, определение лица, примету личности. Таким образом, при переходе от учения о двух природах Христа к учению о двойстве действований и воль задачами полемики требовалось, прежде всего, выяснить то, что такое воля вообще, что такое действование, чему следуют они: природе или лицу?
Начнем с воли. Воля (θέλησις или θέλημα), по учению православных, защищаемому Максимом, составляет существенное отличительное свойство духовной или разумно одушевленной природы, почему и называется природной волей (τὸ φυσικὸν θέλημα). [294] У Максима мы находим двоякого рода основания для такого понимания воли: одно из них он заимствует от православного учения о Троице, другие — от положения воли в человеке.
Сущность первого рода оснований Максим формулирует в разговоре с Пирром [295] так: «Бог вселенной и Отец волит ли (θέλει) как Отец или как Бог? Если (Он волит) как Отец, то Его воля будет иная, чем Сына (ἄλλο αὐτοῦ ἔσται παρἄ τοῦ Υἱοῦ θέλημα), потому что Сын — не Отец; если же — как Бог, а и Сын есть Бог, и Дух Св. есть Бог, то они (монофелиты) должны признать то, что воля есть свойство природы, или природна» (φύσεως εἶναι τὸ θέλημα, ἤγουν φυσικὸν). В другом месте [296] относительно того же самого основания, рассматриваемого лишь с отрицательной стороны, Максим представляется рассуждающим приблизительно так. Если уступить монофелитам в том, что воля соответствует не природе, а лицу и, следовательно, признать силу того выставляемого ими против двойства воль во Христе возражения, что понятие воли вносит с собой понятие о волящем, то необходимо будет признать, что в Боге в силу единства воли — одна ипостась (к чему, действительно, и пришел Саввелий). А так как, с точки зрения выставляемого возражения, нельзя отрицать справедливость и обратной стороны отношения между волей и волящим, то необходимо будет допустить, что в Боге в силу Троичности лиц — три воли (разумеется, три различные, потому что количественное различие служит основанием для качественного), а следовательно — и три различные природы (арианство). Из ложности и противоречивости выводов, следующих из монофелитского воззрения на волю, Максим заключает к справедливости обратной стороны положения, т. е. к справедливости того, что в Боге воля соответствует природе, а не лицу. Это частное основоположение в приложении ко Христу давало тот последовательный вывод, что Христос по Своему Божеству обладает волей как Бог, а не как Слово, Сын Божий. [297]
Умалчивая пока о прямой цели только что приведенных отрицательных доводов, в настоящем случае мы ограничимся тем простым замечанием, что совершенно законный вывод на указанном законном основании с монофизитской точки зрения на лицо и природу для монофелитов вовсе не имел силы обязательности. В этом последнем обстоятельстве и сказывается, между прочим, ложность монофизитского воззрения на ὑπόστασις и φύσις в применении к учению о Троичности.
В человеке воля соответствует так же природе, а не лицу. В разговоре с Пирром [298] Максим приводит следующие четыре основания для отнесения воли к природе:
a) Воля, как способность хотения (τὸ θέλειν) прирождена человеку, а не есть результат личного опыта каждого из нас: «никто никогда не научает другого хотеть».
b) Человек по природе разумен, а разумная природа обладает свободой (αὐτεξούσιον) или, так как свобода составляет определение воли — волей (θέλησις), которая управляет природой (в противоположность существам неразумным, principium movens [движущее начало] которых есть сама природа — ἐν τοῖς ἀλόγοις ἄγει μὲν ἡ φύσις [бессловесными двигает природа]).
c) Воля как способность хотения обща всем людям, а общее всем характеризует природу неделимых того же рода. Наконец —
d) человек есть образ Божества, а Бог по природе обладает свободой; следовательно, и человек, как таковой, по природе обладает свободой или волей (θελητικὸς ἄρα φύσει ὁ ἄνθρωπος).
Таким образом, повсюду, и в Боге, и в человеке, воля соответствует природе, т. е. вообще воля составляет неотъемлемое свойство духовной природы, почему и называется природной волей (φυσικὸν θέλημα), а человеческая воля — кроме того врожденной (ἔμφυτος θέλησις или θέλημα). [299] Она неизменно мыслится существующей в природе и вместе с другими свойствами природы составляет то, что обще называется τὸ ἐνούσιον. Из этого теоретического основоположения диофелитизма, само собой, следовали два дальнейших вывода относительно природной воли: а) у существ, различных по природе (τὰ ἐτερούσια), различна и воля, и наоборот — б) у существ, однородных по природе (τοῖς ὁμοφυέσι καὶ ὁμογενέσι), например — у людей, одна воля, неизменная во всех индивидуумах.
Этими двумя выводами Максим опровергает, между прочим, два довольно неглубокие возражения Пирра, [300] направленные против рассматриваемого основоположения диофелитизма и основанные на произвольном смешении воли как прирожденной душе способности (τὸ θέλειν) с объектом воли (τὸ θελητὸν) и с личным направлением воли (τὸ πῶς θέλειν) в каждом из нас, как со способом (τρόπος = modus) применения природной способности.
Что же такое «природная» воля, как широка область, захватываемая этим понятием? Во многих местах произведений Максима находим следующее совершенно одинаковое определение воли: «природная воля есть сила (или способность) стремления к сообразному с природой, обнимающая собой все свойства, существенно принадлежащие природе» (θέλημα φασιν εἶναι φυσικὸν, ἤγουν θέλησιν, δύναμιν τοῦ κατὰ φύσιν ὄντος ὀρεκτικήν καὶ τῶν οὐσιωδῶς τῇ φύσει προσόντων συνεκτικὴν πάντων ἰδιωμάτων). [301] Здесь, в этом определении, прежде всего, обращает на себя внимание двойственность в названии воли: для выражения одного и того же понятия употреблены два названия: «θέλημα» и «θέλησις». В послании к Стефану Дорскому, где (col. 185) это определение приводится точно в таком же виде, Максим разъясняет, что «θέλημα» и «θέλησις» — понятия нетождественные. Между ними существует такое же различие, как между «βούλημα» и «βούλησις», между «κίνημα» и «κίνησις», т. е., согласно со значением самых флексий, «θέλησις» обозначает известную деятельность души, а «θέλημα» — обнаружение вовне или результат этой деятельности. Но на деле мы не видим у него следов подобного разграничения. Подобно другим отцам Церкви, [302] Максим употребляет то и другое понятие как совершенно однозначащие, [303] хотя отдает явное предпочтение «θέλημα» перед «θέλησις». [304]
В приведенное определение природной воли входят две существенные черты, характеризующие волю как таковую. Первая черта — природная воля есть сила стремления (δύναμις ὀρεκτικὴ) к сообразному с природой; другая — воля, как таковая, характеризуется теми же самыми свойствами, какие существенно принадлежат разумно одушевленной природе.
Желания наши, как частные обнаружения воли, крайне изменчивы, непостоянны, что зависит от многих причин. А сила, действующая в них, неизменна: как «природная сила» (δύναμις φυσικὴ) [305] или как прирожденная способность, воля в одинаковой степени присуща всем. Желания наши всегда более или менее определенны: они всегда бывают направлены в ту или другую сторону, иногда совершенно противоположную, всегда имеют в виду тот или другой определенный предмет. Сила же хотения не имеет такой определенности своей деятельности: с этой стороны воля есть просто прирожденная душе способность (τὸ πεφυκέναι θέλειν [306] или просто τὸ θέλειν = τὸ ἁπλῶς θέλειν), [307] просто стремление (ἁπλῆ τις ὄρεξις), [308] в противоположность личной воле, которую поэтому можно назвать τὸ πῶς θέλειν [волить некоторым образом] или ποιὰ φυσικὴ θέλησις [то или иное природное воление] (= βούλησις), σύνοδος отдельных волевых моментов [309] и т. п. Но, не имея предметной определенности желаний, «природная воля» имеет, так сказать, определенную сферу деятельности, переступая границы которой она перестает быть таковой; имеет определенный закон движения: деятельность природной воли ограничивается пределами «сообразного с природой» или свойственного природе, естественного. А природе свойственно, прежде всего, бытие. [310] Природная воля и стремится ко всему тому, что способствует поддержанию и продолжению существования индивидуальной природы, избегая всего, что так или иначе ведет к прекращению бытия. [311] Природную волю справедливо поэтому назвать «жизненным стремлением» (ὄρεξις ζωτικἤ). [312] А так как человеческая природа одарена разумом, есть φύσις λογική καὶ νοερὰ, то и воля разумных существ, в отличие от бессознательного инстинктивного жизненного стремления, присущего «чувственно одушевленной» природе, есть не просто жизненное стремление, но разумное или сознательное жизненное стремление (ὄρεξις λογική καὶ ζωτικὴ) [313] или воля в собственном смысле; так как она и свойственна только разумной природе, составляет «самую типичную и первую особенность» этой последней. [314] Понятие разумности как существенного свойства души неотделимо, таким образом, от понятия воли и в некотором смысле даже тождественно с ним. [315] Поэтому воля и называется «волей разумной души» (θέλησις τῆς νοερᾶς ψυχῆς) [316] или — как определяет ее Климент Александрийский в VI книге Строматов — «стремлением ума» (νοῦς ὀρεκτικός). [317] Другое существенное определение природной воли, как воли разумно одушевленного существа, составляет свобода ее деятельности (ἡ αὐτεξουσιότης). Это определение настолько существенно для понятия природной воли, что последнее решительно немыслимо без него. [318] В силу присущей человеческой природе свободы воли, в своей деятельности она не определяется какими–нибудь посторонними мотивами, действующими принудительно, стесняющим свободу ее движений образом: она действует свободно, по своим собственным побуждениям, от себя или, точнее, из себя. Свобода составляет, таким образом, принцип, основу деятельности воли. В силу связи познавательной и волевой способностей души человека «мы и советуемся сами с собой (относительно предмета хотения — τὸ βουλητὸν), и решаемся (на выбор), и избираем (одно предпочтительно перед другим), и стремимся (к обладанию желаемым), и пользуемся — свободно (κατ΄ ἐξουσίαν)». [319]
Свободе воли нисколько не противоречит известный закон деятельности природной воли, в силу которого она стремится лишь к «свойственному природе» и не может иметь объектом своим того, что лежит за пределами свойственного природе, не нарушая естественного закона своего существования. Известно возражение монофелитов против природной воли, которое Пирр в разговоре с Максимом формулировал так: «что естественно, что прирожденно, то совершенно и необходимо (τὸ δὲ φυσικὸν πἀντως καὶ ἠναγκασμένον)»; [320] т. е., что свойственно природе человека, того он не может не желать: он необходимо желает этого, как своего, и не в силах желать чего–либо иного, как чужого. Против общего положения, на которое опирается возражение, Максим замечает, что если бы это положение было справедливо, то пришлось бы допустить, что и «Бог есть Бог по необходимости (ἀνάγκῃ), по необходимости благ, по необходимости Творец». А в опровержение делаемого из этого положения вывода по отношению к природной воле Максим выстраивает следующее заключение: если допустить, что обладание природной волей лишает природу возможности всякого свободного движения (т. е. движения желания), то вместе с тем необходимо (ἀνάγκῃ) будет признать за истинное и то, что «волящее по природе (τὰ μὲν φυσικῶς θέλοντα), т. е. обладающее природной волей, имеет недобровольное движение (ἀκούσιον ἔχειν κίνησιν), т. е. не свободно в желаниях; а по природе не волящее (τὰ δὲ φυσικῶς μὴ θέλοντα) имеет свободное (ἑκούσιον) желание. Следовательно, все разумное, по природе хотящее будет не свободно в своих движениях, а все неодушевленное, не обладающее способностью хотения свободно». [321] Нетрудно заметить (хотя мы не видим, чтобы противник Максима заметил) того, что приведенная аргументация Максима не совсем правильна, отзывается софизмом. Такой ее делает незаконное противоположение «волящего по природе» неволящему, разумного — неодушевленному, ближе — незаконное перенесение отрицания «μὴ» (в положении «τὰ φυσικῶς μὴ θέλοντα») со слова «φυσικῶς» на слово «θέλοντα». Т. е., согласно с возражением Пирра (а Пирр хотел сказать в выводе именно то, что лишь не ограниченное в своих желаниях рамками природного совершенно свободно), следовало бы сделать ударение на слове «по природе», противопоставляя ему выражение «не по природе (т. е. не согласно с природой, произвольно) хотящее». А при таком законном противопоставлении получился бы не тот вывод, какой получается при указанном, незаконном, противопоставлении: тогда и получился бы как раз тот вывод, какой делает Пирр. Но подобный вывод, законный по форме и последовательный с точки зрения Пирра на свободу деятельности воли, с точки зрения Максима на свободу природной воли представляется несправедливым по существу. Постоянное и всегдашнее стремление к «свойственному природе» на самом деле не только не есть отрицание свободы воли (как думает Пирр), но не составляет даже и ограничения этой последней. Раз природе не свойственно желать чего-либо, вне ей положенного Творцом, то она сама по себе, не удерживаясь ничем сторонним (а это, действительно, было бы уже ограничением ее свободы), не может желать этого. «Свобода (ἐξουσία), — говорит Максим, [322] — есть законное господство над тем, беспрепятственная власть в употреблении того, свободное стремление к тому, что́ вложено в нашу природу, что находится в нас». И это есть истинная свобода, в более высокой, чем человеку, степени совершенства присущая ангелам и совершеннейшим образом свойственная Богу. [323] А поскольку каждый из нас свои личные желания ставит выше требований природы и последние подчиняет первым, постольку он становится несвободным, делая себя рабом своих желаний и страстей: природная воля принимает тогда характер личного произвола, становится тем, что называется «γνωμικὸν θέλημα» [324] или просто «γνώμη».
Для ближайшего определения смысла, соединяемого с выражением «γνωμικὸν θέλημα», должно обратиться к самому понятию «γνώμη». Γνώμη составляет особый, пятый, [325] момент волевого процесса, следующий за решимостью (κρίσις), характеризующийся расположением, склонностью к тому, что решено после совещания с самим собой (βουλή). [326] Согласно с таким значением, γνώμη, γνωμικὸν θέλημα можно определить как окончательно сформировавшееся, совсем определившееся желание, рассчитанное на действительное или номинальное благо; [327] как образ желания (= τὸ πῶς θέλειν), образ, способ употребления воли, как врожденной способности; [328] или, шире (как определил ее Пирр, следуя Кириллу Александрийскому) — как «образ жизни» (τρόπος ζωῆς). [329] А так как способ пользования природной способностью воли или образ жизни — различен, смотря по индивидууму, и составляет характеристику лица, а не природы, [330] то θέλημα γνωμικὸν или θέλησις γνωμικὴ есть ни что иное, как другое название ипостатической, личной воли (θέλημα ὑποστατικὸν), но только — личной «человеческой» воли. [331] А поскольку личная воля каждого из нас, т. е. наши частные желания, не соответствует требованиям природы, постольку она есть «произвол», нарушение свободы природной воли.
Соображая все сказанное о природной воле в сравнении ее с тем, что называется личной волей, получаем следующий общий вывод относительно смысла и объема, заключающихся в понятии «природная воля». Природная воля вообще есть природная жизнь (ζωὴ φυσικὴ), жизнь духа в широком смысле. В частности, в приложении к человеку она есть жизнь духа или разумной души, как δύναμις λογικὴ καὶ ζωτικὴ сказывающаяся в явлениях духовной жизни, одинаково обращенной как ad extra [вовне], так и ad intra [внутрь]. Частнее, как δύναμις ὀρεκτικὴ, она есть движущее, управляющее начало (principium movens) для частных желаний человеческой природы, по природе направленных к исполнению воли Божией как высшей нормы человеческой деятельности. [332]
Действование (ἐνέργεια), подобно воле, также соответствует природе, а не лицу и неотделимо от природы, почему и называется природным (ἐνέργεια φυσικὴ) [333] или существенным, т. е. принадлежащим сущности (οὐσιώδης), [334] действованием, а человеческое действование, кроме того — врожденным (ἔμφυτος ἐνέργεια). [335] Поэтому все сказанное относительно природной воли справедливо и относительно природного действования, с чем согласился даже защитник монофелитизма (а следовательно — и моноэргизма) Пирр, заявив в разговоре с Максимом, [336] что он находит излишним вопрос о действовании подвергать особому исследованию после того, как вопрос о воле исчерпан сполна. Но область, захватываемая понятием «ἐνέργεια», шире, чем какую обнимает понятие «θέλησις» или «θέλημα». Отношение между действованием и волей есть отношение общего к частному: воля есть жизнь именно «духа», а действование есть жизнь «вообще», есть ἐνέργεια ψυχῆς λογικῆς καὶ ἐνέργεια ζωτικὴ, проистекающая, как выше было замечено, из души, присущая телу и обнаруживающаяся в различных факторах телесной жизни человека. Так, все естественные и непредосудительные немощи суть проявления природного действования, а не воли. Само собой разумеется, что подобное разграничение действования и воли имеет место только в рассуждении человеческой природы, состоящей из двух сущностей. В Боге же действование и воля всецело совпадают: здесь то и другое есть одинаково жизнь духа.
Итак, воля и действование, как таковые, суть неотъемлемые отличительные свойства природы (а не лица). Это теоретическое основоположение диофелитизма в приложении к учению о лице Христа вполне уполномочивало на известный совершенно законный вывод. Во Христе — две совершенные природы; следовательно, во Христе — и «две природные воли» (δύο φυσικὰ θελήματα), и «два природные действования» (δύο φυσικαὶ ἐνέργειαι); две и два — «различные», как различны и самые природы: Божественная и человеческая. [337] Отцы Церкви, когда говорят о двух волях и действованиях, то разумеют воли и действования «природные», [338] а, следовательно — и различные. «Ведь все (т. е. отцы и учители св. кафолической Церкви) учили как об иной и иной, т. е. Божественной и человеческой, и двойной природе Одного и того же; и так же ясно возвестили всем иную и иную волю, т. е. Божественную и человеческую, следовательно — две воли; а также иное и иное действование, Божественное и человеческое, и опять-таки — двойное действование, т. е. два. Подобным образом и сущности они ясно обозначали численно и самыми названиями». [339] Но «как число природ одного и того же, правильно мыслимое и трактуемое, не разделяет Христа, но указывает на сохранение различия природ и в соединении (т. е. ипостасном); так и число существенно свойственных природам Его воль и действований (а ведь по обеим Своим природам, как сказано, Он был хотящий и действующий наше спасение) не вводит разделения (да не будет!), но указывает на сохранность и невредимость их даже и в соединении, и именно только на это указывает». [340]
Против применимости рассмотренного теоретического основоположения диофелитизма к учению о лице Христа, т. е. против двойства воль и действований во Христе, монофелиты выставляли множество различных возражении, видимым образом мотивируя их опасением впасть в несторианство. Так, в разговоре с Максимом Пирр выставляет следующие возражения против допущения двух воль во Христе:
1) Признание двух воль во Христе равносильно признанию двух волящих, двух субъектов, т. е. двух лиц. — Мы говорили уже о том, как опроверг это возражение Максим. Мы знаем, из какого основания, из какого теоретического основоположения монофелитизма исходит такое возражение, но нам известно также и то, в чем или где подобное возражение, как исходящее из известного основания, получает полное разрешение для себя.
2) Совместное существование двух воль, качественно различных, ставит природы Христа в противоречащие даже нравственному соединению их условия борьбы, противодействия (ἐναντιώσεως = τῆς μάχης). — Максим отвечает указанием на отсутствие причины, которая могла бы породить подобную борьбу (τοῦ αἰτίου γὰρ οὐκ ὄντος, οὐδὲ τὸ αἰτιατὸν προδήλως ἐσται [очевидно, что когда нет причины, не будет и причиненного]). Невозможно считать такой причиной самую природную волю (κατὰ φύσιν θέλησιν): в противном случае пришлось бы допустить, что Сам Бог, Творец природы, как таковой — виновник борьбы, что немыслимо. Не могла возникнуть она и вследствие греха, потому что «Бог греха не сотворил» (ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησε, т. е. ὁ Θεὸς), и Христос, как обладающий природными волями, свободен от всякого противоречия (οὐδὲ τὴν οἰανοῦν ἐναντίωσιν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν αὐτοῦ ὁ σαρκωθεὶς Θεὸς εἶχε θελήμασι [ни какого бы то ни было противоречия в Своих природных волях воплотившийся Бог не имел]). [341]
3) Допущение во Христе природных воль равносильно отрицанию в Нем всякого свободного движения, т. е. свободы воли. — С основой этого возражения и с ответом на него Максима мы достаточно уже знакомы. Против применимости монофелитской точки зрения на свободу воли к Христу Максим замечает, что «не только Божественная и несозданная (непроисшедшая) природа не имеет ничего природно необходимого, но и разумная и сотворенная природа не имеет ничего такого» (Οὐ μόνον ἡ θεία καὶ ἀκτιστος φύσις οὐδὲν ἠναγκασμένον ἔχει φυσικὸν, ἀλλ΄ οὐδὲ ἡ νοερὰ καὶ κτιστὴ). [342]
Против двойства природных действований во Христе выставлялись монофелитами точно такие же возражения, как и против двух воль. Так, например, то возражение Пирра, что «признающие во Христе два действования защищают нечестивое учения Нестория», по существу совершенно одинаково с подобным возражением против двух воль. [343] К возражениям против двух воль здесь присоединялось только одно, которое и выставляет на вид Пирр, формулируя его приблизительно так. Если в рассуждении о действованиях Христа принять за основание различие природ Христа (διὰ τὸ διάφορον τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων [по причине различия двух природ во Христе]), а не единичность лица (μοναδικὸν τοῦ προσώπου), то Христу придется приписать не два, а три действования, «по причине различия сущностей души и тела». Нам известен ответ Максима, сводящийся к следующему: природное действование человека есть κατ΄ εἶδος ἐνέργεια [родовое действование], а не κατ΄ οὐσίαν ψυχῆς καὶ σώματος [сообразное сущности души и тела]. [344] Сущность ответа Максима заключается, очевидно, в следующем: тело человека (σῶμα) само по себе безжизненно и недеятельно; форму, то, что называется «εἶδος ἀνθρώπου» [вид человека], придает человеку душа (ψυχή) — начало жизни и движения; из нее-то и исходит ἐνεργεία ζωτικὴ, присущая телу.
Если всмотреться пристальнее в подкладку всех, как приведенных, так и других выставляемых монофелитами возражений, то нетрудно заметить, что действительную основу всех возражений составляет собственно отрицание «человеческой» природной воли и «человеческого» природного действования Христа: из него все они исходят и к нему направляются. Это достаточно ясно уже из второго и третьего возражений против двух воль и из последнего возражения против двух действований. Но среди всевозможных возражений, выставляемых монофелитами, есть одно, в котором отрицание особого человеческого действования Христа является, так сказать, во всей своей наготе, ничем не прикрытое. Это известнейший аргумент в пользу μία ἐνέργεια, который Пирр облекает в форму следующего возражения: «Движение плоти не зависело ли от мановения (νεύμα) соединенного с ней Слова?» Максим хорошо понял своего противника, когда отвечал: «Пресущественное Слово, сделавшееся существенно человеком, имело присущую человеческой природе силу самосохранения (τὴν ἀνθεκτικὴν δύναμιν), стремление (ὁρμὴν) и удаление (ἀφορμὴν) которой и обнаружило добровольно (θέλων) через действование (δι΄ἐνεργείας)… употреблением свойственного природе и добровольным стеснением Себя страхом во время страданий». Мысль Максима как раз противоположна той, какая заключается в возражении Пирра; т. е. испостасно соединенная со Словом плоть совершала свои естественные движения по собственному естественному побуждению, в силу особых, «Самим же Словом творчески вложенных в нее без всякого недостатка законов (λόγους = rationes) своего существования, без которых и самое существование природы невозможно». [345]
Правда, более умеренные и податливые на уступки в пользу православия монофелиты не отрицали вовсе свойственной Христу особой, отличной от Божественной воли Слова, человеческой воли, разумеется — в смысле отдельных, частных проявлений. Они признавали качественное различие или инаковость воль и действований, но ни под каким видом не хотели допустить «двух» воль во Христе. Т. е., не соглашаясь признать законность формулы «δύο ἐνέργειαι» и «δύο θελήσεις ἢ θελήματα», потому не соглашались признать законность ее, что признание различия или инаковости действований и воль в такой форме отводило актуальности определений человечества Христа столь широкие границы, что с монофизитской точки зрения оно (человечество Христа) представлялось им не иным чем, как совершенно самостоятельной природой, существующей лишь подле Божественной природы Слова. Так, например, епископ Феодосий в разговоре с Максимом докладывал, что и они (т. е. монофелиты) вместе с различием природ признают и различие «воль и действований», сознавая, что без них немыслима «одушевленная» плоть. Только по отношению к последним, следуя отцам, они не употребляют самого термина «две» или «два», чтобы избежать разделения Христа, но говорят, что во Христе «иная и иная, и Божественная и человеческая, и двойная и двоякая» (т. е. воля и действование). Известно, что́ ответил ему на это Максим. Он сказал, что говорить, что во Христе «иная и иная, и Божественная, и человеческая, двойная и двоякая» воля и такое же действование все равно, что признавать две воли, два действования, и это так же несомненно, как несомненно то, что «дважды два — четыре». [346]
Несомненно, что актуальность определений человеческой природы Христа в учении монофелитов терпела сильный ущерб, если окончательно не сводилась к нулю, и главный вопрос тогдашней полемики — вопрос об истинности и совершенстве человечества Христа — решался здесь, во всяком случае, отрицательно. Понятно, почему везде, где идет речь о двойстве природных определений, Максим настаивает, как и в отношении природ, на необходимости признания именно «человеческой» воли и действования. И не в качестве только потенциальных сил, не имеющих вовсе обнаружения или, в крайнем случае, со слабым моментом актуальности, но в качестве активных, деятельных сил, действующих из себя и постоянно осуществляющихся. Максим как бы так рассуждает. Самый факт восприятия и существования в лице Христа человеческой природы достаточно говорит за то, что Христос должен был иметь и человеческую природную волю, так как первая даже немыслима без этой последней; отсутствие ее превращает человечество Христа, а с ним и самое домостроительство (ближайшим образом — воплощение) в призрак (τὴν οἰκονομίαν ἐφάντασεν). [347] Да Христос, как «новый человек», как второй Адам, и не мог не иметь человеческой воли: Бог Слово вочеловечился, сделался «новым» человеком, во всем совершенным, т. е. воспринял «мыслящую и разумную душу со сродным ей телом». Следовательно, Он имел, несомненно, и свободную волю воспринятой Им природы. [348] Дело в том, что падение «ветхого» человека, первого Адама было свободное: «Адам добровольно (θέλων) склонил слух (т. е. послушался жены), добровольно взирал (на плод) и по своей воле (так как, увидев плод, он обдумывал) ел; следовательно, воля (θέλησις) наша была первовиновницей падения». [349] А если так, то и в деле искупления она должна была принимать активное участие. Без такого участия нашей воли Христос не мог бы избавить нас от греха (ἁμαρτίας) и доставить спасение; по крайней мере, наше спасение было бы неполно, и дары освящающей и спасающей благодати были бы сообщены нам не во всей полноте, потому что «не воспринятое, — говорит Григорий Богослов в письме к Кледонию, — не подлежит и врачеванию», т. е. не освобождается от наследственной язвы греха. [350] Допустим на время, что спасение, доставленное нам Христом, не полно (что́ могло бы случиться только в том случае, если бы Он воспринял не целого человека). Это означало бы то, что Он или не хотел, или не мог всецело спасти; [351] но то и другое недостойно Христа как Бога и немыслимо. Следовательно, как «новый» человек, как второй Адам, Христос не мог не иметь человеческой природной воли, и Он, действительно, имел ее. Об этом в высшей степени убедительно свидетельствуют факты Его земной жизни, в особенности, например, тот разительный факт, когда Он, как человек, желал бы избежать смертной чаши и молил Бога Отца: «Отче! если возможно, то пусть минует Меня чаша сия». [352] Как Бог, Он не мог, разумеется, страшиться смерти, потому что страх смерти несвойствен Богу, и если, тем не менее, Он обнаружил этот страх через уклонение воли от принятия смертной чаши, то в этом сказалось исключительно Его человечество, Его человеческая воля, которой по природе свойственно уклонение от всего, что́ так или иначе ведет к прекращению существования природы. [353] Итак, несомненно, Христос обладал человеческой природной волей в соответствие своей человеческой природе.
Но человеческая воля Христа была несколько отлична от той воли, какую мы имеем, как и самая человеческая природа Христа была несколько иная, чем какую мы носим. По существу своему та и другая были совершенно тождественны с нашими. [354] Все отличие природы и воли человечества Христова состояло в том, что, будучи восприняты Христом такими, какими они первоначально вышли из рук Творца, они были свободны от того недостатка, который явился в нашей природе вследствие прародительского преступления, т. е. они были «иными относительно склонности к греху» (τῂ ἀμαρτισίᾳ). [355] Значит, в силу самой природы человеческая воля Христа была безгрешна. Выше, в первой главе, мы имели суждение о том, как нужно понимать безгрешность человеческой природы Христа. К сказанному там здесь в рассуждении безгрешности человеческой воли Христа до́лжно присоединить следующее. В объяснение [356] известного [357] изречения Григория Богослова: «человеческая воля Его (Христа), как всецело обожествленная (θεωθὲν ὅλον), не противится Богу (οὐδὲ ὑπεναντίον Θεῷ)», — Максим говорит, между прочим: «Ведь человеческая воля (собственно — „хотение“, „τὸ θέλειν“) Спасителя, хотя была и природной (φυσικὸν), однако не просто человеческой — как и самое человечество не просто как такое, — а как бы вышечеловеческой, так как через (ипостасное) соединение она была всецело обожествлена, от которого и зависело то, что она была на самом деле совершенно непричастна греху. Наша же воля, явно, есть просто только наша и во всяком разе не непричастна греху, от чего и зависит изменчивость в ее направлении». [358] Из этих слов ясно только то, что человеческая воля Христа была совершенно безгрешна в силу ипостасного единства. Но если сопоставить эти слова с раньше (в первой части, к «а») приведенным выражением: «все природное и непорочное не противится Богу, хотя не всецело и соединено с Богом», — а также со следующим, аналогичным с этим последним, выражением: «Поскольку воля природна, она не противится; а поскольку она получает от нас несогласное с природой направление, она, явно, противится и в большинстве случаев противоборствует, спутником чего и бывает грех», [359] — то нельзя будет не прийти к тому заключению, что человеческая природная воля и сама по себе не имеет природной (активной) склонности к греху, хотя и не безусловно безгрешна. Между тем, как относительно обожествленной в силу ипостасного единства природ, человеческой воли Христа Максим выражается, что она совершенно непричастна греху, про человеческую «природную» волю саму по себе он говорит лишь, что она не противится Богу. Очевидно, самым характером выражений Максим хочет высказать ту бесспорно верную мысль, что человеческая «природная» воля, хотя на самом деле не имеет реальной склонности к греху и в этом смысле безгрешна, но для нее не исключена возможность, потенция греха (как, действительно, и было с волей первого Адама). Таким образом, человеческая воля Христа «по природе» не иная (αὐδὲ ἄλλο), чем наша, хотя образ хотения — иной, превосходящий наш (θέλειν ἄλλως ὑπὲρ ἡμᾶς). [360] В чем состоит «инаковость образа хотения» человеческой воли Христа, увидим потом; в настоящем случае у нас речь, собственно, о человеческой воле Христа вне действительного отношения к ней Его Божественной воли, о том, что Христос имел «человеческую природную» волю.
Итак, на основании целости обеих природ Христа необходимо признать за несомненное то, что Христос имел «две природные воли», соответствующие двум Его природам, и «два природных действования»: Божественное и человеческое.
В подтверждение истины двойства природных воль и действований во Христе Максим ссылается на факты евангельской истории, так что во множестве приводимые у Максима изречения Св. Писания могут быть рассматриваемы как особый класс доказательств двойства воль и действований во Христе. Изречения Св. Писания, как таковые, распадаются на три группы: на изречения, а) говорящие исключительно о Божественной природной воле и действовании Христа; b) свидетельствующие исключительно о человеческой природной воле и таком же действовании; с) подтверждающие действительность совместного существования в лице Христа двух природных воль и действований.
а) Что касается свидетельств Св. Писания первого рода, то Максим ограничивается указанием двух-трех мест, и так он поступает в этом случае потому же, почему он не находит нужным распространяться относительно необходимости признания Божественной природной воли на основании целости во Христе Божественной природы.
Сюда, прежде всего, до́лжно отнести слова Ин. V:21: «Как (ὡς) Отец воскрешает мертвых и оживотворяет, так и Сын оживотворяет, кого хочет». Максим толкует эти слова так. Так как сравниваться (а частица «ὡς» указывает на сравнение) могут только «одинаковые сущности» (а Божественная и человеческая воли принадлежат не к одинаковой сущности, потому-то они и различны), то, очевидно, приведенные слова не могут быть относимы к человеческой природной воле, а должны быть отнесены к Божественной природной воле, которая у Сына совершенно одинакова с Богом Отцом, потому что природа Их одинакова. В силу такой одинаковости Сыну принадлежит наравне с Отцом всемогущее действование Божества: воскрешение и оживотворение мертвых. [361]
Слова Мф. XXIII:37–38: «Иерусалим, Иерусалим!.. сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает детей своих под крылья», — также должны быть отнесены к Божественной воле и действованию Христа, потому что ими ясно указывается на различные способы милующего промышления Бога о грешном роде человеческом. [362]
Указываются также следующие места: Ин. V:17, 19; Ин. X:38, 25. [363]
b) В изречениях Писания, приводимых Максимом для удостоверения действительности человеческой природной воли Христа, нет недостатка.
Так, Максим ссылается на Ин. I:43: «На другой день Иисус восхотел пойти в Галилею». Так как Иисус мог хотеть пойти только туда, где Он в то время не присутствовал, не присутствовать же в известном месте в известный момент времени Он мог только по Своему человечеству, то желание Иисуса «пойти в Галилею» может быть отнесено только к Его человечеству.
Подобный же пример представляет другое место — Ин. XVII:24: «Хочу, чтобы там, где Я, и они были (со Мною)». Как Бог, Христос стоит выше всякого ограничения пространственным определением («где»). В приложении же к ограниченной природе человеческой это ограничение является неизбежным, следовательно, выраженное в приведенных словах желание Христа опять может быть отнесено только к Его человечеству.
Столь же ясно свидетельствуют действительность человеческой воли Христа следующие места Нового Завета:
Ин. XIX:28: «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: „жажду“». Проявление чувства жажды, желание удовлетворить его и нехотение пить поданного питья — все такие явления, которые свойственны только человеческой природе Христа.
Ин. VII:1: «После сего Иисус ходил по Галилее; ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его». Хождение, натурально, свойственно только природе, обладающей приспособленными для этого органами. Следовательно, хождение по Галилее и нежелание ходить по Иудее — суть проявления человеческой воли и действования Христа.
Подобный же пример обнаружения человеческой воли и действования Христа представляют следующие два почти аналогичные изречения: Мк. IX:30 и VII, 24 ст. того же евангелиста. В том и другом месте нежелание Христа, чтобы кто–нибудь знал местопребывание Его с учениками, могло исходить от Него, разумеется, как человека, потому что путь земного странствования был свойствен Ему по природе не как Богу, а как человеку.
Мк. VII:48: «Около четвертой стражи ночи подошел (Иисус) к ним (т. е. к ученикам), идя по морю, и хотел миновать их». Хождение вообще не может быть отнесено к Божественной природе Христа, потому что Божество стоит выше всякого ограничения телесными и пространственными определениями; следовательно, рассматриваемые слова до́лжно отнести к человечеству Христа, как говорящие о присущем человеческой природе Христа действовании. [364] Известно, что на этот факт евангельской истории ссылались также и монофелиты в подтверждение того, что во Христе — одно богомужное действование. Конечно, монофелиты были неправы, видя в факте «хождения по водам» проявление действования, свойственного Христу, как «целому». Потому неправы, что ставили Бога в условия существования ограниченной телесными, пространственными определениями природы. Но как будто не прав и Максим, усматривающий в этом факте проявление исключительно «человеческого» природного действования Христа, так как человеку несвойственно хождение по поверхности воды. Однако если сопоставить акт хождения по морю с обстоятельствами, ему сопутствовавшими, — а именно с тем обстоятельством, что ученики, плывшие в лодке по морю, увидев Иисуса, испугались Его, приняв Его за призрак, и со стоящим в связи с этим обстоятельством ответом Иисуса: «Это Я, не бойтесь!» — ответом, который имеет такой смысл: «это на самом деле Я, действительный человек, а не призрак Мой», — то станет совершенно понятным, почему в факте известного хождения по морю Максим видит указание на проявление именно человечества Христа.
Лк. XXII:8–9. Есть пасху было свойственно находившимся под законом, а Христос был под законом как человек (Галат. IV:4); следовательно, как человек Он хотел есть и ел пасху.
Филип. II:8: «Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Оказывать послушание свойственно, по выражению Григория Богослова (II orat. de Filio), «вторым и подвластным», и про Христа, как Бога, нельзя сказать ни того, что Он был «послушен», ни того, что был «непослушен»; следовательно, Он оказывал послушание как человек. [365] Здесь указывается именно на человеческую «волю» Христа, «нового» человека, которая во всем следовала, всегда оказывала послушание Божественной воле, чтобы тем самым искупить непослушание воле Божией со стороны воли «ветхого» человека, первого Адама.
Пс. XXXIX:7–9. По Божеству воля Сына тождественна с волей Отца, по человечеству же она отлична от воли Отца, потому что по человечеству Отец есть Бог Христу. Следовательно, как человек Христос восхотел исполнить волю Бога Отца. [366]
с) Наконец, что касается подтверждения действительности совместного существования в лице Христа двух природных воль, то Максим указывает известное в этом отношении, так сказать — классическое, место: Мф. XXVI:39 («Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты»). Нельзя относить, так рассуждает Максим, слова «не как Я хочу» к Божеству Христа, потому что в противном случае и то, чего́ хотел Христос, т. е. непринятия чаши, придется отнести к Божеству, и выйдет нелепость, а именно, что Божеству по природе надлежало испить смертную чашу. Следовательно, их до́лжно отнести к человеку, мыслимому в лице Спасителя, который по причине немощи плоти молил Бога Отца, чтобы «миновала Его, если возможно, чаша смерти». Но, возвышаясь над немощью плоти в силу «бодрости духа», Он добровольно подчинял волю своего человечества воле Отца, говоря: «впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Таким образом, волю своего человечества Сам Христос здесь прямо различает от Своей Божественной воли, одинаковой у Него с Богом Отцом, через что и являет Себя обладающим не только одной равной с Отцом волей, но и другой, по природе от нее отличной, следовательно — двумя различными волями. [367]
Особенный класс доказательств двойства природных воль и действований во Христе представляют свидетельства отцов Церкви. Максим указывает многочисленные и решительные выражения, ясно свидетельствующие о том, что когда отцы говорят о двух волях, то разумеют именно природные воли. [368] Так, в догматическом послании к Стефану, епископу Дорскому (col. 160–165) Максим ссылается на следующих отцов Церкви:
на Афанасия Александрийского, который в книге «О воплощении и Троичности» в объяснение слов Мф. XXVI:39 («Отче Мой! если возможно, да минует…» и т. д.) и 41 стиха («Дух бодр, плоть же немощна») говорит, что Христос «обнаруживает здесь две воли: человеческую, которая по причине немощи (плоти) страшится смерти, и Божественную», которая стоит выше каких бы то ни было ограничений плоти; [369]
на Григория Богослова, который, во «II слове о Сыне» говорит: «...в седьмых, считай речение, что Сын сошел с неба, чтобы исполнить не Свою волю, но волю Пославшего Его. Если бы это сказано было, — продолжает Григорий Богослов, — не самим Снизошедшим, то мы ответили бы, что слова эти произнесены от лица человека, не какого разумеем в Спасителе (περὶ τοῦ ἀνθρώπου…, οὐ τοῦ κατὰ τὸν Σωτῆρα νοουμένου) (ведь хотение Его, как всецело обоженное, не противно Богу), но подобного нам, так как человеческая воля не всегда следует (Божественной), но в большинстве случаев противоречит и противоборствует ей». [370] В этом последнем положении, нужно заметить, монофелиты находили противоречие тому утверждаемому Максимом положению, что «ничто природное не противно Богу». Если «ничто природное не противится Богу», то на каком основании, возражали монофелиты, Григорий Богослов о человеческой природной воле выразился совсем не так, что она «следует, повинуется Богу», а так: «обыкновенно, в большинстве случаев (ὡς τὰ πολλὰ) она противоборствует?» Максим разрешает это видимое противоречие таким образом: «насколько воля природна, ей не свойственно противиться, а насколько она получает от нас несогласное с природой направление, она явно сопротивляется и противоборствует, и спутником (такого направления) ее бывает заблуждение и грех; но это не всегда бывает: иногда она и не противоборствует. Почему Григорий Богослов и не сказал здесь: „совершенно не следует“, — но умерил резкость мысли выражением „ὡς τὰ πολλὰ“. Человеческая же воля Спасителя — хотя была и природная, но не просто человеческая: как обожествленная в силу ипостасного единства, она была совершенно безгрешна». [371]
Григорий Нисский (в слове на Пасху) в объяснение Мф. VIII:2–3 говорит, что в исцелении прокаженного Христос обнаружил человеческую волю («душа хочет») и человеческое действование («тело касается»). [372] Тот же отец Церкви в объяснение Мф. XV:32 и следующих говорит, что в желании Христа насытить множество сопровождавшего Его в пустыне народа и в преломлении Им хлеба сказалась двоякая природа Христа: Божественная — «через стремление присущей душе воли», и человеческая — «через действие плоти» (преломление хлеба руками). [373] Тот же отец во второй книге против Аполлинария свидетельствует, что выражением «не Моя, но Твоя» (Лк. XXII:42) Христос явил Себя обладающим двумя различными природными волями: Божественной и человеческой. [374]
Иоанн Златоуст в слове против оставивших собрание говорит, что слова: «Отче, если возможно…, впрочем, не как Я хочу, но как Ты» — указывают не только на проявление естественного страха смерти, по природе присущего человечеству Христа, но и на двойство природных воль во Христе. Нельзя эти слова целиком относить к Божественной воле Христа, потому что в таком случае выйдет противоречие.
Кирилл Александрийский в 24 главе «Сокровища» говорит, что словами: «Если возможно, да минует…» и т. д. — Христос засвидетельствовал действительность Своей человеческой воли, которой по природе свойственно страшиться смерти. [375]
Наконец, Севериан, епископ Гавальский (Γαβαλῶν) засвидетельствовал двойство воль во Христе при объяснении Мф. XXVI, 39 и 41 стихов.
Для двойства действований Максим указывает [376] выражения отцов Церкви столь же решительные.
Амвросий Медиоланский во второй книге к Грациану так рассуждает: как Бог, Христос равен Богу, а как человек — Он меньший. Одна и та же природа в одно и то же время не может быть и меньшей, и равной; следовательно, во Христе — две различные сущности или природы. А если так, то Он обладает и двумя различными действованиями, потому что при различии сущностей немыслимо одно действование.
Кирилл Иерусалимский свидетельствует, что в чудесном факте претворения воды в вино [377] «Господь показал двоякое действование, чувствуя как человек и Сам же действуя как Бог; и это был не иной и иной, хотя действовал иным и иным образом» (πάσχων μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἐνεργῶν δὲ ὡς Θεὸς ὁ αὑτὸς· οὑ γἄρ ἄλλος καὶ ἄλλος, εἰ καὶ ἄλλως καὶ ἄλλως).
Папа Лев в послании к Флавиану говорит: «В той и другой форме (природе) при взаимном общении их Он (Христос) действует свойственное каждой (ἐνεργεῖ γἄρ ἐν ἑκατέρᾳ μορφῇ μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας, ὅπερ ἴδιον ἔσχηκε). [378] Слово действует свойственное Слову, и плоть действует свойственное плоти: одно блистает чудесами, другая подвергается унижениям».
Иоанн Златоуст также ясно свидетельствует, что во Христе — два различных действования: действование человечества и всемогущее действование Божества. Так, «на земле трудится, и чувствует утомление, а на небе управляет стихиями; на земле алкает, а на небе господствует над ветрами; на земле испытывает страх, а на небе гремит; на земле предстоит судилищу, а на небе Сам Судия».
Наконец, Кирилл Александрийский в 32 главе «Сокровища» тоже заповедует признавать два природных действования во Христе, когда говорит: «Мы ничуть не допустим, чтобы было одно природное действование Бога и твари, чтобы через то самое ни тварного не возвести на степень Божественного существа, ни превосходящую природу Божественную не низвести на место, свойственное твари: при совершенной одинаковости действования одинакова и природа». [379]
Кроме приведенных, Максим указывает еще некоторые другие свидетельства отцов Церкви о двух волях и действованиях Христа, особенно — Дионисия Ареопагита и Кирилла Александрийского. Но так как на изречения этих отцов ссылались и монофелиты, то мы находим более удобным рассмотреть их при изложении монофелитского учения на основании догматико–полемических трудов Максима.
Приведя все рассмотренные свидетельства указанных отцов Церкви о двойстве природных действований во Христе, Максим заключает: «из облака свидетельств (Евр. XII:1) достаточно ясна их правая вера и правое исповедание Спасителя всех Христа, опираясь на которое, они заповедали церквам признавать две природы Одного и того же и в таком же количестве — воли и действования». [380]
Против столь ясных и решительных свидетельств Св. Писания и авторитетных отцов Церкви, подтверждающих истину неслитного существования в лице Христа двух природных воль и действований, монофелиты не могли выставить ничего другого, кроме обильных свидетельств своих предтеч-монофизитов и их единомышленников, заклейменных Вселенской анафемой. Что же касается некоторых немногих выражений православных отцов Церкви, на которые силились опереться монофелиты, то, как отчасти уже видели, а отчасти увидим потом, более или менее произвольно они искажали истинный смысл их применительно к своим тенденциям.
Глава III.
Образ и следствия ипостасного соединения природ или отношение природного двойства к единству ипостаси.
Предшествовавшее исследование показало, что две природы Христа пребывают в ипостаси Слова «неслитно и неизменно». Не подвергаясь количественному и качественному изменению, две природы Христа, согласно с Халкидонским вероопределением, существуют вместе с тем и «нераздельно». Нераздельность существования Божественной и человеческой природ Христа должно понимать так, что две природы Христа принадлежат не двум различным лицам, связанным между собой, возможно, тесными нравственными узами, как мыслил Несторий, [381] но одному лицу, единой ипостаси Слова: в ней одной та и другая природа Христа приобретает действительность существования, имеет собственного носителя или владетеля. Ипостась Слова, от вечности существующая как ипостась Божественная, как одна из Трех Носителей Божественной природы, становится потом, с самого первого момента ипостасного соединения, носителем или владетелем человеческой природы Христа, так что эта последняя делается во времени такой же собственностью Бога Слова, какой от вечности было для Него Божество. Отношение обеих природ Христа или воплотившегося Бога Слова к ипостаси Слова становится совершенно одинаковым: ипостась Слова есть носитель, владетель равно обеих природ; а Божественная и человеческая природа в одинаковой степени — суть предмет обладания, собственность Слова. [382]
В тесной связи с такого рода отношением между лицом и природами Христа состоит обычный образ выражений, употребляемый в учении о воплощении: «Бог Слово» (Θεὸς ὁ Λόγος) «воплотился, вочеловечился» (σάρξ ἐγένετο, ἀνθρωπήσας, ἀληθῶς γενόμενος ἄνθρωπος [стал плотью, вочеловечился, воистину став человеком]); [383] «Бог Слово воспринял плоть в личное единство с Собой» или — «Бог Слово соединил с Собой плоть» (ἥνωσεν ἑαυτῷ τὸ καθ΄ ὑπόστασιν [соединил с Собой то, что по ипостаси]) [384] и т. п. Все такие и подобные им выражения указывают на то, что не Божество Христа, которое само от вечности существует в Слове, как и в Отце, и в Духе Св., и, следовательно, не вся Святая Троица, а Бог Слово, одно из Лиц Св. Троицы, сделалось действительным носителем, обладателем человечества Христова. Участие других Лиц Св. Троицы в акте воплощения Сына состоит в том, что Сын Божий воплотился по соизволению Отца при творческом наитии Св. Духа. Иначе: в воплощении Сына сказалась воля Отца, осуществившаяся через зиждительное наитие Св. Духа. [385]
При свете такого понимания характера отношения между ὐπὸστασις и φύσις в применении ко Христу становится вполне понятным смысл выражения «συγγενὴς», употребленного, между прочим, в известном изречении Кирилла Александрийского: «Христос двояко обнаружил одно свое (собственное) действование». [386] Отношение ипостаси Слова к человеческой природе Христа в простой форме выражено у апостола Павла в следующих словах: «Уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Филип. II:7). Некоторое указание на такое отношение Бога Слова к человечеству Христа можно видеть в образе выражений следующих слов Максима: «И само владычествующее (τὸ αὑτὸ ἐπικρατοῦν) овладевается тем, над чем оно владычествует» (κρατεῖται ὑπὸ τοῦ ἐπικρατουμένου). [387] Более прямое и точное указание заключается в равнозначащем с «συγγενὴς» [сродный] слове «οἰκεῖος» [домашний, т. е. свой собственный], употребляемом в приложении к человеческой природе и воле Христа. [388]
Таким образом, ипостась Бога Слова, не переставая быть тем, чем она была всегда, с самого первого момента восприятия в нее плоти, перестает быть лишь исключительно ипостасью существующего в Слове Божества, одинаково и безраздельно становясь ипостасью для обеих природ Христа. Так что простая вечная ипостась Бога Слова со времени воплощения становится ипостасью сложной (σύνθετος ὑπόστασις), ипостасью Богочеловека, объединяющей в себе, как бы в некотором «целом», две природы со всеми их существенными определениями, которые (т. е. природы) по отношению к ней могут быть названы в некотором смысле «частями целого». [389] Одним словом, ипостась Христа есть сложная по соединению существующих в ней природ (κατὰ σύνθεσιν ἐκ τῶν φύσεων). [390] На сложность ипостаси указывает имя «Христос»; [391] а так как Христос один и единственный в своем роде, то лицо Христа, строго говоря, не может быть названо индивидуальным (ἄτομον = individuum), потому что нет такого общего рода (εἶδος), который бы можно было назвать именем «χριστότης» [«христовство»], и под который подходил бы Христос, как неделимое. [392]
Все разъяснения Максима относительно «сложности» ипостаси Христа направляются, главным образом, против учения Севера об «одной богомужной ипостаси» воплотившегося Слова, в смысле «одной богомужной или сложной природы». А при такой цели указанных разъяснений представляется совершенно уместным и понятным то обстоятельство, что в учении Максима об ипостасном или личном соединении (ὑποστατικὴ ἕνωσις или ἡ καθ΄ ὑπόστασιν ἕνωσις [соединение по ипостаси]) первое, что́ обращает на себя внимание, есть относильная сложность ипостаси Христа, т. е. неслитность и непреложность, хотя и нераздельность соединения двух природ с сохранением всех существенных определений их. Истинное, высочайшее соединение — а таково «ипостасное» соединение, [393] имеющее место там, где различные сущности или природы соединяются в одной ипостаси или лице [394] — состоит в том (и в этом его отличие от «субстанциального» и «аффектуального» соединений), что, несмотря на приведение природного разделения соединенных в сложной ипостаси частей к величайшему тождеству и единству, [395] качественное различие соединенных природ остается неприкосновенным. [396] Так что Христос, как выразился Софроний, в одно и тоже время есть «ἕν καὶ δύο» [одно и два]: одно по ипостаси и лицу (κατὰ τὴν ὑπόστασιν καὶ πρόσωπον), а два — по самим природам и естественным их особенностям (κατὰ τὰς φύσεις αὐτὰς καὶ τὰς φυσικὰς αὐτῶν ἰδιότητας). [397] Точно такой же смысл, по объяснению Максима, имеют следующие два выражения Григория Богослова: одно (из большой апологетической речи): «одно (лицо) из обеих (природ), и обе через одно» (ἕν ἑξ ἀμφοῖν, καὶ δι΄ἐνός ἀμφότερα); другое (из II слова о Сыне): «Хотя то и другое (т. е. Божество и человечество) составляют одно (ἕν), но не по природе, а по соединению (τῂ δὲ συνόδῳ)»; и следующее изречение Кирилла Александрийского (из II письма πρὸς Σούκενσον): «Так что и два (т. е. Божество и человечество) уже не суть два, но через оба проявляется одно живое существо (ὥστε τὰ δύο μηκέτι μὲν εἶναι δύο, δι΄ ἀμφοῖν δὲ τὸ ἕν ἀποτελεῖσθαι ζῶον)». [398]
Итак, в одной ипостаси Христа существуют две природы: ни единство не нарушает (не сливает и не превращает) двойства, ни двойство не расторгает (не разделяет) единства. [399] За мыслимость совмещения двойства естеств с единством ипостаси говорит учение о Троичном Боге и составность человеческой природы. Как в Боге тождество или единство сущности и троичность ипостасей или лиц, и как в человеке, наоборот, единство лица и различие сущностей души и тела не исключают друг друга; подобным образом и во Христе личное единство или тождество и природное различие (двойство) не противоречат друг другу. И «насколько невозможно, чтобы, признавая единство Божественной природы, мы не исповедовали в Св. Троице вместе с тем и ипостасного различия, настолько же необходимо и в Одном из Св. Троицы исповедовать и единство, и различие». [400]
Относительно ссылки на учение о Троичном Боге до́лжно заметить, что, сама по себе мало уясняя возможность совмещения в одном лице Христа двух природ, так как учение о Троичном Боге и учение о лице Христа представляют два примера взаимно обратного отношения между ὑπόστασις и φύσις, со стороны количественной [401] эта аналогия делала, однако, доступным представлению каждого то неоспоримое теоретическое основоположение православного учения, что понятия «ὑπόστασις» и «φύσις» нетождественны, и что, следовательно, числу лиц не соответствует число духовных природ и наоборот; и тем самым отрицательно указывала на мыслимость совмещения во Христе природного двойства с личным единством.
Что же касается составности человеческой природы, то она представляет отчасти аналогичное со сложной ипостасью Христа явление и несколько уясняет мыслимость и возможность совмещения в одном лице Христа двух природ. Замечательно то, что на составность человека указывали и противники православных (например — Север, Пирр и др.), усматривая в ней явление, аналогичное со «сложной природой» Христа, при различии сущностей. Те и другие, со своей точки зрения, были правы, и вопрос о законности пользования рассматриваемой аналогией со стороны православных и их противников разрешается с точки зрения обязательности основного воззрения тех и других на ὑπόσασις, φύσις и οὐσία. Дело только в том, что рассматриваемая аналогия — обоюдоострое оружие, а именно: подобно тому как в человеке начало жизни и движения есть душа, одухотворяющая тело и действующая через него, как через безжизненный сам по себе орган (припомним здесь то, что мы раньше сказали в разъяснение сущности ответа Максима на то возражение Пирра, что если в вопросе о количестве действований во Христе исходить из различия сущностей или природ, то Христу придется приписать не два, а три действования, так как человек состоит из двух различных сущностей), так и во Христе — могли возразить и, на самом деле, возражали противники православных — всякое естественное движение выходит от Слова, действующего иногда через плоть, как через естественный, но сам по себе неподвижный орган. Максим не мог не видеть, с каким оружием ему приходится бороться, и поэтому рассматриваемой аналогии не провел далее указанного отношения, как он сделал это с аналогией «раскаленного меча». Правда, пользуясь таким оружием, Максим не беззащитен: в опровержение выставленного возражения, которым хотят сказать, главным образом, то, что действование Христа — одно, наподобие того, как действование орудия (ὀργάνου) и деятеля (τοῦ κινοῦντος) — одно, Максим говорит, [402] что «сложное действование (σύνθετος ἐνέργεια) принадлежит и природе сложной; между тем, генезис частей всякой сложной природы взаимно современен (ὁμόχρονον) и зависим (ἀκούσιον), т. е. ограничен пространством и временем; значит, Слово современно плоти, а плоть совечна Слову…, как современны душа и тело».
Образ ипостасного существования (τρόπος τῆς ὑπάρξεως) природ Христа выражается на языке Максима понятием «περιχώρησις εἰς ἀλλήλας» [перехождение одного в другое], обозначающим «круговращение», взаимное проникновение природ. [403] Будучи ипостасно соединены, природы Христа до того тесно переплетаются между собой, что как бы взаимно проникают друг друга. Следствием такого взаимоотношения природ является «ἀντίδοσις ἰδιωμάτων» (= reciprocatio) — «общение свойств» той и другой природы или, как принято называть, «communicatio idiomatum». Дальнейшее следствие взаимного проникновения природ есть «θέωσις» — «обожение» человеческой природы. [404] Но ἀντίδοσις и θέωσις составляют лишь логическое следствие того, что называется «περιχώρησις», а это последнее — лишь логическое prius [исходное положение] первых; в действительности все они даны зараз. На личное соединение природ нельзя смотреть как на процесс, совершающийся с постепенностью и имеющий определенные градации объединения: подобная точка зрения уместна лишь при несторианском образе представления соединения природ Христа. При нравственном соединении природ, мыслимом Несторием, две природы Христа и в конце процесса соединения остаются все-таки двумя различными субъектами. При строго субстанциальном или физическом соединении природ, каким представляется соединение с точки зрения монофизитского воззрения, двойство природ, вошедших в соединение, по соединении уничтожается через слияние или через превращение природ или сущностей. Только при православном образе представления соединение природ с сохранением двойства при личном единстве в каждый мысленный момент соединения остается в одном и том же виде: без изменения или слияния в начале и без разделения в конце соединения. А что логически περιχώρησις предваряет и обусловливает ἄντίδοσις и θέωσις, это достаточно ясно, во-первых, из самого названия образа и следствий соединения, а во-вторых, из того весьма удачного сравнения, каким по примеру других отцов пользуется Максим для выяснения образа и следствий ипостасного соединения природ, обозначаемых указанными понятиями, — из сравнения с «раскаленным мечом» (πεπυρακτωμένη μάχαιρα). Железный меч, положенный в огонь, до того раскаляется, что сам делается как бы огнем (πῦρ τῂ ἕνώσει γεγένμται [становится огнем от соединения], т. е. τὸ σίδηρον [железо]), насквозь проникаясь им: огонь проникает в каждую мельчайшую частицу железа. Отсюда происходит то, что железо воспринимает или усваивает себе свойство огня — жгучесть (ἡ καῦσις). Но и огонь, соединяясь с железом и проникая его, не остается без влияния на него со стороны железа: и он тоже как бы проникается железом, приобретая свойство сечения (τομή), принадлежащее последнему. Таким образом, при соединении (ἕνωσις) двух разнородных элементов — огня и железа — наблюдается взаимное проникновение их и происходящая отсюда взаимная передача, общение свойств, принадлежащих тому и другому (ἄκρα τούτων εἰς ἄλληλα τιεριχώρησις καὶ ἀντίδοσις [высшая степень этого — взаимное проникновение и обмен]). [405] Аналогию с «раскаленным мечом» Максим весьма последовательно проводит далее указанного отношения, почти до конца, пользуясь ею для уяснения сущности и образа ипостасного соединения природ. Так, прежде всего, пример раскаленного меча уясняет отчасти возможность совместного существования в одном лице Христа двух природ с сохранением целости обеих природ и по соединении. Подобно тому, как два различных элемента — огонь и железо — хотя и образуют при соединении один огненный меч, однако же не сливаются до обезразличения, не утрачивают каждый своих особенностей: огонь — жгучести, а железо — тяжести (βρῖθος) и сечения, но, сохраняя их, остаются такими же, какими существуют и вне соединения, и природным двойством нисколько не нарушают единства предмета. Так и две природы Христа и по соединении в одной ипостаси пребывают качественно различными природами, так что ни единство лица не уничтожает двойства, ни двойство природ не нарушает единства. [406] Далее, пример огненного меча помогает уяснению указанных образа и следствий ипостасного соединения. От соединения с огнем, не утрачивая своих особенностей, железо приобретает свойство огня и само делается как бы огнем. Так и человечество Христа, «ничего из своей природы и свойственного его природе действования» не теряя от соединения с Божеством, διὰ τὴν ἄκραν φύσεων εἰς ἀλλήλας περιχώρησιν [по причине крайнего проникновения природ друг в друга], настолько проникается Божеством или обожествляется, что, возвышаясь на степень природы Слова, приобретает достоинство и величие, естественно присущие Божественной природе Христа. [407] Как огонь и железо действуют неразрывно (ἀδιστάτως = indivise) в отношении к тому, что́ по природе свойственно каждому (τὰ τε κατὰ φύσιν ἰδίαν), так и Божество и человечество Христа действуют то, что свойственно каждому в общении друг с другом (cum alterius communione = μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας [с приобщением другого]), как выразился папа Лев в догматическом послании к Флавиану. [408] Но, несмотря на нераздельность (μὴ διἡρηνται) образов или произведений (ἀποτέλεσμα) действий огня и железа, соединенных в огненном мече, действование огня (ἡ τοῦ πυρὸς ἐνέργεια) и железа (ἡ τοῦ ξίφους ἐνέργεια) различны. То же самое должно сказать и относительно действований Божества и человечества Христа. [409] Наконец, «ничто не препятствует называть или исчислять природу железа, хотя оно соединено с огнем, и его природное действование, несмотря на то, что это последнее неотделимо от действования огня. Точно так же нет никакого смысла не исчислять естественно присущей человеческой природе воли и не признавать совершенства в этом отношении Бога Слова по человечеству, несмотря на нераздельное соединение и теснейшее общение Его со всем, что свойственно человеческой природе (за исключением, разумеется, греха), а, следовательно, и с самой природой, совершившееся ради нашего спасения по благоволению Отца при деятельном участии Духа Святаго». [410] Отсюда — законность формул «δύο φύσεις», «δύο θελήματα или θελήσεις» и «δύο ἐνέργειαι». Кроме всех указанных у Максима отношений сложность ипостаси Христа отчасти тоже может быть уяснена на том же примере.
Нельзя не признать того, что приведенная аналогия во всех отношениях весьма удачна: она много помогает приближению таинственного учения об образе и следствиях ипостасного соединения природ Христа к обыкновенному человеческому пониманию через уподобление его доступному представлению каждого явлению. За всем тем, учение Максима об образе и следствиях ипостасного соединения требует некоторых разъяснений. Так, прежде всего, относительно самого образа ипостасного существования природ до́лжно заметить, что хотя и говорится, что обе природы проникают друг друга, но проникновение в собственном смысле принадлежит, как показано было на примере раскаленного меча, Божественной природе Слова. Как огонь, проникая в каждую мельчайшую частицу железа, окрашивает его и по действию делает его подобным себе, так и Божество Слова проникает, так сказать, в плоть и кровь человеческой природы Христа и налагает печать на все движения человеческого духа, так что человеческая природа Христа на самом деле во всех своих движениях и поступках сказывается как собственная природа воплотившегося Бога Слова, как вторая, но, тем не менее, истинная и действительная природа; короче сказать, она «обожествляется». Обожение человеческой природы Христа должно понимать не в смысле изменения или превращения человечества в Божество, [411] так как, несмотря на соединение с Божеством, человечество, подобно железу, «ничего из своей природы и свойственного ему действования не утрачивает», а в смысле «уподобления Божеству». Богоподобие человеческой природы достигает во Христе самой высшей степени совершенства: человеческое слово бессильно в изображении того безмерного участия человеческой природы Христа, как второй природы Бога Слова, в несказанном величии и достоинствах Божественной природы Слова. Попытки богословствующего разума обнять мыслью это величие разрешались часто в неудобоприемлемую для православной Церкви формулу. Так, например, относительно обожения человеческой природы Христа Григорий Назианзин (in orat. XLII) выражается так: будучи всецело проникнута Божеством, плоть Христа «сделалась тем, что́ есть то, чем она проникается, и — осмелюсь сказать — „ὁμόθεον“ [равнобожественной]». [412] Подобный образ выражения, во всяком случае, не может быть назван точным. Короче: проникновение и проистекающее из него обожение человеческой природы Христа до́лжно понимать в смысле неотделимости существования и образа действования человечества Христа от существования и образа действования Божества Слова; [413] а, как таковое, проникновение принадлежит в некоторой степени и человечеству Христа. Бог Слово есть истинный носитель человеческой природы, а, следовательно, и ответственный владетель, в полном смысле господин ее; значит, проникновение принадлежит в строгом смысле Божеству Слова. Но и оно, как таковое, не остается без влияния на него, хотя в меньшей степени, со стороны того, чем оно владеет. «Так, например, золото, господствуя над смешанным с ним серебром и, пожалуй, медью, и само подчиняется обладанию со стороны этих последних, хотя в меньшей мере, сообразно, разумеется, количеству смешения». [414] Таким образом, на самом деле происходит взаимное проникновение природ (περιχώρησις εἰς ἀλλήλας).
Ипостасное соединение природ или взаимное возможно тесное, до невозможности разделения, жизненное общение природ постоянно и неизменно. Начавшись с первичного момента соединения, оно затем уже никогда, ни на одну минуту не прекращается так, что во всем, что бы ни переживал Христос, что бы так или иначе Он ни делал, во всем познается именно Христос — воплотившийся Бог Слово. «Неизменно вочеловечившийся» (ἀτρέπτως γενόμενος ἄνθρωπος) Бог Слово хотел и действовал «не как только Бог, сообразно со своим Божеством, но вместе с тем — и как человек, согласно со своим человечеством», потому что единый и единственный Христос одинаково есть истинный Бог и совершенный человек. [415] Так, например, чудеса творило Божество, но не без участия плоти; унижение и страдания переносила плоть, но не отдельно от Божества; отсюда — «общность славы (κοινὸν τῆς δόξης) и общность уничижения (κοινὸν τῆς ὕβρεως = communitas contumeliae), о которой говорят отцы Церкви τῷ τῆς ἀντιδόσεως τρόπῳ [по образу взаимообмена]». [416] В таком же точно смысле мы называем Бога страдающим за грехи, а воспринятую плоть — всецело обожествленной: «исповедуем Одного и Того же как подверженного страданию и бесстрастного, как сотворенного и непроисшедшего, как земного и небесного, как зримого и умопостижимого, знаемого и (чувственно) непостигаемого». [417] Т. е. в силу ипостасного соединения природ все, что бы так или иначе ни исходило от Христа как Бога или как человека, всякое Божественное и человеческое движение и действие мы приписываем одному и тому же Христу, как целому, [418] как единственному владетелю обеих природ, указывая этим на образ существования природ и на проистекающий из него новый и таинственный образ обнаружения природных действований Христа (ὁ καινὸς καὶ ἀπόῤῥητος τρόπος τῆς τῶν φυσικῶν τοῦ Χριστοῦ ἐνεργειών ἐκφάνσεως). [419] В этом смысле позволительно говорить о некоторой θεανδρικὴ ἐνέργεια и не до́лжно вовсе чуждаться выражения: «ἡ συγγενὴς δι΄ἀμφοῖν (т. е. через властное Божеское веление и прикосновение плоти проявляющаяся) μία ἐνέργεια», по мысли и по способу выражения ее близко стоящего к выражению Дионисия. [420] Пример совокупного действования природ Христа представляет чудесный факт воскрешения дочери начальника синагоги, совершившегося по всемогущему мановению Божества при участии плоти. Возвращая к жизни Своим всемогущим повелением («девица, встань!»), Христос при этом взял умершую за руку (Лк. VIII:54), прикоснулся к ее руке Своей пречистой плотью. [421] Правда, это не особенно удачный пример, потому что участие плоти здесь ограничивается такого рода проявлением природной энергии человечества, какого не оспаривали и монофизиты, и монофелиты. Зато есть другой подобный пример, указывающий на участие плоти Христа более полное и совершенное. Такой пример представляет моление Спасителя о чаше, к которому Максим не раз обращается. [422] Видя приближение смертной чаши, Христос молил Бога Отца: «Отче Мой! если возможно, пусть минует Меня чаша сия». Христос, как человек, хотел бы избежать смерти, хотел бы не пить этой чаши — не по малодушию (чрезмерная, неразумная робость), а по внушению «природного страха» перед смертью, как естественного показателя силы самосохранения, присущей Ему как человеку. [423] Сознание всей тяжести ответственности за людские грехи, за которые Он добровольно обрек Себя на крестную смерть, подавило в этот момент Его человеческое самочувство настолько, что, позволяя человеческой природе действовать свойственно ей, [424] Он добровольно стеснил себя страхом смерти. Это не было проявлением малодушия, так как страдания Христа имели значение не карательное, а очистительное. [425] И сознание ужасающей ответственности уравновешивалось и даже совершенно парализовывалось в Нем сознанием того дела, на которое Он и пришел, и во имя которого Христос, как человек, только что выражавший желание не пить чаши из страха перед смертью, охотно идет навстречу смерти, направляя Свою человеческую волю к исполнению воли Божией, и с покорностью говорит: «…впрочем, пусть будет не так, как Я хочу, но — как Ты!» [426] Здесь виден Христос, действующий и сознающий Себя, главным образом, как человек, но не в отдельности от Бога, или, выражаясь точнее — Бог Слово, действующий через посредство собственной души человеческой. И вообще, что бы ни делал Христос, во всем посредствовала Его человеческая душа: Бог Слово, как владетель человеческой природы, управлял телом по-человечески, жил, мыслил и действовал по-человечески, и все это совершалось через посредство души, как и самое соединение Божества с телом и постоянное и неразрывное общение их возможно было только при посредстве мыслящей и разумной души. Бог — дух; высочайший ум и свобода ипостасным образом могли соединиться только с духом, отображающим в себе высочайшие совершенства Божии; а через душу Бог Слово так же был соединен и с телом, неразрывно с душой существующим. Личное соединение Бога Слова с человеческой природой потому именно и возможно, что человеческая природа сама по себе, как выше было замечено, богоподобна и в этом смысле не небожественна: как образ Божества, она естественно стремится к Своему первообразу. Человеческая «природная» воля естественно стремится к исполнению воли Божией, как высшего закона, как высшей нормы своей деятельности; уклонение от этого закона есть грех, потом уже прившедший в природу человека. [427] Значит, в человеческой природе, как она вышла из рук Творца, не было ничего такого, что бы препятствовало, делало немыслимым и невозможным свободное соединение Божества с человечеством.
В отношении к человечеству Христа новость и таинственность образа действования Богочеловека обозначает неотделимость образа действования человечества Христа от образа действования Божества Слова. Все движения и действия человеческой природы Христа, как природы воплотившегося Слова, возводятся и усвояются Слову, как ответственному за Его собственные поступки лицу, вследствие чего образ действования человечества Христа был иной, превосходящий наш. [428] Это превосходство состоит в том, что Христос действовал по-человечески совершенно свободно. Так, если Его, действительно, постигали голод и жажда, то не так, как нас, а как Такого, который выше нас, и именно: Он подчинялся им добровольно. [429] Поясним на конкретном примере. Иисус Христос почувствовал в пустыне голод. Он мог, разумеется, и удовлетворить естественное чувство голода: как всемогущий Бог, Он мог, например, обратить камни в хлебы и насытился бы. Но, раз Ему Самому угодно было «дать человеческой природе время действовать свойственное ей», Он добровольно отказывается от подобного удовлетворения естественного чувства, стоит выше его. Или, например, Он добровольно стесняет Себя страхом смерти и в то же время не поддается ему, охотно идя навстречу. Т. е. мы лично не властны бываем предотвратить наши желания и, стремясь к удовлетворению их, поступаем иногда вопреки разуму, сообщая своей воле направление, несогласное с природой. И это зависит, главным образом, от того, что течением нашей жизни, направлением нашей природной деятельности руководим мы сами — ответственные носители испорченной грехом человеческой природы. Жизнь человечества Христа слагалась иначе: все, свойственное Его человеческой природе, не стесняло свободы Его действий и, как неизменно послушное разуму, безусловно, было согласно с волей Слова. [430] Пример «величайшего согласия» («ἄκρα σύννευσις» или, как в другом месте оно названо — «ὅλον δι΄ὅλου σύννευσις καὶ συμφυΐα [всецелое во всем сближение и сращение]») человеческой воли Христа с Его Божественной волей, одинаковой у Него с Богом Отцом, представляют известные слова: «.. .впрочем, пусть будет не так, как Я хочу, но так, как Ты хочешь». [431] Направление естественных сил и способностей человеческой природы Христа зависело от Божественной воли Слова: «Воплотившееся Слово, как человек, имело врожденную способность воли, движимую и формируемую Его Божественной волей». [432] Одним словом, образ действования человечества Христа определялся Словом: жизнь и движение человеческой природы Христа, имеющие достаточное основание для себя в самой природе, формировались владетелем человеческой природы Словом, как личным принципом, седалищем которого была душа человеческая, человеческий дух. Отсюда — Слово управляло непосредственно им самим, а через него — и сродным ему телом.
Общий сверхъестественный характер человечества Слова наравне с волей разделяет и человеческий ум (νοῦς) Христа. Вопросу о знании Христа Максим отводит самое скромное место: с суждением, довольно кратким и общим, хотя и не неопределенным, св. отца об этом предмете встречаемся только однажды. [433] Но то немногое, что представляют в этом отношении догматико-полемические труды св. Максима, легко может быть восполнено при помощи тех общих положений, которые ближайшее приложение в христологии Максима имеют к вопросу о воле во Христе. В вопросе о знании Христа Максим стоит на почве учения Григория Богослова, который во II слове о Сыне, учил об этом так: для всякого совершенно ясно, что, как Бог, Он обладает совершенным ведением; а собственные слова Его о том, что Он не знает, должны быть относимы к Нему как к человеку и рассматриваемы в мысленном отделении видимого или являемого от мыслимого или воображаемого. Отсюда Максим делает тот справедливый вывод, что Христу позволительно приписать незнание при одном только условии: при мысленном разделении сущностей. А так как два естества Христа на самом деле существуют нераздельно в единой ипостаси воплотившегося Бога Слова, то в действительности Христу не должно быть усвояемо ничего из того, что мыслимо в Нем «в разделении». [434] Мысль св. отца, очевидно, такова: воспринятая Христом человеческая природа сама по себе не обладала совершенным знанием, была «неведущая»; но, сделавшись природой Слова и вместилищем вечной истины и ипостасной премудрости, она получила полное и совершенное ведение. Из сказанного очевидно, как должен был смотреть Максим на учение агноэтов: учение их Максим прямо называет ересью (ἡ ἤδη τῶν Ἀγνοητῶν κατακριθεῖσα αἵρεσις [уже осужденная ересь агноитов]). [435]
Столь сжато и обще высказанное у Максима мнение о знании Христа требует некоторых оговорок и разъяснений. Бог Слово воспринял человеческую природу, во всем, кроме греха, подобную нам. Следовательно, и воспринятая Им мыслящая душа, «естественное действование которой (по определению Григория Нисского) составляет движение и размышление ума» (ἐνέργεια λογικῆς ψυχῆς ἐστὶ νοῦ κίνησις καὶ διάνοια), [436] или ум (νοῦς) носил тот же характер естественности, что и воля, [437] т. е. по самой своей природе отличался несовершенством. Но ум, как и воля, есть прирожденная душе способность, есть ἐνέργεια духа, «природная жизнь людей» (ζωὴ φυσική). [438] Значит, рассматриваемое несовершенство ума есть несовершенство собственно познавательной способности и к содержанию знания, приобретаемому этой последней, имеет отношение настолько, насколько оно зависит от самой способности, Теперь, Христос воспринял мыслящую и разумную душу, или ум; воспринял его таким, каков он по самой природе, т. е. ум несовершенный. От соединения же с ипостасной премудростью он сделался во всем совершенным, т. е. получил способность полного и совершенного знания. Но от соединения со Словом ум не утратил своего природного движения, и Христос по соединении не перестал жить и мыслить по-человечески (противоположная мысль — монофизитская), не перестал жить жизнью мыслящего духа человеческого, так что этот последний не стушевался окончательно в силе и премудрости Слова, затмевающих собой всякое величие (1 Кор. I:24), как мыслил Ориген, и не вытеснился совершенно Божеством Слова, как мыслили Арий и Аполлинарий, или не претворился в Божество. «Ум Господа, — справедливо рассуждает Афанасий Великий, — еще не Господь, но или воля, или разумное желание, или стремление (сила, способность стремления) к чему-либо» (Νοῦς Κυρίου οὔπω Κύριος, ἀλλ΄ ἢ θέλησις, ἢ βούλησις (βουλὴ), ἢ ἐνέργεια πρός τι). [439] Оставаясь и по соединении умом человеческой природы Христовой, человеческий дух получил лишь способность не только отражать в себе жизнь соединенного с ним Божества, но и деятельно постигать Божественное естество ипостасной премудрости Слова; и, следовательно, получил полную возможность деятельно доходить до познания абсолютной истины (в чем, между прочим, и состоит конечная цель человеческой жизни, так что пример Христа представляет в этом, как и во всех других, отношении недосягаемо высокий идеал для подражания). Но подобная деятельность человеческого духа Христа означает не то, что Христос постепенно совершенствовался в знании, на самом деле не зная вначале того, что узнал лишь потом: идею (несторианскую) «постепенности» развития человеческого ума Христова Максим решительно отвергает. Это означает только то, что Христос, как человек, сразу же, при самом соединении, получил способность полного и совершенного знания и не имел нужды «в научении и преуспеянии» (μάθησις καὶ προκοπῆ). [440] Слова же евангелиста (Лк. II:52 = Лк. I:40) о «преуспеянии Иисуса в мудрости, и возрасте, и любви» (καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι…) и слова Самого Спасителя (Мк. XIII:32 = Мф. XXIV:36) о том, что о времени второго Его пришествия не знает никто, кроме Отца, даже и Сын, должны быть понимаемы в том смысле, что Он пользовался этой способностью οἰκονομικῶς, мудро применяясь к обстоятельствам жизни человеческой, так как Сам Он «дал природе время действовать свойственное ей». Так, находясь в состоянии уничижения, на вопрос учеников о последних днях и будущей судьбе мира Христос отвечал, что о том не знает никто, кроме Отца. И это говорил Он тогда, когда так живо рисовал взору учеников картину будущего, как бы прошедшего или настоящего. По воскресении же Своем, находясь в состоянии прославления, на тот же вопрос учеников Христос отвечал несколько иначе: вам (о Себе Он здесь умалчивает) — как бы так говорил Христос — не дано знать тайны Царствия Божия (Деян. I:7). [441]
В таком приблизительно виде может быть представлено воззрение Максима на «знание» Христа. То же обстоятельство, что в творениях отцов и учителей православной Церкви, и в частности Максима, мы не находим более или менее ясно и определенно высказанного об этом предмете учения, вовсе не означает того, что вопросу о знании Христа отцы и учители Церкви не придавали никакого значения в отношении ипостасного соединения природ, как думает, между прочим, Браун. [442] Истинно человеческой деятельности ума человеческого во Христе (хотя и безмерно превосходящей деятельность обыкновенного человеческого ума) ни Максим, ни другие отцы Церкви не отвергают, хотя прямо и не определяют, в чем именно состоит эта деятельность. К сожалению, в настоящем случае мы не имеем возможности проследить историю развития учения отцов Церкви об этом предмете по очень простой и понятной причине.
Глава IV.
Анализ основоположений монофелитизма и разбор патристических изречений, приводимых монофелитами в пользу своего учения.
Раскрывая и доказывая православное учение о двух волях во Христе, Максим в тоже время подвергал самому подробному анализу учение монофелитов, что и составляет отрицательную сторону догматико-полемических трудов его.
«Во Христе — одна воля, и это есть личная воля» — вот главное основоположение монофелитизма, составляющее его сущность. Но этим далеко не исчерпывается область заблуждения монофелитизма. Как доктрина, монофелитизм не был настолько устойчив и последователен, чтобы от начала до конца выдержать свое основное воззрение: в своем целом виде он представляет из себя довольно сбивчивую и противоречивую доктрину. Образчик неустойчивости и непоследовательности монофелитизма Максим видит, между прочим, в лице Сергия, этого выдающегося деятеля известной унии и первого выразителя начал собственно монофелитизма. «Правду сказать, — говорит Максим Пирру, [443] — ничто меня так не отталкивает от твоего предшественника (т. е. Сергия), как изворотливость его (ума) и проистекающие отсюда изменчивость и непостоянство его (мысли). То он разделяет мнение тех, которые приписывают Христу одну лишь Божественную волю, и представляет Христа просто лишь Богом воплотившимся; то мыслит одинаково с теми, которые считают Христа не более, как обыкновенным человеком, который ничем не отличается от Пирра и Максима; то, называя волю личной, вместе с различием лиц вводит различие воль при одинаковости сущностей; то признает относительное соединение (природ); то принимает сторону тех, которые приписывают Христу выбор и самопроизвольную склонность, и мыслит Его простым человеком, подверженным даже изменчивости и греху; то соглашается с теми, которые мыслят Христа вне домостроительства не обладающим волей; и другие бесчисленные нелепости, какие бы только не вытекали из этой доктрины, как лишенной истинной основы, на изложение которых недостало бы времени, он разделял». Если в голове одного могли ужиться столь разнообразные и разнохарактерные варианты одного и того же учения, то нечего и говорить о том, что в лице нескольких своих представителей монофелитизм пережил целую историю изменений, осложнений и переделок. В том целом виде, в каком очерчивается монофелитизм в догматико-полемических трудах Максима, он представляет собой доктрину до такой степени сбивчивую, что решительно нелегко определить, что собственно признавали за несомненное сами монофелиты и что лишь только допускали в тех или других видах. Несомненно одно то, что сравнительно позднейший монофелитизм (Пирра и Петра) носит крупные черты отличия от более раннего монофелитизма (моноэргизм Феодора Фаранского, Кира и отчасти Сергия): не выдерживая характера строгого монизма, каков первоначальный моноэргизм, он привносит значительные осложнения, из которых некоторые стоят даже в прямом противоречии с главным основоположением монофелитизма. Максим не полагает различия между первоначальным остовом монофелитизма и его позднейшими наслоениями и все, что имеет такое или иное отношение к монофелитизму, рассматривает в общей связи, как одно и то же учение.
Исходя из истины единства ипостаси Христа и усвояя волю ипостаси, монофелитизм утверждал единичность воли во Христе. «Христос один; значит, один и хотящий, один и действующий; а если так, то одна, непременно, и воля Христа, а не две, одно и действование Его, как одного», — так рассуждает, например, Пирр в разговоре с Максимом. [444] Всю невозможность мыслить во Христе одну волю Максим усматривает в том обстоятельстве, что подобное основоположение последовательно приводит к изменению естественного характера соединенных природ через низведение всемогущего Божества на степень ограниченного по началу и продолжению существования человечества через возведение этого последнего на высоту первого и через совершенное уравнение их. Одним и тем же всемогущим действованием, которым, как Бог, Христос привел все из небытия в бытие, все содержит и всем управляет, Он, как человек, совершает и обыкновенные человеческие дела (как то: ест и пьет, переходит с места на место, чувствует жажду, голод, утомление, нуждается в сне и т. п.), так что «Божество Христа является подверженным аффектам и страданию». [445] Так как воля, по учению монофелитов, составляет существенное определение лица, а не природы, то характер воли Христа всецело определяется, по ним, характером ипостаси воплотившегося Слова. Ипостась Христа — «сложная»: это есть ипостась Бога Слова, безраздельно сделавшаяся ипостасью и воспринятого Словом человечества; таковы же должны быть действование и воля Христа. Христу, как целому, [446] должно приписать в некотором смысле сложную волю и сложное богомужное действование, т. е. такую волю и такое действование, какие должны быть свойственны, по их мнению, носителю, владетелю одной сложной природы. Нет ничего невозможного в том, говорит Пирр, чтобы мы приписали Христу одну в некотором смысле сложную волю, образовавшуюся из соединения двух природных воль, сложную в том же самом смысле, в каком говорится об одном (лице), образовавшемся из сложения двух природ Христа. [447] Рассуждая подобным образом, монофелиты становятся на ту точку зрения, что целое (лицо) есть нечто иное кроме своих собственных частей (природ), из которых оно состоит, и которые существуют в нем (ἄλλο τι τὸ ὅλον εἶναι παρὰ τὰ αὐτοῦ οἰκεῖα μἐρη, ἐξ ῶν καὶ ἐν οἷς συνέστηκεν), что оно имеет иное, чем составляющие его части, природное существование (ἑτέραν παρὰ τὴν τῶν οἰκείων μερῶν κατὰ φύσιν ὕπαρξιν ἔχειν τὸ ὄλον). Если это так, то Христу, как целому, справедливо должно приписать иное действование, помимо существенно свойственных его частям действований (ἑτέραν ἐνέργειαν, παρὰ τὰς ἐνυπαρχούσας τοῖς μέρεσιν οὐσιώδεις ἐνεργείας). [448]
Подобная точка зрения ошибочна. В действительности целое тождественно со своими частями: к существенному содержанию составляющих его частей (природ) целое (лицо) не привносит ровно ничего и не имеет «иного» природного существования (μὴ ἑτέραν κατὰ φύσιν ὕπαρξιν), помимо принадлежащего природе, в нем существующей; не имеет, следовательно, и «иного» естественного действования (οὐδ΄ ἑτέραν δηλονότι κατὰ φύσιν ἐνέργειαν). [449] И Христос, как целое, как сложная ипостась, «имеет только то, что свойственно каждой Его природе (τὰ ἑκατέρας ἴδια φύσεως κατὰ φύσιν ἔχει ὁ Χριστὸς), т. е. Божественную волю и действование и человеческую волю и действование», и иного чего-либо, помимо свойственного Его природам, вовсе не имеет, так что Ему никаким образом нельзя приписать одного действования или, кроме двух природных, еще иного третьего действования. [450] Правда, непосредственные преемники Сергия Пирр и Петр предлагали было признать во Христе именно такие три действования и воли; но едва ли даже и сами они смотрели на свое измышление иначе, чем как на последнее средство достигнуть соглашения, не имеющее ничего общего с основным воззрением монофелитизма.
Если бы на самом деле возможно было приписать Христу, как целому, в некотором смысле сложную волю, отличную от природных воль, то, прежде всего, это была бы никак уж не личная воля, уже по одному тому, что лицо Христа сложно не само по себе, а только относительно нераздельно существующих в нем природ. Личная сложная воля, если бы возможно было мыслить такую во Христе, представляла бы из себя соединение двух личных (а «τὸ γνωμικὸν θέλημα», употребленное здесь Максимом, есть, как выше было сказано, лишь другое название «θέλησις ὑποστατικὴ») воль: Божественной и человеческой, — мысленное соединение двух невозможностей. [451] Ипостасной Божественной воли вовсе не существует, и такую волю решительно невозможно приписать Христу, не нарушая равенства Сына с Богом Отцом и со Св. Духом относительно воли. [452] Что касается личной человеческой воли, называемой γνωμικὸν θέλημα, то хотя и существует на самом деле такая воля, как способ пользования прирожденной душе волевой способностью, но в приложении ко Христу о ней не может быть и речи по причине ее несовершенства, безусловно чуждого Христу, как человеку. [453] Мысленная сложная воля Христа скорее могла бы быть «природной», т. е. такой, которая представляла бы из себя реальное единство двух природных воль и могла бы быть названа личной только в смысле соединения (ἑνώσεως τρόπῳ), так как начало единства представляет лицо. По словам Пирра, монофелиты, в существе дела, так именно и представляли себе волю Христа. [454] Не говоря уже о самом названии одной сложной воли Христа (а она не может быть названа именем тех природ, в соединении (ἐν σύνθεσι) которых видят основание для признания за Христом такой воли), [455] допущение подобной воли приводит не к меньшим нелепостям в догматическом отношении. Если приписать Христу действование (а, следовательно, и волю) «от соединения», говорит Максим, то придется допустить, что «до соединения» Он не имел действования, и для сотворения мира потребно было предварительно возбудить в Нем силу творчества. Кроме того: так как Отец и Св. Дух стоят вне действительного соединения с плотью, то и они, подобно Сыну, не обладают способностью к деятельности, а следовательно — и силой творчества, чтобы не сказать более того. [456] Мысль Максима та, что и до соединения природ, от вечности, Бог Слово обладал Божественной волей, которая не могла измениться или слиться с волей воспринятого Им человечества, так что, несмотря на ипостасное соединение двух природ и на принадлежность всего природного, в качестве действительной собственности, одному лицу, два действования, равно как и прочия особенности соединенных природ, не могут быть рассматриваемы как один и единственный предмет обладания, как одно «сложное» действование.
Итак, одного сложного, называемого «богомужным» действования (μίας θεανδριχῆς ἐνεργείας) никаким образом допустить во Христе невозможно. Монофелитам оставалось, поэтому, одно из двух: или, оставаясь верными своему основоположению, строго держаться учения о μία ἐνέργεια и об ἕν θέλημα, или, поступясь своим основоположением, совершенно отказаться от мысли об одном действовании и воле. Монофелиты избирают первый путь и с точки зрения своего основного воззрения стараются выяснить роль человечества в ипостасном соединении природ.
Свое учение об ἐν θέλημα монофелиты оправдывают тем, что хотя Христу и усвояется «одно действование целого» (μία ἐνέργεια ὅλου), слагающегося из трех частей: Божества, разумной души и тела, — но так как «производитель и виновник действования есть Бог, а человечество лишь только орган» (τεχνιτὴς καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός, ὄργανον δὲ ἡ ἀνθρωπότης), то действующая воля во Христе только одна, и именно — Божественная (αὐτοῦ τὸ θέλημα ἕν ἔστι καὶ τοῦτο θεϊκόν). [457] Эти три положения, впервые высказанные Феодором Фаранским, составляют последнюю основу и действительную сущность монофелитского учения об ἕν θέλημα, замаскированного учением о μία ἐνέργεια ὅλου. Воззрение последующих представителей монофелитизма сводится в существе дела именно к этим трем положениям. Правда, не высказываясь так откровенно, как Феодор, относительно роли человечества, они находят возможным при учении об ἕν θέλημα трактовать об участии человеческой природы в совершении того, что свойственно Христу, как целому, и говорят об «относительном усвоении» (σχετικὴ οἰκείωσις) Христом человеческой воли. [458] Но ни для кого не темно, что мыслимое ими усвоение человеческой воли немногим чем отличает человечество Христа от несамоподвижного орудия действия его владетеля и in actu почти вовсе даже не осложняет деятельности Божественной воли Слова. «Относительное» усвоение, которое в отличие от «существенного» или природного (οὐσιώδη οἰκείωσις [сущностное усвоение]) может быть названо личным и аффектуальным, состоит в том, что «по симпатии, из расположения» мы усвояем себе и лишь видимо переживаем то, что нравится нам в другом, на самом деле сами от того ничего не испытывая: [459] это есть просто приспособление к образу жизни и способу действий другого. Усвоение в этом смысле Христу человеческой воли обозначает не то, что человеческая воля составляет неотъемлемую собственность Христа, как истинного ее владетеля, а просто лишь то, что из любви к человеческому роду, οἰχωνομιχῶς [домостроительно] Бог Слово применялся к образу жизни и действий людей. [460] Выходя отсюда, легко было прийти к той мысли, что Христос приспособлялся к образу жизни воспринятой Им плоти только по временам, только тогда, когда это было особенно необходимо для осуществления цели воплощения, и именно только «во время спасительных страданий» (ἐν τῷ καιρῷ μόνῳ τοῦ σωτηρίου πάθους). [461]
Считая совершенно излишним входить в подробное обсуждение так понимаемого усвоения Христом человеческой воли, Максим произносит над монофелитами следующий справедливый приговор. Уча об относительном усвоении человеческой воли, «они превзошли в нечестии самого Севера, будучи более его дерзки на слова (μᾶλλον ὑπεραυδήσαντες), так как он не с таким безрассудством восставал против истины». [462] Что же касается мнения о временном усвоении человеческой воли, то оно представляет собой верх всех неправд и несообразностей, соединенных с монофелитским учением. «Мысль о том, что только во время спасительных страданий Христос на самом деле явил Себя обладающим двумя волями, полагаю, бездоказательна. Как же это так, на каком основании только в это время, а не прежде? Ведь если Он имел (человеческую волю) тогда, то имел и с самого начала (с того момента), когда сделался человеком, а не потом присоединил; а если не имел сначала, то не имел и во время страданий и лишь призрачно обнаруживал все то, через что мы спасены… Почему же вот так (т. е. только во время страданий), а не иначе? И что за смысл в этом?» [463] Само собой разумеется, что мыслимое монофелитами усвоение человеческой воли Максим простирает и на самую человеческую природу Христа. [464]
В подтверждение истинности своего учения монофелиты ссылались на некоторых из достославных отцов и учителей Церкви: выхватывая из их творений отрывочные изречения, вне связи с целым казавшиеся им наиболее выразительно говорящими в пользу их собственного учения, они толковали их по своему, применительно к своим тенденциям. Задача Максима, казалось бы, состояла тут в том, чтобы путем восстановления действительной связи указываемых монофелитами отрывочных выражений выяснить настоящий смысл этих последних. Но Максим этого не делает. Такой апологетический прием имеет отчасти место только относительно изречений Кирилла Александрийского. По отношению ко всем другим Максим пользуется тем же средством борьбы, что при оценке монофелитского учения вообще, а именно: везде говорит о невозможности понимания того или другого места из творений отцов Церкви в усвояемом ему монофелитами смысле, аргументируя ее ложностью тех выводов, какие соединены с таким пониманием. То обстоятельство, что изречения Кирилла Александрийского представляют в этом отношении единственное исключение, может быть понято только при свете известного отношения монофелитизма к учению великого александрийского учителя — отношения, не простирающегося на учение других отцов Церкви, на изречения которых указывали монофелиты.
Монофелиты ссылались на изречения следующих отцов Церкви: Григория Богослова, Григория Нисского, Афанасия Александрийского, Дионисия Ареопагита, Кирилла Александрийского и других (патриарха Мины, Гонория и даже Нестория). [465]
Так, в разговоре с Максимом Пирр выставляет на вид известное уже нам изречение Григория Богослова (из II слова о Сыне) — «Хотение его (человечества Христа), как всецело обожествленное, не имело ничего противного Богу» (Тὸ γὰρ ἐκείνου θέλειν οὐδὲν ὐπεναντίον τῷ Θεῷ, θεωθὲν ὅλον) — как такое, которое будто бы противоречит признанию двух воль во Христе. [466] Против такого понимания настоящего места Максим замечает, что оно, напротив, наиболее выразительно, чем все другие (τῶν ἄλλον πάντων ἐκφαντίκώτερον), говорит за двойство воль, а именно: «никакое отношение (σχέσις = relatio) не может быть мыслимо без объектов отношения (ἄνευ τῶν σχετῶν)». Отсюда: подобно тому, как с понятием «охлаждения» соединяется представление об охлаждаемом и охлаждающем, с понятием «мышления» (νόησις) — о предмете мышления и о мыслящем (τὸ νοοῦν καὶ νοούμενον) и т. п. Точно так же и понятие «обожествления» предполагает «обожествляемое и обожествляющее», причастное Божеству и приобщающее (οὕτω κατὰ τὸ ἀχόλουθον, καὶ τὸ θεωθὲν καὶ τὸ θεῶσαν [таким образом, следовательно, и обоженное и обожившее]). [467] Кроме того, если обожествление человеческой воли препятствует, как думают монофелиты, признанию во Христе двух воль, то и обожествление человеческой природы — а обожествление простирается, по учению Григория Богослова, в одинаковой степени на природу, как и на волю — препятствовало бы также и признанию двух природ. [468]
В словах Григория Нисского, сказанных им в объяснение Мф. VIII:3 = Мк. I:41 = Лк. IV:13 («душа хочет, тело касается, и совокупным воздействием обоих прогоняется проказа» — ἡ ψυχὴ θέλει, τὸ σῶμα ἅπτεται· δι΄ἀμφοτέρων φεύγει τὸ πάθος), которые заключают в себе будто бы ту мысль, что «душа Господа волит Божественной волей (τῷ θείῳ θελήματι) ипостасно соединенного с Ним (αὐτῷ) Божества», монофелиты, по словам Пирра, видят указание на ἕν θέλημα. [469] Последовательно проводя понимание монофелитов далее, Максим говорит, что с точки зрения такого понимания пришлось бы признать справедливость и того крайне нелепого положения, что «тело Господа касается Божественным прикосновением» (τῂ θείᾳ ἁφῇ).
Слова Афанасия Великого — «Νοῦς Κυρίου οὔπω Κύριος, ἀλλ΄ ἢ θέλησις, ἢ βούλησις (ἢ βουλὴ), ἢ ἐνέργεια πρός τι» [470] — относительно смысла которых Пирр высказался нерешительно, [471] и о которых мы имели уже случай упомянуть, по объяснению Максима, заключают в себе тот прямой смысл, что природная жизнь человеческой души, присущей Христу, как бы ее ни назвали по ее отличительным особенностям, от соединения плоти со Словом не изменилась так или иначе, оставаясь и в соединении тем, чем была до соединения. По поводу ссылки на них Пирра Максим замечает, что в основание этих слов легло определение «θελήσεως, βουλήσεως καὶ ἐνεργείας», данное «философом из философов» (φιλόσοφος τῶν φιλοσόφων) Климентом (в VI книге Стромат).
Гораздо больший интерес представляло для монофелитов другое место из Афанасия Великого, которое читается так: «Он (Христос) был рожден от жены, с первого же момента зачатия представляя собой образ человека в обнаружении плоти, без плотских пожеланий и человеческих соображений, в образе новости. Ведь (в Нем) была единая воля Божества, так как и природа (Его) — всецело Божественная». [472] Соблазняясь, как видно из разъяснений Максима, последними словами («ἐν εἰχόνι χαινότητος. Ἡ γὰρ θέλησις, θεότητος μόνης» [во образе обновления. Ибо воля одного только божества]), которые вне связи с предыдущим имеют довольно неопределенный смысл (ἀμφίβολος) и представляют полную возможность понимать их так и иначе, в рассматриваемом месте монофелиты думали найти выражение своего учения. Настоящее место, по словам Максима, достаточно говорит само за себя (αὐθερμήνευτος). «Новость», о которой говорится здесь, по мысли Афанасия, имеет отношение к образу существования плоти Христа, а не к природному смыслу ее (οὐ περὶ τοῦ φυσικοῦ λόγου, ἀλλὰ περὶ τοῦ τρόπου τῆς κατὰ σάρκα αὐτοῦ ὑπάρξεως); образ же существования плоти стал во Христе новым (безгрешным) вследствие того, что рождение Христа по плоти было делом одной только воли Божией.
Особенно любили ссылаться монофелиты на следующие два изречения, из которых одно усвояется Дионисию Ареопагиту, а другое принадлежит Кириллу Александрийскому. Относительно первого из них («Христос явил нам новое, в некотором смысле богомужное действование»; καινήν τινα τὴν θεανδρίκήν ἐνέργειαν) выше было замечено, что некоторые из монофелитов произвольно вносили в него прибавку «μίαν», разумея количественно новое действование. Пирр в разговоре с Максимом [473] читает его без прибавки «μίαν», хотя «новость» понимает также в смысле количественном (ἡ καινότης ἐστὶ ποσότης [новость есть количество]). Исходя из того, что новость, противополагающаяся древности (παλαίοτης), составляет не количественное, а качественное определение вещей (ποιότης ἐστὶν ἡ καινότης [новость есть качество]) и тем более не есть сущность (οὐκ οὐσία ἡ καίνότης, ἀλλὰ ποιότης [новость — не сущность, но качество]), Максим разъясняет, что выражение «καινὴ ἐνέργεια» [новое действование] обозначает «качественно новый и неизъяснимый образ обнаружения природных действований Христа, сообразно с неизъяснимым образом взаимного проникновения природ, и новый род жизни самого человечества Христа, неслыханный и неизвестный природе вещей, и образ общения, происходящий вследствие неизреченного единства». Что касается выражения «θεανδρικὴ», то оно «менее всего» способно обозначать μίαν ἐνέργειαν: описательным образом оно указывает на два различные действования, соответствующие двум исчисленным в нем природам (τοὐναντίον γὰρ περιφραστικῶς ἡ φωνὴ διὰ τῶν ἀρίθμουμένων φύσεων τὰς αὐτῶν ἐνεργείας παραδέδωκεν [ибо наоборот, это выражение посредством исчисляемых природ иносказательно указало на их действования]). Что, действительно, такова именно мысль, заключающаяся как в этом одном слове, так и в целом приведенном выражении, в других местах [474] (не в разговоре с Пирром) Максим доказывает на основании контекста речи у самого Дионисия. В IV письме к некоему Кайю [475] непосредственно перед рассматриваемым выражением говорится об общении образов действования обеих природ Христа, в силу которого свойственное Христу как Богу и как человеку Он совершал не как только Бог и не просто как человек, но как Богочеловек. Допущение одного существенно или количественно нового действования равно приводит к отрицанию единосущия Сына с Богом Отцом и равенства их относительно Божеского действования, проявляющегося в творении, и в промышлении, и в совершении чудес.
Что касается другого выражения Кирилла Александрийского — «Христос двояким образом обнаружил одно собственное действование» (μίαν συγγενῆ δι΄ἀμφοῖν ἐπιδεδειγμένος ἐνέργειαν ὁ Χριστὸς) [476] — то, как наиболее выразительно говорящее о численно одном действовании, оно, по-видимому, противоречило диофелитизму и самым решительным образом благоприятствовало монофелитизму. Действительно, мы и видим, что монофелиты всегда и везде выставляли на вид это выражение, как решительно противоречащее признанию двух действований во Христе. Так, его, несомненно, имеет в виду Сергий в послании к Гонорию, когда говорит, что у некоторых отцов есть учение о μία ἐνέργεια. На него указывает и Кир, в VII анафематизме ссылаясь на учение Кирилла; его же выставляет на вид и Пирр в разговоре с Максимом. Опираясь на то, что «св. отец не не знал самого характерного свойства каждой природы (Христа), обнимающего все прочие природные свойства», что он ясно различал во Христе «творческую и жизненную, происходящую из души и присущую телу энергию», и сопоставляя рассматриваемое выражение с другим, где говорится: «никакой здравомыслящий человек не согласится допустить одно действование творца и твари», Максим твердо стоит на том, что настоящее выражение никаким образом не говорит об одном действовании обеих природ Христа и, следовательно, вовсе не противоречит признанию двух действований. Прямой смысл его тот, что действование Божества Христа — «одно», как «до принятия», так «и по принятии плоти». Как огонь оказывает совершенно одинаковое (одно) действие, как вне соединения с материей, так и при соединении с ней; подобным образом и воплотившееся Слово, действуя свойственное Богу двояким образом: бестелесно, «всемогущим велением» и при участии плоти («прикосновением собственной плоти»), обладало одним действованием с Богом Отцом, действующим бестелесно, так что «Божественное и Отеческое действование, существенно свойственное воплотившемуся Богу Слову» и проявляющееся двояким образом, на самом деле было одно. [477]
Представленное Максимом объяснение приведенного выражения св. Кирилла дает нам повод упомянуть о другом (если только это — другое, а не то же самое выражение, своеобразно формулированное) выражении того же отца, на которое ссылается, между прочим, Сергий в письме к Киру: «У Христа, истинного Бога нашего, одно животворящее действование» (μία ζωοποιός ἐνεργεία). С точки зрения представленного объяснения, это выражение имеет такой же смысл, что и первое, ручательством чего служат слова «у Христа, истинного Бога». Т. е. образ действования Христа, как Бога, иной, а природное действование Его, как Бога — то же самое, какое от вечности принадлежит Ему, как Богу Слову.
Названными отцами Церкви почти сполна исчерпывается круг церковных авторитетов, на которые силились опереться монофелиты, в приведенных отрывочных выражениях их пристрастно и ошибочно видя подтверждение и оправдание своего собственного учения. Рассмотренные места из творений упомянутых отцов Церкви, насколько можно судить о них по представленному у Максима объяснению, не заключают в себе ничего такого, что бы могло послужить достаточным основанием к пониманию их в усвояемом им монофелитами смысле. Тем более неосновательна претензия монофелитов видеть в названных отцах выразителей своего собственного учения. Монофелиты с полным правом могли сослаться только на учение тех непризнанных учителей, над которыми еще до возникновения монофелитизма был произнесен справедливый суд Вселенской Церкви, как над еретиками и вожаками ереси, как-то: на Аполлинария, Полемона, Фемистия, Нестория, Павла перса и других, краткие отрывки из произведений которых собраны и приведены у Максима в догматическом послании к Стефану, епископу Дорскому. [478] К ним по справедливости следовало бы причислить и римского епископа Гонория, на которого, действительно, и ссылались монофелиты (например, Пирр, в разговоре с Максимом), как на такого, который определенно высказался за «ἕν θέλημα Господа нашего И. Христа». Но дело в том, что Максим держится совершенно противоположного взгляда на образ мыслей Гонория и даже берет на себя довольно смелую защиту более чем сомнительного православия Гонория, в довольно пространной апологии [479] стараясь доказать, что ответное послание Гонория к Сергию, как в целом своем виде, так и в частях, строго православно.
Обстоятельством, давшим повод к обвинению Гонория в монофелитизме, как известно, послужило, главным образом, следующее выражение, встречающееся в ответном послании его к Сергию: «Отсюда (ὅθεν = unde) (т. е. на основании неизреченного соединения Божественной и человеческой природ) мы признаем и одну волю (ἕν θέλημα) Господа нашего И. Христа». Выражение это было истолковано (разумеется — прежде всего, монофелитами) в том смысле, что им признается одна воля Божества и человечества Христа. Содержание и тон целого послания вполне оправдывали такое понимание. Максим, безусловно, не согласен с таким пониманием приведенных слов. По его мнению, Гонорий хотел сказать ими следующее: так как бессеменное зачатие и безгрешное рождение Христа по плоти, совершившееся по наитию Св. Духа, было делом одной воли Божией, то Христос как человек был совершенно свободен от греховной плотской воли (θέλημα σαρκὸς, ἢ λογισμὸν ἐμπαθῆ [воли плоти или страстного помысла]), что «в членах его не было иного закона» (ἕτερος νόμος) или воли, противоборствующей святой и Отеческой воле (θέλημα διάφορον ἢ ἐναντίον τῷ Πατρί [воли отличной или противной Отцу]); и что, следовательно, Он имел одну только природную безгрешную волю (ἀνθρώπινον θέλημα καὶ φυσικὸν [человеческую волю и природную]). [480] Максим указывает два основания для понимания спорного выражения в антимонофелитском смысле: одно он усматривает в связи рассматриваемого выражения со словами, непосредственно следующими за ним, другое — в содержании целого послания.
Вследствие теснейшего соединения обоих естеств во Христе и происходящего отсюда взаимного обмена их свойств «мы признаем, — говорит Гонорий, — и одну волю Господа нашего И. Христа». И непосредственно за тем продолжает: «так как (ἐπειδὴ = quia) наше естество получило образование, несомненно, от (действия) Божества, а не греха»; т. е. по сверхъестественному рождению своему плоть Христа была безгрешна. [481] Очевидно, что всю силу аргументации Гонория Максим полагает в этом «ἐπειδὴ» (= quia) и т. д. и совершенно игнорирует значение того, на что указывает «ὅθεν» (= unde).
Дальнейшее содержание послания вполне оправдывает, по мнению Максима, его понимание. В целом послании развивается та мысль, что Христос был совершенно свободен опять-таки только от греховной плотской воли (τὸ ἐμπαθὲς θέλημα = libidinosa ac vitiata voluntas), имеющей направление, несогласное с природой (παρὰ φύσιν). На поверку приводятся некоторые подлинные выражения из послания Гонория, говорящие о безгрешном зачатии, о неповрежденности плоти, об отсутствии в членах плоти Христа иного закона и об отсутствии во Христе воли «отличной», понимаемой Максимом в смысле противоборствующей. [482] Но подобное законное отрицание Гонорий, по словам Максима, ничуть не простирал на природную волю. «Гонорий отнял у Христа, — говорит Максим, — не природную, а греховную, не согласную с природой волю». [483] А то обстоятельство, что он отрицал во Христе волю противоборствующую и, следовательно — умозаключает Максим — мыслил в Нем волю, во всем согласную с Божественной и Отеческой волей, ясно говорит за то, что он признавал во Христе природную волю, так как отрицание чего–либо противного природе равносильно признанию природного. Отсюда с очевидностью следует то, что Гонорий признавал во Христе две природные воли. [484]
Так понимая послание Гонория, Максим приходит к тому, на его взгляд — правдоподобному, выводу, что противники лгут, навязывая Гонорию то, чего в своих сочинениях он не писал, и что Гонорий «чист от всякого подозрения» (в монофелитизме). [485]
Подтверждение справедливости своего взгляда на образ мыслей Гонория Максим видит в согласии апологии, представленной в защиту Гонория папой Иоанном IV, с его собственной защитой. [486]
Несостоятельность представленной Максимом защиты Гонория достаточно очевидна: предлагаемое им объяснение ответного послания к Сергию несколько спутанно, натянуто и довольно странно. С первого взгляда неясным представляется то, что́ же именно разумеет Максим под гонориевским «ἕν θέλημα»? Судя по представленному Максимом объяснению этого выражения, с которым, по заявлению Максима, совершенно согласно приводимое в разговоре с Пирром объяснение, данное в апологии Иоанна IV — а здесь, между тем, прямо и определенно указывается смысл этого выражения [487] — казалось бы, что Максим разумеет под ним исключительно человеческую природную волю Христа. С подобным пониманием вполне мирилось бы и содержание целого послания, как понимает его Максим. Между тем, Максим не оставляет места сомнению в том, что исключительно так понимать «ἕν θέλημα» нельзя. Спорное выражение Гонория Максим сопоставляет с выше рассмотренным нами выражением Афанасия Великого («Он был рожден от жены и т. д.»), находя, что смысл их один и тот же: «и разумея вот этот неизреченный образ („λόγος“ или, как выше — „πρόοδος“) рождения Слова по плоти, один (Афанасий) говорит об одной воле Божества в Нем, а другой (Гонорий) — об одной воле Господа нашего И. Христа; так как, говорит он, наше естество получило образование, несомненно, от (действия) Божества, а не греха». [488] В полном согласии с такого рода пониманием стоят и следующие слова Максима, сказанные им в выводе: «говоря коротко, я полагаю, что выражением „ἐν θέλημα“ Гонорий хотел сказать то, что рождение Его (Христа) по плоти было делом одной Божественной воли». [489] Таким образом, гонориевское «ἕν θέλημα», по мнению Максима, имеет двоякий смысл: оно указывает одновременно и на Божественную волю Слова, как на причину отсутствия во Христе противодействующей духу плотской воли, и на человеческую природную волю Христа, противополагающуюся греховной воле плоти. Комментируя подобным образом рассматриваемую формулу, Максим, конечно, мог сказать, что выражением «ἕν θέλημα» Гонорий не отрицает «двойства природных воль во Христе, а скорее защищает и рекомендует как справедливое». [490] Но ни для кого не темно, что предлагаемое им объяснение, в существе дела ничуть не разрешающее тревожного вопроса, довольно натянуто и не менее странно. Странно особенно потому, что оно совершенно не оправдывается с точки зрения общих приемов полемики, которым всюду следует Максим, оставаясь совершенно одиноким. Нигде и ни под каким видом Максим не допускает формулы «ἕν θέλημα» и всюду и всегда остается верен себе. Здесь же, по отношению к рассматриваемому случаю, он не только не находит его неправославным, но даже не считает его и неточным (разумеется, при том его значении, какое усвояется ему им самим): нет ни единого слова в этом роде, нельзя указать и малейшего намека на что-либо подобное.
Относительно содержания целого послания до́лжно заметить, что общая мысль его, действительно, такова, какой представляет ее и Максим: по всему посланию проходит та мысль, что безгрешная по самому своему рождению плоть Христа не имела греховной человеческой воли, «противящейся и противоборствующей» (ἐναντίον καὶ ἀντιπράττον ἢ ἀντικείμενον θέλημα). Но делаемый Максимом отсюда известный вывод — совершенно произволен и ошибочен. Дело в том, что на человеческую природу Гонорий смотрит не иначе, как на поврежденную грехом. Такой же и только такой представляется ему и человеческая воля: такой односторонний взгляд проходит по всему посланию. Понятно, что с точки зрения такого взгляда на плоть, отрицая во Христе греховную человеческую волю, Гонорий не мог допустить в Нем иной воли, отличной (διάφορον) от Его Божественной воли, и должен был признать во Христе только одну Божественную волю Слова.
При таком законном понимании основного воззрения Гонория на плоть становится совершенно уместной, точной и понятной и формула «ἕν θέλημα», обставленная указанными доводами, и отрицание инаковости или различия в воле Христа, [491] несправедливо трактуемого Максимом в смысле противления и противодействия воли, и содержание целого послания, и неприязненность в отношении к Софронию, опускаемая Максимом из виду.
Некоторого рода соображения, касающиеся, с одной стороны, состояния Восточной церкви в тревожное время монофелитских движений, следовавшее за временем появления ответного послания Гонория, с другой — значения римского епископа в делах веры в тогдашнее время, возбуждают сомнение в беспристрастии представленной Максимом защиты Гонория, которое находит для себя некоторое оправдание в том обстоятельстве, что защита обнаруживает довольно снисходительное отношение к красноречиво свидетельствующему о виновности обвиняемого документу.
Соображая все сказанное относительно монофелитского учения, приходим к тому выводу, что в догматико-полемических трудах Максима оно представляется как сплошная ересь, как безусловно несостоятельная доктрина, ложная в основе и нелепая в выводах, отличающаяся при этом поразительной неустойчивостью и непоследовательностью.
Заключение
Оценка догматико-полемических трудов Максима
Имя Максима Исповедника весьма замечательно в истории христианской Церкви и христианской богословской литературы. Это был муж от природы высокодаровитый, философски и богословски образованный, хорошо знакомый с языческой философской и христианской богословской литературой предшествовавшего времени. Это был серьезный философ–богослов и к тому же весьма искусный полемист, обладавший замечательным остроумием. [492] Недаром христианская древность почтила имя св. Максима отменными эпитетами: «философ», [493] «богослов и исповедник»; [494] и среди христианских богословов, отцов и учителей Церкви отвела ему весьма почтенное место. Насколько известно, после Григория Назианзина Максим был первым «богословом» в греческой Церкви, так что автор обличительного против константинопольцев слова (помещенного в I t. Op. Max.) — лицо, для нас не известное — справедливо называет Максима τρίτος θεόλογος — третьим богословом (после евангелиста Иоанна и Григория Богослова). [495]
О значении св. Максима в истории современной ему Восточной церкви красноречивее всяких отзывов свидетельствует тот факт, что на Востоке одно время он был единственным видным представителем Церкви, который знамя православия держал крепко и высоко. В период открытого гонения на православие со стороны монофелитствующего правительства и, видимо, всеобщего господства на Востоке монофелитизма св. Максим до известной степени справедливо и законно мог сказать относительно единомышленных с ним: «Мы — церковь Христова!» — как, действительно, и было при одном из допросов его. [496] Интереснее всего здесь то, что сами противники Максима придавали ему не меньшую цену, чем сам он, о чем можно судить на основании некоторых данных, представляемых историей известного судопроизводства над Максимом.
В суждении о значении св. Максима как богослова достаточно будет отметить то выдающееся в истории христианской богословской литературы явление, что «все последующие (т. е. жившие после Максима) греческие писатели-богословы: догматисты, полемисты и даже моралисты», по словам Комбефи, «с великой честью для себя обращаются к Максиму», [497] величая его при этом самыми лестными для него эпитетами. В подтверждение справедливости своего отзыва Комбефи ссылается на «Православную Грецию» Л. Алляция. Нижепоименованные авторы помещенных в первом томе этого сборника трактатов, действительно, отзываются о Максиме Исповеднике с великой похвалой [498] и приводят из его творений довольно пространные выдержки. Но, во-первых, отзывы их, как лиц вовсе не авторитетных для «православной Греции», в суждении о значении Максима не имеют почти никакого веса; во-вторых, для нашей цели они нисколько и не пригодны, как вовсе не имеющие отношения к изучаемым нами трудам св. отца (выдержки приводятся исключительно из трактатов Максима об исхождении Св. Духа; к ним, главным образом, и имеют отношение приводимые отзывы). Кроме указываемых Комбефи приведенных у Алляция отзывов, нам известны отзывы константинопольского патриарха Фотия I (с 857 года), [499] который величает Максима «божественным мужем и неустрашимым исповедником» (ὁ θεῖος ἀνὴρ καὶ γενναῖος ὁμολογητὴς). [500]
Мы имеем дело лишь с догматико-полемическими, и именно христологическими, трудами св. Максима. А относительно этих последних мы имеем основание утверждать, что значение их несоизмеримо выше, чем значение всех прочих, взятых вместе, трудов Максима, и что Иоанн Дамаскин «с великой честью» для Максима и к вящей славе своей «обращается к Максиму». В самом деле, чему иному, как не полемической своей деятельности, направленной против монофелитства, историческим памятником которой являются рассмотренные нами догматико-полемические труды, Максим обязан своим высоким значением в истории Церкви и христианской письменности? В совершенном согласии с тем обстоятельством, что вся жизнь аввы Максима прошла в непрерывной усиленной борьбе с монофелитством, среди которой и раскрывалось православное христологическое учение, и в зависимости от него стоит то явление, что с именем аввы Максима неразрывно связано представление об исповеднике, т. е. защитнике и выразителе православного учения о двух волях во Христе.
Из прочих трудов Максима, мимоходом заметим, составляющих приблизительно две трети всех его произведений, сравнительно больший интерес для истории христианской Церкви и вероучения — интерес весьма значительный — представляют пять диалогов «о Св. Троице» (περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος), и именно четвертый и пятый диалоги против Аполлинария, об исхождении Св. Духа.
Догматико-полемические труды Максима ценны уже по одному тому, что они представляют первый и, можно сказать, единственный в своем роде вполне самостоятельный опыт полного и всестороннего раскрытия таинственного учения о лице Христа. Правда, вопрос о волях во Христе в VII веке не впервые возник в сознании богословов и не впервые подвергся обсуждению в трудах Максима. С решением его по существу и с довольно пространными суждениями относительно него встречаемся гораздо ранее времени Максима в трудах достославных св. отцов Церкви: Афанасия Великого, обоих Григориев, Кирилла Александрийского и отчасти некоторых других, далеко не безызвестных Максиму. В одном из писем своих Максим прямо заявляет, что предлагает не свои собственные мысли, не личные свои суждения, но высказанные раньше него другими. [501] Отчасти понятно поэтому невысокое о трудах Максима мнение Шрекка, который говорит следующее: «Его рассуждения о двух природах во Христе, различные определения и другие мелочи (Kleinigkeiten) подобного рода», подобно двум его трактатам о Боге и о воплощении Сына Божия, «не содержат в себе ничего такого, чего нельзя было бы найти у других отцов Церкви, а также и у Дамаскина». [502] Но, во-первых, особенный интерес и особое, благодаря самой постановке своей, значение вопрос о волях во Христе приобрел лишь в VII веке и соответственное решение нашел для себя впервые в трудах св. Максима. Во-вторых, решение его здесь, благодаря тому же обстоятельству, представляет, бесспорно, нечто новое (не по существу, конечно, учения, а по способу раскрытия всегдашнего церковного учения), чего нельзя встретить в христологических трудах более ранних отцов Церкви, что́ отчасти и Шрекк находит заслуживающим преимущественного внимания из всех положений Максима о двух волях. [503] В-третьих, наконец, в раскрытии тех не немногих пунктов христологического учения, которые в то время составляли предмет литературы прошлого, здесь незаметно и малейших следов того, что называется несамостоятельностью: за исключением тех мест (выше отмеченных), которые приводятся у Максима как буквальные выдержки из творений предшествующих отцов Церкви, развитие святоотеческих мнений в трудах Максима носит вполне самостоятельный характер. В этом, главным образом, мы и полагаем несомненно важную заслугу св. Максима для Церкви и значение догматико-полемических трудов его в истории богословской литературы.
Общий смысл христологии Максима таков: человечество Христа так же истинно и совершенно, как истинно и совершенно Божество Слова. Все, свойственное человеческой природе, проистекает из недр человеческой природы Христа и усвояется Слову, как истинному владетелю человечества, двояко и нераздельно действующему и Богу приличное, и человеку свойственное из души и непосредственно через душу, а при посредстве ее и через тело. Эта господствующая, последовательно проведенная в христологии Максима черта, составляющая ее выдающееся преимущество, отличает ее от христологии отцов предшествовавшего времени (в особенности IV века), где истинный образ Христа Богочеловека как бы заслоняется несколько могуществом и величием Божества Слова, и Христос является действующим по преимуществу как Бог при посредстве тела и души. При этом, ортодоксальная христология отцов предшествовавших веков, начиная с Афанасия Великого и кончая Кириллом Александрийским, не свободна от некоторых неточностей в образе выражений (вроде тех, которые приведены выше), что́, разумеется, не может быть поставлено им в вину. Но это обстоятельство, во всяком случае, указывало на несовершенство догматической формулы и могло подать повод к злоупотреблениям. Неточные выражения, касающиеся, главным образом, двойства природ во Христе, при известном предвзятом взгляде на них могли быть истолкованы как отрицание природного двойства, чем бы это последнее ни оправдывали. А так как при подобных неточностях видимый перевес всегда оставался на стороне Божества Христа, то на основании их можно было прийти к такому взгляду на ипостасное соединение природ, при котором человечество Христа представлялось так или иначе утратившим свою целость. Так, действительно, они и были истолкованы монофизитами и монофелитами. В христологии Максима истина Богочеловечества нашла совершеннейшее выражение. Т. е. всегдашнее учение Церкви о двух природах Христа приведено здесь в такое состояние в формальном отношении, что ни обособление, ни перевес в ту или другую сторону становятся решительно немыслимыми. Христос здесь — настолько же совершенный человек, насколько и истинный Бог. Всюду одинаково строгий и точный образ выражений Максима вполне отвечает внутренней стороне дела. Одним словом, диофелитизм Максима строго ортодоксален и во всех отношениях безупречен.
Слабую сторону догматико-полемических трудов Максима составляет логическое и отчасти стилистическое построение речи. О первом из этих недостатков — об отсутствии строгой связи и последовательности в общем развитии мыслей — было замечено выше; он зависел отчасти от самого рода произведений Максима и от их назначения. О стиле Максима Фотий говорит, между прочим, следующее: «Речь его развивается всегда периодически, расстановка слов запутанна, словосочинение сложно; хотя, собственно говоря, об этом он мало заботится. Поэтому в его изложении часто встречаются места неясные и трудные для понимания. Нормой в своей речи (поскольку дело идет о ее построении) он берет суровость напыщенного изложения, не заботясь о приятности для слуха. Сверх того, расстановка слов нимало не способствует к приобретению благосклонности со стороны читателя: она проста и беспечна». [504] Хотя приведенный отзыв Фотия специально относится к так называемым «ἀπορήματα γραφικὰ» (De variis dubiis S. Scripturae, ad Thalassium presbyterum. Op. Max., t. I, col. 244 et sq.) и, следовательно, прямого отношения к догматико-полемическим трудам св. Максима не имеет, но достаточно прочесть любое из догматико-полемических произведений, чтобы видеть, что стиль их (о диспуте с Пирром не может быть и речи) [505] в общем немногим чем отличается от стиля экзегетических трудов св. Максима: та же периодичность в построении речи, беспечность и запутанность в словорасположении и сложность в словосочинении, хотя речь не может быть названа «неясной», а изложение «шероховатым». По крайней мере, здесь заметно стремление к ясности и к отсутствию шероховатости. [506]
Кроме Максима, и гораздо позже его, из отцов Церкви только один — Иоанн Дамаскин — дал довольно подробное изложение учения о двух волях во Христе. Сравнение христологии Дамаскина с христологией Максима привело нас к следующим результатам. Оказывается, что в постановке и развитии учения о двух волях во Христе «Точное изложение веры» И. Дамаскина стоит в прямой зависимости от догматико-полемических трудов Максима, и что эта зависимость простирается так далеко, что по местам, а таких мест немало, Дамаскин (не будет преувеличением сказать) дословно следует Максиму.
И прежде всего, в разъяснениях, касающихся метафизической и психологической подкладки диофелитизма (отношение между φύσις и ὑπόστασις и способности или силы души), Дамаскин не идет далее простого повторения сказанного Максимом, по местам лишь видоизменяя и распространяя положения последнего, а по местам и буквально повторяя их. Так, между прочим, изображение последовательного процесса мышления, слагающегося из шести моментов (terminus a quo — νόησις [мышление] и terminus ad quem — προφορικὸς λόγος [устная речь]), какое находим мы у Дамаскина, представляет буквальное повторение, за очень мелкими исключениями, сказанного у Максима. [507] Изображение волевого процесса, слагающегося из восьми последовательных моментов (конечные моменты: βούλησις [изволение] и χρῆσις [применение]) у того и другого совершенно сходно, [508] по местам (определение самой способности, первый и третий моменты) даже по букве. Немногие весьма несущественные особенности касаются подробностей и частностей.
В рассуждении относительно теоретического основоположения и сущности диофелитизма у Дамаскина приводятся те же самые основания, что и у Максима, т. е. учение о Троичном Боге и двойство природ во Христе. [509]
В раскрытии и аргументировании отдельных положений, с различных сторон затрагивающих и освещающих учение о лице Христа, у Дамаскина открывается целый ряд довольно пространных [510] заимствований из Максима. Оставляя в стороне места, сходные лишь по содержанию и довольно живо напоминающие рассуждения Максима, мы ограничимся указанием буквальных заимствований. Следующие положения, довольно подробно трактуемые, оказываются буквально заимствованными из диспута Максима с Пирром:
а) Число не есть принцип разделения. Damasc., 1034–1036 = Max., 289.
б) Необходимо различать между τὸ θέλειν и τὸ πῶς θέλειν. Damasc., 1036 = Max., 292.
в) Отличительные особенности трех родов жизни. [511] Damasc., 1037 = Max., 301.
г) Природное — естественно, а не искусственно, т. е. не приобретается посредством упражнения. Damasc., 1037 = Max., 304.
д) Три кратких доказательства того, что воля присуща человеку по природе. Damasc., 1037 = Max., 304.
е) Вывод из предшествующего положения по отношению ко Христу. [512] Damasc., 1040 = Max., 305.
ж) Выходя из тайны Троичности, невозможно приписать Христу какой-либо иной — «личной» или «внеприродной» (τὸ παρὰ φύσιν θέλημα) — воли, кроме природной; и на основании целости обеих природ необходимо признавать в Нем две природные воли. Damasc., 1040 = Max., 313.
з) Три изречения [513] Св. Писания: Мф. XXVII:34, II Кор. XIII:4 и Филип. II:8, удостоверяющие действительность человеческой природной воли во Христе. Damasc., 1040–1041 = Max., 321.
и) Разумная природа не имеет в себе самой ничего принудительного. Damasc., 1041 = Max., 293.
й) Неодинаковое значение слова «αὐτεξουσιότης» в приложении к Богу, ангелам и человеку; невозможно отнять у Христа человеческую волю при допущении в Нем человеческой природы. Damasc., 1041 = Max., 325.
к) Невозможно допустить во Христе одну сложную волю. Damasc., 1044 = Max., 296.
л) Невозможно приписать Христу так называемую «произвольную склонность» (γνώμη). Damasc., 1044–1045 = Max., 308–309. [514] Замечание по поводу различных значений этого слова в Св. Писании. Damasc., 1045 = Max., 312. [515]
м) Единосущие Сына с Отцом как до, так и после воплощения. Damasc., 1052–1053 = Max., 348–349.
Исчисленные места буквальных заимствований Дамаскина из творений Максима предметом своим имеют двойство природных воль во Христе. Немало подобного рода заимствований находим мы в рассуждениях Дамаскина и относительно двух природных действований во Христе. Сюда относятся следующие положения, не менее подробно раскрытые, чем положения первой группы:
н) Двойство действований во Христе не нарушает единства Его ипостаси, и единство ипостаси не препятствует признанию двух действований, так как действование составляет существенное определение природы, а не лица. Damasc., 1053 = Max., 336–337. [516]
о) Невозможно приписать Христу одно действование, как бы его ни понимали: слияние двух различных действований в одно, а равно и совершение одним действованием свойственного двум различным природам решительно немыслимо. Damasc., 1056 = Max., 340, 341, 344.
п) Смысл различных названий человеческого движения, встречающихся у отцов Церкви. Damasc., 1060–1061 = Max., 349–352.
р) Одно действование человека, состоящего из двух сущностей. Damasc., 1065 = Max., 336.
с) Проявление свойственной человечеству Христа силы самосохранения. Damasc., 1088–1089 = Max., 297.
т) Сюда же до́лжно отнести излюбленную Максимом аналогию «раскаленного меча». Damasc., 1053–1056 = Max., 337 — 40, 341.
Почти все исчисленные места буквальных заимствований, с включением еще нескольких, весьма сходных по мысли, выбраны Дамаскиным из рассуждений Максима в разговоре с Пирром. Если из той части разговора Максима с Пирром, которой пользуется Дамаскин, исключить рассуждения чисто полемического характера — что́, как было замечено выше, и делает Дамаскин — то окажется, что целую половину «Диспута с Пирром» почти без всяких изменений Дамаскин вставил в свое «Точное изложение православной веры». Именно «вставил», так как особенных следов систематизации материала, заимствованного у Максима, в названном сочинении Дамаскина мы не видим. В подтверждение сказанного достаточно указать на то обстоятельство, что вышеисчисленные места заимствований приводятся у Дамаскина почти в том же порядке, в каком они следуют в «Диспуте с Пирром». А если при этом примем во внимание, с одной стороны, то, что указанными местами почти сполна исчерпывается учение о двух волях и действованиях в постановке его у Максима, а с другой — то немаловажное обстоятельство, что в разговоре с Пирром, стесняемый и направляемый этим последним, Максим не был свободен в преднамеренном расположении отдельных положений, то придем к тому выводу, что Дамаскин не может быть назван даже систематизатором учения Максима о двух волях и действованиях во Христе.
Нечто иное до́лжно сказать относительно изложения и раскрытия у Дамаскина другой стороны учения о лице Христа — учения о единстве ипостаси во Христе и об отношении природного двойства к личному единству. Если и в этом отношении еще незаметно следов желательной систематизации того нескудного материала, какой дает Максим, то в отношении раскрытия этой стороны учения Дамаскин делает решительный шаг вперед сравнительно с Максимом. Важная заслуга Дамаскина тут в том, что он уже смело и определенно развивает некоторые догматически-глубокие положения, у Максима не имеющие желательной полноты и определенности. К таким положениям до́лжно отнести:
а) мысль о том, что «Христос воспринял естество неведающее и рабское», так что, по словам Григория Богослова, «в отделении видимого от мысленного, плоть (Христа) надобно будет назвать и рабой, и неведущей; но по причине единства ипостаси и неразрывного соединения (двух естеств), душа Господа обогатилась знанием будущего»; [517]
б) мысль о том, что «хотя оба естества Господа нашего проникают одно другое, но… проникновение (в строгом смысле) принадлежит Божескому естеству, так как одно Божеское естество проходит и проникает все, как хочет, само ничем не проникаясь», [519]
и в) мысль о том, что человеческая воля (Христа) во всем следовала и подчинялась (Божеской) Его воле, не действуя по собственному произволу (μὴ κινουμένου γνώμη ἰδιᾳ), [520] — мысль, в первый раз высказанную в «Окружном послании» Софрония.
Все такие и им подобные, точно и определенно выраженные у Дамаскина мысли неоригинальны: прежде него они были высказаны Софронием и, главным образом, Максимом и у последнего получили некоторое развитие. Но более полную, по существу дела — желательную разработку они получили только у Дамаскина.
Зато, стремясь к более полному развитию указанных положений, Дамаскин впал в некоторые неточности, которых чужда христология Максима. Как на такую неточность, до́лжно указать на следующее мнение Дамаскина: «особой склонности или предмета хотения, противного Божеской Его воле или отличного от предмета Божеской Его воли, святая душа Его не имела» (οὐδὲ ἄλλο παρὰ τὸ θεῖον αὐτοῦ θέλημα [ни иного, помимо божественной Его воли]). [521] Верно то, что «предмета хотения, противного Божеской Его воле, святая душа Его не имела». Но вторая половина положения («отличного…» и т. д.), напоминающая точку зрения Гонория, стоя на которой, он отождествляет θέλημα ἐναντίον [воля противная] с θέλημα διάφορον [воля отличная], представляет неточное выражение, так как Христу были присущи чисто человеческие движения, отличные, без сомнения, от Божественных движений.
Одной отмеченной неточности, полагаем, вполне достаточно для того, чтобы иметь основание сказать, что при разрешении проблем, намеченных Халкидонским вероопределением, трудно было сохранить (с формальной стороны) два ряда деятельностей Богочеловека Христа в таком равновесии, в какое они поставлены в христологии Максима. В самом факте довольно пространных и в большинстве буквальных заимствований Дамаскина у Максима скрывается самое высшее, хотя до сих пор ясно еще не сознанное выражение признания за догматико-полемическими трудами Максима их действительного значения и беспримерно высокой важности. Вместе с тем, этот факт говорит и о том, что Максим — вполне самостоятельный и наиболее искусный выразитель православного учения о двух волях во Христе.
После всего сказанного о значении догматико–полемических трудов Максима представляется непонятным и несколько странным то обстоятельство, что шестой Вселенский собор, окончательно формулировавший учение о двух волях во Христе, совершенно умалчивает о полемической деятельности св. Максима, не упоминая даже самого имени его. В этом самом обстоятельстве протестантские богословы видят подтверждение выше отмеченного своего взгляда на отношение диофелитизма Максима к церковному диофелитизму (т. е. как определился он на соборе). Так как в основу соборного вероопределения, по заявлению самого собора, [522] легло догматическое послание папы Агафона к императору Константину, то для разрешения возникающего отсюда недоумения необходимо сравнить христологическое воззрение Максима с этим последним, и это тем более необходимо, что, по мнению некоторых протестантских богословов (например, Томазиуса), [523] западная Римская церковь имела свою особою точку зрения на вопрос о волях во Христе, принятую собором.
Сущность положительного христологического учения Агафона почти сполна выражена в следующих словах его послания: «Согласно евангельскому преданию, мы признаем в одном и том же Господе нашем И. Христе все двоякое (omnia duplicia), т. е. исповедуем в Нем две природы (duas Ejus naturas): Божественную и человеческую, — из которых и в которых Он пребывает и после нераздельного соединения (ex quibus et in quibus etiam post… inseparabilem unitionem subsistit). Исповедуем также, что каждая из Его природ имеет естественную особенность (Et unamquamque Ejus naturam proprietatem naturalem habere confitemur). И обе природы единого и того же Бога Слова воплотившегося, т. е. вочеловечившегося, мы признаем соединенными неслитно (inconfuse), нераздельно (inseparabiliter) и непреложно (immutabiliter), лишь в отвлечении разделяя то, что соединено, во избежание заблуждения смешения. Признавая две природы, и две природные воли (duas naturales voluntates), и два природных действования (duas naturales operationes) в едином Господе нашем Иисусе Христе (in uno Domino nostro Iesu Christo), мы не говорим, что они противны и враждебны друг другу (non contrarias, nec adversas ad alterutrum),… не говорим и того, что они рассекаются как бы на два лица или личности (nec tanquam separatas in duabus personis, vel subsistentiis = ἐν δυσὶν προσώποις, ἢγουν ὑποστάσεσιν [в двух лицах, то есть ипостасях]); а говорим, что один и тот же Господь наш И. Христос владеет как двумя природами, так и двумя природными волями и действованиями, т. е. — Божеским и человеческим». [524]
Из этого небольшого отрывка достаточно ясно, что Агафон, подобно Максиму, стоит на почве Халкидонского учения, признавая во Христе две природы со свойственными каждой из них особенностями и мысля их находящимися в неслитном, нераздельном и непреложном соединении; что главным основанием для признания во Христе двух воль и действований для него, как и для Максима, служит Халкидонское учение о целости обеих природ Христа по соединении. В целом послании развивается мысль, высказанная в начале. Выставляется на вид известное теоретическое основоположение диофелитизма: воля есть свойство природы (naturalis voluntas), выводимое из учения о Троичности; а отсюда, в свою очередь, делается известный вывод относительно количества воль во Христе. [525] В подтверждение истины двойства воль и действований приводятся евангельские и святоотеческие места, в большинстве — те же самые, что и у Максима, и в таком же порядке. [526] Одно из возражений против мыслимости совмещения двух воль в одном лице, исходящее из обычного, узкого взгляда на характер человеческой воли, разрешается здесь точно в таком же смысле, как у Максима, что видно отчасти из вышеприведенного отрывка. Упоминается об одном из следствий ипостасного соединения: об обожении человеческой воли Христа. Как у Максима, так и здесь оно рассматривается, между прочим, как доказательство двойства воль. [527] Учение об одной воле с предполагаемым при нем слиянием природ безусловно отрицается. [528]
Отмеченными чертами вполне исчерпывается существенное содержание послания. Ни для кого не темно, что раскрываемое в целом послании учение имеет характер строгого диофелитизма, [529] но такой именно характер носит и учение Максима. И вообще, изложенное в послании учение Агафона, как в общем, так и в частностях, совершенно согласно с соответствующим содержанию послания учением Максима. Правда, в сравнении с цельным воззрением Максима здесь недостает учения об образе ипостасного существования и действования природ, обозначаемом у Максима понятиями «περιχώρησις» и «ἀντίδοσις», о характере ипостаси и т. п.; и вообще учению о единстве ипостаси здесь отводится сравнительно небольшое место. Это самое обстоятельство и подало повод протестантским ученым приравнивать диофелитизм Агафона к несторианскому дуализму и отличать его, а с тем вместе на указанном основании — отчасти и церковный диофелитизм, от диофелитизма Максима. Резкость дуализма по их мнению, не уравновешивается здесь учением об ипостасном единстве и вытекающим из него учением о нераздельности образов действования обеих природ. [530] Согласны, что учение об ипостасном единстве в послании Агафона слабо освещено; но одно это обстоятельство не дает решительно никакого права на тот смелый вывод, какой делается из него. При обращении должного внимания на цель, с которой написано послание, нетрудно будет понять всю уместность действительного его содержания. Как образец исповедания, послание представляет прямой и строго определенный ответ на спорный вопрос относительно количества воль во Христе, сводившийся на вопрос об истинности человечества Христа. Отсюда совершенно понятно, почему учение об ипостасном единстве в нем вовсе неразвито, хотя точка зрения на этот предмет намечена ясно и, в общем, ничем не отличается от воззрения на тот же предмет Максима.
Вероопределение шестого Вселенского собора, как в общем, так и в частностях, совершенно сходно с исповеданием римского епископа. Как и это последнее, оно ни на шаг не отступает по духу и по букве от Халкидонского вероопределения и, строго последовательно развивая его далее, повторяет в существе дела сказанное в послании римского епископа. Хотя некоторые положения (например: об отсутствии противоречия и противодействия в направлениях воль Христа и касательно обожествления человеческой воли Христа) из имеющихся в этом последнем в соборном ὁροσ΄е получают более точную обрисовку. Что касается собственно образца исповедания веры, составленного на шестом Вселенском соборе, [531] т. е. небольшой прибавки к Халкидонскому оросу, касающейся учения о двух волях во Христе, то здесь говорится лишь о двух природных волях и действованиях Христа и об отношении человеческой воли Христа к Его Божественной воле. Такой характер соборного определения вполне отвечает цели созвания собора, состоявшей в стремлении к искоренению «посеянной в православном народе ереси одной воли и одного действования в двух естествах одного от Св. Троицы». [532]
О согласии христологического воззрения Максима с соборным вероопределением после сопоставления этого последнего с посланием Агафона излишне и говорить. Итак, христологическое учение Максима, как совершенно согласное с Вселенским учением, точно и определенно формулированным на шестом Вселенском соборе, строго православно: в строгом православии его никто и никогда не сомневался. Почему же, спрашивается, Вселенский собор так молчаливо отнесся к личности и трудам столь крупного и на Востоке в свое время почти единственного выдающегося деятеля в пользу православия, каков был авва Максим? Обстоятельство это, проходимое всеми мертвым молчанием, представляется нам не лишенным некоторого интереса. Что тут имело значение: невысокое ли звание Максима как простого монаха или же печальный исход его жизни, а может быть и нечто иное — решительно затрудняемся ответить на этот вопрос. Первое обстоятельство, пожалуй, могло иметь некоторое значение, но нет ничего невероятного и в том предположении, что недавняя, всего каких-нибудь лет 18–20 тому назад, государственная расправа с Максимом, как с политическим преступником, служила серьезной помехой к упоминанию имени Максима в соборных актах. Так или иначе, память о нем была довольно свежа; присутствовавшие на соборе отцы, разумеется, хорошо помнили славного исповедника веры и, конечно уж, знали о его недавней плодотворной деятельности в пользу православия. Можно ли поэтому серьезно утверждать вместе с Томазиусом, что труды аввы Максима не встретили никакого сочувствия со стороны собора? [533]
Свод результатов исследования
В заключение считаем нелишним сделать краткий свод результатов нашего исследования в нижеследующих положениях:
1) Полемическая деятельность св. Максима была вызвана униальными попытками, церковно-политического характера первой четверти VII века. Душой и первостепенным деятелем александрийской унии 633 года на началах моноэргизма (формула «μία ἐνέργεια») является хитрый и изворотливый константинопольский патриарх Сергий, монофизит. Император Ираклий и Кир — главные его сотрудники, действующие по его инициативе.
Дальнейшее, собственно монофелитское, движение обязано также Сергию и именно — его мнимо льстивому посланию к папе Гонорию, в котором предначертан проект нового униального плана на началах монофелитизма (формула «ἕν θέλημα»), безусловно одобренного папой и осуществленного в авторизованном Сергием же императорском декрете «Ектесисе» 638 года. Та и другая уния, Кира и Сергия, равно не имела успеха по причине несоответствия цели их основ.
2) Полемическая деятельность Максима распадается на четыре последовательные периода, получающие свое название от центров его деятельности. Начальный александрийский период (633–639 годы) — период эпизодической борьбы с монофизитством и моноэргизмом — крайне скуден сведениями. Самый цветущий и плодотворный период, африканский (640–645 и 647 годы) — период непрерывной устной и письменной полемики против монофелитизма, завершившийся фактическим торжеством православия на диспуте с Пирром и на африканских провинциальных соборах.
3) Преемники папы Гонория: Северин, Иоанн IV, Феодор и Мартин — все открыто и более или менее решительно заявили себя противниками монофелитизма, в той или другой форме осуждая образ мыслей деятелей унии и униальные декреты. Подобным же образом отнеслись к монофелитизму и другие западные провинции. Следствием главным образом церковного разъединения Востока и Запада была замена в 648 году «Ектесиса» новым униальным эдиктом «Типосом» (Τύπος τῆς πίστεως). Автор его — константинопольский патриарх Павел, дальновидный и смелый представитель монофелитизма. Причина безуспешности новой попытки кроется в мнимом беспристрастии «Типоса».
4) О подробностях деятельности Максима за третий период — римский (собственно с 649 по 653 год) — ничего не известно, кроме одного не ненуждающегося в проверке сообщения Феофана. Последний период — константинопольский (655–662 годы) — период гражданского судопроизводства и правительственного гонения на Максима. Все обвинения (счетом до шести) носят чисто политический характер, за исключением одного. Конечная цель продолжительного преследования с обещаниями и угрозами — получить от Максима признание «Типоса» и обещание молчать.
5) Предлагаемое нами деление догматико-полемических трудов Максима — по содержанию — представляется единственно уместным, в виду невозможности деления их по периодам полемической деятельности Максима. Точное определение времени написания большинства трудов (преимущественно — писем) невозможно, за отсутствием более или менее решительных данных, представляемых лишь самыми трудами Максима. В подлинности «Диспута» в дошедшем до нас его виде нет достаточных оснований сомневаться.
6) Неодинаковость отношения к исходному положению (δύο φύσεις во Христе) христологии Максима зависит от неодинаковости основного воззрения на φύσις и ὑπόστασις. Основное заблуждение монофелитизма — отождествление ὑπόστασις с φύσις и происходящее отсюда смешение личности с отличительными особенностями духовной природы, обнимаемыми понятием «θέλησις» или «θέλημα» — проистекает из неправильного понимания образа существования индивидуальной природы (τὸ ἐνυπόστατον). То, что отличает ὑπόστασις от τὸ ἐνυπόστατον, есть определенный «образ жизни» (τρόπος τῆς ὑπάρξεως ἢ ζωῆς [образ существования или жизни] = modus existendi) духовно-нравственного существа (выражаемый понятием «личность»), сам по себе бессодержательный. Основой и критерием правильности такого воззрения служит учение о Троичности и о Воплощении. Для воспроизведения учения Севера, против которого, главным образом, полемизирует Максим в учении «о двух природах», недостаточно данных, заключающихся в трудах Максима. Тенденциозность восполняющего их источника доказывается отчасти им самим, отчасти — местами из Максима. Преобладание в учении о δύο φύσεις разъяснений о целости и неповрежденности человеческой природы стоит в прямой зависимости от требований полемики.
7) «Воля» («θέλησις» или «θέλημα») есть самое существенное свойство духовной природы (а не лица). «Природная воля» (φυσικὸν θ., ἔμφυτος θ., τὸ πεφυκέναι θέλειν) обнимает собой все, существенно свойственное духовной природе, и есть вообще жизнь духа (δύναμις λογικὴ καὶ ζωτικὴ); а «природное действование» (ἐνέργεια φυσικὴ или οὐσιώδης, ἔμφυτος) есть жизнь вообще (ζωὴ φυσικὴ). Действительную основу и конечную цель всех возражений монофелитов против «двойства» воль и действований во Христе составляет отрицание «природной» воли человечества Христа, понимаемой в смысле «γνωμικὸν θέλημα». Этим, главным образом, и объясняется первостепенная важность рассуждений Максима относительно человеческой природной воли Христа. Человеческая воля Христа, как и самая природа, по сущности тождественная с нашей, in actu безгрешна сама по себе. Ипостасное соединение исключает для нее лишь мыслимую в первозданной природе потенцию уклонения от преобладающей склонности к добру; в этом ее отличие от нашей воли.
8) Только при «ипостасном» соединении совместимы целость обеих природ Христа и единство ипостаси при относительной сложности ее. Логически последовательные моменты соединения двух природ: περιχώρησις εἰς ἀλλήλας, ἀντίδοσις ἰδιωμἀτων и θέωσις — в действительности даны зараз. Аналогия «раскаленного меча», последовательно проведенная до конца, много помогает уяснению образа и следствий ипостасного соединения. Отношение человеческой природы Христа во всех ее проявлениях к Богу Слову есть отношение истинной природы к действительному лицу, осложняемое отношением твари к Творцу.
9) Монофелитизм как доктрина крайне неустойчив, сбивчив и непоследователен. Действительную сущность монофелитизма составляет учение (впервые высказанное Феодором Фаранскии) об «одной Божественной воле Христа». Деятельность человеческой воли Христа, при всех осложнениях монофелитизма, так или иначе отрицается. Некоторым основанием для понимания некоторых святоотеческих изречений в благоприятствующем монофелитскому воззрению смысле служит исключительно образ выражений отрывочных изречений. Представленная Максимом защита Гонория небеспристрастна и несостоятельна.
10) Высоким значением в истории Церкви и богословской письменности св. Максим обязан, главным образом, своим догматико-полемическим трудам. Видные достоинства этих последних составляют самостоятельность и всесторонность раскрытия православного учения и полное соответствие образа выражений содержанию учения. Факт пространных заимствований св. И. Дамаскина из творений Максима красноречивее всего свидетельствует об их высоком значении. Сличение их с посланием папы Агафона приводит к тому выводу, что христологическое воззрение св. Максима вполне согласно со Вселенским учением, окончательно формулированным на VI Вселенском соборе.