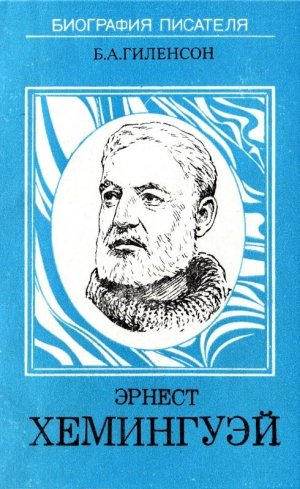
Введение
…Эрнест Хемингуэй. Кажется, что это больше, чем имя прославленного писателя, автора всемирно популярных книг. Это имя — символ литературного успеха, отточенного мастерства, счастливого совпадения писательской биографии и глубинных особенностей творчества.
Уже при жизни его воспринимали как классика. Он был рано награжден славой, и, начиная с первых публикаций, едва ли не все, что выходило из-под его, пера, стремительно расходилось, переводилось и вызывало международный резонанс.
Эрнест Хемингуэй, родившийся в 1899 и умерший в 1961 году, — один из самых оригинальных художников ХХ века. В богатейшем многоцветье, составляющем словесное искусство нашего столетия, он выделялся самобытным почерком, который был всегда отчетливо узнаваем. Хемингуэй — не только яркий феномен литературно-художественной жизни, но, и бесспорно, один из известнейших людей своего поколения. О нем знали, во всяком случае, слышали даже те, кто имел лишь приблизительное понятие о его сочинениях.
Широко известен афоризм: стиль — это человек. Судьбы многих писателей подтверждают его справедливость, а Хемингуэя — с особой силой. У него мы видим решительно-выраженный «автобиографизм», слиянность глубинных. особенностей его личности, индивидуальности с писательской стилистикой и методологией.
В Хемингуэе мы как раз находим сочетание качеств, неизменно импонирующих, вызывающих заинтересованность, и симпатию: это, с одной стороны, мужественность, сила, с другой — художественный талант, интеллектуальность. Феномен такого рода редок, но встречается. В истории зарубежной литературы, думается, есть писатели, которых можно, условно говоря, причислить к «хемннгуэевскому ряду». Среди таких художников, образующих своеобразный союз «мысли и действия», — Байрон и Джон Рид, Джек Лондон и Сент-Экзюпери. Интерес к ним, к их книгам и к их биографиям явно повышенный.
Да, при имени Хемингуэй мы вспоминаем его прославленные романы: «Фиеста», «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол», его повесть «Старик и море», рассказы, отмеченные изяществом, лаконизмом, прозрачной ясностью стиля. Мы видим перед собой его излюбленных героев: охотников, матадоров, рыбаков, туристов, спортсменов, людей немногословных, чурающихся громких фраз, наделенных чувством собственного достоинства и мужеством.
Слияние в Хемингуэе личностных черт и особенностей творчества ощущалось и читателями, и коллегами. Думается, верно об этом написал Константин Симонов, которому Хемингуэй чрезвычайно импонировал. Во вступительном слове, открывающем изданное в нашей стране собрание сочинений в четырех томах, К. Симонов писал: «Я не знал Хемингуэя, но Хемингуэй-человек неотделим для меня от Хемингуэя-писателя, от его книг и его героев, вернее от тех из них, в которых он, не скрывая этого, любил то же, что любил в самом себе, — силу, широту, храбрость, готовность рисковать жизнью и уверенностью в том, что «есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже»[1].
Один из самых больших художников слова нашего века, Хемингуэй, о чем бы он ни писал, неизменно возвращался к главной своей проблеме — к человеку в трагических испытаниях, выпавших на его долю в наше столетие.
Хемингуэй исповедовал философию стоицизма, отдавая должное человеческому мужеству в самых бедственных обстоятельствах. Бытуют понятия: «байронический», «киплинговский», «джеклондоновский герой». Правомерно выражение «хемингуэевский герой», которому приписывают жесткий нравственный кодекс, нередко определяемый формулой: «grace under pressure», т. е. «способность сохранить достоинство в экстремальных обстоятельствах». Его так и называли иногда: «герой кодекса». Чуждые рефлексии, надрыва, немногословные, его герои демонстрировали, как в обстановке опасности не пасть духом, действовать хладнокровно и достойно. Они импонировали читателю, уставшему от персонажей мятущихся, нерешительных, ноющих и велеречивых.
Хемингуэй был всегда сложной, крупной и своеобразной личностью, человеком твердых, принципиальных убеждений, который никому не угождал и не льстил, отклонял возможность легкого успеха, не позволял себе печатать ни одной неотработанной строчки, неизменно высказывал свои нелицеприятные оценки, людей и событий, не приспосабливался к текущей политической конъюнктуре или литературной моде. Шел своим путем.
Американец по психологическому складу, по характеру, он большую часть жизни прожил вне родины. И местом действия его произведений были не только его родной Мичиган, но также Италия, Испания, Франция, Швейцария, Куба, Африка. Одна из ключевых литературных фигур нашего века, он нечасто рисовал современный индустриальный пейзаж, мир больших городов, машин, стали и бетона. В наш урбанический век его герои зачастую действовали в обстановке первозданной природы, будь то голубые воды Гольфстрима, африканские саванны, сьерра Испании, венецианские лагуны. И все же неизменно, ненавязчиво ощущали мы в его произведениях конкретные, зримые приметы современности. Свой первый сборник рассказов он назвал «В наше время». Эти слова можно было бы взять эпиграфом ко всему его творчеству.
За Хемингуэем-писателем «просвечивал» Хемингуэй-человек. Этому способствовала и реклама, и щедро тиражируемые фотографии, и очерки, и свидетельства о нем, написанные при жизни. Писателя привыкли видеть не только за письменным, столом, за пишущей машинкой, но и гораздо чаще со спиннингом, на боксерском ринге, в компании матадоров и кинозвезд. Ему приписывали представления о литературе как о чем-то близком спортивному состязанию, как о поединке соперников, когда писатели отчаянно конкурируют друг с другом, сражаясь за первенство. А он желал непременно чемпионских лавров. Стремился лидерствовать во всем, в делах и творческих, и житейских. В ряде свидетельств он и видится таким: богач, честолюбец, прямолинейный и мужественный антиинтеллектуал, не знающий колебаний и сомнений, олицетворяющий американский успех, известность и деньги.
Некоторые американские критики пишут о нем как об особом типе популярного писателя (popular writer), о литературной звезде, пользовавшейся всеобщим вниманием, подобно звездам кино, спорта, эстрады. Наверно, и сам писатель отчасти культивировал такой имидж, выдерживал «на людях» заданную роль и одновременно относился к ней не без доли иронии. В письме к романисту Роберту Кентуэллу он настаивал: «Я желаю, чтобы меня воспринимали не как забияку в барах, не как меткого стрелка, не как игрока на скачках, не как любителя выпить. Я хотел бы быть исключительно писателем, о котором судят как о писателе…»
Наверно, суть явления уловил Габриэль Гарсиа Маркес, когда писал о «двух Хемингуэях», во многом очень разных и даже контрастных. Один — «наполовину кинозвезда», «наполовину искатель приключений», шествующий среди вспышек магния. И другой — труженик в тиши кабинета, мало кого допускающий в свой внутренний мир. Того «другого», наверно, подлинного, Хемингуэя мы не до конца раскрыли и поняли.
Чарльз Скрибнер-младший, журналист и критик, встречавшийся с писателем в последние годы его жизни, так комментирует проблему «двух Хемингуэев»: «Сложившийся в обществе образ Хемингуэя, военного корреспондента, страстного охотника, рыбака, выходящего в открытое море, как-то затушевывает то обстоятельство, что всю свою жизнь он посвятил писательскому искусству. За его бравадой, всем хорошо знакомой, скрывался художник, беззаветно преданный своему искусству».
Да, был «другой» Хемингуэй, знавший колебания, сомнения, борение противоречивых чувств, неудовлетворенность своей работой, депрессию и одиночество. И все же эти «два Хемингуэя», как бы они ни были внешне различны, в сущности не так уж противоречили друг другу. Хемингуэй был писателем всегда, за письменным столом и на рыбалке, на охоте и в кругу друзей, и как зритель корриды он оставался художником слова, умевшим, по его выражению, «слышать и видеть». Куда бы ни забросила его тяга к «перемене мест», не уставали трудиться его феноменальные память и интуиция, дававшие ему то многообразное знание жизни, которое позднее воплощалось в сюжеты и образную ткань его прозы. О Хемингуэе накоплена огромная критическая литература[2]. Вместе с тем некоторые новые публикации, появившиеся за последние годы, проливают дополнительный свет и на наследие Хемингуэя, и на самого писателя. Помогают, думается, понять подлинный облик писателя, позволяют отрешиться от некоторых легенд и мифов, наслаивавшихся вокруг него.
Сейчас мы по-новому подходим к некоторым страницам истории литературы. Нет нужды обходить острые углы в биографии и творчестве писателя, упрощать и «округлять» его, как это делалось прежде. Вспомним, что его роман «По ком звонит колокол» более 20 лет издавался у нас с купюрами. Обходили молчанием тему осуждения Хемингуэем сталинизма и сталинских репрессий.
Есть в судьбе Хемингуэя и такая примечательная черта. За тридцать лет, прошедших после его смерти, шла интенсивная публикация произведений, оставшихся в его архиве и не увидевших свет при жизни писателя. Нечто подобное было лишь с одним из его соотечественников Марком Твеном.
Так, в 1964 году, спустя три года после смерти Хемингуэя, была напечатана его мемуарная книга «Праздник, который всегда с тобой», в 1970 — роман «Острова в океане», в 1972 — сборник «Рассказы Ника Адамса», в который вошли восемь ранее не публиковавшихся фрагментов. Трижды издавались в США небольшие книжечки его ранних стихов, часть из которых оставалась в архиве Хемингуэя. В 1985 году вышла книга «Опасное лето», представляющая полный текст его очерков о бое быков (сокращенный вариант, напечатанный при жизни Хемингуэя в 1960 году, входил в четвертый том, изданного в СССР собрания — сочинений). Опубликован в 1986 году и роман Хемингуэя «Райский сад», над которым он трудился в послевоенные годы, но который не успел отредактировать, и довести до конца. Трижды издавались сборники его очерков и публицистики, извлеченных из различных периодических изданий; последний, выпущенный в 1985 году, включал в себя все, — а их более 150 — очерки и заметки, написанные в 1920–1924 годах для газет «Торонто стар» и «Торонто дейли стар». Издан фундаментальный том «Избранных писем» Хемингуэя (1981). Почти все эти материалы не переведены на русский язык.
Между тем, работа с архивом Хемингуэя, разыскания литературоведов приводят к новым неожиданным находкам. Например, было обнаружено, что ФБР почти в течение тридцати лет следило за Хемингуэем как за писателем с «прокоммунистическими симпатиями», накапливало на него досье. Весной 1990 года в журнале «Хемингуэй ревью», издаваемом университетом штата Огайо, были опубликованы две неизвестные новеллы писателя. Одна из них — «Недостаток страсти», посвящена матадору, который испытывает внутренние сомнения оттого, что ему приходится убивать на арене животных. В этом его отличие от привычных хемингуэевских героев подобной профессии, людей, прямолинейных и чуждых колебаний и раздвоенности. Герой второй новеллы, написанной в конце 50-х годов и явившейся, видимо, последней работой в этом жанре, — писатель Филип Хойнс. Таким образом, изобразив в первом сборнике «В наше время» начинающего литератора Ника Адамса, Хемингуэй, всегда живо интересовавшийся психологией творческой личности, его трудом, не расставался с этой темой до конца жизни (о чем свидетельствует и уже упоминавшийся роман «Райский сад»).
Фундаментальная биография Хемингуэя, написанная Карлосом Бейкером, многолетним исследователем творчества писателя, состоявшим с ним в переписке (отрывки печатал журнал «Иностранная литература» за 1969 г., № 5, 6, 11, 12), теперь не единственная. Вышло еще два солидных, по 600–700 страниц каждое, его жизнеописания — Джеффри Майерса (1987) и Кеннета Линна (1988); они вводят в научный оборот немало свежих фактов. Не иссякает и поток воспоминаний и мемуарных свидетельств о Хемингуэе. Эти новые факты и материалы будут учтены в нашей работе.
Хемингуэя высоко ценят и любят в нашей стране. Любые издания Хемингуэя или книги о нем мгновенно исчезают с прилавка.
Хемингуэй был художником слова, который оказывал воздействие не только на людей читающих, но и на людей пишущих.
Горячим поклонником Хемингуэя был, как уже писалось, К. Симонов, стараниями которого, удалось опубликовать роман «По ком звонит колокол». Симонова, писателя военной темы, привлекал испанский период жизни и творчества Хемингуэя. Илья Эренбург, познакомившийся с Хемингуэем в Испании, тоже много сделал для популяризации его творчества в нашей стране.
Одним из первых ценителей и тонких интерпретаторов творчества Хемингуэя был Андрей Платонов. Хемингуэй нашел в нашей стране большого знатока своего творчества, исследователя и переводчика в лице Ивана Кашкина, работу которого ценил. К деятельности этого литературоведа мы еще вернемся позднее.
Известные советские писатели свидетельствуют о том, как много значил для них Хемингуэй. Вот некоторые из их высказываний.
Юрий Домбровский, автор известного романа «Факультет ненужных вещей»: «Кто открыл для меня действительно новые горизонты — это Хемингуэй».
Давид Самойлов, поэт: «Для нас американская литература как образцовая начала осознаваться через Хемингуэя…»
Фазиль Искандер, автор популярного романа «Сандро из Чегема»: «Хемингуэй как бы подсказал мне: не бойся тратить время и силы на полноту изображения окружающего мира, ибо человек, о котором ты пишешь, или теряет или получает этот мир».
Хемингуэй входит в круг внеклассного чтения. Это имя непременно должно присутствовать при знакомстве школьников с общими тенденциями зарубежной литературы XX века. Особый интерес для школьников представляет его повесть «Старик и море»; необходимо, по возможности, знакомить их и с другими произведениями писателя. Его жизнь — сложна и поучительна; она — пример бескомпромиссной преданности правде, идеалам гуманизма, антифашизма и демократии.
Что такое биография писателя? Конечно, это свод фактов и сведений, значимых и достоверных, относящихся к разным периодам его жизни. Но главное все-таки не это. Главное — это осознание его как личности, выделение главенствующих особенностей его характера, черт его психологического облика. И конечно же, связь с глубинными мотивами его художественного наследия.
Прежде чем перейти к рассказу о жизненном пути Хемингуэя, хочется оттенить два принципиальных момента.
Творчество каждого писателя, в той или иной мере, автобиографично. У Хемингуэя эта особенность проявляется с особой рельефностью. Внимательное чтение его произведений убеждает, что очень многие эпизоды, детали, сюжетные коллизии, описания природы, а главное, лица и характеры его героев, — все отражает то, что увидел, узнал, пережил Хемингуэй. За всем этим просвечивают факты его биографии, а за многими персонажами его произведений стоят реальные прототипы. Но жизненный материал, как всегда у Хемингуэя, не отражается зеркально, он творчески переработан, обогащен и трансформирован силой его писательской фантазии.
С этой особенностью тесно связана другая. У Хемингуэя как у всякого большого мастера свой художественный мир. Достаточно прочесть несколько страниц его прозы, чтобы узнать автора. Его книги, романы, новеллистические сборники, очерки и репортажи, если взять их в совокупности, образуют четко выраженное единство. Более того, систему. В них можно выделить определенные темы, мотивы, сюжеты, типы героев, художественные приемы, которые пронизывают, подобно кровеносным сосудам, все его произведения. Они переходят, иногда меняясь, трансформируясь, из одной книги в другую.
Хемингуэй очень органичен. Непросто встретить в художественной системе писателя нечто неожиданное, нехарактерное для него. Он всегда верен себе.
Еще в начале пути, в 20-е годы, Хемингуэй счастливо нашел свой стиль, свою тему. А точнее сказать, свою писательскую дорогу. Он избегал безоглядных экспериментов, отклонений в сторону. Но это вряд ли заслуживает упрека. Хемингуэй не повторял сделанное, а по мере обогащения жизненного опыта, жизненных наблюдений расширял свою тематику. Менялись и его приемы. Становилось более глубоким и зрелым его мировидение. Это показали годы, проведенные в Испании. Он всегда стремился идти вперед. А в чем он был постоянен, так это в высокой требовательности к себе как к художнику. Не случайно, после смерти Хемингуэя в его архиве было найдено немало текстов, которые он не считал готовыми, до конца отделанными.
Повествуя о жизни Хемингуэя, рассказывая о том, какой это был человек, надо постоянно обращаться к его произведениям. Биография популярнейшего американского писателя — надежный ключ к пониманию глубинных особенностей его творчества.
Глава первая
От Оук Парка до Парижа
1
Какое значение имеет для писателя место его рождения, то окружение, с которым сопряжены его первые детские впечатления? На этот вопрос непросто дать однозначный ответ. Иногда это лишь формальный момент, зафиксированный в литературных энциклопедиях. И иногда своеобразная «малая родина», художественно воплощенная в его творчестве. На литературной карте Америки теперь прочно «прописан» Ганнибал — место рождения Твена, увековеченное им в «Томе Сойере» и «Геке Финне». Или Сок Сентр в Миннесоте, место рождения Синклера Льюиса, ставшее знакомым миллионам читателей благодаря изображенному в романе «Главная улица» провинциальному городку Гофер Прери.
Мичигану, краю лесов и озер, повезло, потому что в этих местах с удочкой и охотничьим ружьем бродил будущий писатель Хемингуэй, еще не зная, что его первые впечатления будут долго питать его творчество. И маленький городок Оук Парк, фактически пригород города-гиганта Чикаго, станет известным прежде всего потому, что в нем родится знаменитый писатель. Это случится 21 июля 1899 года.
Семья была уважаемой и интеллигентной. Холлы, родители матери Хемингуэя, принадлежавшие к элите местного общества, были людьми состоятельными и религиозными. Их дочь Грейс Холл выделялась музыкальной одаренностью, специально занималась пением и даже собиралась гастролировать с концертами, однако замужество вынудило ее расстаться с этой мечтой. Она стала признанной хозяйкой в доме и все внимание уделяла воспитанию детей. Отец писателя Кларенс Хемингуэй, предки которого участвовали в войне США за независимость, окончил медицинский колледж, выбрал карьеру врача и какое-то время собирался заниматься одновременно и миссионерской деятельностью. После женитьбы в 1896 году он осел в Оук Парке, где у него была богатая медицинская практика. Внешне благополучный брак супругов Хемингуэев, видимо, не был особенно удачным.
Всего в семье Хемингуэев было шестеро детей. Самой старшей была сестра Марселина, родившаяся в 1898 году, год спустя родился Эрнест, за ним последовали Урсула, Кэрол, Маделин. Эрнест и сестры были по возрасту близки; брат же Лестер, о котором он мечтал, не мог быть ему компаньоном, так как был моложе его на 16 лет. В детстве будущего писателя. окружали достаток, забота и внимание. Он рос крепким, здоровым ребенком, с малых лет пристрастившимся к чтению. Пожалуй, влияние отца сказывалось на нем сильнее, чем матери. Кларенс Хемингуэй был большим любителем природы, пикников, охотником и рыболовом; эти его склонности явно передались старшему сыну.
Эрнесту было пять лет, когда умер дед по материнской линии, оставивший большое состояние, которое Грейс Холл Хемингуэй, любившая светский размах, использовала на постройку нового 15-комнатного дома с большим музыкальным салоном. Там она музицировала, пела, заставляя детей принимать участие в импровизированных концертах. Несмотря на глухое сопротивление детей, мать настойчиво вела с ними музыкальные занятия, пока после тщетных усилий не убедилась, что музыкантами они не станут. И все же, обретенное Хемингуэем на музыкальных занятиях чувство ритма определило позднее важные особенности его прозы.
На деньги, полученные от деда, родители приобрели участок земли на берегу красивого лесного озера Валлун, где выстроили деревянный коттедж, названный «Уиндмир». Хемингуэй очень любил это место, куда приезжал на лето. Юный Эрни с удовольствием слушал истории деда, ветерана войны между Севером и Югом. В свою очередь, ему нравилось рассказывать дедушке о своих рыболовных или охотничьих приключениях и при этом давать волю своей фантазии. Дед был настолько поражен силой воображения, отличавшей его внука, что как-то шутя предсказал, что тот либо станет знаменитым, либо окажется за решеткой.
Эрнест Хемингуэй учился в городской школе, в которой было достаточно высокое качество преподавания. Хемингуэя влекли гуманитарные предмета, особенно английский язык. Однако склонности к научным занятиям, на что пытался настроить его отец, не питал. Жизнь в Оук Парке, не в пример Чикаго с его острыми социальными контрастами, текла довольно монотонно, родители писателя и люди их круга исповедовали благопристойность и респектабельность. Общественные вопросы оставляли молодого Хемингуэя равнодушным; к тому же родители тщательно стремились уберечь его от опасных дурных влияний.
Подобно большинству своих сверстников и соучеников Эрнест много внимания уделял физической закалке, спорту, таким его видам, как легкая атлетика, бег, футбол и плавание. Пробовал он свои силы и на ринге, бокс требовал мужества, способности стойко переносить удары соперника; будущий писатель занимался самовоспитанием.
Но всего милее были ему летние каникулы, обычно проводимые на берегах озера Валлун. Он не только отдыхал, но и работал на ферме; родители приучали его также и к физическому труду, к умению все делать своими руками. Свободное же время он проводил на природе.
К счастью для биографов Хемингуэя, сохранилось большое количество его разнообразных фотографий, начиная с самой ранней поры. На них мы видим пятилетнего Эрни с удочкой, чуть постарше — с ружьем и первыми охотничьими трофеями… Страсть к рыбалке и охоте, зародившаяся еще в детстве, в сочетании с горячей любовью к природе отличала Хемингуэя на. протяжении всей его жизни. И здесь на первых порах сказывалось благотворное влияние его отца, воспитывавшего сына в спартанском духе. Они вместе подолгу бродили по лесам, отец прививал ему навыки рыболова и охотника на перепелов, диких голубей, зайцев, подсказывал, как приготовлять пищу, будь то дичь или рыба.
Леса, окаймлявшие озеро Валлун, дальние прогулки, выезды с отцом по вызовам, знакомство с простыми людьми, в том числе с обитателями индейской резервации, находившейся неподалеку, — все это для молодого Хемингуэя было своеобразной отдушиной, противовесом тяжелой, чопорной домашней обстановке. Эти впечатления, картины, отдельные образы довольно прозрачно отразились в нескольких рассказах, написанных в 20-е годы, в таких, как «Индейский поселок», «Доктор и его жена», «Десять индейцев», в которых действует молодой человек Ник Адамс, хемингуэевский герой, несущий очевидные автобиографические черты. В рассказе «Отцы и дети», написанном уже в 1933 году, Ник Адамс тепло вспоминает о своем отце, приобщившем его к охоте и рыбалке. Он пишет о нем как о человеке незаурядном и одновременно нервического темперамента, сентиментальном, соединившем чувствительность, ранимость и беззащитность с жестокостью. Тепло вспоминает Хемингуэй об отце и в очерке «Стрельба влет», напечатанном в «Эсквайре» в 1935 году: это зарисовка охоты на бекасов.
Образы отца и деда, ветерана войны между Севером и Югом, возникают и в воспоминаниях Роберта Джордана, главного героя романа «По ком звонит колокол».
По свидетельству одноклассников, будущий писатель выделялся в школе литературными способностями, в частности своими сочинениями, совершенно непохожими на те, что писали другие. Систематически заниматься сочинительством он начал, видимо, в возрасте 14–15 лет. В школе был создан литературный клуб, где Хемингуэй был заводилой, а также издавался журнал «Скрижаль», в котором он публиковал свои первые рассказы и очерки, написанные явно в подражание Джеку Лондону. Писал он о спорте, приключениях, иногда в ироническом духе о событиях «светской» жизни их маленького городка, причем употреблял, не стесняясь, грубые и просторечные выражения, шокировавшие учителей. Сотрудничал он и в газете «Трапеция», выходившей еженедельно. Ее курировал учитель истории Артур Боббит; газета имела свой «штат» сотрудников и весьма удачно имитировала «взрослое» издание. Хемингуэй был одним из шести сменных редакторов газеты и вел постоянную юмористическую колонку, в которой откровенно копировал стилистику Ринга Ларднера, обозревателя и фельетониста ряда чикагских газет.
2
В июне 1917 года Хемингуэй заканчивает школу. На выпускном вечере ему как ученику, показавшему очевидные достижения в литературных опытах, было поручено произнести речь. Он говорил горячо, убежденно и заслужил не только аплодисменты, но и приглашение выступить в воскресной школе перед малышами. Это льстило его самолюбию.
Но юность кончилась, надо было решать, как жить дальше. Родителям хотелось, чтобы он получил университетский диплом, продолжив семейные традиции. Назывался конкретный Оберлинский колледж, куда уже поступила его сестра Марселина. Но наука и книги оставляли Хемингуэя равнодушным. Его влекла жизнь, полная приключений, возможность проявить себя в серьезном «мужском» деле. Оук Парк же был для него слишком тихим и скучным местом. В это время и возникло у него желание записаться в армию и отправиться на фронт. Но против этого решительно выступил отец; его авторитет в семье был высок и неоспорим. Поначалу пришлось подчиниться.
А в Европе уже третий год гремели орудия первой мировой войны. Некоторое время Соединенные Штаты держались в стороне, не ввязывались в конфликт; крупному капиталу было явно на руку выждать выгодного для Америки баланса сил, позволить воюющим державам истощить друг друга. Президент Вудро Вильсон объявил о «нейтралитете» США и пытался играть роль «беспристрастного арбитра», преследуя при этом свои корыстные цели. К тому же в США существовала довольно крепкая оппозиция вступлению в войну.
В 1916 году Вудро Вильсон был вторично избран президентом США; его сторонники вели предвыборную кампанию под лозунгом: «Он удержал нас от войны». Но «миролюбивые» заверения президента были словесным прикрытием. 2 апреля 1917 года Вильсон объявил в сенате о том, что США вступили в войну с Германией. В стране развернулась шумная ура-патриотическая пропагандистская кампания; США изображали бастионом демократии, противостоящим «гуннам», «кайзеровскому деспотизму». Юный Хемингуэй был в числе многих молодых людей, которые дали себя обмануть подобными «патриотическими» лозунгами; он рвался на фронт, чтобы выполнить свой долг перед Америкой. Однако по настоянию отца. Эрнесту пришлось отказаться от этого намерения. К тому же у юноши уже возникло горячее желание писать, печататься. А для этого следовало пройти необходимую школу; ею могла стать газетная работа, журналистика. Во всяком случае, так начинали в Америке многие вышедшие потом на широкую литературную дорогу: Уолт Уитмен и Марк Твен, Стивен Крейн и Теодор Драйзер, Уильям Дин Хоуэллс и Карл Сэндберг. Как раз в это время подвернулась подобная возможность. Младший брат отца Тайлер, крупный лесопромышленник, предложил Эрнесту приехать к нему в Канзас сити и поработать в местной газете. Хемингуэй сразу же согласился: ему не терпелось испытать свои силы и одновременно освободиться от родительской опеки.
Канзас сити в 1917 году был растущим городом. После тихого и скромного Оук Парка Хемингуэй столкнулся с жизнью, полной противоречий. В Канзас сити была высокая преступность, гнездились пристанища пороков, часто совершались насилия. Городская газета «Канзас сити стар», где Хемингуэй проработал семь месяцев, начиная с октября 1917 года, была довольно известной. Хемингуэй даже называл ее «лучшей газетой в Соединенных Штатах». Многие писатели Среднего Запада прошли в ней хорошую школу. В газете была добрая традиция: редакция приглашала обычно не маститых авторов из крупных газет, «прыгунов», привыкших менять места работы, а делала ставку на новичков, которые могли бы активно усваивать некоторые навыки журналиста и репортера. Прежде, чем зачислить работника в штат, ему давали месячный испытательный срок, после чего определяли, на что этот человек годен. Заместитель главного редактора Пит Веллингтон, которому Хемингуэй приглянулся, для начала познакомил его с некоторыми «заповедями газетчика», каковым надлежало следовать сотруднику данного издания. Вот некоторые из них: «Пиши короткими предложениями»; «Первый абзац должен быть краток»; «Язык должен быть сильным»; «Бойся обветшалых жаргонных словечек, особенно если они становятся затертыми». От молодых журналистов, требовали неукоснительно следовать фактам и избегать всяких стилистических «красивостей», например таких безвкусных определений, как «потрясающий», «великолепный», «грандиозный», «величественный». Хемингуэй оказался весьма способным и внимательным учеником; «заповеди» он преломлял в своей практике; так уже в молодые годы начал формироваться его неповторимый художественный стиль, лаконичный и прозрачный.
Хемингуэю пришлась по душе работа репортера, ему нравилась обстановка «напряженки», когда информация о том или ином событии должна быть подана своевременно, оперативно и наглядно. Его «прикрепили» к трем объектам в городе: 15-му полицейскому участку, главной больнице и вокзалу. Молодого репортера не надо было понукать к делу; нередко, когда редактор звонил, чтобы отправить Хемингуэя на место происшествия, оказывалось, что Эрнест уже там. Брат писателя Лестер приводит в своих воспоминаниях такой рассказ Эрнеста о тех днях: «События буквально обрушивались на меня со всех сторон. Я обычно выезжал с машинами «скорой помощи», прикреплёнными к большому госпиталю. Это было нечто вроде полицейского репортажа. Но я имел счастливую возможность узнать, о чем думают люди со «скорой помощи», равно и то, как они выполняют свои обязанности. Повезло мне и когда случился сильный пожар. Даже пожарные выказывали осторожность. Я же находился совсем рядом с бушующим пламенем и мог наблюдать, как все происходило». Воздух пронизывали летящие искры, костюм Хемингуэя был прожжен в нескольких местах (на его починку ушло 15 долларов), зато информация была передана по телефону и вообще получилась «отличная история»…
Позднее, в 1958 году, в известном интервью Джорджу Плимптону, отвечая на вопрос, какую пользу принес ему опыт, приобретенный в канзасской газете, Хемингуэй сказал: «Сотрудничая в «Стар», я учился писать простые ясные фразы. Это полезно любому. Газетная работа никогда не повредит новичку и сослужит добрую службу, если вовремя с ней расстаться».
3
Дела в газете шли у Хемингуэя неплохо, но мысль о фронте не покидала его. К тому же в газете появился новый сотрудник Тэд Брамбэк, которому уже довелось побывать в рядах транспортного подразделения американского Красного Креста на участках боевых действий во Франции. Его рассказы явно интриговали Хемингуэя. Правда, Эрнест ввиду слабого зрения не мог служить в пехоте или других регулярных частях экспедиционного корпуса. Но в это время как раз поступило сообщение о том, что американский Красный Крест вербует добровольцев для службы в Италии; к тому же отец писателя снял, наконец, свое «вето» и позволил сыну испытать судьбу. В конце апреля 1918 года Хемингуэй с группой молодых людей отплыл из Нью-Йорка на борту лайнера «Чикаго». После десятидневного плавания они высадились в Бордо, откуда отправились в Париж. Это была первая встреча писателя с городом, к которому он прикипел душой и который сыграл столь замечательную, роль в его жизни и творчестве.
Из Парижа Хемингуэй в качестве водителя санитарной машины IV отряда Красного Креста был командирован в Италию, в Милан. Там Хемингуэй и его товарищи стали именоваться «тененте», т. е. их считали почетными младшими лейтенантами, что давало как офицерам определенные привилегии, в частности право питаться в офицерской столовой, посещать рестораны и бары, закрытые для рядовых. В Милане Хемингуэй принял нечто вроде боевого крещения: в городе произошел взрыв на военном заводе, и Эрнесту пришлось эвакуировать пострадавших. С той поры сцены крови, смерти, человеческих страданий в его произведениях сделались для него привычными.
В это время Хемингуэй довольно часто выезжал на итало-австрийский фронт в район реки Пиаве к северу от Венеции, где происходили весьма активные боевые действия. Хемингуэй познакомился с командиром одного из подразделений и имел возможность находиться непосредственно на передовой. Здесь 8 июля 1918 года Хемингуэй был ранен при следующих обстоятельствах.
Стояла безлунная ночь, противники обменивались редкими выстрелами. Хемингуэй прибыл на мотоцикле в окопы передней линии, где раздавал солдатам сигареты, шоколад и почту. Солдаты предупредили, что ему следовало бы держаться подальше от передовой. Взяв у одного из солдат винтовку, Эрнест выстрелил в сторону австрийских позиций. В ответ заговорил крупный миномет. Мина попала в окоп, где находился Хемингуэй. Один из солдат был убит, другому оторвало ноги. Еще один был тяжело ранен. Хемингуэй также получил ранение в ноги. Превозмогая боль, взвалив на спину товарища, Хемингуэй пополз в тыл. В этот момент его засек вражеский прожектор, после чего, он попал в зону пулеметного огня и был еще дважды ранен. Человек, которого он тащил, был мертв. Сам Хемингуэй вскоре потерял сознание, был подобран и доставлен в медпункт.
Позднее он не раз возвращался к этому эпизоду, перебирая в памяти пережитые ощущения. Безусловно, одно из наиболее точных описаний содержится в романе «Прощай, оружие!», герой которого, лейтенант Фредерик Генри, — лицо во многом автобиографическое. Вот как описана сцена его ранения: «Я надкусил свой ломоть сыру и глотнул вина. Среди продолжавшегося шума я уловил кашель, потом послышалось: чух-чух-чух-чух, и потом что-то сверкнуло, точно настежь распахнули летку домны, и рев, сначала белый, потом все краснее, краснее, краснее в стремительном вихре. Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что весь вырвался из самого себя и лечу, лечу, лечу, подхваченный вихрем» (II, с. 55).
Когда Хемингуэя, наконец, после некоторых — приключений доставили в перевязочную на операционный стол, выяснилось, что он многократно ранен в обе ноги ниже колен. Всего было извлечено 28 осколков, однако около двух сотен мелких стальных частиц все еще оставались в его теле, давали о себе знать и время от времени выходили вплоть до сороковых годов. На первых порах ему грозила ампутация ноги и опасность, что он останется инвалидом, неспособным к передвижению.
Человек впечатлительный, необычайно остро чувствующий, Хемингуэй глубоко пережил то, что с ним произошло на войне, ранение, госпитальные ощущения. Помимо романа «Прощай, оружие!», он не раз возвращался к ним в своих рассказах, написанных в разную пору, таких, как «На сон грядущий», «Какими вы не будете», «В чужой стране». Пережитое способствовало его отрезвлению от того романтического восприятия войны, которое когда-то захватило юношу-волонтера.
Хемингуэй выздоравливал в госпитале в Милане: сначала он был лежачим больным в каталке, потом перешел на костыли; процесс лечения занял около трех месяцев. Общительность и терпеливость снискали ему симпатии и у раненых, и у медперсонала. За короткий срок в нем произошли заметные перемены: юноша, вчера еще угловатый, порывистый, возмужал, превратился в мужчину, излучавшего редкое обаяние. В Милане Хемингуэй пережил и первое серьезное чувство к Агнес фон Куровски, высокой черноволосой медсестре, уроженке Нью-Йорка. Агнес была немного старше Хемингуэя и пользовалась всеобщей симпатией. Она дежурила по ночам, и Хемингуэй, страдавший от бессонницы, любил с ней подолгу беседовать. Поначалу их чувства были взаимны, Агнес даже обещала Эрнесту после его возвращения в США выйти за него замуж. Однако этого не случилось. Агнес стала женой другого, была несчастлива. Это событие по-новому отразилось в «Очень коротком рассказе», вошедшем в первый сборник Хемингуэя «В наше время» (1925). Само это чувство, так и не разделенное, оставило в писателе неизгладимый след: Агнес фон Куровски во многом послужила «моделью», с которой была списана медсестра Кэтрин Баркли в романе «Прощай, оружие!». Благодаря этому ее имя осталось во всех биографиях Хемингуэя и вошло в историю американской литературы.
Между тем дела Эрнеста шли на поправку. Наконец, настало время выписки из госпиталя, где будущий писатель успел сделаться всеобщим любимцем. Агнес фон Куровски рассказывала позднее его брату Лестеру: «Эрни был в некоторых отношениях весьма недисциплинированным пациентом, но он снискал исключительную популярность среди раненых и всюду находил друзей». Подлечившись на озере Маджиоре, Хэмингуэй решил продолжить военную службу. Он вернулся в свой IV отряд, который был приписан к ардитти: так назывались итальянские ударные части. Однако на этот раз он пробыл на фронте совсем недолго, так как заболел желтухой. А вскоре было объявлено о перемирии, войне пришел конец.
Пережитое на фронте оставило в его памяти, в самом мироощущении рану, которая никогда не заживала. О ней напоминали осколки австрийской мины, оставшиеся в его теле. Хемингуэя всегда влекло изображение людей в экстремальных ситуациях, в «момент истины», как он любил говорить, высшего физического и духовного напряжения, столкновения со смертельной опасностью, когда с особой рельефностью высвечивается подлинная сущность человека.
В письме к своему другу Скотту Фицджеральду в 1927 году он утверждал, что «война — самая благодатная тема», ибо в ней концентрируется «максимум материала, действия ускоряются, случаются разнообразные события; чтобы накопить, их в обычных обстоятельствах, понадобилась бы целая жизнь». Мысль о том, что военный опыт крайне важен для писателя, что несколько фронтовых дней могут быть весомей многих «мирных» лет, неоднократно им повторялась. Он говорил, что «война — одна из самых важных тем, притом такая, когда труднее всего писать правдиво». Он ценил писателей, прошедших через войну: Стендаля, описавшего Ватерлоо, Толстого, описавшего Севастополь, Аустерлиц, Бородино. Война опалит многих героев Хемингуэя, станет темой четырех его романов и многих новелл.
В январе 1919 года Хемингуэй на борту парохода «Джузеппе Верди» возвращается домой, где его ожидает теплый прием: местные газеты в Оук Парке сообщают о молодом человеке, совершившем подвиги, называют его «юным героем», «юным воином». На первых порах ему импонируют радость и гордость родителей, всеобщее восторженное внимание. Он все еще щеголяет в военном френче, опирается на палку и носит на груди два знака отличия: серебряную медаль «За доблесть» и итальянский Военный Крест, врученный самим королем. На первых порах он еще рассуждает иногда о войне как о «спорте», «большой игре», в которой встречаются две соперничающие команды. Но скорее всего это явная бравада.
Однако процесс обретения им «ясности», если употребить выражение Анри Барбюса, автора антивоенного романа «Огонь», понимания истинного характера и природы разразившейся катастрофы отнюдь не был для него быстрым и простым. Он происходил постепенно, на протяжении всего первого послевоенного десятилетия, и во многом стимулировался размышлениями над судьбой фронтовика, тех, кого назовут «потерянным поколением». Он постоянно думал о пережитом на фронте, оценивал, взвешивал, давал своим впечатлениям «остыть», старался быть максимально объективным: книга о войне «Прощай, оружие!» (1929) была написана через 10 лет после возвращения с фронта.
Хотя раны постоянно о себе напоминали, болела нога, Хемингуэй вернулся к своим прежним увлечениям, выездам на природу с друзьями, прогулкам по лесу, к охоте и столь любимой им ловле форели. Но теперь для него, глянувшего смерти в глаза, красота и свежесть природы, сама радость бытия открылись с какой-то особой отчетливостью и пронзительностью. Позднее эти чувства ощутит его герой Ник Адамс из сборника «В наше время», также побывавший на войне и пробующий силы в писательстве (рассказ «На Биг ривер»). А некоторые впечатления первых месяцев его мирной жизни в родных местах найдут отзвуки в раннем рассказе Хемингуэя «У нас в Мичигане».
Однако надо было думать о будущем. Прежде всего ему хотелось отделиться от родителей, жить самостоятельно, а затем реализовать свою давнюю мечту — писать. С первым было достаточно просто, хотя родители смотрели на него как на большого ребенка. Хемингуэй снял маленький домик в Хортон бей на берегу озера Валлун. Там он сочинил несколько рассказов, но пока ни один не увидел свет. Неожиданно ему пришлось вновь вернуться на журналистскую стезю.
Осенью 1919 года Хемингуэй познакомился с семейством Коннеблей: ее глава Ральф был хозяином сети магазинов фирмы «Вулворт» в Канаде и имел связи в редакции газеты «Торонто дейли стар». Туда и направил он начинающего писателя, которого доброжелательно встретил главный редактор Джеймс Крэнстон. Газета эта несколько отличалась от канзасской, где состоялся репортерский дебют Хемингуэя. Она выходила по воскресеньям, была довольно внушительных размеров (для ее полного прочтения понадобилось бы несколько часов), представляла собой «универмаг», набитый самыми разнообразными новостями и сведениями. Газета распространялась не только в Канаде, но и в США.
Крэнстон, умевший выискивать молодые таланты, предоставлял Хемингуэю немалую свободу. Молодой литератор мог писать на любую тему, в любой манере, но так, чтобы было увлекательно и нешаблонно, чтобы этот материал мог захватить читателя, который, открыв первую страницу, пожелал бы полистать затем и всю газету…
Хемингуэй приступил к работе в газете в феврале 1920 года. В течение полутора месяцев он опубликовал 10 материалов, одобренных Крэнстоном, который положил ему гонорар по центу за слово. Хемингуэй жил до лета в Торонто, после чего переехал в Чикаго; в это время между ним и родителями обострились отношения. Родители, приверженные «викторианским» принципам, хотели, чтобы их сын сделался «респектабельным», занялся каким-то «солидным» делом и бросил такое «несерьезное» занятие, как сочинительство для газеты. Письма отца и матери к нему были пропитаны религиозно-благочестивым духом и содержали надежду, что «железное сердце» сына смягчится, а сам он ступит на «путь добродетели». Но Хемингуэй, наверное, не стал бы Хемингуэем, послушайся он увещеваний своих близких.
Между тем в «Торонто дейли стар» продолжали систематически публиковаться его материалы, фельетоны, очерки о ловле рыбы и охоте, короткие заметки на местные темы, написанные нередко в ироническом или юмористическом духе. Каковы их темы? Он описывает представителей «высшего общества», берущих напрокат произведения живописи, дабы выставить себя знатоками и любителями искусства («Кочующая выставка картин»); шутливо комментирует страдания клиентов, пользующихся безвозмездными услугами учеников парикмахеров и студентов-дантистов («Бесплатное бритье»); посмеивается над мэром Торонто, завсегдатаем стадионов, равнодушным к спорту, но озабоченным лишь тем, чтобы быть «на людях» и создать себе рекламу («Мэр-болельщик»).
Знакомство с нравами чикагского «дна» даст ему позднее материал для создания такого великолепного образца его новеллистики, как рассказ «Убийцы», который был удачно экранизирован. Правда, существовать на более чем скромные гонорары в газете «Торонто дейли стар» было непросто, и Хемингуэй на некоторое время устроился сотрудником ежемесячного журнала «Кооперейтив коммунуэлс», органа Кооперативного общества Америки; там ему был положен оклад в 40 долларов в месяц. Общество это ратовало за национализацию и кооперативную собственность в духе теорий реформаторов, в частности Эдуарда Беллами (1850–1898), автора утопического романа «Взгляд в прошлое» (1887). Идеалы журнала были Хемингуэю чужды, и он работал в нем до весны 1921 года.
Находясь в Чикаго, Хемингуэй, как и в школьные годы, много внимания уделял спорту, особенно боксу, в котором заметно преуспел. При этом он не только укреплял себя физически; ему нравился дух состязания, соперничества. Человек честолюбивый, он неизменно хотел первенствовать, быть чемпионом, в том числе и на литературном поприще. Знание спорта, и особенно бокса, психологии спортсменов позднее обнаружится в ряде его новелл.
В это время в жизни Хемингуэя произошло важное событие — знакомство с Хедли Ричардсон, начинающей пианисткой, уроженкой Сен Луиса. Хедли была старше Хемингуэя на 7 лет; она только что похоронила мать, за которой преданно ухаживала, и чувствовала себя одинокой. Высокая, стройная, с приятной внешностью, копной рыжих волос, Хедли была музыкальна, начитанна, отличалась спокойным, ровным характером; с первого же взгляда она увлеклась Хемингуэем, увидела в нем огромный талант, а его работу восприняла как самое важное в жизни. Молодых людей связывала не только любовь, но и дружеские отношения. В сентябре 1921 года они поженились.
В Чикаго же произошла встреча Хемингуэя с первым крупным в его жизни писателем: им был Шервуд Андерсон (1876–1941), автор имевшего шумный успех новеллистического сборника «Уайнсбург. Охайо» (1919). Героями его новелл, напоминающих импрессионистические эскизы, были обрисованные с большой психологической точностью «маленькие люди», обитатели американского провинциального захолустья, исполненные смутных порывов и недовольства. Андерсон только что вернулся из Парижа, он убеждал Хемингуэя, что в Париже все «серьезней», чем в Италии, что самый климат этого города мог бы стимулировать его творческие импульсы. К тому же в Париже образовалась солидная колония американцев «экспатриантов», художников, критиков, писателей, которые покинули родину. В Америке их удручала бездуховность, засилье меркантильных, торгашеских интересов, невысокий престиж творческой, художественной деятельности. Андерсон был первым писателем, интуитивно почувствовавшим редкую одаренность Хемингуэя, хотя тот почти еще ничего не опубликовал. Впрочем, то же ощущали почти все крупные писатели и критики, встречавшиеся с молодым Хемингуэем.
Перед отъездом Хемингуэя во Францию он снабдил его рекомендательными письмами; в одном из них он был назван писателем, который «интуитивно связан со всем значительным, что есть в Соединенных Штатах». Время показало, что аванс, выданный тогда Хемингуэю, был им с лихвой оплачен.
Глава вторая
Европейский корреспондент «Торонто стар»
1
В декабре 1921 года Хемингуэй, на этот раз вместе с молодой женой, вторично направился в Европу. Атлантику пересекали на борту весьма скромного французского лайнера «Леопольдина»; будущий писатель был достаточно стеснен в средствах. Свободное время Хемингуэй посвящал занятиям боксу и, видимо, преуспел в этом виде спорта, потому что его спарринг-партнер Генри Кадди даже советовал по прибытии во Францию профессионально испытать себя на ринге, что было крайне лестно для Хемингуэя. Супруги Хемингуэй прибыли в Париж как раз накануне нового 1922 года и обосновались в скромной двухкомнатной квартирке, «без горячей воды и канализации», на улице Кардинала Лемуана, откуда, однако, открывался чудесный вид, и сразу же приобщились к интересной и пестрой парижской жизни.
В это время во французской столице обитало немало их соотечественников, людей искусства, так что им не пришлось чувствовать себя одинокими. Были среди них люди, одаренные и серьезные, стремившиеся работать и совершенствоваться, были и такие, кого притягивала богема, развлечения и бесконечные мнимо значительные разговоры, подменяющие настоящее дело. Подобные люди раздражали Хемингуэя.
В Париже Хемингуэй в свободное время сочинял рассказы, очерки, стихи, но пока мало что пробивалось в печать в малотиражных изданиях. Рано утром он обычно садился за письменный стол, чувствуя прилив сил. Много читал, завел разнообразные знакомства среди литераторов, его поддерживали внимание и помощь тех, кто верил в его художественный талант. Но пока Эрнест должен был зарабатывать себе на жизнь, а это могла дать только работа журналиста для газеты «Торонто дейли стар» и ее воскресного приложения «Торонто стар уикли». Всего за период с февраля 1920 по январь 1924 года он опубликовал в них около 170 материалов: статей, очерков, зарисовок, информационных сообщений.
Деятельность корреспондента, публициста была сопряжена с творчеством беллетриста. В качестве иностранного корреспондента торонтских газет он изъездил всю послевоенную Европу, вздыбленную острейшими социальными катаклизмами. Его журналистские дороги прошли по Италии и Германии, Франции и Испании, Швейцарии и Ближнему Востоку. Накопление огромного запаса наблюдений и впечатлений шло параллельно с расширением общественного кругозора, а отдельные эпизоды и сцены, включенные в его газетные сообщения, вошли позднее в художественно трансформированном виде в ткань рассказов и романов. Он овладевал искусством очерка, соединяющего в себе публицистическое и художественное начала. Излюбленным жанром писателя был очерк, построенный на личных впечатлениях, когда сведения черпались им из первоисточника. Работа в газете учила лаконизму стиля и языка. Хемингуэй-газетчик демонстрирует наблюдательность, интерес к точной, меткой детали. В очерках просматривался и такой прием, как диалог, усиливавший конкретность. и наглядность изображаемого. Позднее «рубленые» хемингуэевские диалоги составят характерную особенность его повествовательного искусства. Наконец, для газетных материалов Хемингуэя характерны ирония и чувство юмора, умение подметить комические стороны жизни. Эта сторона его таланта, однако, не проявилась в художественной беллетристике: там манера Хемингуэя — серьезна, крайне редко оживляется юмористической интонацией.
2
Весной 1922 года Хемингуэй выполняет серьезное поручение редакции. В Генуе открывалась важная международная конференция по экономическим и социальным вопросам, затрагивающим послевоенную Европу; в ней участвовало 28 государств. Впервые союзники вели переговоры с побежденной Германией. Но главным событием в работе конференции было участие делегации Советской России, которой все еще отказывали в признании ведущие капиталистические государства мира. Генуя осталась в дипломатической истории как своеобразный прорыв Советской страны на международной арене. С Республикой Советов запад уже не мог не считаться. Само появление советской делегации в Италии сделалось значительным фактором политической жизни: Хемингуэй, приехавший в Геную за несколько недель до открытия конференции, мог наблюдать, как на улицах города разгораются открытые схватки между фашистами и «красными». Надо отдать должное политической проницательности молодого журналиста, сумевшего во многом точно оценить сложную, взрывоопасную обстановку в Италии. Уже в одной из первых статей, отправленных в Торонто из Генуи («Революция и контрреволюция»), он писал, что «фашисты — это отродье зубов дракона», что они — контрреволюционеры, привыкшие к безнаказанному убийству и беззаконию.
Но главным делом в эти два месяца, апрель и май 1922 года, стало для Хемингуэя освещение хода Генуэзской конференции. Всего он отправил в Торонто около десятка материалов, от очерков до информаций, посвященных наиболее значительным перипетиям сложной дипломатической борьбы. В эти недели всеобщее внимание было привлечено к советской делегации. Важным для начала конференции стало заявление главы канадской делегации Чарльза Гордона о том, что Канада готова признать Россию, чтобы иметь возможность экспортировать туда сельхозтехнику. 9 апреля 1922 года Хемингуэй присутствовал в Рапалло, где советский нарком иностранных дел Г. В. Чичерин провел короткую пресс-конференцию, о чем молодой журналист передал лаконичный отчет. В зале находилась, помимо журналистов, толпа фоторепортеров, которых, прежде чем допустить в зал, особенно внимательно осматривали полицейские — не проносят ли они с собой бомбы. На пресс-конференции Хемингуэй задал Чичерину вопрос о судьбе долгов царского правительства и получил четкий ответ.
Освещая ход Генуэзской конференции, Хемингуэй стремился быть предельно объективным, точно подавать факты, воздерживаясь от собственных оценок. Находясь в зале заседаний, он не только внимательно фиксировал ход прений, в его блокноте появлялись заметки, описывающие облик и манеру поведения ораторов, равно как и господствующую атмосферу. В советском кинофильме «Москва — Генуя» имеется эпизодический образ Хемингуэя, молодого американского репортера, аккредитованного на конференции. В отличие от многих западных журналистов, проявлявших враждебность по отношению к советской делегации, он в своих оценках некоторых делегатов абсолютно объективен и беспристрастен. Хемингуэй видит, что советская делегация находится под усиленной охраной, привлекает к себе пристальное внимание. Отсюда сдержанность, внутренняя собранность ее делегатов, постоянно сознающих, что они — во враждебном окружении. Он делает зарисовки руководителей делегации: Чичерина, Литвинова, Красина, Иоффе. Когда Чичерин берет слово по вопросу о разоружении и начинает говорить по-французски «своим странным свистящим выговором», в зале воцаряется тишина. Хемингуэй находит броские, запоминающиеся детали: «В паузах не было слышно ни звука, кроме позвякивания массы орденов на груди какого-то итальянского генерала, когда тот переступал с ноги на ногу. Это не выдумки. Можно было различить металлический звяк орденов и медалей». Это цитата из статьи Хемингуэя «Судьба разоружения». Вчитываясь в корреспонденции Хемингуэя, видишь заметное различие в характеристиках членов делегаций. Западные лидеры, такие, как Ллойд Джордж, Барту, — многоопытные ораторы, склонные к эффектным театральным жестам. Советские делегаты внешне скромны, деловиты, но за их высказываниями — реальная сила. Чичерин не впечатляет внешне, то же относится к его ораторским качествам. «Но позднее, когда вы читаете и анализируете его речь, вы видите, как все положения в ней разъяснены с резкостью, подобной уколу рапиры». Это — цитата из статьи Хемингуэя «Эти несветские русские».
Само появление делегации все еще непризнаваемой России в Генуе Воспринимается Хемингуэем как результат перемен исторической значимости. В не столь отдаленном прошлом большевиков преследовали и травили. Максим Литвинов, о котором Хемингуэй пишет уважительно, был выслан в 1918 году из Англии Ллойдом Джорджем. А теперь он ведет с ним переговоры. Ныне «большевики, положив перед собой портфели, заявляют: «Россия сделает то, Россия сделает это». У них власть в России, у этих людей, которые четыре года назад не имели права ступить на ее землю».
Важны некоторые свежие факты, относящиеся к биографии Хемингуэя, о событиях, происходивших в те дни. Среди 700 корреспондентов, аккредитованных на конференции, немногим более десятка были выданы пропуска в отель «Империал», в штаб-квартиру русских в Генуе. Пропуск Хемингуэя имел 11-й порядковый номер и был одним из последних, выданных журналистам. Видимо, корреспонденции Хемингуэя из Генуи произвели самое благоприятное впечатление в редакции, которая летом 1922 года решила направить Хемингуэя на несколько недель в Советскую Россию: он уже называет себя «штатным корреспондентом «Торонто Стар» в России. Из письма к Гарриет Монро, поэтессе и редактору, следовало, что на Хемингуэя был уже выправлен заграничный паспорт и что еще в Генуе Литвинов обещал не чинить ему каких-либо препятствий. К сожалению, эта поездка по неизвестным причинам не состоялась. Можно лишь сожалеть, что Хемингуэю не довелось побывать в стране, где его творчество нашло столь благодарных читателей.
Находясь в Италии, Хемингуэй стал свидетелем того, как в стране обостряется классовая борьба и усиливается влияние фашистов. В июне 1922 года он берет интервью у Муссолини, который хвастается тем, что в рядах фашистов уже полмиллиона человек, что они — «политическая партия, организованная как военная, сила». В очерке, отправленном в Торонто, он пишет о Муссолини как о ловком демагоге, манипулирующем шовинистическими лозунгами итальянских фашистов. Чернорубашечников он характеризует как «разновидность куклукс-клановцев», избравших террор орудием политической борьбы. По мере развития событий в Италии, особенно после того, как осенью 1922 года в результате «похода на Рим» фашисты захватили власть, Хемингуэй с еще большей резкостью отзывается о чернорубашечниках. А ведь на Западе были серьёзные политики, которые недооценивали опасность фашистов и их вожака Муссолини, «сильного лидера». Их убаюкивала ловкая демагогия «дуче», они полагали, что он внес «успокоение» в нестабильную политическую жизнь страны, «заставил поезда ходить по расписанию».
Хемингуэй оказался гораздо дальновидней профессиональных аналитиков. Именно тогда, в начале 20-х годов, сформировался его стойкий и последовательный антифашизм.
Уже в январе 1923 года, присутствуя на конференции в Лозанне, Хемингуэй наблюдает там «нового» Муссолини, пришедшего к власти наглого, самоуверенного. «Муссолини — величайший шарлатан Европы, — пишет он в статье «Фашистский диктатор», после того как взял у него интервью. — Хотя бы он схватил меня и расстрелял завтра на рассвете, я все равно остался бы при своем мнении», — добавляет журналист. Перед ним был актерствующий политикан, разыгрывавший перед разными людьми, в зависимости от обстановки, то глубокомысленного мыслителя, то «национального героя», то диктатора. Ненависть Хемингуэя к фашизму усилилась после того, как в Италии в мае 1924 года был убит лидер социалистической партии Джакомо Маттеотти, что вызвало бурю протестов как в Италии, так и во всей Европе. Однако убийцы так и остались безнаказанными. Муссолини быстро расправлялся с остатками буржуазного парламентаризма.
Политическая реакция в любой форме вызывала в Хемингуэе протест. В статье «Французская политика» он с тревогой писал о крайне правых во Франции, возглавленных Леоном Доде, редактором роялистской газеты и лидером фашиствующих «королевских молодчиков».
Но не только политика увлекает в те месяцы молодого писателя. Во время пребывания в Италии он посетил Милан, где когда-то лежал в госпитале, и вновь пережил острые чувства, связанные с любовью к Агнес фон Куровски. Вместе с новым знакомым капитаном Чинком Дорман-Смитом, ветераном мировой войны, он путешествовал по Швейцарии, ловил форель в Ронском канале, поднимался на заснеженные вершины, наслаждался альпийскими пейзажами, катался на горных лыжах. Швейцарские впечатления отразились потом в ряде его новелл.
Затем журналистские дороги приводят его в Германию. На этот раз он совершает полет из Парижа на небольшом самолете до Страсбурга. Воздушные рейсы были тогда в новинку, и Хемингуэй очень точно и живо описал свои впечатления в специальном очерке, передав ощущения пассажира с предельной точностью. Хемингуэй пробыл в Германии, еще не оправившейся от военного поражения, около месяца. Всюду он наблюдал инфляцию, социальные конфликты, бедствия масс и бесстыдство международных спекулянтов, стремившихся извлечь максимальную прибыль из сложившейся тяжелой экономической ситуации.
3
В конце сентября 1922 года Хемингуэй, находившийся в Париже, получает новое задание — срочно отправиться в Константинополь для освещения греко-турецкого конфликта и сложной дипломатической игры, развернувшейся вокруг этого события. Это была вторая война, свидетелем которой стал Хемингуэй.
Ей предшествовали следующие события. Поражение Четверного союза во второй мировой войне привело к развалу Оттоманской империи, которую буквально растащили по частям союзники. Согласно Севрскому договору в августе 1920 года султан безоговорочно капитулировал перед западными державами и расписался под самоуничтожением своего государства. В ответ на это в Турции началось движение, возглавленное националистически и патриотически, настроенными военными, руководимыми выдающимся турецким лидером Мустафой Кемалем, позднее известным под именем Ататюрка. Султан был низложен. Несколько ранее, в 1919 году, разразилась война между Турцией и Грецией: союзники использовали греков, вторгшихся в Анатолию, как силу для сокрушения турецкого национально-освободительного движения.
В ходе войны греческие солдаты, воевавшие за чуждое им дело под руководством некомпетентных офицеров, стали терпеть поражение. Осенью 1922 года, когда Хемингуэй прибыл в Константинополь, «шумный, жаркий, холмистый, грязный и прекрасный город», наводненный «слухами и людьми в мундирах», греки отступали по всему фронту и готовились закрепиться во Фракии. Там должно было произойти решающее сражение. Хемингуэй собирался о нем писать, но в этот момент в Афинах произошел государственный переворот. Король Георг, проводивший антинародную, предательскую политику, что привело к проигрышу войны, был свергнут, после чего сразу же начались мирные переговоры в маленьком городке Мудании на берегу Мраморного моря. Все эти напряженные дни Хемингуэй провел в городе, в котором царило тревожное настроение; часть христианского населения, боясь репрессий победителей, спешила эвакуироваться. Журналист жил в полупустой грязной гостинице, страдая от приступов малярии.
По соглашению в Мудании Фракия отходила к Турции: началось отступление греческой армии и одновременно бегство мирных жителей. Вместе с отступавшими, совершавшими мучительный многомильный путь по превращенной в месиво дороге, в холод и дождь вместе с потоком беженцев двигался и Эрнест Хемингуэй. На итальянском фронте он увидел ужас окопов. Теперь же перед ним обнажилась трагедия мирного населения, двухсот пятидесяти тысяч людей, согнанных с родных мест.
Почти на двадцать миль дорогу запрудила нескончаемая вереница повозок, запряженных волами, испачканных грязью буйволов, ковыляющих мужчин, женщин и детей, бредущих под дождем, накрыв головы одеялами, телег с жалкими пожитками, уныло бредущего скота.
Во время отступления Хемингуэй познакомился с американским кинодокументалистом, который вел съемки; однажды им пришлось переночевать в гостинице, где их буквально загрызли вши. Правда, хозяйка уверила их, что это все-таки лучше, чем спать на голой, холодной земле.
20 октября в «Торонто стар» появляется очерк Хемингуэя «Безмолвная процессия». В ней есть такие строки: «Нескончаемый, судорожный исход христианского населения Восточной Фракии запрудил все дороги к Македонии… Это безмолвная процессия. Никто не ропщет. Им бы только идти вперед. Их живописная крестьянская одежда насквозь промокла и вываляна в грязи. Куры спархивают с повозок им под ноги. Телята тычутся под брюхо тягловому скоту, как только на дороге образуется затор. Какой-то крестьянин идет, согнувшись под тяжестью большого поросенка, ружья и косы, к которой привязана курица. Муж прикрывает одеялом роженицу, чтобы как-нибудь защитить ее от проливного дождя…»
Этот поток человеческого горя стал для Хемингуэя символом жестокости и аморальности войны. Прибыв в Софию, он послал в «Торонто стар» еще одну корреспонденцию, озаглавленную «Беженцы из Фракии»: в ней он дополнил нарисованную им картину новыми горькими подробностями «ужасного ковыляющего шествия людей, согнанных с насиженных мест». Это зрелище надолго запечатлелось в памяти писателя. В сборнике же «В наше время» подробная, выписанная пером Хемингуэя-очеркиста картина была «сгущена» до одного предельно емкого абзаца. Эпизоды войны на Ближнем Востоке несколько раз возникают в «интерлюдиях» этого сборника.
Писатель вернулся с греко-турецкого фронта посуровевшим, со следами перенесенных физических тягот, а главное, с «совершенно разбитым сердцем»; внутренне он уже чувствовал, что пережитое должно получить и какое-то художественное выражение. Это еще больше укрепило потребность писать прозу. Именно события на Ближнем Востоке, как считают некоторые исследователи, помогли Хемингуэю по-настоящему узнать войну. Возможно, «исход» из Фракии позволил ему позднее дать другую массовую сцену, описание панического отступления итальянской армии под Капоретто в романе «Прощай, оружие!», хотя он сам не был непосредственным очевидцем этой катастрофы.
4
Хемингуэй, вернувшийся, к великой радости Хедли, невредимым с Ближнего Востока, недолго пробыл в Париже. Уже в конце ноября 1922 года ой получил новое задание — освещать ход начавшейся в Лозанне мирной конференции, которая должна была подвести черту под греко-турецким конфликтом и заменить Севрский договор. В Лозанне, наряду с западными державами (Англия, Франция, Италия), а также с Турцией, находилась и советская делегация, возглавляемая Чичериным. На этот раз Хемингуэй представлял агентство «Универсал пресс», его задача была несколько иной: не написание живых очерков, а сбор информации, почерпнутой на пресс-конференциях и из официальных коммюнике, публикуемых разными делегациями. Работа эта была утомительной, недостаточно творческой, исключала живые, острые наблюдения и личные оценки. В это время он отправил в Торонто всего два очерка: один, уже упоминавшийся, содержал язвительную разоблачительную характеристику Муссолини. Второй был посвящен Чичерину, с которым ему довелось лично побеседовать. В отличие от многих западных журналистов, настроенных антисоветски, Хемингуэй писал о Чичерине объективно как об опытном, высокообразованном дипломате, твердо отстаивающем интересы и безопасность своего государства.
Свободное от работы время Хемингуэй проводил в барах, в корреспондентских клубах, где, как обычно, быстро завязывал контакты в журналистских кругах. Так, в Лозанне Хемингуэй познакомился с Линкольном Стеффенсом (1866–1936), которого называли «американским журналистом номер один». Это был человек богатого жизненного опыта и проницательного ума. В свое время он одним из первых заметил незаурядный талант Джона Рида, пестовал молодого писателя, стал для него духовным отцом, хотя их взгляды далеко не во всем совпадали. Хемингуэй показал Стеффенсу один из своих ранних. рассказов — «Мой старик», и тот рекомендовал его журналу «Космополитэн». Сильное впечатление на Стеффенса произвел и очерк Хемингуэя о беженцах из Фракии и не только живостью и трагизмом запечатленной в нем картины, но и ярким, энергичным стилем. Это было для Хемингуэя приятной неожиданностью, ибо он считал, что всего лишь воспроизводит «язык телеграфа». Он высказал Стеффенсу свое заветное желание стать писателем, после чего многоопытный ветеран предсказал ему большое литературное будущее.
Крайне полезным для Хемингуэя было общение с другим журналистом — Уильямом Болито Райалом: многоопытный работник прессы, участник войны, Райал хорошо знал политическую кухню, он ненавязчиво учил Хемингуэя распознавать, какие корыстные, эгоистические интересы скрываются за цветистой фразеологией респектабельных государственных мужей Запада.
Опыт, почерпнутый Хемингуэем в Лозанне, в еще большей мере укрепил его стойкую неприязнь к политиканству, которое стало для него синонимом лжи и цинизма. Позднее это определило некоторые коренные особенности его писательской позиции.
Накануне нового 1923 года Хемингуэя постигла крупная неприятность: у Хедли на Лионском вокзале в Париже крадут чемодан, в котором она собрала все его рукописи, несколько новелл и часть романа, над которым он в это время работал. Хемингуэй делал все, что в его силах, чтобы вернуть похищенное; но вор, видимо, не знавший английского языка и разочарованный тем, что его добычу оказалось трудно реализовать, уничтожил все эти бесценные страницы. Неприятные переживания Хемингуэя отчасти компенсировались хорошим известием: в марте 1923 года маленький журнал «Литл ревью» напечатал подборку из шести его стихотворений. Это была первая публикация Хемингуэя-писателя.
После окончания Лозаннской конференции Хемингуэй имел несколько недель отдыха: вместе с Хедли он катался на горных лыжах, на санях, наслаждался швейцарской природой.
Затем Эрнест получает новое задание — посетить Германию, Рур, ставший французской оккупационной зоной, областью, где с особой остротой проявлялись социальные противоречия и конфликты. Хемингуэй провел в Руре несколько недель, ночевал в заштатных гостиницах, ездил в вагонах второго класса, обедал в дешевых ресторанчиках; всюду перед ним открывались картины, свидетельствовавшие о тяжелом положении трудящихся, бедствиях, которые принесла инфляция, о страданиях голодных, и обогащении спекулянтов. Итогом его поездки стала серия из семи «рурских» статей, опубликованных в «Торонто дейли стар» в марте — апреле 1923 года. В совокупности они давали живую картину, характеризующую тяжелое экономическое положение в Руре.
В статье «Невидимые голодающие» Хемингуэй сообщает, что в стране масса нуждающихся, страдающих от недоедания, хотя это не всегда видно по уличной толпе, поскольку люди стыдятся своей бедности. Отмечал он и растущую неприязнь в разных слоях немецкого общества к французской оккупации. «Ненависть в Руре — это реальность», — констатировал он в одноименном очерке. Не укрылся от него и рост коммунистических настроений среди рабочих этой провинции, «самой красной части Германии». Власти даже боялись расквартировывать в этой местности войска, опасаясь, что солдаты заразятся коммунистическими идеями. По, мнению Хемингуэя, «авантюра с Руром», т. е. оккупация, усугубила бедствия немцев, но она же не принесла никакой пользы Франции.
Рурская серия статей была последним специальным заданием торонтской газеты, цель которого — показать чисто политическое событие, хотя Хемингуэй не прекращал сотрудничества с ней еще более полугода. Панорама послевоенной Европы, увиденная Хемингуэем, позволила ему сформулировать некоторые важные для него выводы. Два обстоятельства особенно сильно на него подействовали: это знакомство с кухней империалистической дипломатии и зрелище неудачных революционных выступлений в разных странах Европы, что вызвало у Хемингуэя социальный скепсис, неверие в осуществимость социальных перемен. В политиках же он справедливо видел людей своекорыстных. В очерке Хемингуэя «Старый газетчик пишет» (1934) он уже с высоты опыта 30-х годов свидетельствует: «…Непосредственно после войны мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те, дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды — потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли. Долгое время я не мог понять этого, но, наконец, кажется, понял». Отметим: Хемингуэй относит себя к тем, кто «верил в революцию».
5
После Швейцарии, Лозанны, летом 1923 года состоялась очень важная поездка в Испанию, первая встреча Хемингуэя со страной, которую он с той поры полюбил. Вместе с ним в этой поездке были его приятели — журналисты Роберт Мак Элмон и Уильям Берд. Они побывали в Мадриде, откуда отправились в Севилью и Гранаду, где впервые писатель стал свидетелем корриды. Она произвела на него яркое, незабываемое впечатление. Перед ним было захватывающее зрелище, поединок жизни и смерти, извечная драма, представленная в особом, концентрированном выражении. Это был материал, крайне интересный для писателя. Позднее в книге «Смерть после полудня» он объяснял увлечение этим зрелищем своими писательскими задачами: «Войны кончились, и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть, была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами». Итогом этой первой поездки в Испанию стал очерк Хемингуэя «Бой быков — это трагедия», в котором впервые дано описание корриды, наглядное и конкретное.
Вскоре Хемингуэй, на этот раз уже вместе с Хедли, вторично побывал в Испании, в Памплоне. Там он увидел другое красочное, колоритное народное празднество — фиесту. Он описал увиденное в очерке «Памплона в июле», проявив в этом очерке то высокое мастерство, которое было характерно для зрелой прозы Хемингуэя. Описание радостного настроения толпы, карнавального веселья и раскованности, массовые сцены, перипетии боя быков, зарисовки знаменитых матадоров Маэры, Альгабено — все это предстает у Хемингуэя с большой живостью. Эти два очерка открывают тему боя быков, которая пройдет через все творчество Хемингуэя, начиная с первого сборника «В наше время», романа «И восходит солнце» («Фиеста») и кончая посмертно изданной книгой «Опасное лето».
В сентябре 1923 года супруги Хемингуэй возвращаются на некоторое время в Канаду. Там у Хемингуэя родится сын, его называют Джон Хедли Никанор Хемингуэй: второе имя было ему дано в честь материка третье — в честь матадора Никанора Вилальты, с которым писатель познакомился в Испании. В семейном же кругу первенца называли Бэмби, и молодой отец на первых порах уделял ему много внимания и ласки; будучи мастером на все руки, он отлично справлялся с обязанностями няньки, пока писательские дела не увлекли его полностью.
Осенью 1923 года Хемингуэй продолжал выполнять свои журналистские обязанности в «Торонто стар», однако дело явно шло к концу: новый главный редактор газеты Гарри Хайндмарш, человек недалекий и завистливый, заслуживший недобрую репутацию «укротителя гениев», относился к Хемингуэю явно недоброжелательно и требовал от него выполнения разных мелких, недостойных его таланта поручений. Тем не менее Хемингуэй публикует острые материалы на самые разные темы, и среди них немало интересных: это и размышления в связи с присуждением Нобелевской премии по литературе ирландскому поэту и драматургу Йитсу; и сообщения об инфляции германской марки и снежных обвалах в Швейцарии; и заметка о том, что ветераны войны вынуждены торговать на рынке своими боевыми наградами; и очерк о безымянном слепом бедняке, замерзающем на улицах Торонто в канун Рождества Христова…
Один из наиболее любопытных материалов — очерк «Молодые коммунисты». Хемингуэй рассказывает в нем о деятельности детских коммунистических групп в Торонто, охватывающих почти триста человек и представленных тремя секциями: финской, английской и наиболее среди них многочисленной — украинской. Хемингуэй обстоятельно анализирует методы их работы, в частности пособия, используемые в учебных целях. Он приводит подробные выдержки из «Справочника руководителя детских групп», изданного Исполкомом Коммунистического интернационала молодежи, пишет о том, как проводятся занятия в украинской секции, как у детей формируются чувства коллективизма, качества будущего революционного борца, классовый подход к явлениям, как осуществляют их эстетическое воспитание.
Между тем жизнь в Канаде Хемингуэю явно не по душе. Атмосфера в Торонто была какой-то затхлой, провинциальной. К тому же обострившиеся отношения с Хайндмаршем привели Хемингуэя к разрыву со своим редактором. А это означало также уход из журнала. После недолгой внутренней борьбы Хемингуэй принимает принципиально важное для себя решение. Он оставляет журналистику, чтобы целиком посвятить себя писательству. А для этого вместе с Хедли и годовалым Бэмби возвращается в Париж. Это было в январе 1924 года.
Глава третья
Пора ученичества
1
В Париже семья Хемингуэй сняла маленькую квартиру на улице Нотр-Дам-де Шан на верхнем этаже здания, в котором находилась лесопилка. Об этом постоянно напоминали скрежет пилы и запах опилок. Жили на первых порах более чем скромно, урезали расходы на питание. Теперь, когда Хемингуэй перестал получать зарплату в газете и регулярные гонорары за свои очерки, приходилось считать каждое су. Но Хемингуэй чувствовал себя счастливым. Он вновь погрузился в бурную художественную жизнь Парижа.
Еще в. начале 20-х годов в бытность свою штатным сотрудником «Торонто стар» Хемингуэй параллельно с написанием газетных материалов пробовал свои силы как литератор, прозаик и поэт. Его первые опыты носили во многом экспериментальный характер. Хемингуэй был связан в это время с т. н. «малыми издательствами» и «малыми журналами», которые стремительно возникали в ту пору и столь же быстро уходили в небытие. Они носили полулюбительский характер, печатались небольшими тиражами и обычно не платили авторам гонораров, зато охотно предоставляли свои страницы одаренным начинающим литераторам, склонным к поиску, к авангардизму, к обновлению традиционного арсенала художественных средств. А их авторам порой важнее было увидеть себя напечатанными, чем заработать.
На первых порах дела у Хемингуэя шли не особенно удачно. Начав сотрудничать в «Торонто стар», он принялся за роман, но оставил его неоконченным. По совету Ш. Андерсона отправил ряд материалов в «малый журнал» «Дайэл» («Циферблат»), где получил отказ. Ударом по Хемингуэю, как уже говорилось, стала кража чемодана с его рукописями. Но писатель принялся, как мог, восстанавливать кое-что по памяти. Наконец, его начали публиковать. В журнале «Литл ревью» появилась серия его прозаических миниатюр, ставших «зернами» интерлюдий в сборнике «В наше время». Эдвард О’Брайан, поэт и критик, взял новеллу Хемингуэя «Мой старик» для своей антологии «Лучшие рассказы за 1923 год». Наконец, в июле 1923 года в Дижоне Роберт Мак Элмон выпускает первую маленькую книжечку Хемингуэя под названием «Три рассказа и десять стихотворений». Ее тираж был всего 300 экземпляров, гонорар — смехотворный, но главное, что имя автора, набранное крупным черным шрифтом на тонкой бумажной обложке, кое-кому запомнилось. Одновременно летом того же 1923 года Хемингуэй писал новеллы, предназначенные для сборника, который собирался издать Уильям Берд.
В это время Хемингуэй испытывает себя и на поэтическом поприще, используя вошедший в моду свободный стих. Одно из удачных его стихотворений — «Монпарнас» — отличается присущим писателю лаконизмом и наблюдательностью.
Интересны и некоторые другие поэтические опыты Хемингуэя: всего им было написано около 90 стихотворений. И все же он довольно быстро почувствовал, что его стихия — не поэзия, а проза.
А вот другой образец искусства Хемингуэя — подготовленная для сборника Берда миниатюра, выросшая из воспоминаний, связанных с его газетной работой в Канзасе, описание казни преступника Сэма Кардинеллы:
«Сэма Кардинеллу повесили в шесть часов утра, в коридоре окружной тюрьмы. Коридор был высокий и узкий, с камерами по обе стороны. Все камеры были заняты. Осужденные были заранее доставлены сюда. Пятеро приговоренных к повешению находились в первых пяти камерах. Трое из них были негры. Они очень боялись. Из белых один сидел на койке, закутав голову одеялом. К виселице выходили через дверь в стене. Всего было семь человек, считая вместе с обоими священниками. Сэма Кардинеллу пришлось нести. Он был в таком состоянии с четырех часов утра. Пока ему связывали ноги, два надзирателя поддерживали его, а оба священника шептали ему на ухо.
— Будь мужчиной, сын мой, — говорил один из священников.
Когда к нему подошли, чтобы надеть на голову капюшон, у Сэма Кардинеллы началось недержание кала. Надзиратели с отвращением бросили его.
— Нет ли табуретки, Билл? — спросил один из надзирателей.
— Принесите, — сказал какой-то человек в котелке.
Когда все отступили за спусковой люк, который был очень тяжел, сделан из дуба и стали и вращался на шарикоподшипниках, посреди помоста остался один Сэм Кардинелла, сидевший на стуле, крепко связанный; священник отпрыгнул назад в самую последнюю минуту перед тем, как опустили люк».
В этом отрывке заметны уже характерные черты того стиля Хемингуэя, который станет позднее отчетливой приметой его писательской зрелости: объективность; холодноватая сдержанность манеры в описаниях самых трагических и экстремальных ситуаций; отсутствие поясняющих авторских комментариев; точность и лаконизм языка; предельная конкретность деталей.
Но в эти ранние парижские годы Хемингуэй не только писал. Он непрерывно и упорно учился, тщательно штудируя лучшие литературные образцы и общаясь с большими мастерами слова, с которыми ему посчастливилось лично познакомиться в те годы. Кто же были эти люди?
2
О некоторых из них Хемингуэй вспоминает в книге мемуаров «Праздник, который всегда с тобой», написанной в конце жизни и посвященной проведенным в Париже годам молодости. Конечно, кое-какие оценки были им скорректированы с высоты прожитых лет. Но в целом его воспоминаниям окрашены светлой, теплой интонацией.
Первой среди мастеров, сыгравших плодотворную роль в его становлении как писателя, была Гертруда Стайн (1872–1946), писательница, искусствовед, одна из теоретиков авангардистского искусства. Эрудированная в философии и искусствознании, ученица видного психолога и философа Уильяма Джеймса (брата писателя Генри Джеймса), наделенная тонким эстетическим вкусом, несколько экстравагантная в своих манерах, Стайн с 1902 года жила в Париже, где была хозяйкой популярного салона, в котором сходились тогдашние литературные знаменитости и художники. Стайн, в частности, пропагандировала новые течения в живописи, кубизм, поддерживала Матисса, Пикассо, Брака, Леже и других. В ее салоне бывали и писатели авангардистского направления, такие, как Джойс, Паунд, Форд Мэдокс Форд, хотя Стайн весьма ревниво относилась к успехам своих коллег, отводя для себя первую роль.
Сама она увлекалась оригинальными стилевыми и языковыми экспериментами, что нашло отзвук в ее романе «Становление американцев» (1925), произведении необычной формы, рисующем историю трех поколений ее собственной семьи. Хемингуэй, содействовавший публикации этого романа, относил его к числу самых значительных книг, им прочитанных.
Стайн сразу же обратила внимание на талантливого молодого писателя, который сделался завсегдатаем ее салона. Между ними сложились добрые отношения, они переписывались; Стайн была крестной матерью сына Хемингуэя Бэмби. Стайн настойчиво убеждала Хемингуэя оставить газетную работу с тем, чтобы полностью сосредоточиться на писательстве. В этом с ней соглашался и Хемингуэй, чувствовавший, что газетный материал хоть и может быть эмоционально окрашен и злободневен, но обычно недолговечен. Ему было ясно, что задача писателя — проникать, в самую суть явлений, улавливать последовательность фактов и событий, их внутреннюю причинную согласованность, добиваясь того, чтобы им написанное сохраняло свою действенность и через год, и через десять лет.
Вообще эта грузная, медлительная женщина, обладавшая оригинальным складом ума, умела заражать окружающих своими идеями и теориями, а Хемингуэй оказался тем, что внимал ей с большим прилежанием. Именно она привлекла его внимание к бою быков. Ее кредо было изложено в известной фразе: «Цивилизация началась с розы. А роза есть роза есть роза есть роза». Стайн настаивала на важности повторения отдельных слов и выражений; следы ее влияния заметны в некоторых ранних произведениях Хемингуэя.
В Париже также состоялось знакомство Хемингуэя с Эзрой Паундом (1885–1972), поэтом-модернистом, критиком и издателем, человеком ослепительного таланта и эрудиции, который, особенно в своем раннем творчестве, немало способствовал обновлению инструментария американского стиха. Паунд также был в числе тех, кто сразу же угадал редкую одаренность Хемингуэя и содействовал его ранним публикациям. Между ними установились теплые отношения; по словам Хемингуэя, Паунд учил его искусству версификации, а он Паунда — боксу. Паунд, по словам Хемингуэя, «симпатичный, добрый и дружелюбный», привлекал его как мастер, беззаветно преданный своему делу; Хемингуэй творчески использовал заимствованные у него некоторые стилевые приемы в духе эстетики имажизма[3].
В Париже в 1922 г. состоялось знакомство Хемингуэя со знаменитым Джеймсом Джойсом (1882–1941), англо-ирландским прозаиком, художником огромного и оригинального таланта. Его по праву считают одним из создателей «новой прозы». Как раз в это время Джойс завершил свой знаменитый роман «Улисс» (1922), имевший большой успех и вызвавший бурные споры[4]. В этом романе, виртуозно использовав богатейший спектр стилевых приемов, пронизав свое необычное повествование сложными символами, аллегориями и ассоциациями, Джойс воспроизвел с мельчайшими бытовыми и психологическими подробностями один день из жизни трех обитателей Дублина. При этом нарисованная им картина воспринималась как притча, как своеобразная модель человеческой цивилизации.
Хемингуэй был нелегким в общении человеком. Его отношения с окружающими обычно складывались сложно. Особенно это касалось писателей. Но общение с Джойсом было ровным и никогда не омрачалось литературным соперничеством. Хемингуэй называл Джойса «единственным среди живущих писателей», кого он уважал, «лучшим компаньоном и самым преданным другом из всех», какие у него были. Джойс читал рукописи Хемингуэя, что было чрезвычайно ценно для дебютанта; Хемингуэй, в свою очередь, вчитывался в прозу Джойса. Возможно, архитектура джойсовского сборника рассказов «Дублинцы» повлияла на композицию первой книги Хемингуэя «В наше время».
Среди наставников Хемингуэя в парижскую пору был известный критик и теоретик литературы английский писатель Форд Мэдокс Форд (1873–1939), автор антивоенного романа «Хороший солдат» (1915) и семейной хроники «Конец парада», содержавшей окрашенную иронией и сатирой картину жизни высшего английского общества. В редактируемом им журнале «Трансатлантик ревью» Форд Мэдокс Форд поместил несколько ранних рассказов Хемингуэя: «Индейский поселок», «Доктор и его жена» и другие. Уже в 1925 году он отзывался о Хемингуэе как о «лучшем современном американском писателе». Хемингуэй ценил стилистическое искусство Ф. М. Форда, но, вспоминая о нем в книге «Праздник, который всегда с тобой», представил в несколько шаржированном виде присущие Форду рисовку, претенциозность поведения и снобизм.
К 1925 году относится начало знакомства Хемингуэя со Скоттом Фицджеральдом; почти полтора десятилетия длились их долгие и достаточно сложные отношения. Писатель блестящего дарования, Фицджеральд уже сумел к этому времени сделать себе имя: в романах «По эту сторону рая» (1920), «Прелестные и проклятые» (1922) и «Великий Гэтсби» (1925), в многочисленных рассказах он с редкой психологической тонкостью и пластичностью передал атмосферу «века джаза», настроения и порывы послевоенной американской молодежи, обычно состоятельной, быт богемы. Поначалу Хемингуэя и Фицджеральда связывали теплые, дружеские отношения, основанные на взаимной поддержке и доверии, однако постепенно они осложнились. Хемингуэй, особенно в 30-е годы, со справедливой резкостью упрекал Фицджеральда за легкомыслие и несерьезное отношение к своему таланту, готовность писать вполсилы, невзыскательно в погоне за деньгами. В то же время Хемингуэй от души радовался его успехам. В книге «Праздник, который всегда с тобой» немало страниц посвящено той своеобразной дружбе-вражде, которая отличала их отношения.
Там же Хемингуэй дает остроумную, хотя, возможно, и не вполне точную характеристику, своего друга: «Его талант был таким же естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки. Одно время он понимал это не больше, чем бабочка, и не заметил, как узор стерся и поблек. Позднее он понял, что крылья его повреждены, и понял, как они устроены, и научился думать, но летать больше не мог, потому что любовь в полетах исчезла, а в памяти осталось только, как легко это было когда-то…» Наверное, Хемингуэй был здесь не совсем прав, ибо писавшийся в последние, очень трудные годы жизни Фицджеральда, его незавершенный роман о Голливуде «Последний магнат» — свидетельство неиссякшей художественной силы его автора. Однако некоторые критические отзывы Хемингуэя о Фицджеральде, особенно в 30-е годы, настоятельные советы больше и упорней трудиться были продиктованы, в конце концов, искренней тревогой за друга. В том, что касалось литературного труда, Хемингуэй не терпел легковесности, требовал от себя и хотел видеть у других безусловную самоотдачу.
В момент их знакомства Хемингуэй был еще малоизвестен, делал первые шаги в литературе. Но ранние рассказы Хемингуэя вызвали у Фицджеральда восхищение, и он рекомендовал своего друга старейшей издательской фирме «Чарльз Скрибнере», а позднее в журнале «Букмен» он поместил проницательную рецензию на книгу Хемингуэя «В наше время». Взаимоотношения Хемингуэя и Фицджеральда — интересная страница американской литературной истории; в США издается специальный альманах, посвященный двум писателям.
В начале 20-х годов Хемингуэй общался и с другими англо-американскими писателями, уже известными и начинающими; среди них были поэты Т. С. Элиот, Э. Э. Каммингс, Уильям Карлос Уильямс, критик Эдмунд Уилсон, прозаик Джон Дос Пассос.
3
В 20-е годы Хемингуэй очень много читал. Он делал это критически, отбирая то, что было для него как для писателя ценно и поучительно: это формировало его эстетические вкусы. Денег на покупку книг не было, зато он сделался завсегдатаем книжной лавки и одновременно библиотеки, которая называлась «Шекспир и компания». Она была расположена на улице Одеон, ее владелицей была симпатичная американка Сильвия Бич, человек умный и очень доброжелательный; именно она рискнула издать на свой страх и риск в Париже на английском языке «Улисса» Джойса, в то время как большинство издателей отказались от этой книги, сочтя ее «грязной». Сильвии Бич понравился Хемингуэй, высокообразованный молодой человек, который, «несмотря на мальчишескую заносчивость, был очень умен». Благодаря ее доверию он мог брать в библиотеке все, что его интересовало, и таким образом Хемингуэй приобщался к сокровищам мировой литературы, классики и современной.
Тогда, в начале 20-х годов, Хемингуэй открыл для себя мир русской литературы. «Сначала русские, а потом все остальные, — свидетельствует, он в своих воспоминаниях. — Но долгое время только русские». В библиотеке Сильвии Бич он «прочитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведенные на английский, Толстого в переводе Констанс Гарнетт и английские издания Чехова».
Особое место среди «русских симпатий» Хемингуэя занимал Тургенев, которого он считал «величайшим из писателей, когда-либо творивших». Он «не написал самых выдающихся книг, но был великим писателем». Позднее в книге «Зеленые холмы Африки» Хемингуэй свидетельствовал: «Благодаря Тургеневу я сам был в России». Особенно высоко он ценил «Записки охотника» Тургенева за прекрасные описания охоты и картины степей. Хемингуэю был близок тургеневский принцип изображения внутреннего психологического состояния героя через детали, относящиеся к его портрету, внешнему облику, поведению. Это был хемингуэевский принцип объективности, исключающий «указующий авторский перст».
Ему нравился Чехов. Некоторые его рассказы «отдавали репортерством», но другие были «изумительны». У Достоевского он находил произведения, которым «веришь», и произведения, которым «не веришь». Но «Братьев Карамазовых» он неизменно включал в список обязательного чтения. Первое же место в этом списке Хемингуэй отдавал Л. Толстому, автору «Войны и мира» и «Анны Карениной».
Л. Толстой был для него одним из кумиров и своеобразным художественным эталоном. Он постоянно ссылался на Толстого и в своих интервью, и в письмах, упоминал в некоторых романах. Толстой был особенно близок Хемингуэю, потому что оба писателя участвовали в войне; американский не раз ссылался на автора «Войны и мира», чтобы подчеркнуть, сколь важен для писателя военный опыт. В книге «Зеленые холмы Африки» Хемингуэй так характеризует свои впечатления от чтения «Севастопольских рассказов»: «Книга эта очень молодая, и в ней есть прекрасное описание боя, когда французы идут на штурм бастионов, и я задумался о Толстом и о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт». В письме к критику Чарльзу Пуру в 1953 году он писал: «Лев Толстой был в Севастополе. Но не был при Бородино. В то время он вообще не родился. Но он мог все это вообразить, потому что прошел, как и все мы, через войну, через свой страшный Севастополь». Прочитав «Казаков», он называет их «очень хорошей повестью». Наиболее развернутую характеристику Толстому Хемингуэй дает в предисловии к антологии «Люди на войне» (1942): «Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого, его роман «Война и мир» настолько огромен и подавляющ, что из него можно выкроить любое количество битв и сражений — отрывки сохраняют свою силу и правду…» Вместе с тем Хемингуэй с его эстетикой, не приемлющей авторского объяснения событий, считал неорганичными пространные исторические и философские отступления в романе Толстого. «Я люблю «Войну и мир» за удивительное, глубокое и правдивое изображение войны и народа, но я никогда не доверял рассуждениям великого графа», — пишет он там же. А в одном из писем Хемингуэй задается риторическим вопросом: что было бы, если бы текст «Войны и мира» написал Тургенев, с его точки зрения несравненный мастер. Тургенева он называет «художником», а Толстого — «пророком».
Он преклонялся перед силой правды, заключенной в искусстве Толстого, ибо благодаря ему становились «реальностью… театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения». Вспоминая о чтении Толстого в книге «Праздник, который всегда с тобой», Хемингуэй признавал: «По сравнению с Толстым описание нашей Гражданской войны у Стивена Крейна казалось блестящей выдумкой больного мальчика, который никогда не видел войны…» Став всемирно знаменит, Хемингуэй привык отзываться о классиках как своеобразных соперниках и судил о них безо всякого пиетета. Толстой же вызывал в нем чувство глубочайшего уважения. В письме к издателю Чарльзу Скрибнеру в 1949 году он не без бравады пишет, что готов был бы соперничать на ринге с некоторыми из классиков, в том числе с Шекспиром, Сервантесом, Тургеневым, и надеется их одолеть. Но он не решился бы выйти на поединок из 20 раундов с Толстым, потому что тот, в конце концов, вышибет из него дух…
4
Позднее, начиная с 30-х годов, Хемингуэй стал знакомиться с советской литературой. Но знал он ее, несомненно, хуже, чем русскую классику. Известно, что он читал Горького, Шолохова («Тихий Дон», «Судьба человека»), «Дни и ночи» Симонова; с последним обменялся письмами. Он переписывался с И. А. Дашкиным (1899–1963), первым в СССР исследователем и пропагандистом его творчества. Во время пребывания в США в 1935 году И. Ильфа и Е. Петрова познакомился с авторами «Одноэтажной Америки». В период войны в Испании встречался с М. Кольцовым и И. Эренбургом.
К сожалению, в переписке Хемингуэя, в его интервью мы почти не встречаем оценок советских писателей. Лишь одно имя его, безусловно, привлекло: И. Бабель. Эта интересная деталь до сих пор ускользала от внимания исследователей, которые в целом с большой основательностью систематизировали разнообразные художественные влияния, испытанные Хемингуэем, а также его литературные интересы.
В письме к Кашкину в 1936 году мы читаем: «Бабеля я знаю с той поры, как его первые рассказы появились в переводе на французский язык и вышла его «Конармия». Мне очень нравятся его произведения. У него изумительный писательский материал, и, кроме того, он отлично пишет». По-видимому, Хемингуэй познакомился с Бабелем по английскому изданию его «Конармии» 1929 года. Примерно в то же время Бабель стал читать Хемингуэя. По свидетельству Эренбурга, Бабелю Хемингуэй нравился, он отмечал его исключительную наблюдательность и мастерство диалогов.
Знаменательно, что когда в 1974 году в Нью-Йорке вышло американское издание «Избранных рассказов» Бабеля, критик Лайонель Триллинг, автор предисловия, поставил в один стилевой ряд Бабеля и Хемингуэя. Он сделал такое интересное наблюдение: «В новеллах Мопассана, а также Стивена Крейна, Хемингуэя, в «Дублинцах», Джейса и рассказах самого Бабеля мы наблюдаем стремление писателя к созданию такой художественной формы, которая, будучи совершенной и автономной, в то же самое время неожиданным образом гармонирует с правдой жизни, запечатленной в их произведениях… Писатель, похоже, хочет сказать: хотя он изображает с необычайной точностью происходящее, он не собирается его комментировать, объяснять и выносить ему приговор».
Действительно, между Хемингуэем и Бабелем существует немало существенных «точек соприкосновения». Как и Хемингуэй, Бабель дебютировал в качестве репортера и журналиста, колесил по стране. Как и Хемингуэй, много работавший военным корреспондентом, Бабель с мандатом Югороста проделал вместе с бойцами Первой Конной польский поход, служил в газете политотдела «Красный кавалерист». Как и Хемингуэй, автор романа «По ком звонит колокол» (о котором пойдет речь позднее), запечатлевшего драму гражданской войны в Испании, Бабель в «Конармии» рассказал о гражданской войне в России откровенно и честно, показал ее героику и жестокость, взлеты человеческого духа и почти натуралистическую приземленность быта, храбрость и трусость.
Бросается в глаза известное сходство литературной судьбы «Колокола» Хемингуэя и бабелевской «Конармии». Роман Хемингуэя вызвал неоднозначную реакцию, с одной стороны, — восторги, а с другой — резкие нападки догматически настроенных критиков, обвинявших писателя чуть ли не в «клевете» на антифашистов. Бабелевская «Конармия» также стала в свое время предметом острой полемики. Его персонажи не укладывались в те шаблоны и стереотипы, которые защищала в 20-е годы вульгарно-социологическая критика. С. М. Буденный адресовал Бабелю обвинения в клевете на Первую Конную; его картины не отвечали господствующим в литературе представлениям о «розовой» революции. Отвечая критикам из журнала «На посту», «напостовцам», А. К. Воронский справедливо писал: «Бабель больше наш, чем иные старательно наклеивающие на свои вещи отечественный ярлык коммунизма и пролетарского искусства… Бабель — очень большая надежда русской современной советской литературы и уже большое достижение». Но с особой проницательностью оценил Бабеля М. Горький, внимательно следивший за творческим ростом писателя. Он энергично защищал Бабеля от нападок «неистовых ревнителей», равно как и от С. М. Буденного. «Его «Конармия», — писал Горький Роллану, — ряд превосходно написанных этюдов в стиле Гоголя…» Успех Бабеля, который с конца 20-х годов стал активно переводиться на многие европейские языки, подтвердил справедливость горьковских оценок.
Сравнивая Хемингуэя и Бабеля, обратим внимание на очевидное сходство их коренных эстетических позиций, хотя работали они, конечно, с очень разным жизненным материалом. Это прежде всего их приверженность к бескомпромиссной жизненной правде, как бы сурова и горька она ни была. Оба писали трудно, работали над словом с огромным напряжением. Оба тяготели к малой форме, очерку, новелле. Обоих отличала счастливая наблюдательность и редкая интуиция. Правда, Бабелю был присущ «одесский» колорит, яркая метафоричность, в то время как манера Хемингуэя была прозрачной и простой. Оба писателя стремились к предельному лаконизму. К. Паустовский, друг Бабеля, приводит такие его слова: «Ясность и сила языка не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя ничего выбросить». Думается, что под этими словами с удовольствием подписался бы Хемингуэй.
Бабель часто бывал за границей, в частности в Париже, где жил и Хемингуэй. На обоих, безусловно, влияла художественная атмосфера французской столицы. Хемингуэй мог звать о Бабеле от Кольцова, Эренбурга, от французского писателя, участника антифашистской войны в Испании Андре Мальро.
Наконец, обоих писателей сближала их яркая человеческая индивидуальность, независимость поведения и суждений. Неповторимый художественный почерк автора «Конармии» вызывал подражания; начинали писать «под Бабеля». Стиль автора «Колокола» стимулировал попытки писать «под Хемингуэя».
Оба производили неизгладимое впечатление на тех, кто с ними сталкивался.
Об этом, думается, точно сказал Эренбург. Ему посчастливилось быть представленным многим «властителям дум», знаменитым писателям, перед которыми он преклонялся, — от Максима Горького др Томаса Манна, Бунина, Джойса. «Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший, наконец, предмет своей любви, — так было с Бабелем, десять лет спустя с Хемингуэем».
5
Изучать опыт предшественников Хемингуэй считал обязательным для всякого серьезного литератора. Он сам был неутомимым читателем и собрал уже на Кубе библиотеку, насчитывающую более 7400 томов. Будучи признанным «мэтром», он в интервью и беседах обычно предлагал списки авторов и книг, знание которых было необходимым. Конечно, эти перечни отражали и личные пристрастия, эстетические вкусы Хемингуэя.
Среди французов на первом месте у Хемингуэя стоял Флобер. В нем американского писателя привлекали «самодисциплина», беспредельная преданность своему искусству и близкие ему принципы максимально объективного повествования. Пожалуй, столь же высоко ставил он и Стендаля как создателя «Красного и черного»; роман «Пармская обитель» нравился ему меньше, казался растянутым, зато описание битвы при Ватерлоо он считал «классическим», в этом с ним нельзя было не согласиться. Хемингуэй полагал, что следует знать и «все лучшее» у Мопассана.
Переходя к своим соотечественникам, Хемингуэй обычно называл имена Генри Джеймса, Стивена Крейна и Марка Твена, автора несравненного «Гекльберри Финна». Тонкие оценки этих писателей содержатся в книге «Зеленые холмы Африки». Там мы встречаем его проницательное суждение о Марке Твене, которое с тех пор постоянно цитируется: «Вся американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Гекльберри Финн». Критики обратили внимание на то, что эта мысль Хемингуэя созвучна известному высказыванию Достоевского, говорившего, что вся русская литература вышла из одной книги — «Шинели» Гоголя.
Среди английских пристрастий Хемингуэя первенство должно быть отдано Киплингу. Критик Эдмунд Уилсон, один из наиболее серьезных знатоков творчества американского писателя, считал, что автор «Маугли» оказал на него даже большее влияние, чем его соотечественники. В биографиях Хемингуэя и Киплинга было немало точек соприкосновения: ранний дебют на поприще журналистики, непосредственный военный опыт, работа военными корреспондентами, страсть к путешествиям, увлечение охотой, любовь к спорту. По свидетельству близких, Хемингуэй с ранних лет «с восторгом» читал Киплинга, в его личной библиотеке было более двадцати его книг, которые он постоянно штудировал. В своих статьях, интервью, письмах он охотно называет имя Киплинга, у которого, как он настаивал, надо перечитывать «все лучшее» и учиться. Хемингуэю импонировал ясный, исполненный внутреннего динамизма стиль Киплинга. Как и Хемингуэй, автор «Маугли» был озабочен проблемами насилия, жестокости, смерти, исповедовал культ мужества перед ударами судьбы. Действие в творчестве обоих писателей развертывалось за пределами их родных стран: если Киплинг создал литературный образ Индии, то Хемингуэй сделал то же по отношению к Испании…
Хемингуэй не считал зазорным для себя использовать опыт мастеров и советовал это другим. В письме к Скотту Фицджеральду он призывает его «учиться писательскому искусству у любого, кто написал что-либо стоящее и полезное для нас». В 1933 году в письме к Арнольду Гингричу он называет тех, у кого он учился: это Джойс, Эзра Паунд, Гертруда Стайн, Шервуд Андерсон, Ринг Ларднер, Д. Г. Лоуренс.
Вот один пример подобного ученичества у Гертруды Стайн — ранний рассказ Хемингуэя «У нас в Мичигане». Явно уроками Гертруды Стайн, настаивавшей на необходимости настойчивого повторения отдельных «ключевых» слов, навеян такой пассаж, в котором Хемингуэй так описывает настроения своей героини, Лиз Коутс, прислуги «Лиз очень нравился Джим Гилмор. Ей нравилось смотреть, как он идет из кузницы, и она часто останавливалась в дверях кухни, ожидая, когда он появится на дороге. Ей нравились его усы. Ей нравилось, как блестят его зубы, когда он улыбается. Ей очень нравилось, что он не похож на кузнеца. Ей нравилось, что он так нравится Д. Дж. Смиту и миссис Смит». В одном пассаже семь раз повторен глагол «нравиться».
Конечно, следы творческой учебы, например у Ш. Андерсона, заметные у раннего Хемингуэя, не всегда проявляются столь очевидно. Существенными для Хемингуэя были не отдельные стилевые приемы, а творческие принципы больших мастеров, понимаемое в более широком плане. Известный советский писатель Юрий Олеша, вообще оставивший ряд тонких замечаний об авторе «Колокола», как-то заметил: «На дне творчества Хемингуэя виден свет Толстого». Гертруда Стайн, видимо, желая уколоть Хемингуэя, сказала: «Он кажется современным, но пахнет музеем»; она имела в виду влияние классиков, ощутимое в его манере. Но, учась у больших мастеров, Хемингуэй никому не подражал. С первых же шагов, с парижских литературных опытов, он оттачивал взятие у них отдельные приемы, создавая свой особый сплав, свой индивидуальный стиль. (Вспомним, что нечто подобное мы находим у Шекспира: не только брал готовые сюжеты, но и их гениально инсценировал. Он не изобрел ни одного собственного, только ему принадлежащего художественного приема, но отшлифовал все то, что было уже взято на вооружение его современниками — драматургами-елизаветинцами. И при этом выработал свой художественный метод, поставивший его на голову выше других.)
Работа писателя над собой не ограничивалась только литературой. Он штудировал и другие виды искусства: архитектуру, скульптуру, музыку и особенно живопись. В Париже он регулярно посещает художественные музеи, смотрит полотна художников-импрессионистов, вглядывается в их пейзажи и натюрморты. Особое восхищение вызывает у него Сезанн. В книге «Праздник, который всегда с тобой» он свидетельствует: «Живопись Сезанна учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь. Я учился у него очень многому, но не мог объяснить, чему именно. Кроме того, это тайна». Образы искусства, ассоциации, с ним сопряженные, пронизывают тексты его произведений. С тех пор как я познакомился с полотнами художников, я стремился учиться у них», — говорил Хемингуэй. Особенно часто встречаются у него имена Босха, Брейгеля, Эль Греко, Гойи, но чаще всего Сезанна. Интересовался и авангардистским искусством: в одном из ранних очерков писал, что, глядя из окна самолета на землю, он начинает понимать кубистов.
Глава четвертая
Рождение мастера
1
Интенсивное чтение и общение с литературными авторитетами Хемингуэй сочетал с писательской работой. К исходу 1923 года у него уже был готов первый сборник рассказов, и в ожидании его выхода он трудился над новыми новеллами. Как раз в это время в начале 1924 года в Париже возник «малый журнал» под названием «Трансатлантик ревью». Его редактором был уже упоминавшийся Форд Мэдокс Форд, который сделал Хемингуэя своим бесплатным помощником. В обязанности Хемингуэя входило чтение рукописей и подготовка их к печати. Когда осенью 1925 года Форд Мэдокс Форд уехал в США читать лекции, Хемингуэй заместил его на посту редактора журнала. Он использовал это время для того, чтобы продвинуть в печать произведения своих друзей, молодых американцев, живших в Париже. В этом журнале Хемингуэй напечатал и два своих рассказа — «Доктор и его жена», «Кросс по снегу», а также очерк памяти Джозефа Конрада. Хемингуэй всегда читал Конрада с увлечением и защищал от нападок литературных снобов.
Сотрудничал он и в другом «малом журнале» «Куотер», который возглавлял его приятель литератор-ирландец Эрнст Уолш. Там были напечатаны его рассказы «На Биг Ривер», «Непобежденный». В это время Хемингуэй стал уже своим человеком в художественных кругах Парижа. Его обаяние, дружелюбие и остроумие привлекли к нему внимание. О нем стали говорить как о «надежде американской литературы» еще до того, как появились его первые серьезные публикации.
А тем временем молодой Хемингуэй наращивал мускулы, появлялась уверенность в себе, закреплялись те навыки в работе, та самодисциплина, которые позднее его прославят. В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй, вообще охотно делившийся секретами своей писательской «технологии», вспоминал: «Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, и всегда останавливал работу, уже зная, что должно произойти дальше. Это давало мне разгон на завтра. Но иногда, принимаясь за новый рассказ и никак не находя начала, я садился перед камином, выжимал сок из кожуры мелких апельсинов прямо в огонь и смотрел на голубые вспышки пламени. Или стоял у окна, глядел на крыши Парижа, и думал: «Не волнуйся. Ты прежде писал, напишешь и теперь. Тебе надо написать только одну настоящую фразу… Самую настоящую, какую ты знаешь» (IV, с. 402). Придерживался он и некоторых других. заповедей: избегал красивостей, словесных украшений, стремился начинать повествование с простой, ясной фразы. Прекращал писать в тот момент, когда дело не спорилось, отключался от работы, читал, думал о чем-то другом, чтобы на следующий день вернуться к рукописи со свежими мыслями и хорошим настроением.
Наконец, в марте 1924 года увидел свет сборник Хемингуэя «В наше время» (название было набрано прописными буквами, как, впрочем, и имя автора). Издание осуществил приятель Хемингуэя журналист Уильям Берд, знавший толк в полиграфии. В книжке было 32 страницы, тираж составил всего 170 экземпляров, зато оформили ее необычно. На обложке давался монтаж из газетных заголовков, кроме того, воспроизводился вырезанный на дереве портрет автора. Книга включала в себя 18 миниатюр, представляющих заметки корреспондента и зарисовки боя быков. Миниатюры отличались лаконичной отточенностью формы и напоминали стихотворения в прозе. После выхода этого во многом экспериментального сборника Хемингуэй начинает весьма энергично работать над новым, расширенным, измененным по структуре изданием; в течение 1924 года он пишет около десятка новелл, некоторые из которых печатает в «малых журналах», где ему платят примерно по 150 франков за рассказ объемом в 5 страниц. Что касается сборника, изданного Бердом, то Хемингуэй денег за эту книгу не поручил.
Несмотря на нужду в деньгах, Хемингуэй писал трудно и сравнительно неторопливо, каждая фраза давалась с напряжением. В этом сказывались его требовательность к себе, самокритичность и желание максимально вжиться в материал, а главное, всегда «переживать» и ясно «видеть» то, что он описывал. Позднее, в статье «Старый газетчик пишет», он так осмыслял свой опыт, в том числе и накопленный в ранние годы: «Все хорошие книги сходны в одном, они кажутся правдивее того, что происходит в действительности. Прочитав до конца, вы ощущаете, что все это случилось с вами, принадлежит вам: хорошее и плохое, восторги, печали и огорчения, люди и места и та погода, которая была тогда».
Иногда Хемингуэй писал, сидя в кафе, иногда, вооружившись синими блокнотами, карандашами и точилкой, выезжал на природу. Но при этом он отнюдь не стремился к копированию увиденного, пусть и точному. В это время его заботил вопрос, как соотносятся в творчестве реальные наблюдения и вымысел, воображение. Он считал, что писателю следует постоянно изучать и наблюдать жизнь, но при этом что-то домысливать, додумывать, фантазировать. Без богатого воображения не может быть подлинного художника.
Для нового сборника Хемингуэй работал над новеллами («Индейский поселок», «Доктор и его жена» и др.), в центре которых находился «сквозной» образ Ника Адамса, в котором, как нетрудно было заметить, угадывались черты самого писателя. И все же при всей «похожести» его на этого и некоторых других героев их нельзя полностью отождествлять. Размышляя над образом Ника Адамса, молодого человека, стремящегося стать писателем, Хемингуэй, в сущности, формулировал и собственные взгляды на природу литературного труда. «…Ник в рассказах никогда не был самим автором, — писал Хемингуэй. — Конечно, он никогда не видел, как индианка рожала ребенка. И поэтому в рассказе это получилось хорошо. Он видел рожавшую женщину на дороге в Карагач и пытался помочь ей. Вот как это было в действительности… Ник хотел стать великим писателем. Он был убежден, что добьется своего…»
2
Между тем первые две маленькие книжечки Хемингуэя «Три рассказа и десять стихотворений» и «В наше время» были тепло встречены; это давало молодому писателю уверенность, что он на верном пути. Особенно вдохновляющей была для него рецензия в октябрьском номере журнала «Дайэл» («Циферблат») под названием «Гравюры мистера Хемингуэя», принадлежащая перу Эдмунда Уилсона (1895–1972). В дальнейшем Уилсон стал одним из наиболее авторитетных в США критиков и литературоведов, с которым в дальнейшем Хемингуэй не раз встречался и переписывался.
Уилсон не считал его стихи значительным явлением, зато Хемингуэй-прозаик произвел на него сильное впечатление. Критик поставил его в один ряд с Г. Стайн и Ш. Андерсоном как художника, развившего в себе особую способность в использовании простого языка для передачи «глубоких переживаний и сложных душевных состояний». «Это — отчетливо американское течение в прозе», — добавлял рецензент. Уилсон сравнил описания боя быков с «сухой остротой и изяществом», которые отличают литографии Гойи. Он считал, что сборник содержит «больше художественных достоинств, чем что-либо написанное о войне в американской литературе».
В письме к Эдмунду Уилсону Хемингуэй сообщал о том, как планируется им новое издание сборника, который имел несколько необычную структуру. Этот свой оригинальный замысел он объяснял следующим образом: «Заканчиваю книгу, состоящую из 14 рассказов, а между рассказами — главки из книги «В наше время». Задумано так для того, чтобы нарисовать общую картину, соединяя это с исследованием ее в деталях. Это нечто подобное тому, как если, вы смотрите на что-либо, скажем, на проплывающий берег, невооруженным глазом, а затем начинаете разглядывать его с помощью бинокля с 15-кратным увеличением».
Эта книга под названием «В наше время» вышла в Нью-Йорке в издательстве Бони и Ливрайт в октябре 1925 года (это было то самое издательство, в котором в 1919 году увидела свет книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир»). На суперобложке сборника воспроизводились хвалебные комментарии Джона Дос Пассоса, Уолдо Фрэнка, Гилберта Селдеса и других. Однако тираж был невелик — 1335 экземпляров.
Книга была оригинально построена. Она состояла из пятнадцати новелл, заключенных в своеобразную «рамку». Книга-открывалась заставкой «В порту Смирны», рисующей трагическую картину эвакуации греков из порта, и заключалась своеобразным эпилогом, названным «L’envoi», зарисовкой греческого короля, приготовляющегося к бегству из своей страны. Рассказы, в свою очередь, прослаивались «вставками», «интерлюдиями», очень лаконичными и выразительными. Написанные в нарочито бесстрастной, протокольной манере, они напоминали о войне, насилии, жестокости, творящихся в «большом мире»; благодаря им основное ядро сборника, новеллы, повествующие о частных, конкретных эпизодах, включались в широкий социальный контекст современности. Получился не просто сборник новелл, а новеллистический цикл. История литературы, как известно, знает немало примеров блистательной циклизации новелл, скомпонованных по определенному жанрово-тематическому, стилевому признаку; вспомним «Декамерон» Бокаччо, «Назидательные новеллы» Сервантеса, «Записки охотника» Тургенева, «Дублинцы» Джойса.
Непосредственным предшественником все же считается упоминавшийся сборник «Уэйнсбург. Охайо» (1919) Шервуда Андерсона (1876–1941); именно с этим автором нередко сопоставляли Хемингуэя его интерпретаторы. Новеллы Андерсона образовывали внутреннюю цельность, присущую всему циклу, благодаря общему месту действия, каковым являлся захолустный провинциальный городишко Уэйнсбург, «сквозному» герою, начинающему журналисту Джорджу Уилларду, а также особому, тонко переданному настроению, окрашивающему эти новеллы.
Единство сборнику «В наше время» придавала тема войны, так или иначе присутствовавшая в большинстве «интерлюдий» и новелл. В ряде «интерлюдий» возникали эпизоды, связанные с событиями первой мировой войны и греко-турецкого конфликта. Например, вторая глава-«интерлюдия» открывалась сценой исхода греческого населения. Легко заметить, что перед нами «сгущенное» описание, выросшее из упоминавшегося очерка Хемингуэя «Беженцы из Фракии». В книжном варианте писатель «убирает» большинство определений, присутствовавших в газетной корреспонденции. В других «интерлюдиях» также возникали трагические сцены: убийство, совершенное гангстерами (глава 9), сцены боя быков (главы 10–14), упоминавшаяся сцена повешения преступника Кардинеллы (глава 15).
Новеллы, составляющие сборник, цементируются во многом автобиографичным образом Ника Адамса, мальчика, отрока, пробующего перо писателя, «лирического героя» Хемингуэя. В фокусе писательского внимания — узловые моменты в жизни Ника Адамса, процесс его возмужания, столкновения с трагическими сторонами действительности. В первых пяти новеллах («Индейский поселок», «Доктор и его жена», «Что-то кончилось», «Трехдневная непогода», «Чемпионат») действие относится к довоенной поре: мы встречаем здесь юного Ника Адамса, его приятелей, отца, погружаемся в мир мичиганской природы: во всем этом легко угадываются обстоятельства детства и отрочества писателя. В шестой «интерлюдии» Ник уже на фронте, по-видимому, в Италии; там Ника и его друга Ринальди ранило и оба они, по словам Ника, «заключили сепаратный мир». Здесь одно из тех звеньев, из которых позднее будет выстроен роман «Прощай, оружие!».
Затем на некоторое время Ник Адамс исчезает из поля зрения. Герой новеллы «Дома» — Гарольд Кребс, ветеран войны, вернувшийся в родные, места, чувствующий себя душевно опустошенным и не находящий места в мирной жизни. Здесь, а также «В очень коротком рассказе» намечалась важная для писателя тема «потерянного поколения». Послевоенная действительность, фигуры американцев, кочующих по отелям Европы, одиноких, неприкаянных, «чужих», возникают в таких новеллах сборника, как «Мистер и миссис Элиот» и «Кошка под дождем». Последняя по праву относится к шедеврам хемингуэевского новеллистического искусства: похоже, в ней выверено каждое слово, значима каждая деталь и особенно ощутим несущий большую смысловую нагрузку «подтекст». Психологически убедительны вся гамма отношений американца и его подруги и то душевное неблагополучие молодой женщины, которая истосковалась по теплу и ласке.
Начиная с двенадцатой новеллы «Кросс по снегу», Ник Адамс, вернувшийся с войны, снова появляется на страницах сборника. Хемингуэй показывает события, казалось бы, совсем заурядные, увиденные в жизни, а потому субъективно окрашенные, и в то же время данные максимально объективно. Сам Хемингуэй любил и ценил предпоследнюю, четырнадцатую новеллу сборника. О Нике Адамсе, отправляющемся за город с котомкой за плечами, бегло сообщалось, что он пробует писать. В новелле отсутствовал сюжет, событийный материал; в центре находился герой, погруженный в природу, которая буквально сверкала всеми красками: ручей, трава, излучавшие цвета и запахи, в их первозданной свежести, с жадностью воспринимаемые Ником Адамсом. Здесь, казалось бы, в обычном, проявлялось психологическое мастерство Хемингуэя, его безошибочная интуиция и наблюдательность. Писатель не «подсказывал» читателю, каково душевное состояние его героя, он давал почувствовать это через внешние приметы. Здесь угадывается его творческий методологический принцип. Так остро мог воспринимать красоту мира тот, кто соприкоснулся с войной, со смертью, с кровью, с грязью и ужасом окопов. И это настроение, жадный интерес к жизни передавались читателю.
3
Сборник «В наше время» сыграл важную роль в судьбе писателя, вышедшего на широкую дорогу творчества. Он как бы давал ключ ко многим темам, мотивам, образам его зрелого мастерства. В 1930 году Хемингуэй переиздал сборник с небольшими изменениями. Сборник был замечен критикой, хотя реакция на него не была однозначной. Автора огорчило отношение к его первенцу родителей, которые были «шокированы» книгой, считали, что сын «опозорил» их, поскольку в «Очень коротком рассказе», например, говорилось, что герой заболел дурной болезнью. Пуританские чувства родителей были уязвлены. Стремясь их переубедить, Хемингуэй в письме к отцу объяснял свою эстетическую позицию: «Я стремлюсь во всех своих рассказах передать ощущение подлинной жизни, не описывать ее, а запечатлевать ее истинную сущность. И сделать это так, чтобы, читая, вы испытывали то, что происходит. Вам не удается добиться этого, если вы не покажете дурное и безобразное, так же как и прекрасное… Жизнь следует изображать с разных сторон — и в трех и, если возможно, в четырех измерениях».
Сборник отчасти из-за малого тиража не стал популярной книгой у широкого читателя; зато он удостоился лестных отзывов критики и коллег. Рецензенты отмечали оригинальность манеры и свежесть восприятия. Соотечественник Хемингуэя Уолдо Фрэнк, приобретший известность как романист, философ и культуролог, писал: «Ни разу за достаточно длительный период не испытывал я столь вдохновляющего воздействия, прочитав книгу молодого американского автора. Мистер Хемингуэй умеет писать. Его рассказы подобны грубоватым и горячим кускам жизни». Очень высоко отозвался о сборнике и Шервуд Андерсон. Однако Хемингуэю досаждали те критики, которые не уставали напоминать ему о том, что он далеко не оригинален, что в его прозе (как мы об этом писали) заметны следы влияния Гертруды Стайн, а отчасти и Шервуда Андерсона. В то же время молодой писатель критически относился к своим учителям, в частности к Шервуду Андерсону. Андерсон был блистательным новеллистом; менее удавалась ему крупная романная форма.
Роман Ш. Андерсона «Темный смех» (1925) с его рыхловатой композицией был с неодобрением воспринят в литературных кругах. Это дало повод Хемингуэю написать на него пародию, которую он назвал по-тургеневски: «Вешние воды». В центре повести — два спившихся неврастеника, питомец Гарварда Скриппс О’Нил и ветеран войны Йога Джонсон, которые претерпевают разные странные и смешные неприятности в своих взаимоотношениях с женщинами. При этом Хемингуэй комически обыгрывает пристрастие Шервуда Андерсона к изображению всякого рода болезненных психологических «комплексов», равно как и его склонность к ритмизированной прозе. Ирония Хемингуэя прозрачна: первая часть повести называется «Красный и темный смех», что вызывает в памяти название романа Андерсона. Последняя, четвертая часть называлась несколько витиевато: «Исчезновение великой расы, и воспитание и порча американцев»; читатель легко угадывал намек на книгу Г. Стайн «Воспитание американцев».
Выход повести вызвал нарекания в адрес Хемингуэя со стороны Андерсона и Стайн, которые считали, что молодой автор проявил по отношению к ним неблагодарность. Хемингуэй же никогда не отличался склонностью к дипломатическому языку и высказывал без обиняков все, что он думал, самым близким людям, что нередко портило их отношения. Однако сама повесть отнюдь не была значительным произведением. Интересно, что Хемингуэю удалось напечатать ее в одном из крупных издательств США «Скрибнере». В этом ему помог главный редактор издательства Максуэлл Перкинс (1884–1947). Этот одаренный редактор, тонкий ценитель литературы, «открыватель талантов», сыграл в дальнейшем благотворную роль в творческой судьбе Хемингуэя (а также и ряда других американских писателей, например Скотта Фицджеральда, Томаса Вулфа, Эрскина Колдуэлла). Почти семьдесят произведений американских авторов имеют посвящения Перкинсу.
С первых же шагов Перкинс распознал редкий талант у Хемингуэя, он даже питал к нему почти отцовские чувства (может быть, потому, что у него самого было пять дочерей). Позднее Хемингуэй посвятил Перкинсу свою знаменитую повесть «Старик и море». Повесть «Вешние воды» не произвела на Перкинса особого впечатления.
Он взял ее с условием, что Хемингуэй передаст в его издательство следующий роман, над которым работал, расчет Перкинса оказался точным. Именно с этого романа «И восходит солнце» началась широкая слава Хемингуэя.
4
К этому времени закрепился привычный для писателя определенный ритм, уклад жизни. Утренние часы он проводил за письменным столом. Но немало энергии отдавал спорту, развлечениям, домашним заботам. Сын Бэмби рос здоровым крепышом и уже изъяснялся на трех языках; отцу нравилось с ним нянчиться. Иногда Хемингуэй выезжал в Швейцарию, где катался на горных лыжах и санях. В Париже он охотно посещал скачки, велосипедные гонки и поединки боксеров. Вечерами засиживался с друзьями в кафе, спорил о делах, житейских и литературных. Внешне казалось, горячий болельщик и любитель застолий, он мало чем отличался от некоторых своих соотечественников, занимавшихся в Париже веселым времяпрепровождением. Но еще Гертруда Стайн обратила внимание на глаза Хемингуэя — не только интересные, но интересующиеся, необычайно внимательные. Он все замечал, все оценивал с профессиональной, писательской точки зрения. Это была внешне незаметная, но непрерывная работа ума…
Летом 1925 года состоялась его новая, третья по счету поездка в Испанию. Она оказалась исключительно плодотворной в творческом отношении, помогла окончательно созреть замыслу его первого романа. На этот раз в Испанию отправилась целая компания. Помимо Хемингуэя и Хедли, в нее входили американские литераторы Гарольд Леб и Джон Стюарт Огден, а также приятель Хемингуэя по годам юности в Мичигане Билл Смит. Была с ними и молодая красивая женщина Дафф Туисден; между ней и Хемингуэем начался роман.
Некоторым из них довелось позднее узнать себя в героях романа «И восходит солнце».
Все приехали Памплону, где, как и годом раньше, Хемингуэй стал свидетелем и участником экзотического, яркого и шумного народного празднества — фиесты, а также зрителем боя быков. Его героем был 19-летний матадор Каэтано Ордоньес, выступавший под именем Ниньо де ла Пальма. Сейчас в Памплоне стоит памятник Хемингуэю; ведь поездки в этот город дали ему материал для создания незабываемых «испанских» глав его романа «И восходит солнце».
Компания туристов побывала также в Валенсии, Мадриде, других городах. Затем она распалась, ее участники разъехались в разные стороны. Хемингуэй вернулся в Париж и засел за роман, первые наброски которого были сделаны в Испании. Он так вспоминал о своем состоянии в то время: «Когда я принимался писать, то совершенно не знал, как следует работать над романом: я писал слишком стремительно и каждый день заканчивал работу только тогда, когда мне уже нечего было сказать». Первый вариант романа был написан за шесть недель, к концу сентября 1925 года, но, по зрелому размышлению, удачным Хемингуэй его не считал. Переработка же заняла около пяти месяцев: Хемингуэй перекраивал рукопись, шлифовал стилистически, сократив попутно примерно на одну треть. В апреле 1926 года он, наконец, сдал ее в производство.
Тем временем душевное состояние Хемингуэя отнюдь не было безмятежным. В жизнь писателя вошла новая женщина: это — Полин Пфейфер, молодая богатая американка, дочь промышленника, президента компании по производству пива в Арканзасе. Вместе со своей сестрой Вирджинией она жила в Париже, где работала редактором местного издания журнала «Воуг» («Мода»): миниатюрная, изящная, всегда со вкусом одетая, умеющая поддержать светский разговор, выпускница университета Миссури, она внешне напоминала некоторые модели, рекламируемые ее изданием. В Париж, как считали некоторые, Полин приехала, чтобы найти подходящего мужа. Вскоре она вместе с сестрой стала бывать в доме Хемингуэя, выгодно конкурируя с Хедли, скромно одетой и поглощенной своими семейными заботами. Эту ситуацию Хемингуэй художественно воспроизвел в посмертно изданном романе «Райский сад» (1986).
Хедли не оставалась в неведении и однажды откровенно спросила Эрнеста, любит ли он Полин. Как человек прямой, не привыкший лгать, Хемингуэй признался. Его семейная жизнь дала очевидную, трещину. Через некоторое время он по просьбе Хедли переехал в отдельную квартиру, которую ему предоставили друзья Джеральд и Сара Мерфи, большие поклонники его таланта. В их квартире Хемингуэй заканчивал роман, глубоко переживая разрыв с Хедли; по ночам он не мог сдержать слез, называл себя «подлецом». Возможно, разрыв с Хедли уже с высоты прожитых лет Хемингуэй осознавал как ошибку; в книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой» он пишет о парижских годах и первой жене с теплым, ностальгическим чувством… Оформив развод с Хедли, писатель постарался максимально обеспечить материально ее и сына, выделив им все доходы от романа «И восходит солнце».
5
…Наконец, осенью 1926 года появился долгожданный первый роман Хемингуэя «И восходит солнце». Он сразу же стал бестселлером и вызвал восторженные оценки критиков в разных странах, в том числе в Англии. Там он появился под названием «Фиеста». Между тем очевидно, что правомерен заголовок, данный самим писателем и восходящий к Экклезиасту, эпиграф к которому объясняет философский замысел Хемингуэя. Там есть такие слова: «Род приходит, и род проходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». Другой эпиграф к роману — это оброненное Гертрудой Стайн в разговоре выражение, ставшее крылатым: «Все вы — потерянное поколение». Оно оказалось удачной, «хрестоматийной» характеристикой тех людей, которые прошли через мировую войну и ощущали себя в послевоенной Европе ущербными и внутренне опустошенными. Таковы герои романа Хемингуэя.
В романе «И восходит солнце» Хемингуэй выступает уже как зрелый мастер. Перед нами типичные для него характерология, среда и, конечно, столь прославленная в дальнейшем стилевая манера. В романе чувствовалась рука новеллиста: он словно бы дробился на отдельные эпизоды, связанные сюжетом, в котором главенствующую роль играли разнообразные отношения между героями романа. Художественное внимание концентрировалось не на событиях, не на коллизиях, не столь уж захватывающих, а именно на обрисовке группы действующих лиц.
Героем-рассказчиком был парижский журналист американец Джейк Барнс, лицо во многом автобиографическое. Он, как и большинство персонажей романа, несущих отчетливые черты «потерянного поколения», — участник войны. Там Джейк получил тяжелое ранение, в результате которого лишен возможности физической любви. Это определяет всю горечь его взаимоотношений с Брет Эшли, 34-летней англичанкой, с которой он познакомился в госпитале. Элегантная, красивая, «магнетическая» Брет пользуется постоянным успехом. Но внутренняя тоска гложет ее, она откровенно прожигает жизнь в ресторанном угаре и удовольствиях. Единственный, кто ей по-настоящему дорог, — это Джейк Барнс, их чувство взаимно, но из-за его травмы их счастье невозможно. Среди ее поклонников — стареющий граф, сорящий деньгами, и Роберт Кон, состоятельный американец, малоодаренный начинающий писатель, человек эгоистического склада, погруженный исключительно в свои проблемы. Бросив свою любовницу, он, ко всеобщему раздражению, навязчиво ухаживает за Брет, у которой есть жених — англичанин Майкл Кемпбелл. Главный герой и его приятели погружены в водоворот столичной жизни, лихорадочно ищут удовольствий и развлечений: вино, рестораны, танцы. Кажется, перед нами беззаботные прожигатели жизни. Но все гораздо, как мы увидим, сложнее.
По сравнению с «парижскими» эпизодами романа, во второй, «испанской» части атмосфера меняется. Джейк Барнс вместе со своим другом Биллом Гортоном, также литератором, пребывающим под влиянием винных паров в постоянно сумрачном настроении, отправляется на народное празднество — фиесту в Испанию. По дороге они занимаются ловлей форели в Бургете, в Памплоне становятся участниками шумного народного карнавала, фиесты, наблюдают бой быков; там к ним присоединяются Брет Эшли со своим женихом Кемпбеллом, за которыми неотступно следует Роберт Кон. Сложные любовные коллизии усугубляются тем, что Брет сходится с девятнадцатилетним матадором красавцем Педро Ромеро. Вместе с окончанием фиесты герои романа разъезжаются в разные стороны. Джейк заезжает за Брет в Мадрид, чтобы вместе отправиться в Париж. Щемящей, грустной нотой заканчивается роман. «Ах, Джейк, — говорит Брет. — Как бы нам хорошо было вместе».
6
Некоторые критики увидели в романе эстетизацию чувственных удовольствий, они сводили его содержание к апологии четырех «б»: «бутылка-бокс-бой быков».
В романе действительно много развлекаются, пьют, кажется, читателя способен ошеломить этот калейдоскоп реалий, касающихся ресторанных деликатесов и сортов вин. Но это только внешняя сторона, за которой скрывается большая драма целого поколения, травмированного войной. Физическое увечье Джейка Барнса становится значительным символом, а вся линия Джейка и Брет подчеркивает важную мысль автора о невозможности, недостижимости счастья. В то же время сам Джейк достаточно критично относится к тем, кто прожигает, жизнь, он значительно глубже, умнее этих людей.
Самый контраст Парижа, и Памплоны значителен. «Красивая жизнь» хемингуэевских героев — это не подлинное, а эфемерное, призрачное существование. Зато какой богатой, естественной, гармоничной видится народная стихия, одним из проявлений которой становится фиеста! Вечной ценностью остается природа: ее незабываемые картины, испанские ландшафты, горы, долины, вечнозеленые леса на кручах, звенящие ручьи — все это блистательно передано Хемингуэем.
Некоторые критики относят «И восходит солнце» к наиболее художественно совершенным созданиям Хемингуэя. В нем писатель уверенно демонстрирует щедрую палитру хорошо отработанных приемов, будь то точные описания героев, «рубленые диалоги», за которыми скрываются напряженные невысказанные чувства; отличные описания природы; ставшие хрестоматийными сцены рыбной ловли и боя быков. Хемингуэй владеет читательским вниманием не благодаря захватывающему сюжету, а с помощью столь точных и наглядных описаний, что они позволяют увидеть и ощутить происходящее, словно все это развертывается на наших глазах.
Уильям Фолкнер, соперник и антипод Хемингуэя, так писал о нем: «Он рано в жизни обрел метод, с помощью которого писал, он никогда не уклонялся от этого метода, он отлично ему служил, и он блистательно его применял». Фолкнер считал, что Хемингуэй все делал «превосходно, первоклассно». Однако мир его прозы был «узок». Думается, что Фолкнер был здесь не во всем прав: Хемингуэй не просто повторял уже найденные приемы. Он их совершенствовал и обогащал. Расширялась и сфера, им изображаемая.
С романа «И восходит солнце» начинается международная известность писателя. Это было первое произведение Хемингуэя, не только оцененное знатоками, но и ставшее достоянием широкого читателя. Книга относилась к тем редким произведениям, которыми не просто зачитывались; она воздействовала на умонастроения читателей, а героям Хемингуэя старались подражать в манере говорить, в поведении. Свидетельствуют, что Брет Эшли сделалась чуть ли не эталоном женского «шарма» в глазах целого поколения студенток американских колледжей…
Правда, не все уловили замысел Хемингуэя. Кое-кто готов был отождествить нравственную позицию писателя и его героев. Не одобрили романа родители Хемингуэя… По свидетельству младшего брата писателя Лестера, их реакция напоминала возмущение обитательниц женского монастыря, которые впервые попали в заведение сомнительной репутации. В родительском доме в Оук Парке о романе говорили с осуждением, называли его не иначе как «эта книга».
«Автобиографизм», присущий творчеству Хемингуэя, сказался в этом романе, с особой отчетливостью. Вряд ли участники веселой компании, развлекавшейся во время фиесты в Испании летом 1925 года, могли предполагать, что они будут увековечены в романе. Прошли годы, их стали интервьюировать как прототипов романа; появилось специальное исследование Бертрама Сарасона «Хемингуэй и «И восходит солнце», в которое вошли тщательные разыскания, посвященные тому, насколько облик и биографии этих людей совпадают с образами, вышедшими из-под пера Хемингуэя. Ведь еще когда роман «И восходит солнце» увидел свет, то в Париже гуляла шутка: книга Хемингуэя — столь точная копия жизни, что главные герои рыщут по городу в поисках автора, чтобы вызвать его на дуэль…
В Джейке Барнсе видели самого Хемингуэя; как и автор романа, он писатель, прошел воину, а главное, именно он носитель той достаточно критической точки зрения, которая позволяет представить в истинном свете других персонажей. Прототипом леди Брет Эшли считается Дафф Туизден, высокая, красивая, пышноволосая шотландка, «роковая» женщина, чар которой не избежал и автор романа. Его чувство, по-видимому, не было безответным. Любовь к женщине нередко служила источником вдохновения для Хемингуэя в пору написания его лучших книг. Агнес фон Куровски была вдохновительницей романа «Прощай, оружие!», Марта Геллхорн, третья жена писателя, — романа «По ком звонит колокол», молодая итальянка Андриана Иванчич — повести «Старик и море». Дафф Туизден, в отличие от Полины Пфейфер, не решилась, однако, вторгнуться в семейную жизнь Хемингуэя.
Наиболее «пострадавшим» в романе оказался Гарольд Леб, который считается прототипом одного из наименее симпатичных персонажей — Роберта Кона. Известная неприязнь, сложившаяся между Лебом и Хемингуэем, видимо, объяснялась и тем, что они выступали как соперники в любви. Гарольд Леб принадлежал к богатой семье миллионеров, по материнской линии был родственником Ротшильдов; он окончил Принстонский университет и начинал как весьма посредственный литератор, что вызывало иронию у Хемингуэя. В книге воспоминаний «Как это было» Леб предложил свою версию взаимоотношений между участниками поездки в Памплону и признал, что Хемингуэй запечатлел его в образе Кона.
Однако было бы неправомерным искать зеркальное соответствие между прототипами и художественными образами Хемингуэя. Если он и писал отдельные портреты с живой натуры, то вносил свое, фантазировал, а не стремился к безусловному сходству. Джейк Барнс — это лишь в определенных моментах сам Хемингуэй. В истории Брет Эшли упоминаются биографические факты, которых никогда не было у Дафф Туизден. Билл Хортон напоминает не только друга Хемингуэя Билла Смита, но и другого участника памплонской поездки — Дональда Огдена Стюарта, впоследствии сценариста в Голливуде.
В романе «И восходит солнце» Хемингуэй продемонстрировал свой подход к художественному воплощению жизненного материала. Это одна из его творческих вершин. Многие исследователи справедливо относят роман к хемингуэевскому «канону», т. е. к тем его ставшим классическими произведениям, в которых с наибольшей отчетливостью проявились его оригинальность и мастерство.
Глава пятая
На исходе двадцатых
1
Вторая половина 20-х годов была для Хемингуэя плодотворной. Он интенсивно работал, несмотря на тяжелые личные переживания. В октябре 1927 года появляется его второй сборник рассказов «Мужчины без женщин», причем в первые полгода было продано 19 тысяч экземпляров. Некоторые из вошедших в сборник четырнадцати новелл ранее печатались в таких авторитетных журналах, как «Атлантик мансли», «Скрибнере мегезин» и «Нью рипаблик». Окончательная работа над сборником шла в небольшом швейцарском местечке Гстааде; в это время издатели попросили в срочном порядке дать сборнику заголовок, а писатель никак не мог его придумать.
В письме Скотту Фицджеральду, своему другу, талантливому писателю, он сообщал, что обшарил все местные книжные магазины в поисках Библии. Из нее он надеялся извлечь подходящее название, как это нередко делают некоторые литераторы. Но Библии нигде не оказалось. В магазинах продавались только сувениры — деревянные медвежата, и писатель даже собирался, в шутку, конечно, озаглавить свой сборник «Маленький деревянный медвежонок», чтобы послушать потом, как «господа критики начнут его истолковывать».
Наконец, местный священник, куда-то отлучавшийся, одолжил Хемингуэю свой экземпляр, и писатель начал его штудировать. Однако ничего подходящего не обнаружил, ибо его предшественники-литераторы, особенно Киплинг, «уже заглядывали туда и выгребли все подходящие фразы». Тогда он остановил свой выбор на названии «Мужчины без женщин», придуманном им самим. Этот заголовок, как объяснял сам Хемингуэй, указывал на господствующий в сборнике суровый дух — следствие отсутствия «облагораживающего женского влияния» в результате «спортивной тренировки, дисциплины, смерти или по другим причинам». В действительности в сборнике было немало «брутальных» сцен, там действовали гангстеры, боксеры, матадоры, охотники, повествовалось о жизненных трагедиях и катастрофах. Некоторые новеллы сборника стали «хрестоматийными», например «Непобеждённый», «В чужой стране», «Убийцы», «Белые слоны», «Канарейку в подарок».
В отличие от сборника «В наше время» с его отчетливо выраженным автобиографическим элементом, на этот раз Хемингуэй был более объективен. Однако и здесь в основе почти каждого рассказа лежал какой-то реальный эпизод, свидетелем которого был автор. Например, в основу знаменитого рассказа «Убийцы» положены конкретные факты, имевшие место в Чикаго. Два гангстера, принадлежавшие к бандитскому синдикату Аль Копоне, застрелили боксера по имени Нерони, не выполнившего какие-то условия сделки. Мир, в котором пребывают хемингуэевские герои, безжалостен и трагичен. В рассказе два гангстера, профессионалы своего грязного ремесла, с какой-то устрашающей деловитостью и хладнокровием собираются совершить «обыкновенное убийство». Правда, писатель оставляет читателю догадываться, почему должны «убрать» Оле Андерсона, боксера, который покорно ожидает своей участи. В рассказе заметна известная недосказанность. Сам же писатель, говоря о замысле «Убийц», пояснял, что гангстеры преследуют Андерсона, потому что тот не выполнил обещания, не проиграл, как было оговорено, а выиграл бой, чем нарушил законы бандитского мира.
Известный английский писатель Хью Уолпол сказал: «У нас в Англии среди здравствующих мастеров короткого рассказа нет равного автору «Убийц», впрочем, то же относится и к Америке».
Рассказ «Убийцы» дважды экранизировался, причем особенно удачно в 1946 году, когда в одной из главных ролей выступил Берт Ланкастер (он знаком советскому кинозрителю как ведущий в фильме «Неизвестная война»). Хемингуэй, резко отрицательно оценивавший большинство экранизаций своих произведений, считал эту кинематографическую версию его рассказа удачной.
Между прочим, ситуацию в рассказе «Убийцы» по-своему разъясняет другой рассказ, приоткрывающий тайны профессионального спорта, — «Пятьдесят тысяч». Его герой, немолодой профессиональный боксер Джек Бреннан, уставший, изработавшийся до последней степени, проводит свой последний бой с молодым Уолкоттом; зная, что ему не выиграть, ставит на тотализаторе на своего соперника, чтобы заработать крупную сумму. Хозяева же тотализатора, в свою, очередь, пытаются перехитрить Бреннана, сговорившись с его соперником. В конце концов Бреннан проводит недозволенный прием, судьи его дисквалифицируют, Уолкотта объявляют победителем и, таким образом, деньги оказываются спасенными. Как обычно, писатель избегает морализации по поводу того, что «честное состязание» превращается в какой-то фарс. Он лишь дает понять, что и надувательство зрителей, и убийство человека наемными гангстерами — это нечто обычное, повседневное для американского образа жизни.
Писатель знал не только нравы спорта, но и его «технологию». Хемингуэй, который сам не раз как любитель, конечно, появлялся на ринге, прекрасно стрелял, рыбачил, водил, машину и катер, представлял все эти виды деятельности в их конкретности. И точность деталей придавала рассказу о поединке боксеров волнующую достоверность.
Писателя всегда привлекали проявления мужества и стойкости. Своеобразный зачин сборнику придавал открывавший его рассказ «Непобежденный». Как и в рассказе «Пятьдесят тысяч», его герой — старый спортсмен, матадор Мануэль Гарсиа. Однако, в отличие от Джека Бреннана, это герой в подлинном смысле этого слова, вызывающий писательские симпатии. Мануэль Гарсиа еще не оправился от полученной раны, но он выходит на арену не только заработка ради, но еще и потому, что он — своеобразный артист, мастер своего дела, и для него выступление — это искусство, пусть и сопряженное со смертельным риском. Перипетии боя даны писателем в разных ракурсах, он не упускает того, как ведет запись циничный репортер, как реагирует публика, как держится на арене бык; со всеми этими подробностями рассказ приобретает большое остродраматическое звучание. Мануэлю удается сразить быка, но матадор попадает на рог, получает тяжелое ранение. Придя в себя на операционном столе, он не разрешает отрезать свою косичку, мулету матадора. С упрямством он повторяет, что «был в форме», «блестящей форме». Он не поступился своим достоинством, ушел со сцены непобежденным!
Мануэль Гарсиа — одна из ключевых фигур творчества Хемингуэя. Он предлагает формулу поведения в экстремальных обстоятельствах. И ей следуют другие хемингуэевские «герои кодекса». Они пребывают в жестоком мире. Им неуютно и в личных, семейных отношениях. Несчастны безымянные герои знаменитой новеллы «Белые слоны»; особенно плохо молодой женщине, которую ее спутник лишает права быть матерью. А чего стоит американка из другого известного рассказа «Канарейку в подарок», непоколебимо уверенная в том, что она — идеальная заботливая мать, а американцы — лучшие в мире мужья. Разбив счастье дочери, не позволив ей выйти замуж за иностранца, она теперь, дабы смягчить ее горе, везет в подарок певчую птицу, канарейку. В рассказе сквозит тонкая ирония, писатель акцентирует редкий снобизм и глупость этой женщины. Образ американки высвечен в процессе беседы с героем-повествователем, его женой, которые кажутся благополучной парой. Иронический эффект усилен заключительной фразой: «Мы возвращались в Париж, чтобы начать процесс о разводе».
И в этом сборнике война продолжала напоминать о себе. В рассказе «В чужой стране» мы вновь встречаем лирического героя, фронтовика, близкого Нику Адамсу. Герой лечит раненую ногу, а вместе с ним проходит курс лечения в аппаратах, как можно догадаться, без особого успеха, итальянский майор, бывший чемпион по фехтованию, у которого усохла искалеченная рука. Он не верит посулам врача, что рука восстановится. В довершение всех несчастий, у него скоропостижно умирает жена; майор, потрясенный пережитым, настойчиво убеждает героя, что «человек не должен жениться». Семейная жизнь не спасает от травм и жестокости. В другом рассказе — «На сон грядущий» — сосед рассказчика, американец, счастливо избежавший, тяжелых ран и досрочно демобилизованный, убеждает героя, страдающего от бессонницы, что ему необходимо жениться, ибо «брак улаживает все». Это звучит крайне наивно. Герои Хемингуэя не могут уйти от войны, от памяти о ней!
В сборник был включен рассказ «Che ti dice la patria?» («О чем говорит тебе родина?»), состоящий из двух очерковых зарисовок. Делясь своими впечатлениями о поездке с другом по Италии, Хемингуэй недвусмысленно высказывает свое презрение к порядкам и нравам в фашистском государстве. Здесь — исток той антифашистской темы, которая позднее получит развитие в творчестве писателя.
Сборник рассказов Хемингуэя был уже встречен критикой как произведение признанного мастера со своим неповторимым, почерком. Такой проницательный ценитель, как американская новеллистика и критик Дороти Паркер, находил его прозаические миниатюры «воистину, замечательными», превосходящими даже его роман «И восходит солнце». В хвалебных рецензиях назывались такие привлекательные качества Хемингуэя, как искусство диалога, чувство юмора, глубокое знание и понимание описываемых людей. Правда, раздавались и неодобрительные, критические голоса. Хемингуэя, в частности, упрекали за то, что он увлечен изображением «вульгарной публики», малосимпатичных персонажей с их «жалкими мелкими катастрофами», что он утратил ясную жизненную философию, а его талант увядает. Несправедливость подобных суждений была очевидна; сборник свидетельствовал, о том, что Хемингуэй сделал шаг вперед: оттачивалось его мастерство, а тематика стала разнообразней.
В этой, да и в других книгах Хемингуэя сказалась его способность точно передавать состояние своих героев, сострадать им, чувствовать чужую боль, что определялось не только его редкой писательской интуицией, но и особенностями личной судьбы. На протяжении всей жизни он попадал в разные неприятные ситуации, получал тяжелые травмы, страдал от болезней. Это во многом объяснялось его неосторожностью, склонностью к риску и тем, что он оказывался не раз в острых ситуациях из-за своих спортивных, охотничьих и рыболовных увлечений. Дос Пассос, друживший с Хемингуэем, свидетельствовал: «Я не знал другого атлетически сложенного, крепкого мужчины, который столько времени проводил бы на больничной койке, как Эрнест Хемингуэй». Биограф писателя Джеффри Майерс даже составил схему, из которой явствовало, что не было года, когда бы Хемингуэя не преследовали как травмы, нередко тяжелые, так и серьезные заболевания. В последние годы эти неприятности участились. Джеймс Джойс, человек слабого здоровья, завидовавший спортивным качествам Хемингуэя, как-то сказал о нем: «Он крупный, крепкий крестьянин, сильный, как бык. Спортсмен. Всегда готовый прожить жизнь тех, кого он описывал. Он никогда не мог бы это передать, если бы все это физически не мог сам вынести». Своим родителям Хемингуэй признавался: «Я не могу чувствовать себя нормально, если не переношу физическую боль».
От рождения у него был не очень здоровым левый глаз. В детстве он не раз травмировался на ринге и футбольном поле, довольно долго лечился после тяжелого ранения на итальянском фронте. Осколки, оставшиеся в его теле, давали о себе знать. В бытность свою в Париже он страдал от сильных ожогов, разрыва связок на ноге, приступов малярии, перенес операцию аппендицита и т. д. Преследовали его и разнообразные внутренние болезни. В конце 1927 года ночью, когда он сажал Бэмби на горшок, ребенок случайно ткнул ему пальцем в глаз, повредил зрачок, и Хемингуэй опасался, что это может привести к потере зрения. Через несколько месяцев на него рухнула оконная фрамуга, серьезно поранив голову, что вызвало, обильное кровотечение. В госпитале Хемингуэю наложили девять пластырей, но шрам над правой бровью так до конца и не зарубцевался.
2
Между тем парижская пора жизни Хемингуэя, о которой он будет потом вспоминать с нежной ностальгией, подходила к концу. Полин ждала ребенка и хотела родить его в Америке. В марте 1928 года Хемингуэй отплывает из Ла Рошели на пароходе «Орита» и через 18 дней достигает Флориды. Оставив Париж, писатель больше уже никогда не жил в большом городе. Своим местом жительства он избирает маленький городок Ки Уэст, самую южную точку страны, расположенный на одном из небольших субтропических островов, вытянувшихся в виде цепочки, являющихся как бы продолжением полуострова Флорида. Эта гряда островов отделяла Мексиканский залив от Атлантического океана. Остров, на котором расположен Ки Уэст, имел 4,5 км в длину и 1,5 км в ширину, В 90 км от него была Гавана, в 120 км — Американский материк. Добраться до Ки Уэста можно было только с помощью парома. Население Ки Уэста колебалось в разные периоды от 10 до 25 тысяч человек.
Хэмингуэй прожил в Ки Уэсте почти 10 лет — до 1939 года, когда перебрался на Кубу. Правда, он никогда не мог подолгу находиться дома, то часто отлучался в длительную экспедицию по Африке, то выезжал в Испанию и Европу.
Дос Пассос так описывал людей и атмосферу этого городка в начале 30-х годов: «В те дни Ки Уэст действительно был островом. Это была станция погрузки угля. В гавани сновали корабли. В воздухе пахло Гольфстримом… Фабрики сигар привлекали частично кубинское, частично испанское население… В городке была пара паршивых отелей, в которых останавливались пассажиры, отправляющиеся на Кубу или куда-то в Карибское море. Пальмы и деревья перца. Тенистые улочки с некрашеными каркасными домиками немного напоминали Новую Англию». Этот мир был Хемингуэю по душе. Он с увлечением говорил одному из своих друзей: «Это лучшее место из всех, где мне доводилось бывать: цветы, деревья тамаринда, гуава, кокосовые пальмы…» В Ки Уэсте было множество салунов, злачных мест, два теннисных корта. Сначала писатель снял дом на Симонтон-стрит. В Ки Уэсте была атмосфера, способствующая работе, и Хемингуэй написал там многие свои произведения.
В Ки Уэсте Хемингуэй быстро втянулся в обычный рабочий ритм. Вставал он рано и писал три или четыре часа; затем после обеда рыбачил, вечером развлекался, отдыхал. Работа над романом «Прощай, Оружие!», начатая еще в Париже, подвигалась довольно успешно. Завершив первые сто страниц произведения, он отметил это событие приглашением друзей в Ки Уэст и веселым застольем. Он говорил, что настал едва ли не решающий момент в его жизни, когда он обязан трудиться с максимальной самоотдачей, не думая ни о деньгах, ни о мнении критики, ни о тиражах, а заботясь лишь о качестве своей прозы. Несколько лестных предложений написать рассказы для массовых журналов, соблазнявших его очень высокими гонорарами, он отклонил.
Попутно Хемингуэй совершенствовал и свое искусство рыболова, на этот раз уже на морской ниве. В одном из писем отцу он не без гордости сообщал о своих достижениях: пять тарпанов, самый тяжелый из которых весил 75 фунтов, шестьдесят морских щук, множество морских окуней, скатов, а также акул, включая людоедов. Вскоре, до наступления жары в Ки Уэст приехали родители Хемингуэя, которым он представил свою новую жену, сумевшую на них произвести самое наилучшее впечатление. Однако Хемингуэй не мог не обратить внимание на то, что отец выглядел плохо, похудел, постарел, был подавлен, хотя мать, как всегда, излучала энергию.
Хемингуэй быстро осваивался в Ки Уэсте, он легко сходился с простыми людьми, рыбаками, рабочими. Он любил расспрашивать их о жизни, профессии, интересовался деталями, все запоминал. Никто из них не знал, кто он, во всяком случае, не догадывался, что это писатель.
Шрам на лбу Хемингуэя еще не зажил, и его могли принять то за бутлеггера, то за торговца наркотиками. Среди его приятелей были Джим Салливен, владелец мастерской по ремонту моторных лодок, и Чарльз Томпсон, бывший военный, богач, хозяин магазина морских товаров, фруктовой фабрики, холодильника и целой флотилий рыболовных суденышек. Хемингуэй ходил с Томпсоном в открытое море рыбачить, пользовался книгами из его богатой библиотеки, а затем пригласил на свое первое африканское сафари (позднее он вывел его в образе Карла в книге «Зеленые холмы Африки»). Часто в Ки Уэсте у Хемингуэя гостили писатель Джон Дос Пассос и Билл Смит, школьный приятель по Оук Парку, участник войны. В Ки Уэсте бывал также и Уолдо Пирс, живописец, стажировавшийся в Париже и служивший в годы войны в санитарных частях. Хемингуэй, ценивший людей, прошедших через войну симпатизировал Пирсу, считал его одним из лучших американских художников, а также надежным другом и великодушным человеком.
В конце мая 1928 года Хемингуэй вместе с Полин навестили ее родителей в городе Пиготт в Арканзасе, после чего Полин отправилась к его родителям. В июне, находясь в Канзас сити, она родила второго сына, которого назвали Патрик. Всю вторую половину года Хемингуэй путешествовал по стране, был и на Западе, и в любезном ему Вайоминге, и в Нью-Йорке, с жадностью впитывая впечатления от встречи с родиной, которую давно не видел.
В декабре 1928 года он получил телеграмму, извещавшую его о самоубийстве отца.
В это время 57-летний доктор Кларенс Хемингуэй был тяжело болен, страдал диабетом, к тому же он попал в полосу денежных затруднений и переживал психическую депрессию. Когда отец обратился за помощью к своему брату Джорджу, человеку состоятельному, директору банка, то натолкнулся на отказ. Это и стало, по-видимому, каплей, переполнившей чашу. Брат Эрнеста Хемингуэя, Лестер, 13 лет, который находился дома из-за простуды, вспоминает, как отец пришел домой на ленч, а затем поднялся на второй этаж в спальню. В своем автобиографическом романе «Зов трубы» Лестер вспоминает, как неожиданно ему послышалось что-то, похожее на выстрел. Он поднялся в комнату, отца, которая была затемнена; отец лежал с закрытыми глазами на кровати и еще тяжело дышал. Лестер просунул руку отцу под голову и обнаружил кровь. Отец выстрелил себе в голову из пистолета 32-го калибра, который принадлежал деду писателя по отцовской линии Энсону Хемингуэю, ветерану Гражданской войны.
Смерть доктора Хемингуэя потрясла писателя. Хотя он и называл иногда этот поступок отца «трусостью»» но чувствовал также, что тот пожертвовал собой во имя семьи, чтобы помочь близким с помощью страховки выйти из материальных затруднений. После смерти отца Хемингуэй распорядился высылать постоянную сумму матери, хотя и считал, что в случившемся есть и ее вина.
Самоубийство отца будет преследовать писателя, он возвратится к этому в своих произведениях 30-х годов, например в рассказе «Отцы и дети»; в архиве писателя сохранился фрагмент, по-видимому, относящийся к этому рассказу. «В те дни все любили моего отца», — вспоминает юный герой. Его отец выбрал одинокую смерть на охоте, он хотел, чтобы близкие верили, что произошел несчастный случай. Хемингуэй вспоминает своего отца и в книге «Зеленые холмы Африки». О самоубийстве отца размышляет и Роберт Джордан в финале романа «По ком звонит колокол».
3
Придя в себя, Хемингуэй вернулся к рукописи «Прощай, оружие!». Уже около года он трудился над этим произведением, вкладывая в него всю свою душевную энергию и писательский опыт. Об истории создания этого произведения он писал в предисловии к иллюстрированному изданию 1948 года. В нем, в частности, говорилось: «Эта книга писалась в Париже, в Ки Уэсте, Флориде, в Пигготе, Арканзасе, Миссури, Шеридане, Вайоминге, а окончательная редакция была завершена в Париже, весной 1929 года… Я помню все эти события и все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге и которую сам сочинял изо дня в день» (II, с. 7–8). Работа приносила ему счастливые ощущения, ежедневно он перечитывал все с самого начала и потом писал дальше.
В романе Хемингуэй нашел столь органичную для себя тему. Как-то Фицджеральд высказал свое, огорчение, что ему не пришлось быть на войне. Отвечая своему товарищу, еще в 1925 году Хемингуэй писал: «Война — самая благодатная тема. В ней концентрируется максимум материала, действие ускоряется, случаются разнообразнейшие события. Чтобы находить их в обычных обстоятельствах, потребовалась бы целая жизнь».
Знакомство с рукописью романа убеждает, что Хемингуэй был в высшей степени самокритичен, непрерывно правил, переделывал написанное. Он сделал 32 варианта финала романа, пока не остановился на удачной концовке. Это была, по его признанию, мучительная работа. Как всегда, немало усилий было затрачено на придумывание названия. Поначалу он составил список из 34-х возможных названий, почерпнутых частично из Библии, частично из антологии «Оксфордская книга английской поэзии», но все они его не удовлетворяли. Название было найдено в стихотворении малоизвестного английского поэта эпохи Ренессанса Джорджа Пила. В письме к Арнольду Гингричу, журналисту, редактору журнала «Эсквайр», Хемингуэй размышлял: «Убежден, что пока не перестанут читать книги, название «Прощай, оружие!» будет восприниматься как отличное. «Прощай» (Farewell) — одно из самых лучших английских слов, известных мне. «Оружие» даже звучит более весомым, чем того заслуживает».
Заметим, одна из встреч советских и американских ученых, входящих в антивоенное Пагуошское движение, прошла в 1988 году в СССР под лозунгом, воспроизводящим хемингуэевский заголовок: «Прощай, оружие!».
Создавая свой роман, Хемингуэй опирался на национальную литературную традицию. Его соотечественники не раз обращались к теме войны; при этом они, как правило, осуждали ее аморальность, бессмысленность и жестокость. Стивен Крейн (1871–1900) в романе «Алый знак доблести» (1895) рисует молодого человека Генри Флеминга, который, столкнувшись с безжалостной реальностью войны, испытывает на поле боя страх, смятение. Позднее Хемингуэй включил отрывок из этого романа в свою антологию «Люди на войне» (1942). В начале века Марк Твен (1835–1910) в серии своих антиимпериалистических памфлетов («Военная молитва», «В защиту генерала Фанстона» и др.) с большой силой клеймил агрессивные внешнеполитические акции США. Крупнейший романист и критик Уильям Дин Хоуэллс (1837–1920) в остросатирической новелле «Эдита» (1905) рисует свою героиню, недалекую женщину, которая, оглушенная ура-патриотической пропагандой, посылает в военное пекло на гибель своего возлюбленного.
Богатый и многообразный отклик получили в литературе США события первой мировой войны. Побывав на ее фронтах в качестве военного корреспондента, Джон Рид вынес жгучую ненависть к милитаризму. Он показал трагедию «убиваемых народов» (Очерковая книга «Война на Восточном фронте», 1916), людей, обманутых шовинистической пропагандой (новеллы «Глава рода», «Так принято» и др.); в своей публицистике он осуждал милитаризм и «патриотов доллара».
После войны выступила целая группа писателей, которых критики отнесли к «потерянному поколению». Они были сверстниками Хемингуэя, прошли через войну, отрешились от иллюзий молодости, испытали острое отвращение к той «патриотической» пропаганде, в которую они на первых порах поверили. Их горький опыт по-разному отразился в книгах, наполненных антивоенным пафосом.
Среди них был Джон Дос Пассос (1896–1970); Хемингуэй даже встречался с ним на фронте в Италии, некоторое время они дружили. В его романе «Три солдата» (1921) почти нет батальных сцен, центр тяжести перенесен на изображение тылового быта, казарменной рутины. Всех трех героев: лавочника, фермера, выпускника Гарварда, мечтающего стать музыкантом, — «размалывает» военная машина. Бессмысленность войны как концентрированного выражения господствующего в мире хаоса — тема романа Э. Э. Каммингса «Огромная камера» (1922), произведения, о котором не раз тепло отзывался Хемингуэй. Героя романа, которому так и не удалось попасть на фронт, по ложному обвинению арестовывают, бросают в концлагерь, где он подвергается унижениям и издевательствам. Дональд Мехон, лейтенант британских военно-воздушных сил, герой романа Уильяма Фолкнера «Солдатская награда» (1926), возвращается домой в родную Джорджию физически искалеченным. Но его «награда» — отчуждение в собственной семье, безразличие окружающих, измена невесты.
Чем же обогатил Хемингуэй военную тему по сравнению со своими предшественниками? Безусловно, здесь отразились и уникальный фронтовой опыт Хемингуэя, и его огромный художественный талант. Хемингуэй не собирался ошеломить читателей «лобовыми» приемами, подчеркиванием ужасов войны, нагнетанием натуралистических подробностей. Его целью было не только свидетельство фронтовика, но и проза самой высокой пробы. Не только изображение окопной правды, но и проникновение в психологию человека во фронтовых условиях. Это была книга сурово-реалистическая и лирическая. Книга о войне и о любви, в которой ставились большие философские, жизненные проблемы.
Хемингуэй не спешил написать эту книгу. Между описываемыми событиями и датой выхода книги прошло 10 лет. Ему была необходима историческая дистанция, жизненный опыт, чтобы основательно, серьезно оценить пережитое. Нужны, были впечатления от еще одной войны — греко-турецкой. Он возвратился с войны еще не растерявшим до конца юношеского идеализма. На исходе десятилетия Хемингуэй был уже зрелым человеком, который проникся ненавистью к войне и презрением к политической болтовне, к ура-патриотическим лозунгам, к призывам тех, кто никогда не нюхал пороху.
В романе реально пережитое писателем, факты его биографии «сосуществуют» с фантазией, вымыслом. Завершив работу над романом, Хемингуэй просил издателя Чарльза Скрибнерса рассматривать его не как «документ», но как художественное произведение. В романе «Прощай, оружие!» Хемингуэй как бы возвращался к исходной ситуации, к тем испытаниям, которые объясняют появление «потерянного поколения», таких его героев, как Джейк Барнс. Писатель совершал как бы исторический экскурс в истоки его биографии. Раньше, в «интерлюдиях» книги «В наше время», в отдельных рассказах сборника «Мужчины без женщин», возникали частные фрагменты войны. В новом романе впервые развертывалась широкая батальная панорама.
В основу произведений положены военные итальянские впечатления Хемингуэя. Есть общее в биографиях главного героя — лейтенанта Фредерика Генри — и романиста; оба — водители санитарной машины. Прототипом, Кэтрин Баркли послужила Агнес фон Куровски, медсестра в миланском госпитале, первая любовь писателя. «Если ты когда-нибудь по-настоящему любил, это не уходит… совсем», — говорил Хемингуэй своему, брату Лестеру.
Но Хемингуэй находился на фронте, летом 1918 года. В романе же действие происходит на итало-австрийском фронте весной — осенью 1917 года. В это время Хемингуэй был еще учеником школы в Оук Парке, потом стал работать репортером в Канзас сити. Романист не был свидетелем катастрофы при Капоретто в октябре 1917 года, столь блистательно описанной в романе. Чтобы сделать это, он изучал военно-историческую литературу, газетные отчеты, возможно, свидетельства очевидцев.
Главное, чтобы правдиво писать о войне, писателю нужен был непосредственный военный опыт. Он вспоминал о великом Толстом, который не был свидетелем Бородинского сражения, описанного в «Войне и мире». Но Толстой имел за плечами бесценный опыт участника Крымской войны. Военные впечатления соединились с гениальной кистью художника.
4
Роман «Прощай, оружие!» отличается редкой композиционной стройностью и гармонией. Пять частей романа, словно акты трагедии, охватили основные этапы в судьбе главного героя — Фредерика Генри, «тененте». Как и автор, он приехал из США в Италию добровольцем, служит в санитарных частях. Действие начинается на итало-австрийском фронте в начале 1917 года. В боевых действиях временное затишье. Перед читателем развертываются унылые картины: дождь, грязь, скучный быт прифронтового городка, солдаты и офицеры, разочарованные в войне, охваченные апатией. Все чаще слышатся разговоры о бессмысленности войны. Постепенно испаряются патриотические иллюзии и у Фредерика Генри.
В романе мало непосредственно окопных, батальных сцен. Писатель акцентирует внимание на бессмысленности, аморальности войны, обнажая грязь ее бытовой стороны. После возвращения из отпуска «тененте» Генри замечает, как атмосфера становится особенно мрачной. В романе слышатся голоса простых людей, тех, у кого растет недовольство войной. Они понимают, что «страной правит класс, который глух и ничего не понимает», что есть те, кто «наживается на войне». Да и «тененте» Генри начинает многое переоценивать. И в его внутреннем монологе, думается, слышится голос самого Хемингуэя с его неприязнью к фальшивой «патриотической» риторике: «Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «свершилось»… Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» и «святыня», были просто непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами».
Между тем унылые прифронтовые будни главного героя скрашены его знакомством с медсестрой Кэтрин Баркли. Она англичанка, ее жених погиб на Сомме. Так входит в роман другая тема — тема любви. Но поначалу для Фредерика Генри его отношения с Кэтрин легковесны, несерьезны. Генри видит себя «героем войны» и завязывает очередную интрижку. Однако вскоре все меняется.
Однажды на передовой, когда Фредерик Генри, сидя с товарищами в окопе, приступил к завтраку, их накрывает австрийский миномет. Герой тяжело ранен. У его приятеля Пассини оторваны ноги, он тут же умирает. Генри эвакуируют, в тыл, в госпиталь в Милан. Там начинается его длительное лечение. Туда к раненому лейтенанту приезжает Кэтрин. На этот раз между ними вспыхивает сильное взаимное чувство. Любовь придает герою, силы, его существование словно бы озаряется светом.
Счастливые свидания, радость взаимного понимания, доверия и откровенности, все эти отлично выписанные лирические сцены любви Фредерика и Кэтрин служат в романе резким контрастом мрачным фронтовым эпизодам. Светлый мир любви подчеркивает, оттеняет жестокость войны.
Но лечение подходит к концу. Выздоровевший и переболевший желтухой герой прощается с Кэтрин, чтобы вернуться на фронт. После госпиталя, после прикосновения к счастью любви и мирной жизни, после того как у него появился близкий человек, он начинает смотреть на жизнь по-иному.
Третья часть романа вновь переносит читателя на фронт. Теперь Фредерик всюду замечает апатию, усталость, отвращение к войне. Затишье на фронте оказывается обманчивым. Австрийцы, поддержанные немцами, прорывают фронт под Капоретто. Это вызывает беспорядочное, паническое отступление итальянцев. Оно запечатлено в романе с удивительной, почти осязаемой рельефностью и по праву считается классикой батальной прозы.
Фредерик Генри вместе с машинами своего санитарного подразделения увлечен сплошным, хаотическим потоком орудий, телег, грузовиков, артиллерийских лафетов вперемежку с толпами солдат, мирным населением; эта серая бесконечная колонна течет какими-то неравномерными толчками, мокнет под непрерывным дождем, утопает в грязи. Не атаки, не страдания, не героика подвигов, а именно развал, деморализация армии — вот что оказывается в поле зрения Хемингуэя. Трудно поставить рядом с ним другого художника слова, который бы так описал именно эту сторону войны; в известной мере произведение Хемингуэя может быть соотнесено с романом Золя «Разгром», с его незабываемыми массовыми сценами поражения французской армии под Седаном, окружения и капитуляции. Безусловно, трагическая панорама массового исхода гражданского населения из Фракии, о котором сообщал в ряде корреспонденций с греко-турецкого театра боевых действий Хемингуэй, стояла перед глазами писателя, когда он как художник увековечил Капоретто.
Фредерик Генри и его подчиненные вынуждены бросить застрявшие в грязи машины. Они продолжают путь в одиночку, гибнет от чьей-то пули Аймо; после долгих мытарств беглецы добираются до колонны, форсирующей по мосту реку. И здесь разыгрывается одна из самых сильных сцен романа. Полевая жандармерия перехватывает дорогу. Карабинеры выбирают из медленного человеческого потока людей с офицерскими знаками различия. Следует короткий, безжалостный формальный допрос. Карабинеры же вершат «правосудие». Не желая слушать какие-либо объяснения, они отводят свои жертвы в сторону и тут же расстреливают на глазах тех, кого ожидает такая же участь. В их числе и лейтенант Генри. Вырвавшись из группы арестованных, он бросается в реку, в мутную холодную воду, и спасается от пуль. Ему удается тайно пробраться в Милан.
В четвертой части главный герой, чудом спасшийся от расстрела, вынужден скрываться как дезертир. Он ищет Кэтрин в Милане, но та оказывается в небольшом городке Анрезе на итало-швейцарской границе. Там находит ее Фредерик. Воссозданы жизнь этого курорта, радость влюбленных, нашедших друг друга, их мирные дни. Но недолго длится безоблачное счастье. Бармен в отеле сообщает лейтенанту, что он попал под подозрение, что утром его придут арестовывать. Герой будит Кэтрин, они на лодке переправляются через озеро в нейтральную Швейцарию. Там развертываются события заключительной, пятой части романа. Любящие молодые люди обосновались в маленьком домике. Гуляют в горах, наслаждаются счастьем, их отношения светлы, почти идилличны. Кэтрин ждет ребенка. Психологически тонко и достоверно переданы чувства молодой женщины, готовящейся стать матерью. Но героев, вырвавшихся из смертельных объятий войны, все-таки настигает злая судьба. У Кэтрин родится мертвый ребенок, сама она умирает, несмотря на отчаянные усилия врачей во время родов. Герой приходит в последний раз в больницу к мертвой Кэтрин: «Это было словно прощание со статуей. Немного погодя я спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем». На этой горькой ноте завершается роман.
5
Но конечно, самое добросовестное изложение сюжета, всех его перипетий не может дать представления о произведении, написанном пером Хемингуэя. Не случайно именно с этой книги начинается мировая слава писателя. Все элементы произведения, пейзажи, описания, диалоги, определенные детали целесообразно расположены и построены.
Как-то Достоевский, открывший русскому читателю Эдгара По — новеллиста, высказал проницательное суждение о его художественном методе. Он писал, что при всей силе воображения и фантазии Эдгара По мир в его произведениях сугубо материальный, что в его книгах нас поражает «сила подробностей», и в этом проявляется особенность По как специфически американского писателя. У Хемингуэя впечатляет именно эта «сила подробностей», точность деталей, конкретность во всем, что он описывает, будь то быт прифронтового городка, работа тех, кто обслуживает санитарную машину, ощущения солдата, получившего ранение, состояние раненого на госпитальной койке или на операционном столе.
Столь же наглядны, осязаемы хемингуэевские пейзажи. Вспомним начало романа: «В тот год поздним летом мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали голыши и галька, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая и совсем голубая в протоках» (II, с. 11). А затем тут же развертываются иные, контрастные сцены, пыльные дороги, непрерывное движение войск, машин, повозок, мулов…
Важными для поэтики Хемингуэя являются лейтмотивы, повторяющиеся по ходу повествования образы или отдельные детали. Таким лейтмотивом является в романе образ дождя. С него начинается роман. Дождь создает атмосферу осени, слякоти, тяжести, безнадежности. Все пронзительные сцены отступления под Капоретто, с его хаосом и неразберихой, развернуты под аккомпанемент непрекращающегося дождя. В финале книги герой уходит из больницы, где скончалась Кэтрин. Он идет к себе в отель «под дождем».
Как обычно, Хемингуэй устраняется от авторских комментариев, относящихся к переживаниям своих героев. Через внешнее он обнажает их внутреннее состояние. И здесь у него важна каждая, казалось бы, случайная деталь. Вот только один пример, иллюстрирующий его писательскую технику. Герой, ожидающий исхода операции Кэтрин, заходит в кафе. Старик-буфетчик подает ему стакан белого вина, затем Фредерик просит дать ему еще один. Буфетчик интересуется, что привело его в кафе в столь ранний час; лейтенант отвечает, что у него рожает жена в больнице. «Он налил, слишком сильно наклонив бутылку, так что немного пролилось на стойку, — читаем мы далее. — Я выпил, расплатился и вышел. На улице у всех домов стояли ведра с отбросами в ожидании мусорщика. Одно ведро обнюхивала собака. — Чего тебе нужно? — спросил я и наклонился посмотреть, нет ли в ведре чего-нибудь для нее; сверху была только кофейная гуща, сор и несколько увядших цветков.
— Ничего нет, пес, — сказал я. Собака перешла на другую сторону. Придя в больницу, я поднялся по лестнице на тот этаж, где была Кэтрин, и по коридору дошел до ее дверей» (II, с. 270).
Хемингуэю, безусловно, была близка мысль Чехова о том, что «в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает». Почему вино пролилось на стойку? Наверное, потому, что эта деталь подчеркивает старость буфетчика, у него дрожат руки, и, очевидно, ему передалось состояние Фредерика. Хемингуэй нигде не говорит, что герой взволнован. Но мы об этом догадываемся, потому что он берет второй стакан вина, наверное, для того, чтобы успокоиться. А казалось бы, совершенно не имеющий отношения к делу разговор с собакой? И это мотивировано. Фредерик пребывает в нервном напряжении, ожидании и изливает свои чувства, обращаясь к бездомному животному. Подобных сцен в романе немало.
Роман увидел свет 22 сентября 1929 года. В это время Хемингуэй был в отъезде (сначала в Испании, затем в Париже). Туда и пришла телеграмма от издателя Чарльза Перкинса: «Первые отзывы отличные». Некоторое время спустя поступила вторая телеграмма: «Прекрасные перспективы». Влиятельная газета «Нью-Йорк таймс» характеризовала роман как «историю любви между англичанкой-медсестрой и американским офицером санитарной машины, столь же несчастной, как у Ромео и Джульетты». Он является «высоким достижением в духе того, что можно назвать новым романтизмом». Всюду появлялись лестные рецензии; это был самый полный успех. Правда, в Бостоне, городе, известном своим пуританством, распространение книги было запрещено: писателя обвиняли в «аморальности» отдельных эпизодов и в использовании «грубого» языка. Но многие критики не разделяли подобных упреков. Единодушно признавалось, что роман знаменовал рост мастерства Хемингуэя. Известный критик Мальколм Каули, один из горячих поклонников Хемингуэя, в заголовке романа увидел символ большого значения, означающий «прощание с периодом жизни, точкой зрения, а возможно, и методом».
Роман возглавил список бестселлеров. Его конкурент, тогда же появившийся знаменитый антивоенный роман Ремарка «На Западном фронте без перемен», оказался на втором месте, не выдержал конкуренции и третий знаменитый антивоенный роман, увидевший свет все в том же 1929 году, — «Смерть героя» англичанина Ричарда Олдингтона.
Начались переводы романа «Прощай, оружие!» на различные иностранные языки. На русском языке роман в отрывках впервые появился в 1934 году в журнале «Знамя», затем его полностью напечатал журнал «Интернациональная литература» (1936. — № 7). В том же 1936 году вышло отдельное издание книги, вызвавшее многочисленные хвалебные отклики советских писателей и критиков. Андрей Платонов, в частности, дал тонкий анализ трактовки любовной темы в романе. Он писал, о Хемингуэе что «одной из главных его мыслей является мысль о нахождении человеческого достоинства, стремление открыть истинного, то есть не истязающего себя и других человека, притом нашего современника».
Успех романа побудил драматурга Лоуренса Столлингса сделать его сценическую версию, однако, выдержав всего 24 представления в Национальном театре в Нью-Йорке, пьеса сошла. Пытался поставить ее, и так же неудачно, в декабре 1931 года Немецкий театр в Берлине. В 1932 году роман был экранизирован в Голливуде, причем в главных ролях выступили популярнейшие актеры, Гари Купер, и Элен Хейс. Хотя писатель и продал права на экранизацию за крупную сумму в 24 тысячи долларов, он остался очень недоволен фильмом. Говорил, что кино «все разрушает», отправил возмущенную телеграмму в Голливуд, в которой выразил сомнение в том, что кто-нибудь, просмотрев фильм, захочет прочесть роман. Не получались, как мы уже отмечали, экранизации и почти всех других произведений Хемингуэя. Видимо, богатство и оригинальность хемингуэевского стиля не поддавались адекватному переводу на язык кинематографа.
Что же касается самого романа, то его читали взахлеб. Уже в январе 1931 года потребовалось второе издание. C тех пор он систематически печатается. Только в США к 1961 году было продано около миллиона четырехсот тысяч экземпляров. Это одно из самых читаемых произведений литературы XX века. Роман знаменовал начало мировой славы Хемингуэя.
Глава шестая
Время исканий
1
Роман «Прощай, Оружие!» стал одним из высших взлетов Хемингуэя. Он вывел его в число всемирно знаменитых писателей. В 1937 году, когда Хемингуэй в нашей стране только еще начинал входить в моду, 9 из 15 опрошенных ведущих советских писателей назвали его своим любимым автором. Известный французский писатель Андре Моруа в книге «Американские романисты» (1931) свидетельствовал: «Его стиль сработан из отлично выточенный металлических элементов. Элегантность достигается тем, что он вовсе не старается быть элегантным».
Однако годы, последовавшие за выходом романа «Прощай, оружие!», примерно до начала гражданской войны в Испании, оказались для Хемингуэя трудной полосой, временем нелегких исканий. Роман Хемингуэя увидел свет за месяц до кризиса 1929 года. Он до основания потряс Америку, все слои общества. Кратковременное «процветание» сменяется мучительной полосой депрессии, «великим американским голодом». Миллионы людей оказываются безработными, выбитыми из привычной жизненной колеи.
Это десятилетие в жизни США, от кризиса 1929 года до начала второй мировой войны, — драматическая, неповторимая эпоха в истории национальной культуры. Эти годы называют «бурными», «грозовыми», «голодными», но, наверное, чаще всего «красными тридцатыми». Революционный отсвет лежит на многих произведениях, рожденных этим временем. Создаются клубы Джона Рида, объединяющие писателей и деятелей культуры из рабочей среды. Позднее впервые в истории США складывается широкое объединение писателей, стоящих на общедемократической и антифашистской платформе, — Лига американских писателей.
В эту пору художники слова погружаются в самую гущу народной жизни. Литература обогащается новыми средствами художественного выражения. В ней усиливаются социально-критические мотивы. Писатели «левеют», «политизируются». Целые пласты действительности, прежде эстетически не освоенные, — жизнь пролетариев, фермеров, судьба безработных, «людей дна», труд фабричных рабочих, нелегкий удел негров и других этнических меньшинств — все эти проблемы становятся полноправными объектами внимания многих писателей.
В целом же на заре 30-х годов, этого «политического десятилетия», Хемингуэй держался несколько в стороне от общего, главного потока американской литературы. Да и живя в Ки Уэсте, уклоняясь от прямых политических акций и деклараций, которыми увлекались многие его коллеги, он находился как бы на обочине общественной жизни. Его раздражали некоторые критики левой ориентации; люди, мыслившие догматически, грешившие к тому же назидательным тоном, которые не стеснялись поучать Хемингуэя, как и о чем ему писать. Попутно они упрекали писателя за то, что он не откликается на те или иные политические события и чуть ли не выказывает равнодушие к судьбам обездоленных. Последнее особенно его задевало, ибо боль за человека никогда его не покидала.
В письме к Полю Ромэну, книгопродавцу из Милуоки, Хемингуэй не без запальчивости писал: «Вы надеетесь, что Поворот Влево и т, п. будет иметь для меня определенное значение, но это все пустое дело. Я не следую моде в политике, в переписке, в религии и т. д. В литературе нет правых и левых. Есть только плохая и хорошая литература…» Его возмущало то, что иные его коллеги ищут легкого, дешевого успеха на политической ниве вместо того, чтобы серьезно овладевать художественным мастерством.
В этих условиях Хемингуэй шел своим путем. Он не приспосабливался к политической конъюнктуре, рос как художник по своим внутренним законам, исходя из собственного опыта, следуя личным убеждениям. Мало что изменилось в его образе жизни, хотя, наверное, слава наложила отпечаток на некоторые внешние формы его поведения. Он сделался знаменитостью и довольно быстро стал восприниматься как личность легендарная. Складывался определенный бытовой уклад человека состоятельного, уделяющего немало времени светским развлечениям. В газетах сообщалось о его частной жизни (о рыбной ловле и охоте, о выступлениях на ринге, о знаменитых друзьях). К нему приезжали посетители, с ним искали знакомств. Сменив несколько квартир, Хемингуэй, в декабре 1931 года стал хозяином купленного им красивого двухэтажного особняка на Уайтхед-стрит. Полин Пфейфер, заботившаяся о том, чтобы в доме были уют и комфорт, вложила немало средств и сил в оформление интерьера особняка, построенного еще в 1851 году в испанском колониальном стиле. Дом располагался в большом саду, засаженном фруктовыми деревьями; рабочий кабинет Хемингуэй оборудовал на втором этаже, в нем было прохладно, и писатель обычно работал там в утренние часы, до полудня. Позднее, видимо, по примеру своего отца, собиравшего в рабочем кабинете чучела птиц и медицинскую библиотеку, Хемингуэй стал коллекционировать свои охотничьи трофеи, привезенные из Африки и Вайоминга. Дом постоянно модернизировался, в 1938 году по инициативе Полин Пфейфер в саду был построен бассейн с морской водой, единственный в своем роде в тех местах. В нем жила большая ручная черепаха.
Человек самолюбивый, наделенный чувством собственное достоинства, Хемингуэй стремился первенствовать, быть чемпионом не только на писательском поприще. Он любил доказывать свое превосходство и в других областях: вылавливать самых крупных морских рыб, побеждать на боксерском ринге, быть самым метким стрелком. Страстный рыбак, он осуществил длительную экспедицию к Багамским островам, нередко доплывал до берегов Кубы. Летом, когда в Ки Уэсте наступала жара, он выезжал на северо-запад США, в штаты Монтана и Вайоминг, где были охотничьи угодья. Там ему удалось подстрелить своего первого медведя, крупный экземпляр, весивший почти 500 фунтов.
И в Ки Уэсте писатель не избавился от печальной привычки попадать в аварийные ситуации, приводящие к травмам. Самая тяжелая из них произошла в ноябре 1930 года во время автомобильной поездки с его другом — писателем Дос Пассосом. Холодало, дорога была скользкая, на большой скорости Хемингуэй, находившийся за рулем, был ослеплен фарами встречной машины, успел свернуть машину в сторону, после чего она оказалась в кювете и перевернулась. Хемингуэй получил сильнейшие ушибы, переломы руки, нескольких пальцев, пострадало зрение. Писатель был доставлен в ближайший госпиталь, где почти два часа находился на операционном столе, после чего пробыл на больничной койке семь недель. Позднее в книге «Зеленые холмы Африки» он так описал свое состояние: «…Открытый перелом между плечом и локтем, кисть вывернута, бицепсы пропороты насквозь и обрывки мяса гниют, пухнут, лопаются и, наконец, истекают гноем. Один на один с болью, пятую неделю без сна, я вдруг подумал однажды ночью: каково же бывает лосю, когда попадаешь ему в лопатку и он уходит подранком; и в ту ночь я испытал все за него — все, начиная с удара пули и до самого конца, и, будучи в легком бреду, я подумал, что, может быть, так воздается по заслугам всем охотникам».
Всю весну следующего, 1931 года Хемингуэй страдал от последствий этой аварии: рука болела, он с трудом мог водить пером. Тем не менее он поехал сначала во Францию, а потом в Испанию, где наблюдал корриду, собирая материалы для книги о бое быков. Там он встретился с художником Луисом Кинтанильей (прежде знакомым по Парижу), работы которого высоко ценил. Они подружились, вместе работали, Хемингуэй — над своей книгой, Кинтанилья — над рисунками.
В ноябре 1931 года у Полин Пфейфер родился мальчик, которого назвали Грегори. Так Хемингуэй стал отцом троих сыновей и часто сетовал на то, что судьба не подарила ему дочери.
2
В сентябре 1932 года вышла книга Хемингуэя «Смерть после полудня», произведение оригинальной формы, жанр которого нелегко определить. Обычно книгу называют трактатом о бое быков. И действительно, писатель создал насыщенное многочисленными техническими, подробностями сочинение, описывающее с отменным знанием дела, конкретно и точно, все детали корриды, начиная с выращивания быка, подготовки торреро и кончая всеми перипетиями боя на арене. В центре внимания — искусство трех матадоров, Хуана Бельмонте, Никанора Вилальты и Мануэля Маэры. Для написания этой книги он просмотрел почти 1500 боев на арене. Помимо текста объемом в 280 страниц, книга содержала также 64 страницы фотографий, снабженных подписями.
Но материал этот интересен для писателя не только сам по себе, ибо в этой книге, сложной по структуре, включающей вставные новеллы, диалоги, авторские отступления, Хемингуэй делится размышлениями на морально-этические и литературные темы.
Писателя всегда притягивали проблемы мужества, поведения человека в опасной, экстремальной ситуации. Это, в частности, объясняет его особое пристрастие к военной тематике. Он был убежден, что перед лицом смерти выявляются истинные, не поддающиеся сокрытию свойства человека. Он считал, что схватка на арене есть некий «момент истины», обнажающий суть человека.
Однако современная коррида во многом трансформировалась в худшую сторону. Из серьезного единоборства, ставка в котором — это жизнь матадора, она превратилась в развлекательное зрелище. На арену выпускаются неопытные, молодые бычки, торреро же демонстрирует каскад эффектных, балетных приемов, но чисто внешних, лишенных смысла. С их помощью торреро уходит от своей главной задачи — столкновения со смертельной опасностью. Писатель сравнивает такую корриду с «декадентским» искусством. Он понимает под ним искусство, лишенное глубокого, подлинного содержания, когда художник озабочен лишь формой выражения, формалистическими приемами как таковыми.
Погружение в «технологию» боя быков он сопровождает разнообразными отступлениями и рассуждениями. В текст введен во многом условный персонаж, некая Старая леди, носитель консервативных и достаточно наивных взглядов, с которой автор оживленно дискутирует. Особенно интересны здесь оценки литературы и искусства, высказанные Хемингуэем. Он неодобрительно отзывается о ранних романах Фолкнера, видя в них лишь эротику, что, конечно, несправедливо, зато с уважением говорит о больших мастерах живописи, крупных талантах, которые, опираясь на достижения своих предшественников, делают огромный шаг вперед. Этими художниками были для него Гойя, передававший драматизм и трагизм жизни, и Сезанн, мастер пейзажа, тонко воссоздающий атмосферу, колорит. Он тепло вспоминает об испанских музеях, о Прадо, в которых знакомился с Веласкесом, Эль Греко.
Именно в этой книге писатель сжато формулирует важные положения своего эстетического кредо. Он защищает принцип верности жизни, отказа от всего искусственного, претенциозного, надуманного. «Когда писатель пишет роман, он должен создавать живых людей, а не литературные персонажи». Он исходит из взаимозависимости формы и содержания, когда приемы, стилевые особенности, самые яркие метафоры и образы никогда не являются самодовлеющими, но диктуются характером материала. Ему претит ложное украшательство: «…Художественная проза — это архитектура, а не искусство декоратора, и времена барокко миновали». Неприемлемо и устами «искусственных вылепленных персонажей» выражать собственные мысли; для этой цели писателю полезней обратиться к очерковой форме. Здесь же Хемингуэй формулирует свой знаменитый принцип айсберга, коренной для его эстетики. Мастеру слова надо знать многое, но далеко не все должно быть выплеснуто на страницы его произведений, чему-то следует остаться «за кадром»: «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды».
В коллегах по перу Хемингуэю всегда претили поза, претенциозность: «Писатель, который столь несерьезно относится к своей работе, что изо всех сил старается показать читателю, как он образован, культурен и изыскан, — всего-навсего попугай».
В этой книге выделяется как самостоятельное целое своеобразная вставная новелла, фрагмент, названный им «Естественная история мертвых». В ней писатель возвращается к неизменно преследующей его теме ужасов войны. Это серия мрачных, трагических сцен: мулы с перебитыми ногами, которых греки сбросили в воду в порту Смирны перед отступлением; импровизированная мертвецкая, куда сносили убитых, в основном женщин, после взрыва на военном заводе в Милане; разнообразные сцены войны; мертвые на поле боя; умирающие в госпиталях… Нарочито спокойный, бесстрастный тон автора содержит еле скрытую иронию по адресу Старой леди. Она закрыла себя броней наивности и бессердечия, а потому не может понять человеческих страданий.
«Смерть после полудня» — произведение не вполне цельное, неровное, это ощущал, по-видимому, и сам Хемингуэй, писавший, что это «еще не настоящая книга». Было очевидно, что в начале 30-х годов писатель столкнулся со сложными проблемами, на которые не находил ясного ответа. Для художника слова вообще и для него лично самое главное было в том, чтобы «жить и работать на совесть».
3
В октябре 1933 года увидел свет третий сборник новеллистики Хемингуэя «Победитель не получает ничего». Он довольно быстро раскупался, в первый месяц было продано 11 тысяч экземпляров, цифра достаточно большая. В целом в сборнике присутствовала весьма сумрачная атмосфера; тон задавал и заголовок. Героями Хемингуэя были люди, принадлежащие к низшим слоям общества, писатель рассказывал о насилиях, о жестокости в человеческих отношениях, о продажной и извращенной любви. В сборнике, состоящем из 14 новелл и очерков, развивались и углублялись мотивы прежних произведений Хемингуэя. Он продолжал антивоенную тему. Оттачивались и его специфические художественные приемы. Сегодня критики единодушны в том, что некоторые новеллы сборника, например «Там, где чисто, светло», «Какими вы не будете», «Отцы и дети», а также, возможно, «Свет мира», должны быть причислены к шедеврам хемингуэевской новеллистики.
На сравнительно скромном пространстве новеллы «Там, где чисто, светло» лаконичными художественными средствами выразительно обнажена тема неизбывного человеческого одиночества. Герой новеллы, глухой восьмидесятилетний старик, сидящий до глубокой ночи в кафе, чистом и светлом, дается через восприятие двух официантов, молодого и средних лет. У старика «уйма денег», но ему очень неуютно в этом мире, он уже покушался на самоубийство, и его вынула из петли племянница. С большим трудом полупьяного старика удается выпроводить из кафе, которое стало для него чуть ли не единственным убежищем среди окружающего его равнодушия. И глухота старика — выразительная деталь, примета некоммуникабельности людей, того, как трудно достучаться в их души. Если молодого официанта ждет дома жена, то старшему спешить, похоже, некуда. И он непрочь задержаться в кафе. «Ничто — и оно ему знакомо, — размышляет официант постарше. — Все ничто, да и сам человек — ничто».
В новелле не происходит никаких событий, почти нет действия, аскетичны описания и отсутствуют авторские комментарии. Мы слышим только разговор двух официантов; все это похоже на абсолютно точный слепок действительности. Джеймс Джойс так отозвался об этой новелле: «Он (Хемингуэй) опустил занавес, разделяющий литературу и жизнь, а это как раз то, чего стремится достичь каждый писатель. …Это сделано мастерски. Бесспорно, это один из лучших рассказов, когда-либо написанных. Это — блеск».
В новелле «Какими вы не будете» Хемингуэй возвращается к преследующей его теме войны, и ее ужасов. Это — новая встреча с Ником Адамсом, на этот раз на итало-австрийском фронте. Но и в «мирной» жизни неуютно хемингуэевским героям, там царят бездуховность, равнодушие. Легкомысленный, предельно эгоистичный, самовлюбленный матадор «красавчик» Пако, сорящий деньгами, так и не находит времени заплатить 20 долларов за могилу своей матери («Мать красавчика»).
В сборнике выделялась своеобразная «новелла воспитания» — «Отцы и дети» с ее «тургеневским» заголовком. В ней весьма прозрачно выражено автобиографическое начало, вновь появляется Ник Адамс, но уже не юноша, а взрослый человек, ставший писателем, у которого маленький сын. Вечная тема конфликтных взаимоотношений поколений с большим искусством решается Хемингуэем на малом пространстве новеллы. Светлой ностальгией овеяны воспоминания Ника о прошлом, например описания охоты на перепелов, которой учил его отец. В образе отца Ника, человека с необычайно зоркими глазами, нетрудно угадать черты Кларенса Хемингуэя, отца писателя. О причинах смерти отца говорится, как-то глухо, неясно, их знает Ник, но читателю остается догадываться, что отец ушел из жизни, видимо, преждевременно и трагично.
Между тем в начале 30-х годов в жизнь Хемингуэя входит новая любовь. В сентябре 1931 года во время поездки в Нью-Йорк он знакомится с четой Мейсонов, Джейн и Грантом. Это были богатые люди, владевшие роскошной виллой неподалеку от Гаваны, где они жили в окружении десятка слуг и устраивали пышные веселые приемы. В момент знакомства с Хемингуэем Джейн было 22 года; она блистала классической красотой; отличалась хорошими манерами; президент Кулидж назвал ее самой привлекательной женщиной, когда-либо посетившей Белый дом. Живая, остроумная, она обладала артистическими способностями, неплохо пела, увлекалась спортом, охотой и рыбной ловлей, короче говоря, была незаменимым компаньоном в разного рода светских развлечениях. В то же время, ей был свойствен бурный темперамент, склонность к разного рода экстравагантным поступкам. После того как Хемингуэй пристрастился к ловле марлинов, Джейн часто сопровождала его в экспедициях в открытое море. Нередко к ним присоединялись дети Хемингуэя, Бэмби и Патрик. Занятая домашними делами Полин не без тревоги наблюдала за развитием событий, однако, не в пример Хедли, не предпринимала решительных шагов. Отнюдь не склонный к случайным связям, писатель, видимо не думал о том, чтобы серьезно соединить свою жизнь с Джейн, в которой его раздражали тяга к роскоши и неуравновешенный характер; она даже пыталась кончить жизнь самоубийством, выпрыгнув со второго этажа. Среди ее пристрастий были гонки на машинах; однажды в мае 1933 года в компании с Бэмби, Патриком и ее приемным сыном Энтони она попала в автомобильную аварию.
Наблюдения за супругами Мейсонами и их бытом позднее трансформировались в отдельные сюжеты в произведениях Хемингуэя в 30-е годы. Грант Мейсон мог послужить острокритическому изображению «очень богатых людей», бездельничающих туристов на Кубе, в романе «Иметь и не иметь». Что касается Джейн Мейсон (у нее, с Хемингуэем наступил разрыв в начале 1936 года), то, по мнению критиков, некоторые ее черты запечатлены в образе Марго Макомбер из рассказа «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». Конечно, трудно говорить о буквальном сходстве, но, видимо, Джейн Мейсон отчетливее всего олицетворяла тот тип богатой эгоистичной американки, который занимал писателя в эти годы.
4
После опубликования сборника «Победитель не получает ничего» Хемингуэй смог, наконец, выполнить свое давнее намерение, высказанное еще в романе «И восходит солнце», — отправиться в Британскую Восточную Африку поохотиться. Он выехал в Европу в августе 1933 года вместе с Полин Пфейфер и своим приятелем по Ки Уэсту Чарльзом Томпсоном. Последний рискнул быть компаньоном Хемингуэя в отличие от некоторых его друзей, отклонивших подобное приглашение, зная нелегкий характер писателя, его самолюбие, стремление во всем первенствовать, превращать даже развлечения в состязания. Пробыв некоторое время в Испании, а затем в Париже, Хемингуэй после двухнедельного плавания вступил в Момбасе (Кения) на африканскую землю. Там к Хемингуэю присоединился Филип Персиваль, профессиональный охотник, человек большой смелости и хладнокровия. Ему доводилось участвовать в африканских сафари с Теодором Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем. Хемингуэй, высоко ценивший Персиваля, вывел его в книге «Зеленые холмы Африки» под именем Поп; Томпсон действует там же под именем Карл. Из Момбасы они направились в глубь Кении, в Найроби, а оттуда в район знаменитой вершины Килиманджаро, где и началась охота на львов, куду, носорогов и буйволов. Как и предполагалось, приятель Хемингуэя Чарльз Томпсон оказался весьма искусным стрелком, и его охотничьи трофеи нередко превосходили те, что были добыты писателем. Хотя это и било по самолюбию Хемингуэя, между ними сохранялись достаточно ровные отношения.
В середине января 1934 года в разгар сафари Хемингуэй заболел острой формой амебной дизентерии. Его пришлось вывозить из лагеря на самолете; во время этого полета он и наблюдал снежную вершину Килиманджаро. Этот образ возникает в финале его рассказа «Снега Килиманджаро» в воспаленном воображении уходящего из жизни писателя Гарри, которому кажется, что его уносит самолет.
После недельного, весьма интенсивного лечения в одном из отелей Найроби Хемингуэй вернулся в Танганьику, где пробыл до середины февраля, пока не наступили дожди. К этому времени его трофеи составили три убитых льва, один буйвол и двадцать семь других животных.
…Тем временем была завершена работа писателя над новой книгой — «Зеленые холмы Африки». Сначала она печаталась выпусками в журнале «Скрибнерс мегэзин», а в октябре 1935 года вышла отдельным изданием. На этот раз Хемингуэй испытал свои силы в новом для себя жанре, к которому, однако, он был подготовлен своей репортерской работой. Книга была задумана как художественно-документальное повествование; в ней, как сообщалось в кратком авторском предисловии, не было ни одного вымышленного героя или события.
Книга, описывающая события с 21 января по 20 февраля 1934 года, т. е. заключительный месяц африканского сафари, в чем-то близка к дневнику. Четыре части: «Охота и разговоры», «Начало охоты», «Неудачная охота» и «Радости охоты» фиксируют разные перипетии охотничьих приключений; при этом первая часть служит экспозицией, знакомит читателя с обстановкой и главными действующими лицами. Как и всегда, писатель предельно точен в своих описаниях, конкретно переданы все ощущения и чувства, которые испытывает охотник, равно как и поведение самых разных зверей в минуты опасности. В «технологии» охотничьего дела Хемингуэй безупречен. Правда, переживания охотника по поводу неудач не всегда кажутся читателю подлинно значительными. В этой книге Хемингуэй не стремился специально исследовать обычаи Африки, ее людей; образы туземцев, сопровождающих писателя на охоте, слуг, носильщиков ружей, достаточно одномерны; для них главное — восхищение хозяином. Ощущаются в книге и длинноты, не все подробности, важные для охотника, увлекают читателя. В этом куске охотничьей жизни не хватает отбора.
Вместе с тем отдельные фрагменты, эпизоды охоты сами по себе великолепны. Сложна и стилистика книги. Например, упомянув о сильном впечатлении, произведенном на него чтением «Севастопольских рассказов» Толстого, Хемингуэй создает цепь ассоциаций и картин, связанных с его парижской жизнью. Здесь писатель демонстрирует отличную технику внутреннего монолога, который завершается размышлениями об Африке, своеобразным признанием в любви к этой стране: «Сейчас, живя в Африке, я с жадностью старался взять от нее как можно больше… Всю жизнь я любил страны: страна всегда лучше, чем люди. Я могу чувствовать привязанность одновременно, к очень немногим людям» (II, с. 339).
Важны те страницы книги, на которых Хемингуэй обсуждает свою любимую тему: писательство, литературный труд. Это — продолжение и развитие мыслей, высказанных в трактате о корриде, Хемингуэй прибегает к уже опробованному, «диалогическому» методу. Если в книге о бое быков его собеседником была Старая леди, то здесь примерно ту же функцию выполняет австриец Кандисский, осевший в Африке, человек начитанный и любознательный.
Здесь Хемингуэй продолжает высказывать свои оценки писателей, классиков и современников, оценки весьма проницательные, меткие, которые с тех пор постоянно цитируются критиками и литературоведами. Он. высоко отзывается о Генри Джеймсе, Стивене Крейне, Генри Торо. Очень важно его упоминавшееся суждение о Марке Твене, сыгравшем «пионерскую» роль в американской литературе.
В книге излагаются и более общие наблюдения за судьбами американских писателей. В Америке «нет великих писателей», объясняет Хемингуэй своему собеседнику, потому что с самыми одаренными, с теми, кто достиг вершины, «что-то происходит». «Мы губим их всеми способами, — рассуждает о писателях герой-повествователь в «Зеленых холмах». — Во-первых, губим экономически. Они начинают сколачивать деньгу. Сколотить деньгу писатель может только волею случая, хотя в конечном результате хорошие книги всегда приносят доход. Разбогатев, наши литераторы начинают жить на широкую ногу — и тут-то они попадаются» (II, с. 306). В качестве другой причины он называл пагубное влияние критики. В этой связи он упоминал о двух «хороших писателях», которые «не могут писать», потому что «начитались критических статей и изверились в себе». Писатели, которых имел в виду Хемингуэй, — Скотт Фицджеральд и Шервуд Андерсон.
Что касается его писательского кредо, то Хемингуэй — за искусство, правдивое, насыщенное, серьезным содержанием, эстетически совершенное. Это, конечно, самая общая формула. Но она получает специфически хемингуэевское наполнение. Что же требуется для создания первоклассной прозы? Хемингуэй так отвечает: «Во-первых, нужен талант, большой талант. Такой, как у Киплинга. Потом самодисциплина. Самодисциплина Флобера. Потом нужно иметь ясное представление о том, какой эта проза может быть, и нужно иметь совесть такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже, для того, чтобы уберечься от подделки. Потом от писателя требуется интеллект и бескорыстие и, самое главное — умение выжить. Попробуйте найти все это в одном лице при том, что это лицо сможет преодолеть все те влияния, которые тяготеют над писателем».
И еще к одной излюбленной мысли неизменно возвращался Хемингуэй: писательство — тяжкий труд. Мысль эта буквально пропитывает его сочинения и переписку. Но он бесконечно любит творческую работу. И не случайно многие герои его книг — писатели, журналисты, художники, короче, люди, имеющие дело с карандашом или кистью и бумагой. «Мне нужно было только одно: работать», — размышлял он в «Зеленых холмах». «Работа — вот все, что было нужно, она всегда давала мне хорошее самочувствие…» (II, с. 338).
5
Книга «Зеленые холмы Африки» увидела свет в октябре 1935 года; вскоре было продано более 10 тысяч экземпляров. Однако критики, которых Хемингуэй аттестовал не иначе как «вши на теле литературы», встретили ее в целом недоброжелательно. Его упрекали в том, что он занимает «эскепистскую» позицию, т. е. поглощен «периферийной» тематикой, не реагирует на острые проблемы, которые волнуют пораженную кризисом Америку, в том, что он слишком увлечен спортом и проблемой насильственной смерти. Высказывалось и не лишенное смысла мнение о том, что документальная проза, как бы она ни была совершенна, — не может конкурировать с прозой художественной.
В целом Хемингуэй довольно негативно относился к критикам и их сочинениям. Несправедливость некоторых из суждений задевала его авторское самолюбие. Вместе с тем он внутренне не совсем был доволен собственной книгой, хотя большинство рецензентов по-прежнему восхищались ее стилем. По словам одного из них, «писатель проявляет такое искусство прозы, которое звучит подобно поэзии, оставаясь в то же время прозой, легкой, загадочной и притягательной».
В чем же упрекали Хемингуэя? Критик-марксист Гренвилл Хикс в левом журнале «Нью Мэссиз» утверждал, что Хемингуэй озабочен второстепенными темами и «не дает себе труда пристально взглянуть на американскую панораму». Даже «открыватель» Хемингуэя Эдмунд Уилсон назвал книгу об Африке «скучной». Огорчительной была и статья английского писателя Уиндема Льюиса, озаглавленная «Немой бык», в которой Хемингуэй характеризовался как создатель антиинтеллектуальных «быкоподобных» персонажей, в чем-то, видимо, близких самому автору. А критик Макс Истмен договорился до того, что приписал Хемингуэю особый интерес к изображению мужества, поскольку сам он его лишен. Оскорбленный Хемингуэй несколько лет спустя, встретив Истмена в одной из редакций, затеял с ним потасовку, доказав свое физическое превосходство…
Однако в это же самое время произошло, правда, заочное, знакомство Хемингуэя с уже упоминавшимся критиком, который ему понравился и вызвал живую симпатию. Это был, советский переводчик и литературовед И. А. Кашкин, который первым в СССР стал исследователем и пропагандистом Хемингуэя. Позднее один из недругов критика назвал Кашкина «кандидатом хемингуэевских наук», думая этим его уязвить, а на самом деле сделал ему комплимент. В 1934 году в Москве вышел сборник Хемингуэя «Смерть после полудня», в который вошли новеллы из трех сборников. Его составителем, редактором переводов, а также автором вступительной статьи «Эрнест Хемингуэй: трагедия мастерства» был И. Кашкин. Статью также напечатали в английском издании журнала «Интернациональная литература» (в № 5 за 1934 r.) и переслали Хемингуэю в Ки Уэст.
Изданные в Москве сборник и статья обрадовали Хемингуэя. В августе 1935 года он отправил Кашкину обстоятельное письмо, в котором для адресата было немало лестного: «Приятно, когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь. Только этого мне и надо. Каким я при этом кажусь, не имеет значения». Далее он писал, что буржуазная критика «смехотворна», в то время как «новообращенные коммунисты». т. е. те, кто поверхностно усвоил марксистскую фразеологию, что было модно в те годы, «Стараются быть правоверными, озабоченными лишь тем, чтобы только не было бы ереси в их критических оценках».
Видя, сколь серьезно и уважительно относится Кашкин к его творчеству (что отнюдь не исключало критических оценок), Хемингуэй счел полезным. ознакомить советского критика со своей общественной позицией. При этом он, конечно, понимал, что Кашкин далеко не во всем с ним согласится. Хемингуэй же, отстаивая свою концепцию индивидуализма, не хотел связывать себя никакой политической программой. Он не приемлет марксизма, в котором усматривает посягательство на свою свободу как высшую ценность. Любое государство представляется ему враждебной силой. Уподобляет писателя «цыгану», который ни от кого не зависит, никому не подвластен. Классовая точка зрения кажется ему свойством ограниченного таланта. Художник мирового масштаба, а себя он, видимо, относил уже к таковым, принадлежит всему человечеству.
Конечно, эти взгляды Хемингуэя не были абсолютными, застывшими. Мы знаем, что в пору испанских событий он «полевел», отождествил себя с конкретными политическими силами, республиканцами, антифашистами.
Но в чем он был непоколебимо тверд, так это в отстаивании своей писательской свободы. Художник слова, утверждал он в письме Кашкину, «ничем не обязан любому правительству. И хороший писатель никогда не будет доволен существующим правительством, он непременно поднимет голос против, властей, а рука их будет всегда давить его. С той минуты, как вплотную сталкиваешься с любой бюрократией, уже не можешь не возненавидеть ее. Потому что, как только она достигает определенного масштаба, она становится несправедливой».
Конечно, Хемингуэй односторонен, когда представляет конфликт художника и властей — причем любых — как абсолютный и неизбежный. Но его протест против «бюрократов», против их вторжения в сферу художественного творчества, безусловно, справедлив!
И во втором письме к Кашкину, датированном январем 1936 года, заметны и его дружеское расположение, и признание компетентности советского критика: «О моем творчестве вы знаете больше, чем кто-либо другой», — пишет Хемингуэй, приглашая Кашкина в гости. Можно лишь сожалеть, что их личная встреча не состоялась. Что же касается Хемингуэя, то характеристикой писателя служат такие слова из письма московскому адресату: «Может быть, вы враждебны всему, во что я верю, но я предпочитаю получить оплеуху от умного противника, хорошо знающего меня, чем слушать замшелую интеллектуальную размазню, производимую у нас в США под общим названием «критика».
И как вывод, полемически заостренный против недоброжелателей и врагов, утверждение ценности труда и творчества: «Я верю только в бессмертие написанного…»
Глава седьмая
К новым горизонтам
1
Оказавшись после долгого пребывания в Африке в Ки Уэсте, Хемингуэй возвращается к прежним занятиям. Утренние часы он обычно отдает работе, вторую половину дня — разного рода развлечениям, первое место среди которых занимает рыбалка, а также чтению. Постепенно он все больше осваивает прилегающий морской регион, в частности совершает поездки на островок Бимини, безлюдный, затерянный в море, ставший сущим раем для рыболовов.
Для дальних морских вояжей требовался катер, и летом 1934 года Хемингуэй его приобретает. Как раз в это время писатель получил солидный аванс от журнала «Эсквайр» за цикл очерков об африканской охоте и использовал его на покупку спортивного катера, который был специально построен на одной из верфей Бруклина и доставлен в Кн Уэст по железной дороге. Катер имел два мотора в 75 и 40 лошадиных сил, развивал скорость в безветренную погоду до 15–16 узлов в час. Катеру было дано название «Пилар» в память о ярмарке в Сарагоссе, проводившейся в честь святой девы Пилар. Кроме того, этим именем конспиративно подписывала свои письма Полин Пфейфер в пору своего знакомства с Хемингуэем, когда писатель был женат еще на Хедли Ричардсон. Позднее имя Пилар будет дано цыганке, героине романа «По ком звонит колокол». С катером «Пилар» (Хемингуэй им отменно управлял) связаны многие интересные страницы жизни Хемингуэя как в Ки Уэсте, так и на Кубе.
К середине 30-х годов Хемингуэй стал не только популярнейшим писателем, но и мастером, «мэтром», проза которого воспринималась уже как эталон повествовательного искусства. Летом 1934 года в Ки Уэсте появился молодой светловолосый человек из Миннесоты по имени Арнольд Самуельссон. Он окончил университет, после чего переменил множество профессий, был плотником, рабочим, газетчиком, бродяжничал по стране. Он мечтал стать писателем; накопив большой запас впечатлений и неплохих сюжетов, он приехал к Хемингуэю, чтобы узнать секреты его мастерства. Хемингуэй подружился с Самуельссоном, который остался у него на целых полтора года, выполняя функции сторожа катера за скромное вознаграждение — один доллар в сутки. Зато все это время он пользовался счастливой возможностью беседовать со знаменитым писателем и нередко сопровождать его в морских прогулках, поскольку был неплохим матросом. Однако часто из-за своей нерасторопности приводил Хемингуэя в совершенное отчаяние. Самуельссон неплохо играл на скрипке, за что получил прозвище Маэстро; позднее его стали называть уменьшительно: Майс. Единственный напечатанный им в газете материал показался Хемингуэю «ужасным». Тем не менее он охотно беседовал с Самуельссоном на свою любимую тему — о писательстве и сохранил имя своего ученика в истории литературы, сделав его действующим лицом известного очерка «Маэстро задает вопросы» (1935). Очерк построен на диалоге между Маэстро и Хемингуэем, который предлагает целую эстетическую программу.
Разъясняя своему ученику главный тезис: «Писать хорошо — значит писать правдиво», Хемингуэй комментирует разные стороны писательской «технологии»: как изучать и накапливать жизненные впечатления, каких авторов следует особенно внимательно штудировать, какие методы применять в работе над рукописями и т. д. Он не устает повторять: писательство — это каждодневный выматывающий труд, связанный с наблюдением, анализом, обдумыванием и совершенствованием текста; а в основе всего этого — безоглядная преданность своему делу.
Несмотря на столь полезные наставления большого мастера, Самуельссон не стал писателем, а занялся преподаванием литературы в университетах. После его смерти дочь обнаружила в архиве неопубликованную рукопись воспоминаний «С Хемингуэем», которая была издана в 1984 году. Это одно из самых серьезных и достоверных мемуарных свидетельств о писателе, проливающее свет на, пожалуй, наименее изученную пору его биографии, пребывание в Ки Уэсте в середине 30-х годов. Мемуарист выделяет многие поразившие его черты Хемингуэя, человека в высшей степени оригинального, излучавшего какой-то магнетизм. Это его редкостная интуиция, понимание людей, их характеров, а также художественная, эмоциональная память и наблюдательность в том, что касается, например, моря, погоды, разных видов рыб, их повадок.
Любопытны приводимые в книге суждения Хемингуэя о писательском труде, некоторые его советы, преподанные ученику. Уловив способность Самуельссона тонко воспринимать жизнь, Хемингуэй советует ему научиться также «чувствовать и других людей», для чего необходимо тренироваться, развивать свои способности. Писатель, занятый только собственными ощущениями, становится скучен; подлинный художник умеет «понять других людей, проникнуть в работу их мысли». Надо постоянно накапливать детали, относящиеся к описываемому предмету. Но все это отнюдь не следует выплескивать на бумагу: «В литературе важно то, что вы оставляете невысказанным. Девять десятых от этого остается под поверхностью».
Другой совет, данный Самуельссону, — необходимость для писателя всегда оставаться честным и принципиальным. Эта проблема всегда заботила Хемингуэя. Особо предостерегал Хемингуэй от писательства ради высоких гонораров, от приспособления к господствующим вкусам, говорил об опасности компромиссов. Подобная позиция уже сыграла роковую роль в судьбе его друга Скотта Фицджеральда.
Хемингуэй рассказал своему молодому другу следующий случай. Однажды он получил письмо от Джорджа Лорримера, хозяина популярного массового журнала «Сэтерди ивнинг пост», расходившегося в миллионах экземпляров. Лорример. предлагал Хемингуэю немалую сумму в 5 тысяч долларов за любой материал, даже за совсем небольшой очерк, всего в тысячу слов. В это время Хемингуэй испытывал материальные затруднения, но, несмотря на всю заманчивость подобных условий, даже не ответил на это письмо.
Все, кто сталкивался с Хемингуэем, отмечают одну его характерную особенность — ноту «учительства», «менторства», стремление передать другим свой опыт. Ему нравилось, когда рядом были молодые люди, которых он мог обратить в свою веру. С годами эти черты все отчетливее давали о себе знать.
2
В Ки Уэсте Хемингуэй после почти десятилетнего перерыва вернулся к журналистике. С конца 1933 по август 1936 года он был постоянным автором журнала «Эсквайр», в котором опубликовал около 25 фельетонов, очерков и шесть новелл. Журнал был задуман его редактором Арнольдом Гингричем, приятелем Хемингуэя, как своего рода «мужской» эквивалент известного «женского» журнала «Воуг» («Мода»). «Эсквайру» нужны были громкие имена, и Гингрич предложил Хемингуэю по 250 долларов за небольшие по объему материалы о рыбной ловле и охоте, интересные «мужскому» читателю. При этом Хемингуэй мог писать и на любые другие темы, высказывать любую точку зрения. Писатель согласился. В упомянутом первом письме Ивану Кашкину в августе 1935 года Хемингуэй сообщает, что публикует в «Эсквайре» «всякую всячину», чтобы «прокормить себя и свою семью». Однако эти слова писателя нельзя абсолютизировать. Думается, что это не так. Писатель, даже обращаясь к журналистике, не работал вполсилы. В лучших, хотя и не во всех материалах для этого журнала чувствуется почерк многоопытного мастера; в ряде очерков представлена его политическая и эстетическая позиция.
Хемингуэй отнюдь не был равнодушен к политике, особенно к международным отношениям, как это казалось некоторым. В очерке «Заметки о будущей войне» он анализирует ситуацию в Европе осенью 1934, года, обнажает милитаристские амбиции Муссолини, готовящегося к захвату Абиссинии. Эта тема продолжена в известном очерке «Крылья над Африкой» (1936), в котором он уже резко осуждает фашистскую агрессию против африканской страны. Этот очерк — своеобразный пролог антифашистской публицистики, рожденной гражданской войной в Испании. Он знает, что такое война, кто от нее страдает. Об этом напоминают заключительные строки очерка: «Сынки Муссолини летают на самолетах, не рискуя быть сбитыми, потому что у противника самолетов нет. Но сыновья всех бедняков Италии служат в пехоте — во всем мире сыновья бедняков всегда служат в пехоте. Лично я желаю пехотинцам удачи; но еще я желаю им понять, кто их враг и почему» (I, с. 494).
Показательно и еще одно свидетельство политической позиции «аполитичного» Хемингуэя — его очерк «В защиту Кинтанильи», опубликованный в феврале 1935 года. Это — выступление писателя, призывавшего спасти его друга, замечательного испанского художника Кинтанилью, которому угрожало тюремное заключение. Кинтанилья восхищает скупого на похвалы Хемингуэя. Он не только выдающийся мастер, создающий «прекрасные гравюры, которым суждена долгая жизнь», но и человек большого мужества, республиканец и истинный революционер, готовый рисковать своей жизнью во имя убеждений.
В этом очерке мы находим резкую отповедь Хемингуэя тем «новообращенным», кто слишком легко употребляет слово «революция». Демагоги, болтуны, манипулирующие «левой» фразеологией, неизменно вызывали у него презрение.
В публикациях в «Эсквайре» Хемингуэй не мог обойти своей любимой темы — писательства. Об этом идет речь в уже упоминавшемся очерке «Маэстро задает вопросы» (1935). Принципиально важен для его идейно-эстетической позиции и более ранний очерк «Старый газетчик пишет…» (1934). Он свидетельствует о глубоком разочаровании, пережитом в 20-е годы: как и многие, Хемингуэй верил в революцию и с горечью наблюдал, как повсеместно в Европе она терпела поражение. Ему открылись также цинизм и своекорыстие буржуазных политиканов; это вызвало в нем неприязнь к политике вообще. Отсюда — осуждение Хемингуэем тех писателей, которые наживают капитал популярности, примкнув к какой-либо влиятельной партии. Занимаясь политиканством, они изменяют коренному художественному принципу — содействовать углублению знаний о человеке.
Хемингуэй отстаивал немало метких, ставших почти афористическими формул, касающихся природы писательского труда. Одну из них мы находим в названном очерке: «Нет на свете дела труднее, чем писать простую честную прозу о человеке». Безупречная правда изображения тех людей, которых «знаешь, любишь или ненавидишь, а не тех, которых только еще изучаешь», — залог подлинного искусства. А тогда «все социально-экономические выводы будут напрашиваться сами собой». И в этом очерке Хемингуэй повторил свою излюбленную мысль о высшем счастье, которое приносит писателю плодотворный труд и создание жизненных произведений.
Но в основном материалы для «Эсквайра» затрагивали две главные темы: искусство рыбной ловли и охоты. Эти очерки писались в форме «писем», присланных непосредственно из Танганьики, с Кубы, с Гольфстрима, адресовались «мужскому» читателю журнала и содержали не только живые описания, но и весьма солидные рекомендации. Они были тем более интересны, что принадлежали не только знаменитому писателю, но и опытному рыболову и охотнику. Видимо, Хемингуэю импонировала подобная роль поучающего, равно как и прославление мужских добродетелей: силы, находчивости, неукротимого желания побеждать.
Как и всегда, Хемингуэй не только безукоризненно конкретен в деталях, относящихся к «технологии», скажем, ловли марлина или охоты на куду, он умеет зажечь читателя гаммой разнообразных волнующих ощущений, которые испытывает рыболов или охотник. Вот только одно описание, взятое наугад: «…Что за удовольствие ловить рыбу с катера? Его получаешь от того, что рыба — существо удивительное и дикое — обладает невероятной скоростью и силой, а когда она плывет в воде или взвивается в четких прыжках, это — красота, которая не поддается никаким описаниям; и чего бы ты не увидел, если бы не охотился в море. Вдруг ты оказываешься привязанным к рыбе, ощущаешь ее скорость, ее мощь и свирепую силу, как будто ты едешь верхом на лошади, встающей на дыбы».
Лучшие из этих очерков сопрягаются с художественными произведениями Хемингуэя, это своеобразные к ним «заготовки», не лишенные собственного эстетического значения. Так, в одном из них («Исчезновение президента») Хемингуэй описывает, как он рыбачил вместе со своим приятелем Майком Стрейтером, президентом Клуба штата Мэн по ловле тунцов. Стрейтеру посчастливилось поймать огромного марлина длиной в 12 футов и после почти часовой борьбы пришвартовать его к борту катера. В этот момент Хемингуэй заметил стаю акул и, желая защитить добычу, открыл по ним огонь из пистолета-пулемета, чего, видимо, не следовало делать. Море покрылось пятнами крови. Разъяренные хищницы бросились на марлина и почти всего его растерзали.
В другом очерке («На голубой воде. Гольфстримское письмо») содержалось короткое упоминание о кубинском старике рыбаке, который поймал гигантского марлина, утащившего его лодку в открытое море. Два дня сражался с ним старик, пока марлин, затащивший лодку на глубину, не всплыл на поверхность. Старик привязал марлина к лодке, и в этот момент ее атаковали акулы. «Он бил их багром, колол гарпуном, отбивал веслом, пока не выдохся, и тогда акулы съели все, что могли. Он рыдал, когда рыбаки подобрали его, полуобезумевшего от своей потери, а акулы все еще продолжали кружить вокруг лодки».
Безусловно, эти, да, видимо, и другие аналогичные эпизоды Хемингуэй использовал спустя почти полтора десятилетия, когда писал свою знаменитую повесть «Старик и море».
3
Между тем как бы ни отзывался Хемингуэй о многих критиках, их справедливые замечания он не мог не учитывать. Африканские впечатления появились не только в его книге «Зеленые холмы», в нескольких «письмах» из Танганьики, напечатанных в «Эсквайре», но и в двух его хрестоматийных новеллах: «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» и «Снега Килиманджаро», написанных в 1936 году. В них Хемингуэй обнаруживает то самое острое, критическое социальное зрение, в отсутствие которого его как раз зачастую упрекали в то время.
Сюжет «Макомбера» был ему подсказан жизнью. От Филипа Персиваля он слышал историю, действительно имевшую место в Восточной Африке в 1908 году. В джунглях Кении охотились английский аристократ лейтенант Блит, его жена и приятель Блита, тоже офицер, Паттерсон. Согласно версии последнего, Блит, страдавший от лихорадки, случайным выстрелом из револьвера в голову нанес себе смертельную рану. Было проведено расследование, правда, не доведенное до конца, оно дало серьезные основания подозревать, что Блит был убит и что здесь мог сыграть свою роль роман, начавшийся между Паттерсоном и женой Блита. Эта история явилась для Хемингуэя «зародышем» его будущего рассказа. Но история Блита была Хемингуэем существенно трансформирована.
Чета Макомберов, героев новеллы, приехавших на охоту в Африку, принадлежит к характерной для Хемингуэя типологии богатых людей, привыкших к развлечениям и удовольствиям. При этом Фрэнсис лишен негативной психологической однолинейности. Новеллист, всегда размышлявший над человеческой натурой, над способностью к мужественному поведению, был уверен, что люди не рождаются смельчаками. Испугавшийся раненого льва, Макомбер страдает и от того, что его презирают окружающие, и от того, что его откровенно третирует жена. И все-таки в финале, во время охоты на буйвола, он обретает мужество, восстанавливает веру в себя. Это и становится его «недолгим счастьем», прерванным предательским выстрелом. Белый наемный охотник, «краснолицый» Уилсон, прототипом которого считается Филип Персиваль, — характерный «сильный» хемингуэевский «герой кодекса». Он смел, хладнокровен, привык убивать «все, что надо», обслуживать за большие деньги богатых бездельников, к которым относится не без иронии. Отнюдь не «святой», он не отказывается от адюльтера с Марго.
Жена Макомбера — фигура, важная для понимания хемингуэевской этики. Писатель явно презирает богатых женщин, ибо деньги и жажда удовольствий убивают в них, нередко внешне привлекательных, человечность. Уилсон думает о них: «самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные». Здесь слышен и голос рассказчика.
Своеобразно интерпретируется автобиографический материал в другой знаменитой новелле «Снега Килиманджаро». Еще в «Зеленых холмах» в литературных экскурсах Хемингуэй затрагивает тему коррупции, которой подвергаются писатели, называет при этом три фактора: вино, женщины и деньги. Поводом для написания рассказа, по свидетельству Хемингуэя, явился следующий эпизод. После возвращения из Африки какая-то его поклонница, богатая женщина, возможно, Джейн Мейсон, предложила ему вторично отправиться на сафари, при этом брала на себя расходы. Писатель отказался. Однако это дало ему пищу для размышлений о том, что случается с писателями, которые в погоне за удовольствиями перестают серьезно работать или, подобно Фицджеральду, начинают писать вполсилы, поставляя продукцию невысокого качества в «массовые» высокогонорарные журналы. Не случайно, однако, что в своем рассказе Хемингуэй доверил писателю Гарри многие факты собственной биографии. Умирающий Гарри — это отчасти сам Хемингуэй, каким он мог бы стать, если бы поддался соблазнам той «сладкой», бессмысленной жизни, которую ведут «очень богатые люди». Такая опасность угрожала ему в 30-е годы.
Для реализации этого сюжета нужно было найти оптимальную художественную форму, и она, возможно, была подсказана чтением «Смерти Ивана Ильича» Толстого, художника, перед которым, как уже отмечалось, Хемингуэй преклонялся. В произведениях есть сходные мотивы, и ситуации. Оба героя, и Иван Ильич и Гарри, предали себя, во имя комфорта, материального благополучия. Оба никогда не любили, а теперь ненавидят своих жен, олицетворяющих те самые ценности, от которых оба они теперь готовы отказаться. Раздираемые то жалостью к себе, то самоосуждением, они пытаются уйти от реальности приближающегося конца, вспоминая какие-то светлые эпизоды своей жизни, детство, юность. Но самое главное — и в этом одно из открытий реалистического искусства Толстого — то, что герои запечатлены в «момент истины», перед лицом небытия, когда они, беспощадно отрешившись от иллюзий и ложных фетишей, оценивают себя и свое прошлое.
Такова общая схема, но она насыщена в «Килиманджаро» специфически хемингуэевским материалом, будь то характер героя, его африканское окружение, а также характерные приемы повествования.
В отличие от «Макомбера», в «Килиманджаро» почти не происходит никаких событий. Герой, писатель Гарри, охотившийся в Африке, лежит на койке, беспомощно ожидая конца. На первый взгляд, его гибель случайна; царапина на ноге, на которую он не обратил поначалу внимания, привела к гангрене, из-за поломки грузовика его нельзя доставить в больницу и спасти. Но эта случайность — чисто внешняя. Нравственно Гарри — впрочем, как и Фрэнсис Макомбер, — мертв. Понадобилось несчастье, чтобы герой это осознал. Гарри ждет конца, общаясь только с женой, которая тщетно пытается подбодрить его и которой он высказывает теперь все, что думает. У него осталось немного времени дать оценку себе, вспомнить пережитое.
С помощью ретроспекций, подобных кинематографическим кадрам, проходит его жизнь. Отдельные эпизоды и сцены, как мы знаем, «взяты» из биографии самого Хемингуэя: это и леса в Мичигане, и австро-итальянский фронт, и поездка в Константинополь, и греко-турецкий театр боевых действий, и светлые впечатления парижской жизни, и швейцарские курорты. Герой не хочет себя оправдывать. Он был обещающим литератором, а потом перестал серьезно работать. И вот — расплата за приобретенное богатство и признание, за избранный им образ жизни.
Немного найдется произведений, в которых тема падения художника была бы показана с такой жесткостью. Попав в стан богатых, Гарри полагал, что будет лишь «соглядатаем», но сделался частью их уклада: «…Каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе…» (I, с. 444). Жена героя, видимо принесшая ему деньги, сыграла роль «ласковой опекунши и губительницы его таланта». Она виновата в том, что «обставила его жизнь удобствами». А он «загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами» (I, с. 445).
Как и всегда у Хемингуэя, главная мысль выражена построенными на нюансах диалогами Гарри и его жены, деталями африканского пейзажа, передающими настроение, а также несколькими образами и символами: это дежурящая у лагеря воющая гиена; это зловещие грифы, вестники смерти. Назовем еще один образ повышенной смысловой выразительности, давший, кстати, критикам щедрую пищу для дискуссий. Это образ снега, белизны, «громадной, уходящей ввысь, немыслимо белой под солнцем, квадратной вершины Килиманджаро». Что олицетворяет эта хрустальная красота? Видимо, высоту подлинного искусства, к которому всегда надо стремиться, ибо только оно — вечно и непреходяще…
4
Общение с богатыми людьми обнажило перед Хемингуэем не только их бездуховность и эгоизм. Он столкнулся и с их преступностью. Это произошло в конце лета 1935 года. В местной газете появилось сообщение о том, что тропический ураган, возникший в районе Багамских островов, устремляется в направлении Флориды. Такие «выходки» природы в этих местах не были новостью, об этом хорошо знали. До прихода урагана оставалось два дня, к нему можно было подготовиться. Так, в сущности, и сделали в Ки Уэсте, в некоторых других местах во Флориде. Но в числе забытых, и не случайно, конечно, оказался маленький островок Матекумбе, на котором были расположены рабочие лагеря бывших ветеранов войны, людей, оказавшихся без средств к существованию, живших на жалкие подачки, именуемые федеральной помощью. Поезд, отправленный для их эвакуации, вышел слишком поздно и к тому же из-за порыва ветра сошел с рельс. Ураган, обрушившийся на Матекумбе, разметал палаточный городок, а это привело к гибели почти тысячи человек. Картина, увиденная Хемингуэем, потрясла писателя. И он написал очерк, в заголовке которого уже содержалось обвинение: «Кто убил ветеранов войны во Флориде».
Известный публицист Джозеф Норт, член редколлегии радикального журнала «Нью мэссиз», рассказывает, что, узнав об урагане во Флориде и вспомнив, что там живет Хемингуэй, он рискнул направить ему телеграмму с просьбой дать об этом материал. Затея казалась ему наивной, главный редактор даже упрекнул его за излишнюю трату денег; касса журнала была пуста. Каково же было удивление Норта, когда на редакционном столе через несколько дней появился толстый длинный конверт с обратным адресом: «Ки Уэст, Флорида». Хемингуэй написал, наверно, несколько непривычный для себя очерк, исполненный страсти и протеста.
Перед нами — очерк-расследование, в котором с документальной точностью воспроизведены факты и обстоятельства трагедии. И названы главные ее виновники — власть имущие, толстосумы, яхтовладельцы, рыболовы, которых ничто не тревожит, кроме их собственности. Это они бросили на произвол судьбы ветеранов. Очерк впечатляет, потому что написан рукой художника. Картина — ошеломляющая; остров после урагана напоминает поле боя, усеянное трупами, начинающими раздуваться от жары. Они погибли не на войне, а в мирное время, став жертвами не только стихии, но и чудовищного равнодушия к их судьбе.
Хемингуэй, при всей своей склонности к браваде, всегда оставался художником-гуманистом. Вот почему такого презрения исполнен в его очерке пассаж, обращенный к «собратьям по перу», которые, прочитав газетную хронику, даже не побывав на месте событий, уже спешат сочинить новый роман об урагане.
Обычно сдержанный Хемингуэй заканчивал свой очерк-реквием патетическими словами: «Ты мертв, брат мой! Но кто бросил тебя в ураганный период на островах, где тысяча людей до тебя погибла от урагана, строя дорогу, смытую теперь водой? Кто бросил тебя там? И как теперь карается человекоубийство?» (I, с. 486).
Так Хемингуэй, декларировавший невмешательство художника в общественную жизнь, заявил о своих гражданских чувствах. Конечно, он никому не подражал, повинуясь внутреннему порыву. В широком плане он следовал гражданской традиции американской литературы. Вспомним, как Генри Торо протестовал против казни Джона Брауна, Уильям Дин Хоуэллс — против расправы над рабочими лидерами в Хеймаркете, Марк Твен вместе с другими деятелями Лиги антиимпериалистов — против агрессивной политики США, Джон Рид, Альберт Рис Вильямс и их единомышленники, — против антисоветской интервенции.
5
Хемингуэй отнюдь не был литератором, лишь талантливо живописавшим охоту, рыбную ловлю, природу, веселый досуг богачей, литератором, изолированным от больших общественных проблем, каковым его пытались представить иные критики. Это наглядно подтвердил его роман, название которого четко обозначило тему: «Иметь и не иметь». В нем подчеркивались противоположность, контраст двух миров, миров имущих и неимущих, состоятельных и бедных.
Замысел романа созрел, не сразу. Первоначальным его «зерном» явились два очерка о Гарри Моргане, контрабандисте, напечатанных в журнале «Эсквайр». Затем, видимо, в течение 1936 года он переработал их в три новеллы, объединенные одним образом Моргана, которые поначалу намеревался создать новеллистический цикл, чем-то напоминающий цикл о Нике Адамсе. Затем он остановился на более цельном произведении — романе. Работа над ним шла в течение всего 1936 года и была прервана поездкой в Испанию. После возвращения из Мадрида летом 1937 года он завершил роман; именно тогда после многих сомнений он и выбрал для него заголовок.
Роман появился на книжных прилавках в октябре 1937 года и оказался среди бестселлеров; довольно быстро было продано около 25 тысяч экземпляров. Реакция критики не была однозначной. Единодушно признавалось, что в книге предстает какой-то «новый» Хемингуэй и что именно испанская война — причина пробуждения у него «до того глубоко затаенного социального сознания». Критики консервативного направления упрекали писателя за то, что тот «полевел», «уступил» воздействию марксистской идеологии.
В романе воплотились непосредственные наблюдения Хемингуэя над Ки Уэстом, его топографией, описаны его улочки, кабачки, жизнь порта, возникают фигуры его обитателей: рыбаков, контрабандистов, завсегдатаев баров, ветеранов войны, перебивающихся на нищенское пособие. А рядом с ними — фигуры богатых бездельничающих туристов, паразитирующих на горе бедняков. Они выписаны писателем с иронией, а порой с откровенным презрением.
В центре произведения — образ Гарри Моргана. Этот образ еще одно звено в характерной для Хемингуэя типологии его «героев кодекса». Он смел, физически силен, немногословен, способен бесстрашно смотреть в лицо опасности. И в то же время он — во многом уже новый герой, отличающийся от своих предшественников. Гарри Морган предстает как жертва социальной несправедливости, как один из тех, кто был сброшен на «дно» жизни в пору гуверовской «депрессии». Но он, и это тоже новое качество, начинает понимать, социальные причины своей горькой участи.
Три части романа: «Весна», «Осень», «Зима» — это три последовательных фазиса «заката» героя. И в конце концов, именно мир имущих — тому причиной. Гарри Морган подрабатывает тем, что на своей лодке возит на рыбную ловлю богатых туристов. Один из них, состоятельный американец мистер Джонсон не только упускает дорогостоящую рыболовную снасть, но и подло обманывает Моргана, вообще не расплатившись и за все другие услуги. Чтобы как-то компенсировать эти утраты, Морган соглашается тайком переправить группу китайцев по договоренности с авантюристом — неким, мистером Сингом, которого затем убивает. Через некоторое время мы встречаемся с Гарри Морганом, который вынужден заняться контрабандой, доставкой с Кубы в Соединенные Штаты спиртного. Во время одного из вояжей он сталкивается с охраной, вступает в перестрелку и получает тяжелое ранение в руку. Лодку Моргана, таящуюся в зарослях магнолий, и его самого замечают богатые туристы. Они доносят охране, и у Моргана конфискуют лодку. Сам он лишается правой руки.
Искалеченный Гарри Морган, у которого семья — жена и три дочери, потерял средства к существованию. Но он не может смириться с тем, чтобы у его детей «подводило животы от голода», не желает также рыть канавы, подобно безработным ветеранам, ибо и этих грошей не хватит, чтобы прокормить семью. «Я не знаю, кто выдумывает законы, — с горечью констатирует герой, — но я знаю, что нет такого закона, чтобы человек голодал…» (II, с. 548). Не случайно один из приятелей Гарри Моргана, который, кстати, в бытность рабочим на фабрике участвовал в забастовках, говорит, что тот рассуждает как «красный».
Именно социальная незащищенность и безвыходность положения вынуждают Моргана пойти на очередной, оказавшийся роковым, рискованный шаг — перевезти за деньги группу кубинских террористов на родину. Морган понимает, чем ему грозит подобная операция. Он пробует похитить конфискованную лодку, но ее обнаруживают и возвращают. Тогда, он берет лодку под залог у хозяина бара Фредди.
Писатель сочувствует своему герою. Но он отнюдь не оправдывает его. Доведенный до отчаяния, стремясь прокормить семью, Гарри Морган готов идти на все, теряет понятия о добре и зле, критерии дозволенности и, ставя на карту собственную жизнь, лишает жизни других людей.
С несомненным искусством, отличающим Хемингуэя, умеющего изображать героев в «момент истины», описан в романе последний рейс Гарри Моргана. Группа террористов, совершив ограбление банка в Ки Уэсте и убив одного из служащих, спешит на лодке Моргана на Кубу, спасаясь от погони. Главарь группы Роберто попутно убивает и помощника Моргана бедняка Элберта; такая же учесть ожидает и самого Гарри. Последний находит в себе силы, проявив немалую находчивость, перебить своих врагов, но при этом получает смертельную пулю в живот. Сторожевой катер подбирает лодку Моргана и приводит ее в порт. Умирающий, находящийся в полубреду Морган не в состоянии рассказать что-либо, он лишь произносит слова, которые стали «хрестоматийными»: «Человек, — сказал Гарри Морган. — Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один. — Он остановился. — Все равно человек один не может ни черта» (II, с. 632).
Далее следует такой писательский комментарий: «Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это» (II, с. 632).
Мысль о необходимости коллективных усилий, буквально выстраданная героем, достаточно неожиданная для Хемингуэя, художника индивидуалистического склада, была предельно созвучна психологическому климату «красного десятилетия». Вспоминая о нем, критик Мальколм Каули писал: «В это время говорили не «я», а «мы», не «мое», а «наше». Это было отнюдь не расхожим лозунгом, отвлеченной декларацией. Хемингуэевский Морган — один из тех героев литературы 30-х годов, которые мучительно пробиваются, если употребить выражение Поля Элюара, к «горизонту всех людей».
Видимо, пребывание в Испании стимулировало обращение Хемингуэя к столь волновавшей его проблеме революции, проблеме насилия, целей и средств в революционной борьбе. Об этом свидетельствует крайне важный эпизод с перевозкой кубинцев в лодке Моргана. Их вожак Роберто выказывает крайнюю жестокость, в частности, когда убивает, «на всякий случай», Элберта Трэси, бедняка. Юноша Эмилио так говорит о Роберто: «Хороший революционер, но дурной человек. Он стольких убивал во времена Мачадо, что привык к этому. Ему теперь даже нравится убивать. Правда, ведь он убивает ради дела» (II, с. 587).
Эта характеристика весьма существенна. От Роберто тянется нить к образам Марти и Пабло в «Колоколе». Хемингуэя, безусловно, тревожило то, что в ходе классовой борьбы, обострившейся в 30-е годы, совершались не оправданные, а порой бессмысленные убийства. До него доходили сообщения о репрессиях периода культа личности. Жестокое насилие нередко прикрывалось «левой» фразой, соображениями высшей революционной целесообразности. Видел Хемингуэй подобные эксцессы и в Испании. В романе молодой Эмилио, безусловно, субъективно честный человек, непохожий на «мясника» Роберто, произносит взволнованные слова о судьбе своей несчастной родины, Кубы, мечтает покончить с американским империализмом и тиранией военщины, но и он разделяет принцип: «Цель оправдывает средства».
В этом произведении писатель широко, даже с непривычной акцентировкой использовал принцип контраста, подчеркивая не только, полярность, но враждебность двух миров — «иметь и не иметь». С одной стороны — изгои, подобные Гарри Моргану, безработные ветераны, заливающие горе и отчаяние в кабачках Ки Уэста; с другой стороны — богатые прожигатели жизни. Мотив осуждения «очень богатых людей», намеченный в «Макомбере» и «Килиманджаро», звучит здесь еще громче. Гнев и презрение двигало пером Хемингуэя, когда он описывал этих людей. Он явно не щадит бездарного писателя Ричарда Гордона, пьяницу, человека нечистоплотного, который, между прочим, сочиняет роман на «модную» тему о забастовке.
Противопоставление миров «иметь» и «не иметь» достигает поистине пронзительной силы в 24-й главе романа: в то время как катер с умирающим Гарри Морганом буксируют к порту Ки Уэст, в роскошных яхтах почивают их владельцы. Писатель одну за другую «наслаивает» их убийственные характеристики, он словно бы предлагает читателям целый реестр пороков «очень богатых людей».
Их падение оттенялось нравственной высотой, великодушием женщин, познавших труд и нищету. Такова жена бедняка Элберта Трэси. Такова Мария, жена Гарри Моргана. Финальным аккордом романа стало изображение горя Марии, уже стареющей женщины, потерявшей не только кормильца семьи, но и сильного, смелого мужчину, которого она любила по-своему преданно и горячо. Их судьбы становятся в романе горьким укором миру «иметь».
И все же, в отличие от романа «Прощай, оружие!», новый роман не был до конца художественно органичным. Обратившись к новой для себя социальной теме, Хемингуэй искал свежие приемы и формы повествования.
Как и всегда у Хемингуэя, в романе великолепны описания рыбной ловли, картины моря и поездок на катере; выразительны сцены пьяного угара в барах Ки Уэста. Вместе с тем заметно усложнилась повествовательная манера писателя. Так, первая часть построена как рассказ от лица Гарри Моргана. Вторая — это авторское повествование. В девятой главе, открывающей третью часть, события даны через восприятие Элберта Трэси. Одиннадцатая глава — развернутый внутренний монолог Гарри Моргана. Приемы Хемингуэя напоминают здесь кинематограф: действие развертывается не последовательно, а скачками и дано в виде «кадров», когда выхвачены главные эпизоды из жизни персонажей, опущены некоторые страницы их биографий, о чем следует догадываться читателю. Что не до конца удалось Хемингуэю, так это композиция: она кажется несколько хаотичной, дробной, роман словно распадается на отдельные новеллы и сцены, каждая из которых, однако, сделана с прежним хемингуэевским искусством. Связь двух миров «иметь» и «не иметь» недостаточно органична. Но одно несомненно: открылась новая страница творчества Хемингуэя.
Глава восьмая
Испания
1
День 18 июля 1936 года, когда по радио Саламанки был передан условный сигнал: «Над Испанией чистое небо», означавший приказ о начале франкистского мятежа, остался как горестная дата в истории Европы. Битва между фашизмом и демократией, только что родившейся республикой, на далеком Пиренейском полуострове вызвала взволнованный отзвук в сердцах многих американцев, особенно в среде художественной интеллигенции.
Официально правительство США провозгласило нейтралитет. Но в стране возникали общественные организации с целью поддержки республиканцев. Вдохновляющим проявлением интернационалистских чувств стало участие американских добровольцев в рядах батальона имени Линкольна. В заграничных паспортах американцев ставили штамп: «Не действителен для Испании». И все, кто уезжал, делали это тайком, словно беглецы. Всего в Испанию отправилось из США около 3800 волонтеров. Примерно половина навсегда осталась в испанской земле. Те же, кто вернулся, подверглись репрессиям, особенно во времена маккартизма.
Свое горячее сочувствие республике мастера культуры, прежде всего писатели, доказывали не только на словах. Многие спешили на место событий, чтобы описать увиденное. Участниками антивоенного конгресса в Барселоне были Драйзер и видный критик Мальколм Каули. Дороти Паркер, мастер сатирико-психологической новеллы, побывав в Мадриде и Валенсии, пишет очерк «Солдаты Республики», исполненный нового для себя, героического звучания. О мужестве, осажденного Мадрида рассказала в своем репортаже драматург Лилиан Хеллман. Героизму интербригадовцев, побывав в Испании, посвятил стихи видный негритянский поэт Ленгстон Хьюз.
Среди тех мастеров культуры, кто был в те годы в Испании, наверное, самой прославленной фигурой был Эрнест Хемингуэй. Конечно, им двигали антифашистские убеждения. Но не только они.
Хемингуэй питал к Испании особые чувства, считал ее своей второй родиной. Любил ее народ, ее историю. После поездки в 20-е годы на фиесту в Памплону говорил, что Испания — «самая лучшая страна в Европе». В Испании развертывалось действие его романа «И восходит солнце» (1926), трактата о бое быков «Смерть после полудня» (1932), а также ряда новелл, герои которых — матадоры. Его пленял бой быков не только как острое, захватывающее зрелище; он видел в корриде сгусток мужества, искусства, того «кодекса чести», которое так ценил. У него было немало друзей среди испанцев, например, художник Луис Кинтанилья, композитор и критик Густаво Дуран. Ему импонировали в испанцах, язык и культуру которых он хорошо знал, мужество, непосредственность, близость к природе, хотя он отнюдь не идеализировал простых людей. Он также любил и тонко чувствовал испанскую архитектуру, живопись, особенно Эль Греко, Гойю; приезжая в Испанию, первым делом в Мадриде спешил в музей Прадо. Испания в его глазах среди европейских стран в наименьшей мере испытала воздействие «машинной» цивилизации, которая вызывала его неизменную неприязнь.
Франкистский мятеж он воспринял как возможный пролог «большой воины», которая неотвратимо разразится в Европе. К решению писателя поехать в Испанию, противостоять там фашизму добавлялись и личные причины. Жизнь в Ки Уэсте начинала его тяготить. Светские развлечения как-то засасывали, отвлекали от главного — литературного дела. Ему как художнику слова нужны были свежие впечатления.
Наконец, немалую роль сыграл начавшийся в Ки Уэсте роман Хемингуэя с Мартой Геллхорн (р. в 1908 г.), молодой одаренной журналисткой. Марта была на девять лет моложе Хемингуэя. Дочь профессора, она, в начале 30-х годов выступила со статьями, а вскоре выпустила две книги. Некоторые критики отмечали воздействие на нее стиля Хемингуэя. Внешне привлекательная блондинка, Марта была женщиной одаренной, умной и честолюбивой. Между ней и Хемингуэем возникла взаимная симпатия. Марта собиралась в качестве корреспондента в Испанию.
Когда Полина Пфейфер узнала о намерении Хемингуэя уехать, она энергично возражала, опасаясь за мужа, который мог погибнуть. Кроме того, ревностная католичка, она сочувствовала мятежникам; ведь церковь в Испании была на стороне Франко. Но Хемингуэй был тверд в своем намерении. Еще раньше он собрал 40 тысяч долларов на покупку 24 санитарных машин, оплатил поездку в Испанию нескольких добровольцев-интербригадовцев. Кроме того, он принял почетный пост президента Комитета «Американские друзья Испанской республики».
Когда его упрекали в политической наивности, поскольку он встал на сторону трудящихся против церкви, на сторону коммунистов против фашистов, он, разъясняя свою позицию, писал, что война в Испании — «скверная война», но его симпатии принадлежат «простым людям». Он осуждает зверства фашистов, бессмысленное уничтожение мирного населения.
В начале 1937 года Хемингуэй получил предложение от Джона Уиллера, директора НАНА (Северо-американского газетного объединения), поставлявшего материал почти для шестидесяти газет, заключить с ним контракт на корреспонденции из Испании. Это была уже третья война, которую ему предстояло увидеть.
2
Хемингуэй выехал в Испанию в конце февраля 1937 года. Из Франции самолетом перелетел в Барселону; там он увидел, как шла мобилизация и царило всеобщее воодушевление.
Тем временем обстановка на фронте относительно стабилизировалась. После быстрого продвижения летом 1936 года мятежники были остановлены у самых стен Мадрида. Началась героическая оборона города, длившаяся около двух с половиной лет. Республиканцы начали создавать регулярную армию, причем душой антифашистского сопротивления стали коммунисты. В ряды республиканцев вливались волонтеры-интербригадовцы. Добровольцы — танкисты, летчики, артиллеристы, а также военные советники — прибыли и из Советского Союза. В марте 1937 года, как раз накануне приезда Хемингуэя, после серии неудач республиканцы одержали первую победу, разбив под Гвадалахарой итальянский экспедиционный корпус, пытавшийся прорваться к Мадриду с северо-запада. Эта победа вызвала в Испании энтузиазм, само слово «Гвадалахара» сделалось своеобразным паролем антифашистского сопротивления.
Все эти события Хемингуэй подвергал объективному анализу. В Мадриде Хемингуэй поселился в гостинице «Флорида»; во время осады города она постоянно находилась в зоне обстрела фашистских орудий.
Первые материалы, отправленные Хемингуэем из Испании, были посвящены успехам республиканцев под Гвадалахарой и Бриуэгой. При этом сами его репортажи уже несколько отличались от тех, которые были посланы в 1922 году с греко-турецкого фронта в газету «Торонто стар». Тогда он стремился лишь точно и наглядно информировать о том или ином конкретном событии. К тому же ему не довелось тогда наблюдать непосредственно боев между турками и греками. В Испании он воссоздавал многообразную панораму: делал зарисовки пейзажа, рассказывал о стратегическом значении проведенной операции, о ее политическом эффекте, о настроениях офицеров и солдат, о реакции гражданского населения.
«Во время войны в Италии, — свидетельствовал Хемингуэй, — когда я был юношей, то натерпелся страху. В Испании я избавился от страха через пару недель и чувствовал себя счастливым». Артур Бареа, испанский писатель, работавший в отделе цензуры, пишет о Хемингуэе как о «большом и шумном человеке, с выражением обиженного ребенка на круглом лице, скромном… отличном компаньоне за столом, любителе грубых шуток… всем интересующемся, скептическом, интеллектуальном в своей пытливости, общительном и дружелюбном, порой погруженном в себя и печальном».
Хемингуэй посетил поле боя под Гвадалахарой, где всюду виднелись следы разгрома итальянцев. Но особенно волнующей стала его встреча с соотечественниками, бойцами батальона Линкольна, потерявшими в боях на Хараме почти половину состава. Он дружески общался с солдатами, с ранеными. Эдвин Ролф, поэт и публицист левых убеждений, редактировавший газету линкольновцев «Волонтер свободы», вспоминал, что во время этого посещения Хемингуэй, казалось, «вливал в уставших бойцов частицы своей силы и скромного мужества». «Они знали, — продолжает Ролф, — что в его теле еще оставались осколки после тяжелого ранения. И то, что этот человек, всемирно знаменитый, отдавал свое время и силы делу республиканской Испании, во многом содействовало повышению боевого духа тех американцев, которые находились на передовой».
В отличие от иных буржуазных корреспондентов, искавших лишь сенсаций, Хемингуэй не только профессионально выполнял свой журналистский долг, но и стремился по возможности помочь делу республики.
Образы линкольновцев широко войдут потом в творчество Хемингуэя. Писателя поражало мужество вчера еще сугубо штатских, необстрелянных людей. Герой его очерка «Американский боец» Рэвен, клерк из Питтсбурга, — один из тех, кого писатель, посетил в госпитале. Вспоминая о смелости этого человека, тяжело раненного, потерявшего зрение, Хемингуэй подытожил свой очерк такими знаменательными словами: «Это какая-то новая удивительная война, и многое узнаешь в этой войне, все то, во что ты способен верить» (III, с. 696). В очерке «Мадридские шоферы» Хемингуэй рассказывал о четверых спутниках, шоферах его машины. Трое из них не оправдали надежд; среди них оказались трус, нерадивый и лентяй. Но четвертый, Ипполито, стал для него лучшим воплощением национального характера; он был скромен, стоек и надежен. И свой очерк Хемингуэй заключил ставшими «хрестоматийными» словами, которыми выражалось его политическое кредо: «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я делаю ставку на Ипполито».
В Ки Уэсте знакомства Хемингуэя были ограничены достаточно узким кругом. В Испании же, по словам одного публициста, собрались «лучшие люди мира». Среди них был французский писатель Андре Мальро, который был организатором и командиром авиационной эскадрильи на службе у республиканцев. По горячим следам событий он летом 1937 года написал свою известную книгу «Надежда», близкую по форме к репортажу и хроникальному повествованию. Были в Испании летчик и литератор Сент-Экзюпери; чилийский поэт Пабло Неруда, написавший книгу стихов «Испания в сердце», прославляющую солидарность в антифашистской борьбе; испанский поэт Рафаэль Альберти, один из лидеров республиканской художественной интеллигенции. Хемингуэй хорошо узнал генерала Лукача, командира XII Интернациональной бригады, и главного врача бригады Вернера Хейльброна, погибшего в бою; испанских военачальников Луиса Кинтанилью (известного художника, ставшего офицером, а потом направленного на дипломатическую работу) и Густаво Дурана. Знал он и Кароля Сверчевского, польского революционера, командира одной из интернациональных бригад, В Испании он был известен под именем генерала Вальтера.
3
Приходилось Хемингуэю бывать и в отеле «Гейлорд», где размещались советские военные советники и корреспонденты. Среди его добрых знакомых был Илья Эренбург. Имеется широкоизвестный снимок, запечатлевший двух писателей, которых связывали дружеские чувства, в осажденном Мадриде. Они живо, обсуждали военные и литературные вопросы. Позднее Эренбург много сделал для популяризации творчества Хемингуэя в нашей стране; он называл его «человеком, на любви к которому сближались очень далекие друг другу люди и народы».
Встречался Хемингуэй и с Михаилом Кольцовым, корреспондентом «Правды» в Испании, совмещавшим журналистские обязанности с выполнением ряда военных поручений в качестве советника. Он был автором знаменитого «Испанского дневника».
Хемингуэй обычно разговаривал с Эренбургом и Кольцовым на французском языке; последний, по признанию Хемингуэя, снабжал его весьма ценной информацией, «ничего не скрывал», хотя нередко дела шли «скверно». Уважая Хемингуэя, он хотел, чтобы тот знал истинное положение дел безо всяких прикрас. В одном из писем Хемингуэй называет Кольцова в числе своих немногих интеллектуальных друзей (в отличие от тех, с кем он мог делить застолье или участвовать в светских развлечениях).
Некоторых из своих мадридских знакомых Хемингуэй позднее вывел в романе «По ком звонит колокол». Например, в генерале Гольце угадывается Кароль Сверчевский (Вальтер), в журналисте Каркове нетрудно узнать Кольцова. «Самый умный из всех людей, которых мне приходилось видеть», — говорит о Каркове герой романа Роберт Джордан.
В «Испанском дневнике» Кольцова имеется зарисовка Хемингуэя, относящаяся, по-видимому, к их первой встрече на поле боя под Гвадалахарой в марте 1937 года: «Эрнест Хемингуэй приехал сюда, большой, неладно скроенный, крепко сшитый. Он облазил все места боев, побывал и подружился с Листером, с Лукачем; он сказал мне, медленно и вкусно проворачивая испанские слова: — Это настоящее поражение. Первое серьезное поражение фашизма за эти годы. Это начало побед над фашизмом. — Да, — сказал я скромно, — только начало». Другая лаконичная зарисовка Хемингуэя у Кольцова относится к осени 1937 года, когда американский писатель работал в опустевшем, подвергавшемся артобстрелу отеле «Флорида», где писал свою пьесу «Пятая колонна». Встречался Хемингуэй с еще одним советским журналистом, корреспондентом ТАСС в Испании О. Г. Савичем, который, оставил о той поре своей деятельности интересную книгу — «Два года в Испании».
…Часто воспроизводится снимок, на котором запечатлены три человека: Хемингуэй, советский кинодокументалист Роман Кармен и прогрессивный голландский кинорежиссер Йорис Ивенс. Между Хемингуэем и Карменом сложились дружеские отношения; уже после Испании, в 1943 году, Кармен получил теплое-письмо с Кубы от американского писателя. В своей книге воспоминаний Кармен так описывает Хемингуэя: «В эти дни на передовых линиях борьбы за Валенсийскую дорогу я несколько раз встречал человека, неуклюже шатавшегося по окопам. Он пробирался на самый передний край, присаживался к бойцам интербригады, беседовал с ними. Это известный американский писатель Эрнест Хемингуэй. …Хемингуэй был одет в легкий светлый плащ, вымазанный в окопной глине. Под плащом — свитер и мешковатый пиджак. Грубые на толстой подошве башмаки. На голове черный баскский берет». Кармен запечатлел и некоторые детали быта Хемингуэя в гостинице «Флорида»; там его комната была постоянно забита людьми, одетыми в форму интербригадовцев. Они были его желанными гостями…
4
В начале июня 1937 года Хемингуэй возвратился в США. Все лето было заполнено интенсивной деятельностью в защиту Испанской республики. Прежде всего он завершил работу над документальным фильмом «Испанская земля»; его съемки он начал еще в Мадриде и его окрестностях весной 1937 года; работа шла с уже упоминавшимся голландским режиссером Йорисом Ивенсом и оператором Джоном Ферно. Хемингуэй не только был сценаристом фильма, но и активно участвовал во всем съемочном процессе.
Документалисты снимали суровую реальность войны: столицу, подвергавшуюся артобстрелу; атакующую республиканскую пехоту и танки; жителей столицы на строительстве оборонительной полосы; лица людей, идущих в бой; крестьян, обрабатывающих землю.
Хемингуэй стойко переносил физические нагрузки, связанные со съемками. В послесловии к сценарию говорится: «Прежде всего вспоминаешь, какой был холод; как рано приходилось вставать по утрам; как ты уставал до такой степени, что в любую минуту готов был свалиться и уснуть; как трудно было добывать бензин и как мы постоянно бывали голодны» (III, с. 655).
Работа над фильмом была закончена к концу апреля 1937 года. Хемингуэй написал к нему дикторский текст. Это была непривычная для него работа; Ивенс предупреждал писателя: «…Не описывайте того, что видите, не дублируйте изображение. Вам следует подкрепить образ, комментируя его». Поначалу Хемингуэй сделал типичную для новичков ошибку: его сценарий был слишком длинен и подробен. Когда Ивенс указал ему на это, Хемингуэй был уязвлен тем, что кто-то осмеливается корректировать его текст. Однако он вскоре согласился с замечаниями и переработал написанное. Например, сцена в морге сопровождалась коротким пояснением: «Вот что сделали три юнкерса».
В фильме отдавалось должное мужеству коммунистов. На экране возникали фигуры Генерального, секретаря компартии Хосе Диаса, работающего на возведении оборонительной полосы; прославленного командира Энрике Листера, «одного из самых блестящих молодых бойцов республиканской армии»; Долорес Ибаррури, Пассионарии, пламенного оратора, голосом которой «говорит новая женщина Испании». Фильм аранжировали музыкой, в которой использовались испанские фольклорные мелодии.
Поначалу роль диктора была предложена знаменитому киноактеру и режиссеру Орсону Уэллсу. Однако, как заметили некоторые сотрудники Ивенса, несколько театральный, отработанный голос Уэллса дисгармонировал с сурово-аскетическим текстом сценария. Тогда и было решено, что текст прочитает сам Хемингуэй. Это был удачный выбор, хотя писатель, как сам он опасался, не обладал способностями диктора. Ивенс вспоминал: «Читая, Хемингуэй передавал ощущения, пережитые им на фронте. …Это придавало фильму истинную масштабность».
Когда фильм был завершен, его показали в Белом доме президенту Франклину Делано Рузвельту и его жене Элеоноре, видному общественному деятелю. Фильм произвел сильное впечатление и, как считают некоторые, содействовал тому, что президент усилил гуманитарную помощь республиканцам.
А несколько ранее состоялось первое, оказавшееся единственным, публичное выступление Хемингуэя на II конгрессе Лиги американских писателей. Лига была создана в 1935 году и объединяла ведущих американских писателей, стоявших на широкой антифашистской и общедемократической платформе. Главной темой конгресса была защита культуры от «коричневой» нацистской опасности, а также обсуждение того, какова роль писателя в развертывающейся антифашистской борьбе. Об этом говорили выступавшие делегаты.
Но ключевым событием дня стало появление на трибуне Хемингуэя, только что вернувшегося из Испании. Его речь называлась «Писатель и война». Поднявшись на трибуну, он заметно нервничал. Было жарко, душно, и облаченный в непривычный для него черный костюм Хемингуэй обливался потом. От волнения он то и дело поправлял галстук, словно тот его душил. Иногда у него срывался голос. Писатель говорил немногим более десяти минут и, хотя не обладал ораторским даром, приковал к себе напряженное внимание зала. Развивая свою излюбленную мысль о том, что «задача писателя неизменна», ибо она «всегда в том, чтобы писать правдиво», Хемингуэй высказал далее свое бескомпромиссное осуждение фашизма: «Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. Потому что фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами». Касаясь вопроса о долге писателя, Хемингуэй говорил, что он должен занять активную позицию. Чтобы увидеть войну своими глазами и написать о ней полную правду, стоит рисковать жизнью, хотя «много спокойнее проводить время в ученых диспутах на теоретические темы».
Один из присутствующих вспоминал: «Это было великолепно, казалось, каждый из нас сжимал его в своих объятиях… как верного товарища в битве с фашизмом. Разве можно было проиграть это сражение, если на нашей стороне находился Хемингуэй?» Его откровенность и какое-то магнетическое обаяние захватывали аудиторию.
Пока Хемингуэй находился в США, положение на фронтах Испании ухудшилось. Тяжелым ударом для республиканцев стала гибель 11 июня под Уэской генерала Лукача. Он был убит прямым попаданием снаряда в его штабную машину. Легкое ранение получил находившийся с ним советский военный советник, впоследствии прославившийся как военачальник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза П. И. Батов. А под именем Лукача, как позднее открылось, воевал известный венгерский писатель, интернационалист, участник гражданской войны Матэ Залка. Хемингуэй часто бывал на его командном пункте в XII интербригаде. Они вспоминали первую мировую войну, когда Лукач находился в рядах австрийской армии и они были в противостоящих друг другу лагерях. А теперь судьба распорядилась так, что они вместе сражались с. фашизмом…
В это время над Мадридом нависла угроза нового штурма. И Испания властно влекла писателя.
5
Вторая поездка Хемингуэя в Испанию охватывает время с сентября 1937 по начало января 1938 года. Вместе с ним были Марта Геллхорн и известный журналист Герберт Мэтьюз. Сначала Хемингуэй отправился на Арагонский фронт, там успешно сражалась XV интербригада, которая овладела городом Бельчите. Республиканцы осуществляли наступательную операцию, не имевшую, однако, особого успеха.
Во время одной из поездок, машина с Хемингуэем и другими журналистами подверглась жестокому обстрелу. Все, правда, кончилось благополучно; по этому поводу Хемингуэй мрачно шутил: «Снаряды для всех одинаковы. Если тебя не задело, то и писать незачем. А если задело, то писать уже не придется». Тогда, осенью 1937 года, он проехал более тысячи километров в прифронтовой полосе, мерз, спал в палатках, подвергался риску. Вот одна из характерных зарисовок, касающихся штурма Теруэля в декабре 1937 года: «Мы лежали на вершине холма в цепи испанской пехоты под сильным пулеметным и ружейным огнем. Огонь был такой сильный, что если бы ты приподнял голову с земли, то уткнулся бы подбородком в одну из тех невидимых маленьких штучек, с чмокающим свистом проносившихся сплошным потоком над тобой, после того, как трах-тах-тах пулемета с соседнего хребта повыше сорвало бы макушку с твоей головы. Ты знал, что будет так, потому что видел, как это бывает».
Второй визит в Испанию длился 23 недели. В промежутках между пребыванием на фронте Хемингуэй останавливался в гостинице «Флорида», куда к писателю часто приходили «на огонек» интербригадовцы. Там они могли расслабиться, принять горячую ванну. Помимо того что Хемингуэй «отписывался» во «Флориде» за свои поездки на фронт, он работал над пьесой «Пятая колонна», посвященной будням контрразведки в Мадриде, сражающейся с фашистским контрреволюционным подпольем в столице.
Центральный герой «Пятой колонны», американец Филип Ролингс, фигура, несущая явственные автобиографические черты, — это и типичный хемингуэевский «герой кодекса», и в чем-то новое лицо. Занятый тяжелой и опасной работой, он тоскует о личном счастье, которое олицетворяет для него светловолосая красивая журналистка Дороти Бриджес, предлагающая ему «наслаждаться любовью во всех отелях мира» (ее облик явно напоминает Марту Геллхорн). И Филип Ролингс жертвует личным счастьем во имя выполнения общественного долга. «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок», — говорит Ролингс (III, с. 100). И эти слова почти дословно воспроизводят сказанное Хемингуэем в речи «Писатель и война».
Хемингуэй вернулся в США в январе 1938 года. А в марте он в третий раз отправляется в Испанию, получив известия о неудачах республиканцев: франкисты, имея перевес в тяжелом вооружении, начали неожиданное наступление в Каталонии, вышли к морю южнее Эбро. Хемингуэй был свидетелем отступления, трагического исхода мирного населения, о чем рассказал в очерках «Старик у моста», «Беженцы». Напряженная атмосфера весны 1938 года на Арагонском фронте передана и в нескольких корреспонденциях Хемингуэя: «Бомбежка Тортосы», «Тортоса спокойно ожидает атаки».
Джозеф Норт, видевшийся с писателем в эти горькие дни, вспоминает, что Хемингуэй носил куртку с двумя большими нагрудными карманами. Однажды он, похлопав по ним, сказал Норту слова, крепко ему запомнившиеся: «Справа я ношу свой американский паспорт. Если меня схватят солдаты Франко, я предъявлю им документ с вашингтонскими печатями. А здесь, — он засмеялся и указал на левую сторону, — у меня мандат республиканского правительства Испании, в котором сказано, что я верный друг республики. Трудность заключается в том, чтобы не перепутать и не вручить документы Народного фронта Франко. Поэтому, — продолжал он, — я храню самый дорогой для меня документ в левом кармане, у сердца».
Гуманизм, сострадание не только двигали пером Хемингуэя. Они определяли его поступки. Джозеф Норт вспоминает эпизод, случившийся в мае 1938 года неподалеку от Барселоны. Корреспонденты ехали по горной дороге, впереди мчался грузовик с молоденькими испанскими парнишками, распевавшими веселые песни. Неожиданно на крутом повороте грузовик с ребятами потерял управление и перевернулся. Сцена веселья сменилась ужасным зрелищем окровавленных тел… «Не вспомню, откуда у Хемингуэя взялась походная аптечка, но уже в следующее мгновенье он стоял на коленях, перевязывая и утешая пострадавших, — свидетельствует Норт. — Я при-соединился к нему, и мы работали вместе, наши руки были в крови умирающих. Я заметил, что Мэтьюз (так звали другого американского корреспондента. — Б. Г.) ходит среди распростертых тел. Он наклонялся к пострадавшим, но не для оказания помощи, он интервьюировал умирающих, делал записи в записной книжке. Он прежде всего был корреспондентом «Нью-Йорк таймс»… Кто чему верен. Увидев это, Хемингуэй вскочил на ноги. — Сукин ты сын! — взревел он. — Убирайся отсюда, а то я убью тебя». Норт так комментировал этот эпизод: «…Я каждый раз думаю о том, что видел настоящего человека: он был гуманист и поборник справедливости, несмотря на то, что напускал на себя свирепый вид».
В Испании Хемингуэй встретился с коммунистами, которых уважал как людей дисциплинированных и смелых на поле боя. Но отношение к ним было неоднозначным. В беседах с Джозефом Нортом Хемингуэй говорил, что коммунисты импонируют ему как «солдаты», но они не нравились ему за проповеднический тон, убеждение в своей непогрешимости и нетерпимость к оппонентам. Безусловно, в деятельности компартий в те годы сказывались сталинистские методы. Хемингуэй и Норт нередко остро спорили. У Хемингуэя вызывали справедливое раздражение претензии некоторых партийных лидеров на абсолютную правоту, их догматизм и сектантские «перехлесты», столь частые в 30-е годы.
…В начале ноября 1938 года Хемингуэй в последний раз на короткое время приехал в Испанию, побывал на Каталонском фронте. К этому моменту было уже ясно, что война проиграна.
6
В своих корреспонденциях, присланных из Испании, Хемингуэй не просто стремится дать правдивую информацию; он хочет максимально помочь антифашистскому делу. Между тем эти материалы до сих пор не собраны и не исследованы в полной мере. В ряде своих статей, особенно в 1938 году, когда положение республики ухудшилось, Хемингуэй наряду с характеристикой военно-политических событий высказывает ряд важных прогнозов, и рекомендаций. Он не устает предупреждать правительство США: в случае победы фашистов их оружие со временем будет обращено и против американцев. Он осуждает католическую церковь в Испании за то, что она поддерживает Франко; его тревожило то, что американские католики могут склониться к профашистской позиции (статья «Кардинал выбирает победителя»).
Вместе с тем Хемингуэй надеялся сделать все, чтобы Америка не оказалась втянутой в войну. Даже в 1938 году он не считал, что республика проиграла войну, хотя франко-английская политика «нейтралитета» неотвратимо приближала ее поражение. Поэтому США не должны следовать в фарватере политики европейских стран, особенно Великобритании, писал Хемингуэй. Сохраняя нейтралитет, США обязаны снять запрет на продажу оружия республиканцам, которые страдают от его нехватки.
Получив оружие, испанцы в состоянии одолеть итальянцев, а это может дать Европе время, чтобы укрепить свою оборону: «Фашизм можно побить в Испании так же, как Наполеона побили в Испании», — настаивал Хемингуэй. Этот вывод он делал на основании уроков Гвадалахары. В статье «Смерть достойная или бессмысленная» он доказывал, что битва на полях Испании является, в сущности, кровным делом американцев: ведь целью бойцов-интербригадовцев было «спасение того, что мы зовем цивилизацией». В статье «Ложные вести для президента» он обвинил госдепартамент в том, что тот не только дезинформирует Рузвельта и госсекретаря Корделла Хэлла, но и игнорирует те сообщения, которые поступают от американского посла в Испании Клода Бауэрса. Во время обсуждения вопроса о снятии эмбарго в сенате госдепартамент запугивал тем, что война на исходе и оружие может попасть в руки Франко. Позднее Рузвельт признал, что, отказав в поддержке республиканцам, США совершили ошибку.
Хемингуэй также отдавал немало сил мобилизации общественности на поддержку американских добровольцев — линкольновцев, в частности посылке медикаментов, санитарных средств. Его заботила участь и других антифашистов, оказавшихся в США. Он настаивал на том, чтобы они были достойно встречены, о чем писал в малоизвестном у нас предисловии к книге немецкого писателя-антифашиста, сражавшегося в Испании, Густава Реглера «Великий пример»[5].
Когда в журнале «Нью Мэссиз» в феврале 1939 года, незадолго до падения Испанской республики, готовили специальный номер, посвященный американским интербригадовцам, Джозеф Норт телеграфировал Хемингуэю просьбу прислать какой-нибудь материал. Писатель откликнулся короткой взволнованной статьей-эпитафией «Американцам, павшим за Испанию». Этот реквием объемом всего в полторы странички стал одним из самых великолепных образцов хемингуэевской прозы. Позднее писатель признавался, что работал над этой вещью пять дней; первоначальный текст он сокращал три раза. И нашел точные, простые и одновременно высокие слова, говорящие о народе, который бессмертен, о земле, которая пребудет вовеки. Он писал о мертвых, ставших частицей испанской земли. И выразил в конце надежду в конечной победе: «Фашисты могут пройти по стране, проламывая себе дорогу лавиной металла, вывезенного из других стран. Они могут продвигаться с помощью изменников и трусов. Они могут разрушить города и селения, пытаясь удержать народ в рабстве. Но ни один народ нельзя удержать в рабстве. Испанский народ встанет против них, как он всегда вставал против тиранов».
Эти слова сбылись. На исходе 1970-х годов испанский народ избавился от франкистского режима и вступил на путь демократического развития.
Летом 1938 года во время пребывания в США перед последней, четвертой поездкой в Испанию Хемингуэй подготовил к печати сборник, который назвал «Пятая колонна» и первые сорок девять рассказов. В него, помимо пьесы, вошли рассказы из всех трех новеллистических сборников. Кроме того, он включил несколько новелл, написанных в Испании. В них он остался верен своему главному принципу — писать о войне правду, какой бы горькой и нелицеприятной она ни была. Писатель любил повторять, что о войне сказано «меньше правды, чем о чем бы то ни было», что она многолика, что в ней есть место и трусости, и героизму.
Знаменательно, что Хемингуэй рисует не батальные, а бытовые сцены; действие в трех его новеллах происходит в прифронтовом, осажденном Мадриде, в баре «Чихоте». При этом писатель озабочен теми нравственными, этическими проблемами, которые встают перед его героями.
Официант бара неожиданно узнает в одном из посетителей старого знакомого и доброго клиента — фашиста Дельгадо, человека безрассудно смелого. Он появляется в форме республиканцев, ведет разговор с летчиками. Официант колеблется, как ему поступить. И все же по совету автора-рассказчика звонит в контрразведку. Там, где речь идет о республике и ее врагах, надо быть беспощадным (рассказ «Разоблачение»). В том же баре «Чикоте» какой-то шутник досаждает всем, обрызгивая офицеров и гостей из пульверизатора. Его выбрасывают за дверь, а когда он снова вваливается в бар, его убивают. Этот нелепо погибший человек оказывается рабочим, который по дороге на свадьбу случайно забрел в бар (рассказ «Мотылек и танк»).
Горечью веет от очерка «Ночь перед боем». Герой-рассказчик встречает в баре танкиста Эла Вагнера. Это — обстрелянный солдат, коммунист, человек, трезво оценивающий обстановку. Он только что вернулся из неудачной атаки и рассуждает о том, что республиканцы не научились еще воевать, что ошибки порождают немалые жертвы. И вот назавтра, выполняя приказ, он должен будет повторить такой же бессмысленный лобовой штурм, идти на верную смерть…
И все же, несмотря на поражение республики, Хемингуэй был убежден: «Жертвы не были напрасны, борьба продолжается». Об этом говорит последний из рассказов, написанных на испанскую тему, — «Никто никогда не умирает». Главный герой — Энрике, молодой кубинец, интербригадовец, вернулся после поражения республики на родину. Там он включается в подпольную революционную борьбу против реакционного режима Мачадо. В доме, где тайно хранится оружие, Энрике встречается со своей возлюбленной Марией, брат которой Висенте погиб в Испании на глазах у Энрике. Попав в засаду, Энрике гибнет; умирая он говорит: «Где ты умрешь, не имеет значения, если ты умираешь за свободу». Мария схвачена, ее везут для допроса. Сидящая в окружении полицейских, она готова мужественно встретить опасность: она напоминает в этот момент другую девушку — героиню Жанну д’Арк. Финал рассказа исполнен столь неожиданной для Хемингуэя героической патетики. От Марии тянутся нити к другой Марии — из романа «По ком звонит колокол».
Глава девятая
«Я сражался за то, во что верил»
1
Еще находясь в Испании, Хемингуэй задумал роман. Гражданская война, которую он наблюдал сначала в Испании, а позднее, весной 1941 г. в Китае, давала богатейший материал, концентрацию проблем, военных, политических, социальных. Он сетовал на то, что о войне «меньше всего пишется правды». Пока шла битва с фашизмом в Испании, он в своих корреспонденциях преподносил материал определенным образом, избегал критики ошибок и просчетов республиканцев. А их было немало. Позднее в письме к критику Бернарду Беренсону он так объяснял некоторые обстоятельства создания своего романа: «Я не мог приступить к написанию своей книги до той поры, пока Республика не погибла в войне, и происходило это потому, что я не мог ничего, писать, пока шла война, что могло бы причинить вред Республике. Я верил в нее и старался служить ей, насколько это было в моих силах». Нужна была и определенная историческая дистанция, дающая возможность объективно подойти к описываемым событиям. Если в своих журналистских корреспонденциях Хемингуэй, когда исход борьбы не был еще решен, не мог сказать всего, то в художественных произведениях стремился показать «всю правду», все стороны войны — героику и быт, взлеты и падения. В письме к И. Кашкину из Ки Уэста от 23 марта 1939 года, т. е. в те дни, когда предательская хунта сдала мятежникам Мадрид, мы читаем: «Хотелось бы мне с полным пониманием написать и о дезертирах, и о героях, трусах и храбрецах, предателях и тех, кто не способен на предательство. Мы многое узнали обо всех этих людях».
Роман вобрал в себя многие мотивы, присутствовавшие и в его пьесе, и в новеллах и очерках, и в статьях, написанных ранее в Испании. Теперь он чувствовал себя раскованно, не хотел связывать себя какой-либо идеологической предвзятостью. Хотел быть «просто писателем», запечатлевшим правду такой, какую он знал.
Весь 1939 и первая половина 1940 года прошли у Хемингуэя в работе над романом. Непосредственно процесс писания занял почти 18 месяцев. Если к роману «Прощай, оружие!» он обратился спустя десятилетие после окончания первой мировой войны, то на этот раз он писал по горячим следам событий. Ему надо было спешить, ибо, по его убеждению, надвигалась новая война.
К этому времени уже появилось немало произведений об антифашистской борьбе в Испании — стихов, очерков, репортажей. Это были в основном произведения малой формы, представлявшие живой, оперативный отклик. В них преобладало документально-очерковое начало. Испания, как сказал французский писатель Альбер Камю, была «раной в сердце человечества». Среди тех, кто писал о ней, были советские писатели Михаил Кольцов и Илья Эренбург, французы Андре Мальро и Антуан де Сент-Экзюпери, американцы Теодор Драйзер и Ленгстон Хьюз, чилиец Пабло Неруда, кубинец Николас Гильен…
На фоне этих произведений роман Хемингуэя выделяется масштабностью и высоким мастерством. Это был художественный памятник испанской эпопее.
В письмах Хемингуэя к своему редактору Чарльзу Перкинсу, относящимся ко времени работы над романом, часто появляется имя Льва Толстого. Автор «Войны и мира» был для Хемингуэя вдохновляющим примером. Несколько позднее Хедаийгуэй писал: «Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого… Я люблю «Войну и мир» за удивительное, глубокое и правдивое изображение войны и народа…» Толстовская эпопея была для него образцом многофигурного, многопланового эпического полотна; и Хемингуэй, исходя из собственной художественной методологии, шел во многом сходным путем. Он также создавал эпос, но особого рода, лирический. Он запечатлел в нем испанские народные характеры и культурные традиции, мудрость простых людей, сцены батальные и мирной жизни, жестокого, насилия и преданной любви, Париж и Мадрид, Валенсию и Монтану.
Включившись в рабочий ритм с конца марта 1939 года, Хемингуэй старался неукоснительно ему следовать. Он начинал работу в 8.30 утра, писал не отрываясь до 2-х часов. «Трудясь таким образом, — замечал он в одном из писем, — я чувствую себя так счастливо и хорошо, как тогда, когда с увлечением писал «Прощай, оружие!». Словно контролируя самого себя, он постоянно сообщал Перкинсу о том, как продвигается дело.
К маю 1939 года им было написано почти 200 страниц текста, к началу июля — 340, это составляло две трети объема произведения. Работу стимулировало и то обстоятельство, что на Кубе Хемингуэй вращался в испаноязычной среде; там же он встретил немало кубинцев-интербригадовцев, а также приехавших из Испании басков. Он общался с республиканским генералом Густаво Дураном, с которым обсуждал специальные военные вопросы. Все это время Хемингуэй не забывал оказывать денежную помощь бедствующим испанским республиканцам, находившимся в эмиграции.
Лето и осень 1939 года Хемингуэй провел в США. Там его застало 1-го сентября известие о начале второй мировой войны; он давно ее предсказывал.
В те дни он продолжал трудиться над романом в родных местах, в Вайоминге. Туда к нему приехала Полин Пфейфер, которая тщетно пробовала наладить их отношения. Но это привело лишь к окончательному разрыву. Затем Хемингуэй уехал в Айдахо, где к нему присоединилась Марта Геллхорн. Осенью 1939 года Марта Геллхорн отправилась в Финляндию освещать ход советско-финской войны. После ее возвращения Хемингуэй оформил развод с Полин Пфейфер и свой новый брак, который, однако, оказался и непродолжительным, и не очень счастливым.
Между тем работа над романом продвигалась; ежедневно Хемингуэй «выдавал» от 700 до 1000 слов. По свидетельству его биографа Карлоса Бейкера, Хемингуэй «после каждого рабочего дня испытывал знакомое чувство опустошенности и вместе с тем готовность с новой решимостью приняться за работу на следующее утро». К апрелю 1940 года было написано уже 35 глав.
В этот момент Хемингуэй начал энергично подыскивать заголовок для своего произведения. «Выбрать хороший заголовок, — напоминал он Перкинсу, — это все равно, что удачный расклад карт при игре в покер». Он остановился на строке из английского поэта XVII века Джона Донна, которая указывала на глубинную гуманистическую тему произведения: человек неотделим от человечества и сопричастен к его судьбе. Развернутый пассаж из Донна был взят им в качестве эпиграфа. Он считал, что этот заголовок «делает роман понятным», говорил, что «перебрал до тридцати возможных названий, но это — единственное, которое было для меня подобно удару колокола».
По мере приближения к финалу Хемингуэй испытывал нарастающее волнение и творческое напряжение. Он дал себе слово, что не будет стричься до тех пор, пока не завершит работу. Дописав сцену подрыва моста, он почувствовал себя вконец измученным, ослабевшим, почти мертвым, казалось, все это произошло с ним самим. Особенно нелегко было расстаться с обреченным на гибель Робертом Джорданом после того, как провел со своим главным героем почти полтора года. 1 июля он решил, что конец близок, и отправил Перкинсу телеграмму: «Мост взорван, завершаю последнюю главу». Настало, наконец, время, когда он мог нанести визит парикмахеру.
2
В «Колоколе» Хемингуэй по-своему запечатлел героическую пору в жизни Испании и ее народа, пору важнейших революционных событий.
Роберт Джордан — главный герой романа. Этот персонаж — идейно-художественный центр произведения. В нем — сосредоточение основных сюжетных перипетий, он несет основную философскую «нагрузку». Выписывая фигуру Роберта Джордана, Хемингуэй, конечно же, опирался на жизненный и нравственный опыт тех своих соотечественников, которые стали интербригадовцами в Испании. Одним из его прототипов считается Роберт Мерримен, преподаватель Калифорнийского университета. Это был человек неординарной судьбы, в юности работал лесорубом, в университете увлекался экономикой, затем учился в аспирантуре, был в научной командировке в Советском Союзе. Когда началась гражданская война в Испании, он уехал туда добровольцем, принял участие в боевом крещении линкольновцев, где получил ранение. В дальнейшем он отличился в ряде операций, был назначен начальником штаба батальона Линкольна и, по-видимому, был убит или пропал без вести весной 1938 года.
Изображая деятельность Джордана в тылу фашистов в качестве подрывника, Хемингуэй опирался на факты, касающиеся работы антифашистских диверсионных групп, которые готовились советскими военными советниками. Об этом Хемингуэю рассказывал советский военный советник Хаджи Мамсуров, впоследствии генерал-полковник, Герой Советского Союза. В Испании его знали под псевдонимом Ксанти. Хемингуэй также «доверил» Роберту Джордану и некоторые обстоятельства собственной биографии (дед и отец героя романа), а главное, создал образ большой обобщающей, типической силы.
Фигура Роберта Джордана была написана уже во многом «новым» Хемингуэем, обогащенным всем тем, что он увидел в Испании. Джордан, конечно, напоминал хемингуэевских «героев кодекса». Но в то же время и существенно отличался от своих предшественников. Он был глубже, духовно и эмоционально богаче их. Это наиболее интеллектуальный, мыслящий среди героев Хемингуэя.
Как это часто бывает у Хемингуэя, Джордан — гуманитарий. Он преподает испанский язык в университете в Монтане. Почти десять лет провел в Испании, путешествуя по этой стране, которую, как и автор романа, искренне полюбил, написал о ней книгу. Взяв академический отпуск, он уезжает сражаться с фашизмом. Сначала воюет в интербригаде, затем становится подрывником, сменив своего погибшего коллегу — русского по фамилии Кашкин. Интеллигентность Джордана «сплавлена» с личным мужеством. Он враг фашизма как в Европе, так и у себя на родине, где тот проявляется в форме человеконенавистнического расизма. Навсегда запомнил он линчевание негра, которое увидел в детстве. И вот этот, казалось бы, сугубо штатский человек становится подрывником, выполняет опаснейшие задания. Джордан прост, демократичен и умеет найти общий язык со всеми людьми.
Непосредственно события в романе происходят в течение трех суток в конце мая 1937 года. По-видимому, это самый важный момент в жизни Роберта Джордана. Он получает в Мадриде задание от республиканского генерала Гольца взорвать мост через небольшое ущелье в фашистском тылу. Мост должен взлететь на воздух в точно определенное время, сразу же после начала тайно запланированного наступления республиканцев, так, чтобы по этой единственной дороге, ведущей к фронту, фашисты не сумели бы срочно перебросить подкрепления, на участок прорыва. Для осуществления этой акции нагруженный динамитом Джордан пересекает линию фронта и, встретив проводника, старика Ансельмо, приходит в расположенный в горах лагерь партизан. Они должны ему помочь. Этот небольшой отряд, во главе которого стоит Пабло, укрылся в маленькой пещере в горах, невидимой для воздушного наблюдения фашистских самолетов. Замаскированы и лошади партизан. Приход Джордана, который сменяет своего предшественника подрывника — русского Кашкина, погибшего в бою, партизаны воспринимают не без чувства тревоги; для них ясно, что взрыв моста должен навлечь на них большие неприятности. Их начнут преследовать патрули, им придется уйти с насиженного места. Особенно враждебен Джордану Пабло; другие партизаны, согласившиеся ему помочь, даже предлагают убить своего вожака, чтобы тот не испортил все дело. Правда, Пабло присоединяется к Джордану, но перед самой операцией дезертирует. Затем в последний момент Пабло все же появляется на поле боя во время атаки.
Все эти трое суток в лагере партизан, с которыми завязываются разнообразные отношения, Джордан готовится к операции, изучает местность, планирует способ подрыва моста. Он приходит к командиру соседнего партизанского отряда Эль Сордо, человеку суровому и мужественному, который согласен выделить ему в помощь своих людей. Однако как раз накануне операции фашисты обнаруживают отряд Эль Сордо, окружают его на холме. Засев на его вершине, Эль Сордо принимает смертельный бой и героически гибнет после того, как фашисты посылают самолеты против отчаянно сопротивляющихся партизан. Джордан слышит шум боя, понимает, что Эль Сордо в беде, но не может прийти к нему на помощь, ибо тем самым он обнаружил бы себя и сорвал выполнение главного задания.
Военная тема переплетается в романе с темой лирической. В лагере партизан Джордан встречает молодую девушку Марию. Фашисты убили ее родителей, над ней совершили грубое насилие. Между ней и Джорданом вспыхивает яркое, сильное чувство. Хемингуэй много писал о любви; история отношений Джордана и Марии — одна из самых волнующих. Трое суток они вместе; их чувства обострены смертельной опасностью и возможной разлукой. Кажется, что они обрели друг друга. «Я всегда тебя любила, только никогда не встречала», — говорит Мария Джордану. «Я — это ты, ты — это я», — убеждает она его. Любовь для Джордана — не возможность укрыться от жестокого мира (как было у прежних героев Хемингуэя). Она одушевлена той высокой целью, во имя которой он сражается.
Никогда прежде не раскрывал Хемингуэй столь подробно внутренний мир своих героев. В «Колоколе» он широко использовал прием внутреннего монолога. В одном из таких монологов Джордана мы слышим столь непривычные для прежних героев «высокие» слова: «…Я люблю тебя так, как я люблю все, за что мы боремся. Я люблю тебя так, как я люблю свободу, и человеческое достоинство, и право каждого работать и не голодать». Раненый, готовый принять смерть, он думает о Марии, о ее спасении. Он словно передает ей эстафету антифашизма. И кажется, что героиня романа возвращается к читателям на новом жизненном витке в образе другой Марии из рассказа «Никто никогда не умирал».
Между тем старик Ансельмо, следящий по приказу Джордана за мостом, замечает, как резко увеличился поток автомашин, идущих к фронту. Партизаны, побывавшие в городе, слышат открытые разговоры о готовящемся наступлении республиканцев. Для Джордана ясно: фашисты знают о планах республиканцев, готовятся к отпору, подбрасывают подкрепления. Наступление захлебнется, ибо лишается фактора внезапности. Джордан направляет молодого партизана Андреса в штаб Гольца с донесением, надеясь, что тот отменит наступление, которое ничего не даст, кроме бессмысленных жертв. Андрес и сопровождавший его лейтенант Гомес встречают Марти, комиссара Интернациональных бригад, который велит арестовать посланцев и намерен их без суда расстрелять. Лишь вмешательство Каркова, советского журналиста, спасет их от гибели. Наконец, донесение передано Гольцу. Но подготовка к наступлению уже идет полным ходом, машина запущена, и Гольц, даже понимая всю бессмысленность этой операции, не может ее остановить…
Подчиняясь военному долгу, Джордан обязан выполнить приказ, хотя понимает его бессмысленность. Вместе с партизанами он атакует мост; описание этого боя относится к самым волнующим, впечатляющим страницам романа. Мост подорван, партизаны, преследуемые фашистами, отходят, и в этот момент Джордан тяжело ранен в ногу. Он не способен более передвигаться, партизаны не могут его вынести с поля боя. У Джордана остается один выход — застрелиться. Так когда-то в тяжелых обстоятельствах поступил отец Джордана и так же, мы знаем, ушел из жизни отец Хемингуэя. Когда-то подрывник Кашкин просил Джордана, чтобы тот пристрелил его: Кашкин боялся попасть в руки врага. Но Джордан решает сражаться до конца, задержать фашистский отряд, прикрывая своих товарищей. Джордан прощается с Марией, которой безмерно тяжело его оставлять. В финале романа Джордан лежит с перебитой ногой под сосной на том самом месте, где с ним встретился читатель на первой странице книги. Он сжимает в руках ручной пулемет и готов принять последний бой с приближающимся фашистским конным патрулем…
3
«Колокол» — сложное по замыслу произведение. Это видно в обрисовке Джордана и других героев. Когда-то в романе «Прощай, оружие!» предшественник Джордана, лейтенант Фредерик Генри, чуравшийся «высоких» слоев, говорил о своей ненависти к войне. Джордан — сознательный участник справедливой антифашистской борьбы. В его предсмертном монологе мы слышим такие слова: «Я сражался за то, во что верил». В начале испанских событий он пережил пору энтузиазма, ощутил себя «участником крестового похода», принявшим на себя долг «перед всеми угнетенными мира». Позднее, во многом под влиянием журналиста Каркова, он стал более трезво смотреть на вещи.
И вместе с тем Джордан не коммунист, «не настоящий марксист». Правда, в горниле антифашистской борьбы он сознательно подчинился «коммунистической дисциплине». Но символом веры для Джордана все же остаются принципы, заложенные в великих документах американской демократии, в Билле о правах, в Декларации независимости. У него с коммунистами — общий враг, но их конечные цели различны.
Безусловно, в уста Джордана Хемингуэй вложил и некоторые собственные тревоги и раздумья. Джордан — достаточно сложная в идейно-психологическом плане фигура. Американец, впитавший в себя демократические идеалы, сталкивается в Испании с мучительными проблемами, порожденными гражданской войной и революцией. Одна из них — неизбежность насилия. Другая — необходимость жертвовать человеческими жизнями во имя высших целей. В Испании Джордан видит, как в пламени борьбы гибнут порой невинные люди, а военная дисциплина проявляется нередко с неоправданной жестокостью. Он переживает внутреннюю борьбу, сомнения, которые были чужды прежним хемингуэевским героям. Джордан понимает необходимость суровости по отношению к врагам, но его внутренний голос не может с этим согласиться: «Ты не должен стоять за убийство. Ты должен убивать если это необходимо, но стоять за убийство ты не должен».
В «Колоколе» вновь проявилось живое чувство Хемингуэя к Испании, ее народу, культуре, ее природе. Партизаны отряда Пабло, живые, подлинно национальные характеры, составляют как бы собирательный образ народа.
Прекрасен старик Ансельмо, терпеливый, миролюбивый и одновременно мужественный, верный помощник Джордана. Лучшие народные черты олицетворяет партизанский вожак Эль Сордо. Своеобычна Пилар, жена Пабло, цыганка, один из самых оригинальных женских образов, вышедших из-под пера Хемингуэя, в которой сочетаются ум и суеверие, хитрость и чувство собственного достоинства. Обаятелен юный Андрес, наивен и беспечен цыган Рафаэль, храбр подросток Хоакин, принимающий смерть вместе с Эль Сордо, великодушен Агустин, соперник Джордана в любви. Эти простые неграмотные люди, разбуженные революцией, поверили в республику и ее идеалы.
Но, симпатизируя людям из народа, Хемингуэй никогда не следовал стереотипам, бытовавшим в литературе «красных тридцатых»: если бедный — то благородный, если богатый — носитель всяческих пороков. Простые крестьяне у Хемингуэя бывают и грубы, и примитивны. Бедность отнюдь не является гарантией от перерождения и жестокости; пример тому — Пабло.
Писатель стремился исследовать истоки испанской трагедии. И здесь он проявил немалую проницательность и смелость. Интересны описания отеля «Гейлорд», образы советских военных советников, внесших большой вклад в защиту республики; в создание регулярной армии, в ее оснащение передовой военной техникой. Направляясь в штаб Гольца, Андрес впервые видит части, готовящиеся к наступлению: колонны автомашин, танки, прибывшие морем из Советского Союза, пехоту в шлемах; он поражен «размерами и мощью армии, которую создала республика».
Свидетель гражданской войны, Хемингуэй не скрывал жестокостей, с ней связанных. В уста Пилар вложен потрясающий по силе рассказ об уничтожении фашистов в родном городке Пабло. Захваченные в плен, они оказываются запертыми в мэрии, где готовятся к смерти и молятся вместе со священником. Пабло организует горожан, которые выстраиваются в два ряда от входа в мэрию до обрыва на берегу реки. Один за другим выходят фашисты из двери и проходят через ряд, где их избивают железными цепями и сбрасывают с берега в реку. Сцену эту нельзя читать без волнения. Хемингуэй не закрывает глаза на то, что в ходе гражданской войны и республиканцы творили жестокости. Правда, как дает понять романист, в избиении фашистов заводилами были анархисты, многие из которых действовали под влиянием винных паров.
Другое дело, что страшный эпизод убийства фашистов не «уравновешен» аналогичной сценой франкистского террора, в чем упрекали романиста. Возможно, писатель не желал «педалировать» брутальные картины. Однако в романе постоянно пусть бегло, но упоминаются франкистские зверства: во время рассказа Пилар Хоакин сообщает, что у него убили отца, мать, зятя, сестру. Находясь в тылу, Джордан постоянно слышал о фашистских зверствах, расстрелах мирного населения. Мария рассказывает о совершенном над ней насилии и об убийстве ее родителей.
В своих испанских корреспонденциях Хемингуэй не раз высказывался о пагубности политики «невмешательства», проводившейся западными державами, которые наложили эмбарго на поставки оружия республиканцам. Несмотря на помощь СССР, перевес фашистов в технике, особенно в авиации, был велик. Джордан и партизаны из отряда Пабло постоянно видят армады фашистских самолетов, летящих у них над головами наподобие «механизированного рока».
Но были и внутренние причины, сыгравшие не последнюю роль в поражении Республики. И об этом Хемингуэй сказал в романе с большей откровенностью, чем кто либо из писателей антифашистов в те годы. В «Колоколе» говорится о некомпетентности некоторых республиканских военных руководителей, вроде «по-бычьи храброго и тупого», «раздутого пропагандой», генерала Миаха, о несогласованности, о бюрократизме, беспечности, не позволившей удержать в секрете задуманную наступательную операцию.
4
Но есть в романе существенные мотивы, которые по понятным причинам до последнего времени обходились нашей критикой. К тому же роман вышел у нас с купюрами. Речь идет о критике сталинизма и его методов на страницах «Колокола». Она проявляется в ряде эпизодов, образов, деталей, намеков, свидетельствующих об отрицательном отношении романиста ко всем формам тоталитаризма и насилия над человеческой свободой.
На исходе 30-х годов сообщения о сталинских репрессиях, а также заключение советско-германского пакта явились тяжелым ударом, раскалывавшим широкий антифашистский фронт, в который входили прогрессивно настроенные мастера культуры Запада. Симпатии к нашей стране сменились проявлением глубокой тревоги и прямым осуждением. Еще на рубеже 20—30-х годов СССР посещало немало американских писателей (Теодор Драйзер, Ленгстон Хьюз, Анна Луиза Стронг, Альберт Рис Вильямс, Уолдо Фрэнк и др.), которые приветствовали наши экономические успехи, бурный промышленный рост, проходившие на фоне жестокого экономического кризиса 1929–1933 годов, поразившего Европу и США. В дальнейшем, однако, наши друзья были поставлены в крайне тяжелое положение, ибо, симпатизируя социализму, они не могли найти оправдания тому, что творили Сталин и его соратники. Сегодня известно, что ежовские эмиссары проникли и в Испанию, где жертвами репрессий пало немало антифашистов; затронули они и советских добровольцев. Английский писатель Джордж Оруэлл, участник испанских событий; в своей книге «Памяти Каталонии» (1938), высоко оцененной Хемингуэем, рассказал о том, с какой беспощадностью было подавлено упомянутое в романе выступление анархистов в Барселоне в мае 1937 года. В дальнейшем Оруэлл стал автором всемирно известного романа «1984». Другой участник событий в Испании писатель Артур Кестлер в романе «Зримая тьма» (1940) (он также переведен ныне на русский язык) одним из первых на Западе в художественной форме раскрыл природу сталинского террора. В трагической судьбе главного героя революционера Николая Рубашова угадывался жизненный путь Николая Бухарина. Роман Кестлера понравился Хемингуэю. Под влиянием событий в Советском Союзе, в частности, фальсифицированных политических процессов, целый ряд левых американских писателей США отошли от рабочего движения.
Хемингуэй, безусловно, осуждал сталинистские методы, хотя и не делал прямых высказываний по этому поводу. Однако в письме к журналисту Гарри Сильвестеру в феврале 1937 года он писал: «В России у власти преступная шайка. Но мне не по душе любое правительство». Отзвуки событий, происходивших в СССР, слышны и в «Колоколе».
Роберта Джордана тревожит засилье «идеологических штампов», ему трудно смириться с тем, что человеческая жизнь безжалостно приносится в жертву высшей государственной целесообразности. Он отдает должное коммунистической дисциплине, без которой нельзя выиграть войну. Но вспоминая отель «Гейлорд», Джордан думает о республиканском генерале Листере, получившем военное образование в Москве, который, в интересах дисциплины, имел пристрастие к расстрелам собственных бойцов. Республиканский офицер Гомес, везущий вместе с Андресом донесение Джордана в штаб генерала Гольца, возмущен царящими в республиканском лагере неразберихой и бюрократизмом: «Невежды и циники теснят нас со всех сторон. Но первых мы обучим, а вторых уничтожим». На это другой офицер отвечает: «Вычистим — вот правильное слово. Вот тут пишут, что твои знаменитые русские еще кое-кого вычистили. Там сейчас прочищают лучше английской соли». Между ними возникает обмен репликами относительно употребления слов «расстреливать», «ликвидировать». «Любое слово подойдет», — замечает Гомес, и это — характерная деталь. 1937 год, когда происходит действие в романе, был пиком сталинского террора. Газеты были полны сообщениями о расправе над «врагами народа». Отголоски тех событий докатывались и до Испании.
Интересна, в этом смысле, фигура советского журналиста Каркова, прототипом которого был Михаил Кольцов. Отношения Каркова и Джордана во многом напоминают отношения Кольцова и Хемингуэя. Автор «Колокола» относит Кольцова к числу своих немногих «интеллектуальных друзей». Кольцов доверял Хемингуэю, снабжал его ценной информацией, не скрывая от того горькой правды о положении на фронте. Когда Хемингуэй писал свой роман, то знал, что Кольцов арестован и, возможно, «сгинул в Сибири».
Интересно описан внешний вид Каркова на страницах романа. Внешне он неказист: «тщедушней человек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах». «Но Роберт Джордан не встречал еще человека, — читаем мы далее, — у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие». Относясь доверительно к Джордану, Карков излагает ему свои нелицеприятные оценки текущей ситуации, например, характеризуя деятельность правительства, уехавшего в глубокий тыл, в Валенсию, или высмеивая витиеватый стиль официальных военных сводок. «Самым умным из всех людей» называет его Джордан, а в смертный час думает о том, что было бы «хорошо посоветоваться с Карковым». Но Карков предстает в романе как сын своего времени. Он, например, доказывает Джордану целесообразность расправы над политическими противниками. «Мы с негодованием клеймим двурушничество и бандитизм кровожадных гиен из числа бухаринских вредителей, равно как и таких отбросов рода человеческого, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их последыши, — рассуждает Карков. — Мы презираем и ненавидим этих людей, которые даже не люди, а выродки». Хемингуэй не без иронической интонации передает здесь печально известную страшную фразеологию из нашей прессы в период политических судилищ 30-х годов, жертвы которых ныне реабилитированы. Мы знаем, что и голос Кольцова громко звучал среди тех, кто обличал «врагов народа». Впоследствии он сам стал жертвой сталинского террора.
Персонификацией зловещих черт сталинизма стал в романе образ Андре Марти. Один из организаторов революционного выступления французских моряков в Одессе в 1919 году, а в дальнейшем видный деятель компартии Франции и Коминтерна, он был поднят на щит как символ интернационализма. Марти был послан в Испанию, где занимал пост политкомиссара, отвечавшего за идеологическую подготовку интербригад. Этот человек с мохнатыми бровями, водянисто-серыми глазами, одутловатым мертвым лицом и двойным подбородком — жесток и подозрителен, ему повсеместно мерещатся шпионы и изменники. Верный сталинской «методе», он ни во что не ставит человеческую жизнь, по словам своих подчиненных, считающих его «сумасшедшим», «убил людей больше, чем бубонная чума». Он истребляет не фашистов, а собственных бойцов, интербригадовцев — «троцкистов», «уклонистов», «всякую редкую дичь» и всех «за политические дела». Хемингуэй передает внутренний монолог Марти, который под влиянием ареста и казни в Москве Тухачевского и других деятелей Красной Армии, готов зачислить в заговорщики и видных руководителей интербригадовцев Гольца, Лукача и других. Его бдительность доведена уже до абсурда. «Он знал, что доверять нельзя никому. Никому. И никогда. Ни жене. Ни брату. Ни самому старому другу. Никому. Никогда». Как не вспомнить здесь эпизод из «Воспоминаний» Н. С. Хрущева, который пишет о том, как однажды на юге, оказавшись на сталинской даче в Сухуми, стал свидетелем того, как «вождь народов» разговаривает сам с собой: «Я никому не верю, я сам себе не верю. Пропащий человек». Именно Марти велит арестовать Гомеса и Андреса, везущих донесение Гольцу. Если бы не появление и вмешательство Каркова, приказавшего их освободить, они были бы незамедлительно «пущены в расход». Свою полную некомпетентность в военных вопросах Марти «компенсирует» неистовой охотой за шпионами. Это не мешает всемогущему политкомиссару вмешиваться в дела профессионального военного генерала Гольца и даже поучать его.
Изобразив в романе Марти, Хемингуэй не только с большой точностью запечатлел конкретную историческую личность (отметим, что позднее в 1953 году Марти был исключен из компартии Франции), но и создал художественный тип характерного для той поры деятеля сталинистского толка.
5
Три предшествующих романа строились по биографическому принципу, писатель брал какой-то достаточно продолжительный отрезок из жизни своих главных героев. Иная композиция у «Колокола». В основе — напряженный увлекательный драматический сюжет, вокруг которого «наматываются» разнообразные побочные сцены, развертывающиеся в разных временных и географических плоскостях. Оригинальная архитектоника романа напоминает три единства античной трагедии. Непосредственные действия происходили словно бы на глазах читателя в точно очерченном треугольнике (лагерь Пабло, мост, стоянка Эль Сордо) в горах Гвадаррамы (единство места). Все усилия героев подчинялись основной задаче, взрыву моста (единство действия). Роман отличался редкой временной «спрессованностью», он охватывал, примерно трое суток в конце мая 1937 года (единство времени). Герои были поставлены в экстремальные обстоятельства, которые позволяли в полной мере выявить их подлинную суть.
Все события в романе, происходившие в данный момент, имели свои причины в прошлом; это придавало «Колоколу» необходимую историческую углубленность. Наряду с теми событиями и сценами, воспроизведенными очень наглядно и осязаемо, в «Колоколе», как и в древнегреческих трагедиях, имелся обширный, пласт «внесценических» событий… Они возникают в разговорах действующих лиц, их рассказах, воспоминаниях и внутренних монологах. Мария признается в страшном насилии, совершенном над нею; Пилар вспоминает своих возлюбленных матадоров; Джордан — своего отца и деда, отель «Гейлорд», где он часто бывал, свои разговоры с Карковым, смерть подрывника Кашкина. От моста, чей образ становится емким символом, тянулись нити в Мадрид, в штаб республиканцев, в Валенсию, в Париж, в Монтану, где жил до войны главный герой Роберт Джордан.
Сам характер материала, включающего в себя бытовой, политический, философский элемент, — все это обогатило хемингуэевскую палитру, заставило писателя видоизменить, сделать более емкой и широкой привычную для него романную форму. В прежних его книгах, таких, как «Фиеста» и «Прощай, оружие!», он использовал жанр лирического романа: в центре повествования находился главный герой, события давались через его восприятие, его «субъективную призму». В «Колоколе» перед нами не только Джордан, но и Испания, ее история и традиции, что придает произведению эпический размах.
Не отказавшись от своих основных эстетических принципов, Хемингуэй как бы трансформирует жанр лирического романа, создавая в «Колоколе» новую жанровую разновидность: лирический эпос. В нем сочетается лирическое начало, связанное с раскрытием внутреннего мира главного героя, с эпическими картинами жизни Испании, ее народа с панорамой гражданской войны. В романе вымышленные герои (Джордан, партизаны из отряда Пабло, Эль Сордо и др.) «сосуществуют» с реальными политическими фигурами (Марти, Пассионария, Гольц — Сверчевский, Карков — Кольцов). Это придает «Колоколу» и черты современного исторического романа, появление которого становится одной из важных примет литературы XX века. В нем писатель отделен от изображаемой эпохи не обширным промежутком во времени, не столетиями (как у Вальтера Скотта); он идет по горячим следам событий, имеющих историческую значимость. А судьбы «частных» людей тесно с этими событиями переплетены.
Конечно, Хемингуэй меньше всего хотел дать готовые ответы на мучительные, сложные вопросы, выдвинутые испанской войной. Заслуга его была в том, что он их ставил. Роман не мыслился как беллетризированный исторический документ. Честный художник, Хемингуэй избегал и прямолинейной пропагандистской установки, чего не желали учитывать некоторые критики, остро атаковавшие Хемингуэя после выхода романа.
Почти все герои, эпизоды, ситуации, описания в романе «корреспондируются» с тем, что увидел, узнал, пережил Хемингуэй в Испании. Как всегда, писатель точен по части топографии: названия селений, городков, местностей — все подлинные. Когда спустя 15 лет после описанных событий, писатель вместе с женой вновь, побывал в этих местах, Мери Хемингуэй так описала свои впечатления: «Мы забрались высоко в горные цепи Гвадаррамы. Это дикая страна гранитных скал и густых хвойных и лиственных лесов. Мелкий кустарник и папоротник часто скрывают здесь неожиданные пещеры. Внизу, справа от дороги, под небольшим каменным мостом бежит чистая речка. Тут и лес, описанный в романе «По ком звонит колокол». Сквозь просветы между деревьев виднелась голая вершина горы, где в романе Эль Сордо дал свой последний бой, а на мосту мы нашли место, где динамит изорвал его опоры, — Как я рад видеть, что все здесь выглядит так, как я описал, — прошептал Эрнест. — Мы удерживали все эти высотки, — продолжал он, вспоминая о боях, которые тут проходили во время гражданской войны».
Что касается наступления Гольца, то Хемингуэй имел в виду Сеговийскую операцию. Она началась, как и в романе, в самом конце мая 1937 года; в качестве ударной силы была использована XIV Интербригада, состоявшая в основном из французских волонтеров. Поначалу продвижение проходило успешно, фашистские позиции были прорваны, республиканцы достигли Ла Гранхи (местности, упоминаемой в романе). Но мятежникам удалось перебросить в район наступления свежие силы, снятые с южного участка Мадридского фронта. Республиканцы были вынуждены отойти на исходные позиции. Как это часто бывало в первый период войны, наступление оказалось плохо подготовленным, а главное — не удалось сохранить в тайне замысел республиканцев. Об их просчетах откровенно говорится в романе.
Документально точны и описания, относящиеся к деятельности партизан в романе. Сегодня мы знаем, что подготовка диверсионных групп, проникавших в тыл франкистов, осуществлялась советскими чекистами, во главе которых стоял легендарный Я. К. Берзин (1889–1938), известный в Испании под именем генерала Гришина. Он успел сделать очень много полезного, пока в конце 1937 года не был отозван в Москву, где пал жертвой сталинского террора. По инициативе Берзина в Валенсии была создана специальная школа «Красный партизан», а также некоторые другие партизанские базы. Весной 1937 года в газетах появились сообщения о дерзких действиях испанских партизан, что заставляло вспомнить об их славных предшественниках, тех гверильясах, которые в свое время, в начале 1800-х годов, успешно вели борьбу с агрессией Наполеона и были воспеты Байроном в первой песне «Паломничества Чайльд Гарольда». На одной из партизанских баз побывали М. Кольцов и И. Эренбург, которые помогли Хемингуэю, интересовавшемуся партизанами, наладить важные для него контакты. Благодаря М. Кольцову, Хемингуэй встретился с советским подрывником. X. У. Мамсуровым.
Вступив в бой с фашизмом в Испании, Мамсуров закончил войну в поверженном Берлине генерал-полковником, Героем Советского Союза. О своих встречах с Хемингуэем он рассказал известному советскому журналисту Егору Яковлеву[6].
Читая роман, Мамсуров вспоминал некоторых людей, которых ему довелось знать. Возможно, что, рисуя своих героев, Хемингуэй в чем-то опирался на рассказы Мамсурова. Однако при этом он что-то дополнял, домысливал, давал волю своему писательскому воображению. Так, хемингуэевский Ансельмо напомнил Мамсурову старика Баутисту, который был проводником подрывников по тылам врага. Это был человек высоких душевных качеств. Баутиста погиб, но не так, как Ансельмо у Хемингуэя при взрыве моста: во время одной из операций, будучи ранен, он попал в руки фашистов и был распят ими на дереве. Партизанский вожак Эль Сордо («Глухой») вызвал у Мамсурова ассоциации с командиром небольшой группы партизан в провинции Эстремадура. Его звали Михелья Хулио Хусто, он был мексиканским индейцем и, кстати, плохо слышал. Характером и внешностью он напоминал хемингуэевского Эль Сордо: тот тоже страдает глухотой и у него «индейский нос».
Вообще же, вопрос о прототипах героев романа достаточно сложен. К нему нельзя подходить прямолинейно. Мамсуров, например, утверждает, что Хемингуэй от него услышал историю Марии, но той, которую он знал, было 13 лет. Более основательной представляется версия одного из биографов Хемингуэя Кеннета Линна. Весной 1938 года во время третьего приезда Хемингуэя в Испанию и пребывания на фронте в Каталонии писатель посетил своего знакомого интербригадовца Фреда Келлера в госпитале в Матаро неподалеку от Барселоны. Там Хемингуэй познакомился с медсестрой Марией. Она поведала писателю свою горькую историю. В начале войны она подверглась насилию группой фашистов, которые обрили ей голову. Когда Хемингуэй познакомился с девушкой, ее волосы еще не отросли. Длинноногая, кареглазая, кожа с золотистым отливом; она напоминала подростка и соответствовала внешнему облику Марии, героини романа «По ком звонит колокол».
В «Колоколе» Хемингуэй, верный своей художественной методологии, стремился к изображению не панорам, не массовых сцен, а частных эпизодов, позволяющих раскрыть особенности испанской ситуации. Война, ее характер ярко запечатлены в двух великолепных сценах — последнего боя Эль Сордо, атаки и взрыва моста.
Художественно обобщив в романе события исторической масштабности, поставив на новом для себя материале «вечные» проблемы жизни и смерти, насилия, долга, любви, размышляя вместе со своим героем об ответственности перед временем, Хемингуэй мобилизовал в «Колоколе» все свои возможности. «Двуязычие» в речи персонажей, их самобытные характеры, крестьянский быт, одежда, уклад, незабываемые пейзажи Гвадаррамы — все это придало произведению неповторимо испанский колорит. Грубое просторечие крестьян «сосуществует» в «Колоколе» с высокой патетикой размышлений Джордана, выдержанной в духе стилистики елизаветинцев. Чувствуется, что романист сопереживает со своими героями: отсюда — разнообразие интонаций, лиризм, эмоциональность, патетика, одушевляющие многие страницы произведения.
6
Драматично сложилась судьба романа, увидевшего свет в октябре 1940 года. Он сразу же оказался в центре внимания, в течение первых шести месяцев было продано около полумиллиона экземпляров. В апреле 1941 года «Колокол» был единодушно выдвинут на получение престижной Пулитцеровской премии «за лучший роман года». Председатель жюри профессор Колумбийского университета Николас Меррес Батлер, известный своими консервативными взглядами, заблокировал это решение, что было явной несправедливостью по отношению к Хемингуэю. Правда, роман удостоился другой престижной премии «Клуба книги месяца», а также был экранизирован в Голливуде.
Ни одно произведение Хемингуэя по выходе не вызвало столь бурного и противоречивого приема, столь интенсивной полемики. Равнодушных не было. Большинство восхваляли. Но были и те, кто резко его критиковал.
На выход романа отозвались ведущие газеты и журналы США, авторами рецензий были наиболее известные писатели и критики. Все сходились на том, что «Колокол» непохож на все написанное Хемингуэем до той поры. Высказывались мнения, что это лучшее произведение Хемингуэя, что в нем мы находим «одну из самых трогательных и блистательно выписанных историй любви, которую можно прочесть в современной литературе», что Роберт Джордан — самый интересный характер из всех созданных писателем. Известная писательница Дороти Паркер назвала «Колокол» «прекраснейшей книгой»: «Когда находишься рядом с Хемингуэем, — писала она, — хочется воскликнуть: «Вот это вершина!» Отмечалось, что Хемингуэй не только продемонстрировал высочайшее художественное мастерство, обогатил свою писательскую палитру. Писатель, которого упрекали в антиинтеллектуализме, на этот раз проявил «зрелость», поставив глубокие философские и нравственные проблемы.
Были, однако, и другие, не столь многочисленные отзывы со стороны критиков консервативного толка, которые находили у Хемингуэя и художественные просчеты, и наивность, и неясность идейной позиции. К этому писатель привык. Значительно обиднее была для него критика со стороны «левых», в том числе его товарищей по антифашистской борьбе. Дело в том, что они судили об испанских событиях по-своему, по горячим следам событий, а критику Хемингуэем ошибок республиканцев, их некомпетентности, колкие замечания писателя в адрес ряда руководителей Республики (в том числе в адрес Долорес Ибаррури, а также Андре Марти) они рассматривали чуть ли не как измену антифашистскому делу. О романе судили не как об оригинальном произведении; в нем хотели видеть чуть ли не пропагандистский трактат с прямолинейной идеологической установкой. Группа интербригадовцев поместила в коммунистической газете «Дейли уоркер» открытое письмо, утверждая, что в «Колоколе» Хемингуэй якобы исказил картину гражданской войны в Испании. Были, однако, и другие интербригадовцы — а среди них генерал Густаво Дуран, участвовавший в операции под Сеговией, описанной в романе, Мирко Маркович, командир батальона имени Вашингтона, и Стив Нельсон, его политический комиссар, — которые, напротив, приняли сторону Хемингуэя.
Однако, вне зависимости от полемики в среде критиков, читатели вынесли свой восторженный вердикт: роман приобрел широкий международный резонанс, его издания выходили в Англии и Франции, Италии и Норвегии и в других странах мира.
Драматично сложилась судьба романа в Советском Союзе. Когда кончилась гражданская война в Испании, в Москве знали, что Хемингуэй пишет роман. Его ждали. Роман был даже переведен в 1940 году, но не был издан. Некоторые политические акценты романа были неприемлемы для того времени. Возражали против публикации романа и ряд деятелей зарубежных компартий. По слухам, окончательный приговор произнес Сталин: «Интересно. Печатать нельзя». Тем не менее машинописный текст ходил по рукам и был весьма популярен в среде творческой интеллигенции. Илья Эренбург писал в 1943 году, что подвиг Роберта Джордана продолжают советские люди, жертвующие собой в битве с фашизмом.
После XX съезда партии начался новый этап освоения творчества Хемингуэя, да и многих других писателей Запада. В 1968 году появилось издание 4-томного собрания сочинений писателя; в его 3-й том, во многом благодаря усилиям члена редколлегии К. М. Симонова, был включен и роман «По ком звонит колокол». Он увидел свет на русском языке 28 лет спустя после появления (в 1962 г. роман был издан в ограниченном числе экземпляров «по списку», «для служебного пользования»). Правда, при переводе были сделаны в тексте небольшие купюры. С той поры роман регулярно переиздается. В 1992 г. издательство «Высшая школа» впервые выпустила полный текст «Колокола» с восстановленными купюрами, который сопровождается историко-литературным комментарием. Наша критика единодушно признает его одним из классических произведений прозы XX века.
Глава десятая
Трудное десятилетие
1
После окончания «Колокола» Хемингуэй прочно обосновался на Кубе. Марта Геллхорн арендовала загородную виллу «Ла Вихия» (что значит «сторожевая вышка, сторожевой пост»), расположенную в 12 км от Гаваны в селении Сан Франциско де Пауло. В конце 1940 года Хемингуэй приобрел ее в полное владение вместе с прилегающим к ней обширным участком. С этой виллой, которую называли просто «Финка», связан последний продолжавшийся два десятилетия «кубинский» период жизни писателя. «Финка», расположенная на холме в 119 метрах над уровнем моря, была просторным и удобным зданием, окруженным старым парком, с теннисным кортом и бассейном. Море находилось в 15 минутах езды на машине. Там, в рыбацком поселке Кохимар, стоял на приколе катер Хемингуэя «Пилар». Вокруг «Финки» в саду было разбито множество цветочных клумб и росло немало роскошных тропических деревьев. За время жизни Хемингуэя на «Финке» она несколько раз перестраивалась и достраивалась. Его рабочий кабинет находился в главном здании. В нем была широкая постель, полупортативная пишущая машинка марки «Эрроу»; на ней Хемингуэй писал обычно по утрам, начиная с 6 часов и до обеда, считая своей нормой от 600 до 800 слов в день. Здесь, помимо «Колокола», были написаны роман «За рекой в тени деревьев», повесть «Старик и море», окончательно не отделанные и изданные посмертно романы «Острова в океане» и «Райский сад», очерковая книга «Опасное лето», мемуары «Праздник, который всегда с тобой».
В жаркую пору Хемингуэй имел обыкновение работать без рубашки, в одних шортах, босиком. От солнца его обычно защищал дымчатый теннисный козырек. В рабочем кабинете находилась богатая библиотека, включающая до 9000 томов, коллекция из примерно пятисот грампластинок, начиная с классики (Бах, Бетховен, Чайковский) и кончая джазом; стены украшали картины, что говорило о его любви к живописи. Ему нравилось вешать на стены афиши, относящиеся к бою быков, а также керамические изделия, разнообразные сувениры, редкие камни, чучела животных, барометры, часы и т. д. Он тщательно коллекционировал свои охотничьи трофеи: шкуры нубийского льва, канзасского медведя, леопарда, оленей, антилоп. В специальных вольерах на «Финке» обитали четвероногие любимцы писателя, кошки, число которых в иные годы достигало полусотни, а также собаки, бойцовские петухи, специально выращиваемые для участия в состязаниях. В саду находился гараж, в нем обычно стояли четыре автомобиля: парадные «линкольн», «бьюик» или «паккард» для выезда в Гавану и более скромная машина с фургоном для перевозки багажа и продуктов.
Позднее в 1947 году к главному зданию была пристроена трехэтажная башня, по инициативе уже последней жены писателя Мери Хемингуэй. В башне была комната для писателя, где Мери хотела изолировать его от шума и гостей, но Хемингуэй так ее и не обжил. На верхнем этаже башни находился телескоп, дававший возможность ночью наблюдать звезды. Ныне «Финка» превращена в дом-музей Хемингуэя, где не иссякает поток посетителей со всего мира.
«Колокол» восстановил репутацию Хемингуэя как выдающегося прозаика и, как он надеялся, американского «писателя номер один».
В Испании Хемингуэй почувствовал вкус к политике. И 1941 год начался поездкой в Китай; она длилась с февраля по июнь. До сих пор этот интересный эпизод биографии писателя как-то прошел мимо внимания исследователей; очерки, написанные им в Китае, у нас не переводились и не анализировались. Хемингуэй, отправившийся в Китай вместе со своей женой Мартой Геллхорн, представлял нью-йоркскую газету «П. М.» («Пост Меридиен»).
В это время ситуация в регионе оставалась достаточно сложной и тревожной. Япония уже четвертый год была втянута в агрессивную, захватническую войну в Китае. В условиях нарастающего антияпонского сопротивления гоминьдановское правительство генералиссимуса Чан Кайши вынуждено было пойти на создание Национального фронта, на временный союз с коммунистами против общего врага. Но противоречия между Гоминьданом и коммунистами оставались. Это была четвертая война, свидетелем которой стал Хемингуэй. В чем-то ситуация в Китае напоминала Хемингуэю Испанию: и там писатель был свидетелем сложного узла конфликтов как иностранной агрессии, так и внутренней гражданской войны.
Длительное путешествие в Китай началось в Сан Франциско, первой остановкой стал Гонконг, английская колония, где Хемингуэй пробыл около месяца. Хотя война продолжалась уже четыре года, Гонконг сохранял статус нейтрального города, жил веселой, беззаботной жизнью. Он представлял собой клубок контрастов: в нем сосуществовали и гоминьдановцы, и коммунисты, и японцы, позволявшие себе даже демонстративно праздновать день рождения императора. Оценивая положение в городе, Хемингуэй резонно считал, что в случае начала боевых действий его положение безнадежно и что англичане «погибнут как крысы в западне». Так и случилось: после нападения японцев гарнизон Гонконга после недолгого сопротивления капитулировал.
В конце марта 1941 года Хемингуэй и Марта Геллхорн вылетели из Гонконга и оказались в 7-й военной зоне гоминьдановских войск в южном Китае, на кантонском фронте. Там журналисты пробыли две недели, совпавшие с сезоном дождей: передвигаться приходилось то в автомобилях, то на лошадях, на лодках, а иногда и пешком. Дороги были размыты и представляли «реки грязи, рытвины, колдобины», поля были завалены камнями. Даже в гостиницах журналисты не успевали просохнуть. В это время на фронте царило затишье, и в честь приезда Хемингуэя один из китайских генералов приказал провести артналет на японские позиции, но, видимо, без особого успеха.
Унылые фронтовые впечатления оживлялись иногда комическими эпизодами, связанными с их переводчиком, господином Ма, который, будучи обладателем двух дипломов американских университетов, мало что понимал в военном деле, однако всего более опасался выдать какие-то военные тайны. Однажды Марта Геллхорн заметила, что склон горы выжжен, и поинтересовалась, что бы это означало. «А это сделано для того, чтобы избавиться от тигров, — простодушно ответствовал мистер Ма. — Вы знаете, тигры иногда питаются нежными корнями растений, а когда их выжигают, тигры, страдая от голода, уходят». Журналистам пришлось услышать от мистера Ма еще немало фантастических сведений в духе «вегетарианских» тигров.
Побывав на фронте, Хемингуэй и Марта Геллхорн отправились во внутренние районы Китая. Некоторое время они находились в Чунцине, временной столице страны, где были приняты генералиссимусом Чан Кайши, главой Гоминьдана, лидером страны. Роль переводчика во время их бесед выполняла его жена Сун Мэйлин. В беседах с Чан Кайши обсуждались военные, политические и экономические вопросы, а также отношения с коммунистами; последние, как это было ясно Хемингуэю, вызывали у Чан Кайши даже больший страх, чем японские агрессоры. Свои впечатления о Чан Кайши, «напоминающем набальзамированную мумию», «простом, худом, невозмутимом, облаченном в серый френч», Хемингуэй суммировал следующим образом: «Цели генералиссимуса — неизменно военные. В течение десяти лет задачей Чан Кайши было уничтожение коммунистов. Хотя на данном этапе войны он и сотрудничает с коммунистами против японцев, но подспудно никогда не расстается с желанием покончить с «красными».
Вернувшись на родину, Хемингуэй предсказал, что после войны коммунисты придут к власти в Китае. И действительно, 8 лет спустя, в 1949 году, после падения Гоминьдана была создана Китайская Народная Республика.
В Китае писатель еще раз подтвердил свою репутацию журналиста, профессионально компетентного в военных вопросах. Все это время Хемингуэй напряженно работал: посетил военные арсеналы вблизи Чунцина, военную академию в Ченду, наблюдал строительство в пустынной местности военного аэродрома, способного принимать тяжелые самолеты, в том числе американские «летающие крепости».
Это было совершенно уникальное, впечатляющее зрелище, наверное, нечто подобное происходило в Древнем Египте при возведении знаменитых пирамид. Целая армия рабочих, босоногих, загорелых людей, почти 80 тысяч человек, работали на огромном пустынном пространстве — желтоватом каменистом плато. Вооруженные лопатами, корзинами для переноски песка и многотонными катками для трамбовки, они возводили взлетную полосу. Работа кипела, люди трудились, не щадя сил, с энтузиазмом и практически вручную; даже катки перемещались с помощью запряженных в них десятков рабочих. Но, как говорил Хемингуэю начальник строительства, все шло строго по плану и аэродром должен был принять первые тяжелые машины к намеченному сроку.
Из-за цензуры и по тактическим соображениям в условиях войны Хемингуэй в своих корреспонденциях смягчал некоторые оценки и характеристики. Тем не менее, он не прошел мимо ряда отрицательных явлений, которые увидел в гоминьдановском Китае. Он отмечал лихоимство и коррупцию, ставшие национальным бедствием и поразившие даже армию, писал о нехватке вооружения, квалифицированных пилотов, компетентных офицеров. Он обратил внимание на слабую постановку медицинской службы во фронтовых условиях: ввиду того, что врачей не хватает, а подготовка их стоит очень дорого, военные медики, дабы избежать потерь, находятся на значительном удалении от передовой. В результате раненые, которым не оказывают быстрой помощи, гибнут, так и не достигнув госпиталя… В то же время от Хемингуэя не укрылись выносливость и мужество китайских солдат, стойкость мирного населения, способность переносить лишения и идти на жертвы.
Обратный путь журналисты проделали по Бирманской дороге, которая оставалась важнейшим стратегическим путем доставки грузов и вооружения. Японцы ее непрерывно бомбили, многократно разрушали мосты через реки, но китайцы немедленно восстанавливали движение с помощью системы паромной переправы. Побывав в Рангуне, где он осматривал старинные бирманские храмы, Хемингуэй отправился на родину.
Возвратившись в Нью-Йорк, Хемингуэй, проделавший путь в 18 тыс. км, в течение нескольких часов в присутствии секретаря-стенографиста, расстелив на полу карты Китая, Бирмы, Индокитая, беседовал с Ральфом Ингерсоллом, редактором «П. М.». Отвечая на вопросы Ингерсолла, который сразу опубликовал подробное интервью с писателем, Хемингуэй доказал, что он — весьма проницательный политический аналитик. Он, в частности, высказал свое, убеждение, что японская агрессия будет направлена на юг. Так оно и случилось.
Последний, седьмой «китайский» очерк Хемингуэя был напечатан в «П. М.» 18 июня 1941 года. Через четыре дня Гитлер напал на Советский Союз. 27 июня Хемингуэй телеграфировал в Москву: «На все сто процентов солидаризируюсь с Советским Союзом в его военном отпоре фашистской агрессии. Народы Советского Союза своей борьбой защищают все народы, сопротивляющиеся фашистскому порабощению».
2
7 декабря 1941 года японцы совершили внезапное нападение на Пирл-Харбор, американскую военно-морскую базу на Гавайях, причинив огромные потери находившейся там эскадре. Война на Востоке, которую предсказывал писатель, разразилась. 1942–1944 годы Хемингуэй большую часть времени провел на Кубе: как обычно, он рыбачил, общался с друзьями, отдыхал, развлекался. Но в творческом отношении эти годы оказались малопродуктивными.
Памятуя, как в Испании цензура вымарывала его репортажи, он не спешил, в отличие от некоторых своих коллег, стать военным корреспондентом. Но, конечно же, не сидел без дела, работал, хотя не так эффективно, как прежде.
Весна 1942 года прошла для него под знаком подготовки и съемок фильма по роману «По ком звонит колокол». Первый вариант сценария, написанный Дадли Николсоном, ему не понравился; он, в частности, потребовал «очистить» его от дешевой испанской экзотики; так, партизаны казались ухудшенными копиями сценических персонажей из оперы Бизе «Кармен». Он настаивал также на том, чтобы с большей отчетливостью была воплощена антифашистская направленность произведения. Следовало донести до зрителей преданность Джордана, Пилар, Ансельмо делу республики. Фильм должен был стать вкладом в ту войну с фашизмом, которую ведет его страна. И хотя главные роли в нем исполняли кинематографические «звезды»: Гарри Купер (Роберт Джордан) и Ингрид Бергман (Мария), роман не получил все же полноценного кинематографического воплощения.
Между тем продолжали выходить новые издания «Колокола»: к 1943 году в США было продано около 800 тысяч экземпляров, а в Англии — около 100 тысяч. Но, видимо, это в какой-то мере парализовало Хемингуэя. Слишком много душевных и физических сил было отдано «Колоколу». Он чувствовал, что не может сейчас повторить подобный творческий взлет. Публикация же новой книги явно меньшей значимости и художественного масштаба, как он полагал, могла лишь повредить его литературной репутации. А он был для этого слишком самолюбив. Но разве история литературы не знала примеров того, когда после мощного подъема следовала затянувшаяся пауза?
Главным литературным делом Хемингуэя в 1942 году стало обширное предисловие к антологии «Люди на войне». В нее вошли лучшие образцы батальной прозы самых разных писателей. Благодаря настояниям Хемингуэя из первоначального состава антологии были исключены некоторые авторы, которые увлекались сентиментальностью и ложной романтизацией войны, столь нетерпимыми Хемингуэем (например, Уинстон Черчилль и Ричард Хардинг Дэвис). Сам Хемингуэй был представлен двумя отрывками: сценой отступления под Капоретто (из романа «Прощай, оружие!») и сценой последнего боя Роберта Джордана.
В этом предисловии Хемингуэй вернулся к своим излюбленным эстетическим принципам, о которых не раз говорил в интервью, писал в письмах. Это — бескомпромиссная приверженность к истине.
Среди писателей-баталистов он с особым одобрением писал о Стивене Крейне авторе романа «Алый знак доблести», запечатлевшем психологическое состояние молодого человека, впервые понюхавшего пороху в бою; о Стендале, давшем превосходное описание битвы при Ватерлоо в «Пармской обители». Это объясняет и включение в антологию отрывка о первом бое и гибели Пети Ростова.
В предисловии Хемингуэй вновь вернулся к своему литературному кумиру, автору «Войны и мира»: «…Лучше Толстого о войне все равно никто не писал… Я люблю «Войну и мир», люблю за изумительные, проникновенные и правдивые описания войны и людей». И тут же добавляет: «Но я никогда не преклонялся перед философией великого графа».
Если Хемингуэй мало писал в начале 40-х годов, то это компенсировалось деятельностью иного рода. Перед нами одна из самых увлекательных страниц биографии писателя: это была борьба против фашистского подполья. Хемингуэй знал, что на Кубе среди испанцев немало тайных и явных сторонников Франко и нацистских агентов. Эти люди, в частности, ловко использовали и разжигали антиамериканские настроения среди жителей Кубы. Имелись сведения, что они помогали нацистским подводным лодкам, проникшим в Карибское море и действовавшим там методом «волчьей стаи», в частности снабжая их горючим, поставляя необходимую информацию.
Хемингуэй решил внести свой вклад в искоренение нацистского шпионажа. Он вступил в контакт с сотрудниками американского посольства в Гаване Эллисом Бриггсом и Бобом Джойсом, которым изложил свой замысел: использовать катер «Пилар» для несения патрульной службы в море. Несколько ранее он начал осуществлять тайную деятельность по обезвреживанию нацистских агентов на суше; свой план он назвал «Хитрое дело». Писатель добился того, что американские власти снабдили его оружием и горючим; остальное, в том числе материальные расходы, он взял на себя.
Тем временем немецкие подлодки в Карибском море активизировались: они нападали на рыбачьи суда, обыскивали их, отбирали запасы продовольствия и рыбу. Поэтому Хемингуэй предложил поначалу следующее: замаскировать катер «Пилар» под научно-исследовательское судно, занимающееся сбором морских раритетов для музея, вооружить команду пулеметами и гранатами. В случае появления на поверхности подводной лодки дождаться, пока она приблизится и группа захвата выйдет на палубу, после чего резко пойти на сближение и открыть огонь из всех видов оружия. Что касается команды «Пилар» из восьми «надежных людей», то Хемингуэй сам ее подобрал.
В этой деятельности Хемингуэя принимал участие его друг Густаво Дуран (1906–1969), личность колоритная и интересная. Сын испанского инженера, он получил музыкальное образование, учился в Париже, где преподавал музыку и был критиком. Когда началась гражданская война в Испании, Дуран стал солдатом, быстро выдвинулся как способный командир, участвовал в обороне Мадрида, в конце войны он уже командовал дивизией. Андре Мальро в своей книге «Надежда» вывел Дурана под именем Мануэля. Во время фашистского наступления в Каталонии Дуран чудом избежал расстрела, и ему удалось эмигрировать в США. Когда Дуран приехал в США и оказался безработным, Хемингуэй пробовал пристроить его в Голливуд, но там, зная левые взгляды Дурана, отказались от его услуг. Положение изменилось, когда США вступили в войну с фашистской Германией. В 1942–1943 годах, находясь на Кубе, он работал в госдепартаменте, сотрудничал с Хемингуэем в деле выявления нацистских агентов. Правда, к этому времени их личная дружба стала несколько омрачаться.
…На борту «Пилар» находились ящики с ручными гранатами, а члены экипажа были вооружены автоматами небольшого размера. Кроме того, на катере была установлена радиоаппаратура. Хемингуэй лично руководил тренировкой экипажа, в частности стрельбой и гранатометанием, и поддерживал образцовую дисциплину. С середины июня 1942 года катер «Пилар» начал ежедневно патрулировать в море, о чем имеются записи в бортовом журнале. Хемингуэй был настроен по-боевому, готовый пожертвовать своим любимым катером ради того, чтобы захватить или потопить фашистскую подлодку. Иногда по радио можно было уловить обрывки немецкой речи; видимо, это переговаривались капитаны немецких субмарин. Однако непосредственных столкновений «Пилар» с подлодками так и не произошло.
Посмотрим на фотографию Хемингуэя в это время. Постоянное пребывание на свежем воздухе побудило писателя отрастить бороду, густую и белоснежную, он заметно погрузнел. Таким его запомнили миллионы читателей. Писателю нравилось придумывать прозвища своим друзьям и близким; за ним же прочно закрепилось имя «Папа». Он действительно напоминал патриарха, усвоил «патерналистскую», покровительственную манеру по отношению к окружающим, привык находиться в центре внимания, поучать и руководить, быть хлебосольным хозяином. В то же время серьезность, роль «отца» неожиданно соединялись в нем со склонностью к разного рода мальчишеским забавам.
Шли месяцы патрульной службы на «Пилар», прерываемые разного рода развлечениями, среди которых Хемингуэй особенно любил состязания в стрельбе в Клаб Казадорес в Гаване. И все же Хемингуэй чувствовал себя не лучшим образом, и не столько от разного рода недомоганий, сколько от того, что никак не мог сесть за письменный стол. В его кабинете скапливалась корреспонденция, на которую не было душевных сил ответить. Марта Геллхорн с сентября 1943 года находилась в Европе в качестве военного корреспондента. Старший сын Джон (Бэмби), окончив офицерские курсы, отправился за океан в качестве командира взвода, чем отец весьма гордился. Вилла «Финка Вихия» опустела. Часами бесцельно бродил Хемингуэй в обществе кошек и собак. Многие его коллеги находились в Англии; ожидалось открытие второго фронта. И Хемингуэй понял, что его место там, где произойдут главные события.
3
В мае 1944 года в сопровождении группы офицеров Хемингуэй совершил перелет из Нью-Йорка в Лондон. Это была его первая встреча с английской столицей, где его знали и тепло приняли. Там в корреспондентском корпусе уже было немало друзей и знакомых Хемингуэя, который сделал своим «штабом» отель «Дорчестер». Столица жила напряженной жизнью, все ждали дня «Д», когда через Ла-Манш должна была устремиться армада судов на штурм «Западного вала».
В Лондоне и произошло знакомство Хемингуэя с Мери Уэлш, 36-летней американкой, журналисткой, уроженкой Миннесоты, которая позднее стала его женой. Их роман совпал с резким ухудшением взаимоотношений Хемингуэя с Мартой Геллхорн: они явно не сходились характерами, что осложнялось и своеобразным литературным соперничеством. Марта была честолюбива и явно не желала поступаться своими творческими планами и делами ради семейной жизни.
В конце 1944 года Хемингуэй в очередной раз попал в неприятную историю. Однажды ночью, возвращаясь по затемненным лондонским улицам в машине в отель «Дорчестер», он наскочил на стальной бак для хранения воды. Писатель получил сотрясение мозга и многочисленные травмы: операция в больнице длилась два с половиной часа, хирурги наложили ему 57 швов. Хемингуэй долго еще ходил плотно забинтованный и не мог избавиться от головной боли.
В начале июня Хемингуэй, выписавшийся из больницы, прибыл на южное побережье Англии, где концентрировались десантные суда, готовые к вторжению. В ночь с 5-го на 6-е июня, когда началась операция по открытию второго фронта, Хемингуэй находился на борту транспорта «Доротеа Л. Дикс», наблюдая, как десантные суда устремились через Ла-Манш в направлении к французскому берегу, сильно укрепленному. Их поддерживали орудия двух американских линкоров — «Техаса» и «Арканзаса». Сквозь цейсовский бинокль Хемингуэй рассматривал всю эту волнующую панораму. Позднее он точно отразил ощущения и чувства солдат, находившихся в тот день в десантной барже, в очерке «Рейс к победе». В нем, как и всегда у Хемингуэя, подкупали предельно точные, конкретные детали, которые могут быть ведомы только очевидцу: «Никто не помнит дату библейской битвы при Спломе. Но день, в который мы заняли береговой район Фокс-Грин, известен точно: это было шестое июня, и дул свирепый норд-вест. Когда мы серым утром шли к берегу, крутые зеленые волны вставали вокруг длинных, похожих на стальные гробы десантных барж и обрушивались на каски солдат, сгрудившихся в напряженном, неловком, молчаливом единении людей, идущих в бой».
В июне 1944 года Хемингуэй совершил несколько вылетов с аэродрома британских Королевских военно-воздушных сил в Южной Англии. Известный снимок запечатлел Хемингуэя в пилотском шлеме и с парашютом за плечами. Хотя летчики всячески старались обезопасить его жизнь, Хемингуэй, безусловно, рисковал. Во время первого полета эскадрилья перелетела Ла-Манш и оказалась над вражеской территорией; бомбы были сброшены на предполагаемые для запуска площадки «Фау», после чего самолеты вернулись домой. Хемингуэй просил задержаться, чтобы увидеть результаты бомбежки, но ему в этом было отказано; англичане уже потеряли одну машину во время налета. Второй полет Хемингуэй совершил на борту легкого самолёта типа «Москит»; была темная, безлунная ночь. В нарушение инструкции пилот несколько углубился на восток и появился над Францией, пока не заметил в воздухе «Фау», немецкие летающие снаряды, которые падали на британскую столицу. Один. «Фау» он успел сбить, но оказался в зоне огня собственной зенитной артиллерии и поспешил на посадку. Несмотря на усталость и сильнейшее нервное напряжение, Хемингуэй, к удивлению пилотов, тут же сел за пишущую машинку.
Тем временем к началу июля положение находившихся на небольшом плацдарме в Нормандии союзников улучшилось: отбив немецкие атаки, они начали медленно продвигаться. Вскоре к группе корреспондентов под Шербуром присоединился и Хемингуэй — полный энергии, жизнерадостный, сбривший свою роскошную бороду. Он был прикомандирован к 4-й пехотной дивизии генерала Раймонда Бартона, которая вела тяжелые наступательные бои, методично прорывая немецкую оборону. Там он познакомился с полковником Баком Ланхэмом, командиром 22-го полка; с ним и провел Хемингуэй кампанию 1944 года. Хемингуэй, вообще питавший очевидную симпатию к людям военным, не в пример своим литературным коллегам, в дальнейшем обрел в лице Ланхэма надежного друга. Хемингуэй откровенно делился с ним самым сокровенным и даже советовался по творческим вопросам. Они и после войны поддерживали теплые отношения.
Тогда на фронте многие замечали, что знаменитый писатель не любил говорить на литературные темы, порой просто уклонялся от таких разговоров. Зато к обязанностям военного корреспондента относился с предельной ответственностью. Ему была выделена специальная машина и шофер, и он нередко находился непосредственно в зоне боевых действий. Однажды вместе со своим приятелем еще по Испании, фотокорреспондентом Капой, они наскочили на немецкую противотанковую засаду и с большим трудом избежали неприятностей. Журналистов обстреляли, Хемингуэй, спасаясь от пуль, успел броситься в яму, получив при этом серьезные ушибы, после чего у него возобновились сильнейшие головные боли.
Вообще те, кто наблюдали Хемингуэя во фронтовой обстановке, единодушно свидетельствуют о его личном мужестве. Под огнем он вел себя храбро, а порой и рискованно; видимо, здесь сказывалась и какая-то фаталистическая вера в свою удачливость, в то, что смерть его минует, и, не в последнюю очередь, желание произвести впечатление на окружающих. Вспоминают, как однажды, уже осенью 1944 года, когда группа офицеров находилась на ферме и обедала, начался обстрел. Все попрятались, некоторые спустились в погреб; только Хемингуэй оставался за столом и продолжал трапезу, словно ничего не происходило.
В своих корреспонденциях он оставался верным своей журналистской методологии: опирался на собственные наблюдения и сведения, добытые в штабах, во время разговоров с участниками событий; его занимали не только факты, но и ощущения, переживания человека в боевой обстановке. Художник по натуре, он иногда сгущал краски, что-то додумывал, фантазировал, изобретал диалоги. Но в чем неизменно был точен, так это в воссоздании духа, атмосферы события.
Как и в Испании, Хемингуэй не ограничивал себя корреспондентскими обязанностями. Во время операции по освобождению Парижа он оказался в гуще событий, и не как наблюдатель, а как участник.
Началось с того, что в середине августа 1944 г. он с американским арьергардом достиг небольшого городка Рамбуйе неподалеку от французской столицы. Там он впервые столкнулся с группой французских партизан, маки, во главе с командиром Таоном Марсо. В эти дни Хемингуэй стал выполнять функции связного между партизанами и американским командованием. Вместе с подразделением американцев и маки он организует оборону города на случай контрнаступления немцев. Сам же запасся автоматом и гранатой; при этом оружие находилось и в его корреспондентской комнате. Конечно, это было нарушением Женевской конвенции, запрещающей корреспондентам иметь оружие и принимать какое-либо участие в военных операциях; позднее это ему припомнили. Высылая из города патрули и опрашивая местных жителей, Хемингуэй накапливал важные сведения, касающиеся передвижения фашистских войск на подступах к Парижу.
Вместе с полковником Брюсом, старшим офицером в Рамбуйе, и Мишелем Пасто, партизанским разведчиком, Хемингуэй собирал информацию у разных людей — партизан, пленных, мирных жителей, дезертиров. Готовилось наступление на Париж, и многочисленные западные корреспонденты спешили стать свидетелями этого события.
На этот раз Хемингуэй всех их опередил. В Рамбуйе прибыла 22-я танковая дивизия под командованием французского генерала Леклерка, которого Хемингуэй снабдил важной для него информацией о противнике. Из Рамбуйе Леклерк и начал свой марш на Париж, преодолевая завалы, на дорогах, поля, заминированные фашистами. Вместе с танковыми колоннами двигался и джип Хемингуэя. В Париж танки вошли, почти не встретив сопротивления; ранее в городе уже произошло вооруженное восстание, возглавленное коммунистами. Танки Леклерка были встречены парижанами с ликованием, толпы людей с флагами и цветами заполнили улицы, боевые машины двигались очень медленно. Иногда продвижение задерживалось сопротивлением небольших групп врага. По словам Хемингуэя, его единственной боевой задачей было «войти в Париж и остаться в живых».
Новая встреча Хемингуэя с Парижем, городом, где прошли незабываемые годы молодости, принесла писателю немало радостного. Столица, несмотря на фашистскую оккупацию, почти не изменилась. Это было настолько неожиданно, что Хемингуэя не покидало ощущение, будто он умер, а потом воскрес и увидел ставший явью сон. Писатель остановился в отеле «Ритц», где любил бывать в прежние годы. В Париже его помнили и знали, везде приглашали с большой охотой; волнующими стали встречи со старыми друзьями. Среди них оказалась и Сильвия Бич, владевшая той самой книжной лавкой и библиотекой, усердным читателем которых был в 20-е годы Хемингуэй. Спустя два десятилетия он произвел на Сильвию Бич впечатление «непоколебимости и силы».
Среди тех, кто побывал в те августовские дни в номере Хемингуэя в отеле «Ритц» и был дружески принят, оказался темноволосый 25-летний сержант Джером Д. Сэлинджер. Он уже испытал свои силы в жанре короткого рассказа и печатался в таких престижных журналах, как «Стори» и «Сэтерди ивнинг пост». Так произошла встреча Хемингуэя с представителем того нового поколения писателей, для которых главным событием молодости стала вторая мировая война (а к нему принадлежали также Норман Мейлер, автор романа «Нагие и мертвые», Джеймс Джонс, автор романа «Отсюда и в вечность»), Сэлинджер выпустил свой бестселлер, переведенный на многие языки, — «Над пропастью во ржи» (1951). Позднее Хемингуэй не без чувства ревности будет следить за их литературным восхождением, что, впрочем, объяснимо. Молодые таланты в послевоенные годы заметно потеснили «метров», и это с тревогой оценит Хемингуэй, болезненно ощущавший, что силы и творческая энергия неумолимо покидают его.
В Париже Хемингуэй обрел и нового друга; им стал француз Жан Дэкен, участник Сопротивления, фанатически ненавидевший нацистов. Дэкен сделался неофициальным телохранителем Хемингуэя, в то время как его переводчик на французский язык Марсель Дюамель стал его личным секретарем. К радостным переживаниям, связанным с освобождением Парижа, добавилось еще одно: из Лондона к Хемингуэю прилетела Мери Уэлш.
4
Передышка в освобожденной столице оказалась недолгой. В начале сентября Хемингуэй получил записку от Ланхэма, в которой содержался прозрачный упрек: «Мы сражались в Ландреси, а тебя с нами не было». Его друзья из 4-й дивизии уже находились в Бельгии, приближаясь ж границам «третьего рейха», и Хемингуэй незамедлительно устремился им вдогонку. Он присоединился к ним в тот момент, когда сопротивление немцев возросло и разгорелись жаркие бои. И в боевой обстановке Хемингуэя, как обычно, не покидало хладнокровие и чувство юмора.
Фронт, общение с боевыми товарищами словно бы влили в писателя новые душевные силы: исчезли чувство одиночества, неудовлетворенность и разочарование, появилось ощущение единения с другими людьми, сознание общей цели. 12 сентября 1944 года он стоял с биноклем на вершине холма: перед ним расстилалась Германия, откуда началась нацистская агрессия. На его глазах первый американский танк пересек границу. Американцы начали прорывать усиленную оборонительную полосу, которая получила название «Линии Зигфрида».
Пребывание на фронте было неожиданно прервано вызовом в военную прокуратуру, где от Хемингуэя потребовали объяснений по поводу его действий в Рамбуйе, не совместимых со статусом корреспондента. Ведь он фактически — а это было запрещено — принимал участие в боевых действиях, руководил партизанами, отдавал им приказы, носил оружие, пользовался картами боевых действий и т. д. В случае подтверждения подобных обвинений ему грозило лишение статуса военного корреспондента и незамедлительная высылка в США. Хемингуэю удалось, однако, искусно «отбиться» по всем пунктам с помощью ссылок на то, что он накапливал материалы для своих очерков.
Осень и зиму 1944–1945 годов Хемингуэй провел в отеле «Ритц», чередуя отдых и работу с поездками на фронт. В отеле он приводил в порядок свои записи, встречался с друзьями, развлекался. На фронте он снова становился внутренне собранным, мобилизованным. В «Ритце» у него впервые возник замысел большого эпического произведения о войне на море, в воздухе и на земле. Он надеялся вложить в него все свои впечатления последних лет: охоту за немецкими подлодками в Карибском море, полеты с пилотами английских ВВС, пребывание в боевых порядках 4-й дивизии, ее путь от Парижа до германской границы. Однако он никак не мог заставить себя сесть за письменный стол: сказывались последствия огромного нервного напряжения, да и увиденное и пережитое не успело еще отлежаться, кристаллизоваться. Этот замысел он сумел реализовать позднее, и то лишь частично: война войдет отдельными фрагментами в его романы «Острова в океане», «За рекой в тени деревьев», а также в некоторые очерки.
Памятной была поездка на фронт в конце ноября — начале декабря 1944 года, когда Хемингуэй стал свидетелем тяжелого сражения, развернувшегося в густом лесу Хюртгенвальд, явившемся предпольем «Линии Зигфрида». Лес был нашпигован минами, ловушками, пулеметными гнездами. К тому же резко похолодало, лил дождь вперемешку со снегом. Наступавшие американцы, неся значительные потери, сумели за пять дней продвинуться только на полтора километра. Больше полумесяца Хемингуэй находился непосредственно в зоне боевых действий, несколько раз попадал под пулеметный и артиллерийский обстрелы, всюду наталкивался на следы разрушений, разбитую технику, неубранные трупы. Он делил с офицерами все тяготы: холод, скудное питание, разного рода неприятности, переживал гибель боевых товарищей. Он сделался всеобщим любимцем, его коллегам импонировало, что всемирно знаменитый писатель по собственной инициативе постоянно подвергает себя опасности.
В начале декабря, дивизия была отведена на отдых, Хемингуэй вернулся в Париж, но ненадолго. 16 декабря немцы, неожиданно перейдя в наступление в Арденнах, поставили американцев в крайне опасное положение. Хемингуэй, больной, страдая от простуды, задыхаясь от кашля, поспешил на джипе на фронт; командир дивизии Бартон успел ему только сообщить по телефону, что «дело горячее». Писатель снова стал свидетелем ожесточенных боев: немецкий натиск ослаб, при этом большую помощь союзникам оказало начатое по их просьбе раньше срока мощное наступление Красной Армии под Варшавой. На фронте Хемингуэй встретился с Мартой Геллхорн, но это лишь ускорило их окончательный разрыв.
В эти последние недели 1944 года Хемингуэй, по его словам, «покрывался потом» при мысли о судьбе старшего сына Джона (Бэмби), который с конца октября числился пропавшим без вести. В конце года писатель получил известие, что сын попал в плен. Позднее выяснилось следующее: лейтенант Джон Хемингуэй в июле 1944 года был сброшен с самолета в лагерь французских партизан с целью проинструктировать, какими способами можно проникнуть в расположение противника. Во время рекогносцировки на местности он попал в засаду, был ранен осколками гранаты в правую руку и плечо и оказался в плену у подразделения альпийских стрелков. Их командир, офицер-австриец, во время допроса пленного, услышав его фамилию, был несказанно поражен. Оказывается, в 1925 году в Швейцарии, в Шрунсе, он встречал писателя Хемингуэя, его жену Хедли, которые нянчились с двухлетним малышом Бэмби. И вот перед ним стоял тот самый Бэмби, теперь уже юноша 21 года, истекавший кровью. Офицер отправил Джона в госпиталь в Эльзас, откуда тот был помещен в лагерь для военнопленных близ Гамбурга. Он был освобожден оттуда подразделением 4-й американской танковой дивизии, но затем снова попал в плен и уже окончательно был вызволен из лагеря близ Нюрнберга после капитуляции Германии.
В начале марта 1945 года Хемингуэй из Парижа возвратился на Кубу. Исход войны был ясен, и писатель надеялся вернуться к письменному столу.
5
Весной 1945 года на Кубе Хемингуэй погрузился в хозяйственные заботы, приводил в порядок «Финку», изрядно запущенную. Он даже подписывался: «Э. Хемингуэй. Писатель и фермер». Он начал снова выходить в море на борту «Пилар», рыбачить, участвовать в стрелковых состязаниях в Клубе Казадорес в Гаване. Надо было подумать и о восстановлении здоровья, серьезно подорванного на войне.
Вскоре на Кубу прилетела Мери, с которой он позднее оформил брак. На «Финке» часто гостили его младшие сыновья Патрик и Грегори, к которым присоединился Джон, вернувшийся из плена. Отец гордился старшим сыном и рассказывал, что рана и шрам на его правом плече были размером с крупное яблоко. Приезжали к нему на «Финку» и фронтовые друзья, например Ланхэм, который дослужился до генерала. Жизнь входила в привычную колею. Однако внутренняя тревога не оставляла Хемингуэя, и прежде всего потому, что ему не писалось. Он нервничал: творческий простой слишком затянулся, с момента публикации «Колокола» прошло более пяти лет, а он так и не опубликовал ничего значительного.
Творческое настроение медленно, но возвращалось. Писатель не был глух к проблемам послевоенного устройства мира. Свои тревоги и соображения на этот счет он высказал в предисловии к антологии «Сокровища свободного мира» (1946). Потрясенный атомной бомбежкой Хиросимы и Нагасаки, а также бессмысленным разрушением Дрездена авиацией США в феврале 1945 года, Хемингуэй с горечью писал, что вооруженные силы США «истребили больше гражданских лиц в других странах, чем это содеяли все наши враги во время своих печально известных побоищ, о которых мы сожалеем». Хемингуэй мечтал о том, что в послевоенном мире восторжествуют новые отношения, ибо «война — величайшее преступление против всего доброго на земле». Он был убежден, что ей не может быть никакого оправдания.
Выход он видел в установлении взаимопонимания между всеми людьми планеты: «Мы вели войну, и мы ее выиграли. Давайте не будем ханжами, не будем лицемерами, не будем мстительными и твердолобыми. Давайте сделаем наших врагов неспособными когда-либо начать против нас войну; давайте же научимся сами жить в условиях мира и справедливости со всеми государствами и народами на этой планете. Для этого мы должны воспитывать и перевоспитывать. Но прежде всего мы должны воспитывать самих себя».
Свою последовательную антивоенную позицию Хемингуэй подтвердил еще раз в предисловии к новому иллюстрированному изданию романа «Прощай, оружие!», выпущенному в 1948 году. В нем он заявил о себе как художнике, которому довелось не раз побывать на разных фронтах, что сделало его убежденным антимилитаристом. «Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе, надеюсь, даже очень пристрастен, — писал Хемингуэй. — Но автор этой статьи пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, — свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться».
Оценивая это издание своего романа, писатель остался недоволен рисунками. Он вообще полагал, что иллюстрации, отражающие субъективное видение художника-графика, редко передают дух и характер образов, созданных языковыми средствами. По его мнению, литературный текст лучше гармонирует с картинами живописцев. И здесь он обнаружил тонкий вкус. Напиши он книгу о Багамских островах, к ней лучше всего подошли бы полотна американского художника Гомера Уинслоу; будь он Ги де Мопассаном, то снабдил бы свои книги картинами Тулуз Лотрека или Ренуара. Он усматривал сходство повествовательной манеры определенных писателей с живописным стилем некоторых художников.
Каким бы сложным, противоречивым, порой непредсказуемым в своих поступках ни был Хемингуэй, в чем он был постоянен, так это в приверженности идеалам гуманизма. В канун нового 1946 года он получил письмо от своего телохранителя и шофера Жана Дакэна, которого ложно обвинили в коллаборационизме и отправили за решетку. Хемингуэй не только незамедлительно пришел к нему на помощь, но и подключил к его защите ряд своих друзей, например генерала Ланхэма. В специальном письме, отправленном во Францию, Хемингуэй обстоятельно описал мужественное поведение Дакэна, начиная с Рамбуйе и кончая участием в отражении фашистского наступления в Арденнах. Именно благодаря вмешательству Хемингуэя удалось выручить Дакэна.
Постепенно Хемингуэй освобождается от мучительных военных впечатлений. В начале 1946 года он вернулся, наконец, к письменному столу и приступил к работе над романом, который назвал «Райский сад». Это было произведение во многом автобиографическое: в нем прошлое, обстоятельства семейной жизни с Хедли и Полин, причудливо соединялось с настоящим. Рукопись довольно быстро продвигалась и к лету достигла объема в 1000 страниц. Видимо все же писатель не был удовлетворен этим сочинением, не отделал его окончательно, оно осталось в «сыром» виде в архиве и увидело свет спустя четверть века после смерти Хемингуэя, в 1986 году.
Однако всего более ему хотелось написать о своих друзьях из 22-го полка; он говорит о том, что военного материала ему хватит на всю жизнь. Сражения отгремели, и в литературных кругах обсуждали: кто способен написать нечто вроде новой «Войны и мира», которая запечатлела бы весь масштаб пережитого человечеством. Хемингуэй знал: в числе этих потенциальных авторов называют и его имя. Но книга, которую от него ждали, никак не двигалась.
К тому же его жизнь в «Финке Вихии» была далека от безмятежности. Болезни и травмы продолжали преследовать и Хемингуэя, и его близких. В апреле 1947 года во время визита к матери его сыновья Патрик и Грегори попали в небольшую автомобильную аварию. При этом Патрик получил черепную травму, что вызвало головные боли. Затем Патрика постигла новая беда: он провалился на вступительных экзаменах в колледж, после чего у него обнаружились признаки психического заболевания. Патрик начал вести себя крайне агрессивно по отношению к отцу, перестал принимать пищу. Долгое время все усилия врачей не имели успеха; Хемингуэй серьезно опасался за жизнь сына. Его друзья составили своеобразную медицинскую бригаду, которая все время ухаживала за сыном. В «Финку» прилетела из Калифорнии Полин, у которой, ко всеобщему удивлению, сложились весьма дружелюбные отношения с Мери. В конце концов неожиданно дела у Патрика пошли на поправку, и он встал на ноги. Пришлось пережить Хемингуэю и еще один удар: смерть Максуэлла Перкинса, испытанного друга и многолетнего опытнейшего редактора его произведений. А среди приятных событий 1947 года было награждение его медалью «Бронзовая звезда». Так была отмечена его работа военного корреспондента, сопряженная с личным мужеством. Медаль была вручена в американском посольстве в Гаване. Правда, Хемингуэй считал, что достоин более высокой награды.
Следующий, 1948 год ознаменовался несколькими важными для него событиями. В частности, именно к этому времени относится рождение того, что позднее критики назовут «хемингуэевской легендой». Примерно начиная с этого момента не только книги писателя, но и сам он как личность, обстоятельства его жизни станут предметом широкого общественного внимания. Он оказался в числе немногих писателей, живых классиков, биографии которых пишутся уже при их жизни. Начиная с этого момента, по словам одного из исследователей, Хемингуэй начинает восприниматься как public writer, т. е. популярный писатель, своего рода литературная звезда.
Началось с того, что журналистка Лилиан Росс, специализировавшаяся на очерках-портретах разного рода знаменитостей, обратилась к Хемингуэю с рядом вопросов, касающихся его друга, известного матадора Сиднея Франклина. Когда Росс встретилась с Хемингуэем, он произвел на нее сильное впечатление как колоритная, оригинальная личность. Росс вступила с писателем в переписку, а затем в 1950 году напечатала о нем очерк в массовом журнале «Ныо-йоркер». Очерк был довольно точным воспроизведением всего того, что могла наблюдать и слышать Росс, общаясь с Хемингуэем во время его трехдневного пребывания в Нью-Йорке в ноябре 1949 года. Очерк был написан живо, хотя и несколько односторонне: Росс подчеркивала экстравагантные особенности Хемингуэя, его поведения, манер. Сам Хемингуэй очерка не одобрял, хотя и считал, что Росс представила его таким односторонним образом без злого умысла. Очерк прочли сотни тысяч читателей журнала, а это содействовало росту его популярности.
На исходе 40-х годов появилось и несколько других аналогичных публикаций. В начале 1948 года на вилле Хемингуэя на Кубе гостил известный критик Мальколм Каули с семьей. Хемингуэй, вообще не жаловавший людей этой профессии, относился к Каули с уважением, считая его лучшим американским критиком. Каули готовил большую статью о писателе для популярного массового журнала «Лайф». Почти целую неделю Хемингуэй отвечал на вопросы Каули, выстраивал вехи своей жизни, рассказывал о своих убеждениях и пристрастиях, писательских привычках. Немало ценных сведений он сообщил позднее в письмах Мальколму Каули. Очерк Каули, названный «Портрет мистера Папы», появился в «Лайфе» и получил одобрение Хемингуэя, который фактически авторизовал имевшиеся в нем биографические сведения. Это был первый критический материал, не только характеризовавший главные этапы творческого пути писателя, но и знакомивший с его жизнью.
6
Когда Хемингуэй возвратился с войны, многие отметили, как он резко сдал, постарел. В эти трудные, кризисные для него годы писателем часто овладевали ностальгические настроения, ему нравилось мысленно переноситься в дни молодости, ибо с ней были связаны его крупнейшие литературные достижения. Вообще в последние годы Хемингуэй как бы проживает свою жизнь заново, он посещает памятные места: Париж, Испанию, Италию, Африку. И пишет книги, являющиеся в известной мере возвращением к прошлому.
Первым такого рода путешествием в прошлое стала поездка в Италию, начавшаяся осенью 1948 года. Он почти 30 лет не был в этой «удивительной стране», где молодым добровольцем принял боевое крещение и был тяжело ранен. На этот раз его встречали как литературную знаменитость, выказывая всяческие знаки внимания. Один из его издателей, Альберто Мондадори, сообщил Хемингуэю, что после войны его книги раскупаются в Италии лучше, чем сочинения любого другого автора, что его читают все — от простых матросов до отпрысков аристократических семей. Вместе с Мери они проехали по Северной Италии, некоторое время провели в Венеции. Волнующим стало посещение мест, где Хемингуэй воевал и был ранен. Теперь окопы были засыпаны, поросли травой, но он все-таки нашел место, где его настиг снаряд австрийского миномета. Там он совершил символический акт: зарыл на месте своего ранения банкноту ценностью в 1000 лир. Это означало, что он отдал земле Италии и свою кровь, и свои деньги. Позднее нечто подобное сделает и герой его романа «За рекой в тени деревьев» полковник Кентуэлл. Неподалеку от Венеции Хемингуэй провел несколько недель в гостинице на небольшом островке в лагуне: в утренние часы он писал, потом охотился на уток. Эти сцены также найдут отзвук в его романе.
Зиму 1948–1949 годов он провел на курорте Кортино д’Ампеццо, где, в частности, увлекся охотой на вальдшнепов. Там с Хемингуэем случилась очередная неприятность: во время стрельбы пыж от пули попал в глаз, что вызвало воспалительный процесс. Писатель был помещен в больницу в Падую, и врачи серьезно опасались заражения крови, что могло привести к потере зрения. В конце концов все кончилось благополучно. Но переживания на больничной койке дали импульс к написанию рассказа Хемингуэя «Нужна собака-поводырь».
В Кортино д’Ампеццо писатель познакомился с итальянкой — 19-летней Адрианой Иванчич — и ее старшим братом Джанфранко, принадлежавшими к состоятельной аристократической семье. Адриана была красива, образованна, неплохо рисовала; Хемингуэй питал к ней нежные отеческие чувства. «Дочка», как он ее называл, стала в эти годы одним из сильных источников его творческого вдохновения. 28-летний Джанфранко был участником войны, сражался под Эль Аламейном, затем в рядах итальянских партизан; он был человеком смелым и нравился Хемингуэю. Их связывали дружеские отношения до конца жизни писателя.
В апреле 1950 года Хемингуэй возвратился на Кубу. В это время он уже с головой ушел в работу над новым романом, которому после долгих размышлений, перебрав несколько вариантов, дал заголовок «За рекой в тени деревьев». Это были предсмертные слова генерала конфедерата Стонуолла Джексона, человека мужественного, получившего прозвище «Каменная стена». Большое место в романе заняли впечатления от недавней поездки в Италию, где и развертывалось действие произведения. Видимо, замысел книги рождался трудно. Большой роман о второй мировой войне, о котором он упоминал в разговорах и письмах, не получался. Тогда Хемингуэй остановился на более компактном произведении, в котором война не показывалась непосредственно, но присутствовала как важная страница в биографии главного героя. В этом произведении особенно отчетливо проявляется автобиографическое начало.
В центре произведения — характерный хемингуэевский герой, являющийся очередным звеном в той типологической линии, которую представляют Джейк Барнс, лейтенант Фредерик Генри, Роберт Джордан. Но этот герой уже показан постаревшим, уставшим от жизни: Ричарду Кентуэллу, полковнику американской армии, участнику двух мировых войн, около пятидесяти. В письме к Баку Ланхэму Хемингуэй сообщал, что в главном герое романа своеобразно соединились черты нескольких людей: это Чарли Суини, бывший наемник, Бак Ланхэм, а также сам Хемингуэй, каким он мог стать, избери он военную карьеру. Героиня романа графиня Рената была во многом «списана» с Адрианы Иванчич. Реальные факты из жизни Хемингуэя и его знакомых причудливо преображались, с помощью писательской фантазии.
Сюжет романа незамысловат, в нем вообще мало событий, действия. Главный герой, 50-летний полковник Кентуэлл, служащий в американской армии в Триесте, приезжает на субботу и воскресенье в Венецию отдохнуть и поохотиться на уток в венецианской лагуне. Там он встречается с друзьями, проводит время в барах и роскошных отелях и, что самое главное, знакомится с молодой красивой итальянкой — 19-летней Ренатой, графиней. Между ними вспыхивает чувство. Кентуэлл, вдовец, много видевший и переживший, разочарованный в жизни и людях, находит в молодой женщине способность понимать его и сострадать. Позднее критики не прошли мимо того, что любовная линия в романе вызывает очевидные аллюзии с шекспировским «Отелло», что Кентуэлл напоминает мавра, а Рената — Дездемону. Рената любит Кентуэлла за те испытания, которые выпали на его долю, а он ее — во многом за то, что девушка способна на сочувствие. Однако последняя любовь полковника к «дочке» Ренате не спасает его от горьких мыслей, вызванных сердечной болезнью и предчувствием неизбежного скорого конца. Роман кончается на грустной ноте. На обратном пути в Триест полковник умирает в роскошном лимузине от сердечного приступа.
В романе заметны усталость, отчасти «вторичность», переклички с некоторыми прежними произведениями Хемингуэя. Действительно, в чем-то писатель чуть ли не пародирует себя. И все же рука большого мастера заметна на многих страницах романа: это отличные описания венецианских пейзажей, лагуны, сцены утиной охоты. Здесь Хемингуэй-художник — в своей стихии.
Очень важным стилевым пластом романа являются мотивы минувшей войны, возникающие в разговорах Кентуэлла. Герой Хемингуэя во многом прошел тот же путь, что и автор романа: высадка во Франции, в Нормандии, взятие Парижа, тяжелые бои в лесу Хюртгенвальд. В уста Кентуэлла писатель вкладывает резко критические, язвительные характеристики американского командования, таких известных военачальников, как генералы Паттон, Эйзенхауэр, Смит, английский фельдмаршал Монтгомери. Он упрекает их в некомпетентном руководстве операциями, в том, что в армии — засилье взяточников, что военная машина пропитана духом бизнеса. «Теперь ведь нами правят подонки», — сетует полковник. Подобные характеристики звучали достаточно смело: роман писался на исходе 40-х годов, когда в США складывалась тяжелая политическая атмосфера начавшейся «холодной войны», а левые подвергались преследованиям. Смелым для того времени было и такое высказывание Кентуэлла о русских: «Говорят, это наш будущий враг. Так что мне как солдату, может, придется с ними воевать. Но мне лично они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на наш» (IV, с. 55). Возможно, эти слова Кентуэлла были подсказаны личным опытом Бака Ланхэма, который в конце войны встретился в Германии с советскими солдатами. Он мог передать Хемингуэю свои впечатления.
В целом же образ Кентуэлла оказался не до конца убедительным. Этот кадровый военный, считающий себя неудачником, ибо не дослужился до чина генерала, склонный к рефлексии, кажется, впитал в себя многие сомнения и переживания, свойственные самому романисту. Кентуэлл тонко чувствует искусство и оперирует в разговорах целым каскадом имен итальянских живописцев, что тоже не всегда кажется естественным. Бледным получился и образ Ренаты, на долю которой выпало задавать полковнику вопросы и добросовестно внимать профессионально точным описаниям разных эпизодов его боевого послужного списка. Вряд ли это могло увлечь молодую утонченную девушку, обладательницу графского титула.
Хемингуэй связывал с романом, появившимся в сентябре 1950 года, большие надежды, ожидая крупного успеха; ведь работа над книгой отняла у него массу сил, а он верил в свое мастерство. Однако реакция критики оказалась в целом для него разочаровывающей. В серьезных литературных и интеллектуальных кругах складывалось мнение, что роман означает закат Хемингуэя. Нужна была новая книга, чтобы ответить тем, кто поспешил писателя «похоронить». Ею и стала знаменитая повесть «Старик и море».
Глава одиннадцатая
Конец пути
1
Наступили пятидесятые годы, последнее десятилетие жизни Хемингуэя. Его начало было отмечено интенсивной работой над повестью «Старик и море».
Первым подступом к теме повести надо считать очерк «На голубой воде. Гольфстримское письмо», опубликованный еще в апреле 1936 года в журнале «Эсквайр». В очерке рассказывалось о старике, рыбачившем в море, о том, как он поймал огромного марлина, с которым боролся несколько дней, пока не подтянул к лодке, и о том, как его добычу растерзали напавшие на нее акулы. Это был как бы эскиз сюжета в общем его виде, который трансформировался, «оброс» многими новыми деталями и подробностями, а главное, обогатился глубоким жизненным и философским содержанием.
Однако 16-летний путь от очерка к повести вовсе не был прямым. Хемингуэем владели совсем другие мысли и темы: Испания, Китай, вторая мировая война. В послевоенные годы Хемингуэй задумал и делал первые наброски большого эпического произведения, трилогии, посвященной «земле, морю и воздуху». Рассказ о старом рыбаке Хемингуэй намеревался «интегрировать» в ту часть этого обширного полотна, которая повествовала о море. Когда замысел выкристаллизовался, Хемингуэй стал писать стремительно, на одном дыхании, в это время он испытал вдохновляющее возвращение творческих сил: на его вилле «Ла Вихия» гостила Адриана Иванчич. Она приехала в гости к писателю с матерью и братом Джанфранко. Присутствие Адрианы, к которой писатель питал сильное чувство, стимулировало его творческую энергию. Как и всегда, Хемингуэй предъявлял к себе максимальную требовательность. В письме к издателю Ч. Скрибнеру в октябре 1951 года Хемингуэй сообщал: «Это — проза, над которой я работал всю свою жизнь, которая должна быть легкой, простой и лаконичной и в то же время передавать все изменения видимого мира и сферы человеческого духа. Это самая лучшая проза, на которую я сейчас способен».
17 февраля 1951 года Хемингуэй поставил точку на рукописи, которая состояла из 26 тысяч 531 слова. После того как Мери перепечатала ее набело, Хемингуэй отложил повесть, решил дать ей «отлежаться», не торопясь с ее публикацией. Между тем, друзья писателя, знакомясь со «Стариком», неизменно выражали свое горячее одобрение.
Чтобы проверить эти впечатления, Хемингуэй отправил рукопись Карлосу Бейкеру, профессору литературы в Принстонском университете, который серьезно изучал творчество писателя. Бейкер присоединился к самым лестным оценкам повести, отметив, что старик Сантьяго достоин занять место рядом с шекспировским королем Лиром. Чарльз Скрибнер извещал Хемингуэя, что готов печатать рукопись, даже столь скромного объема, в виде отдельной книги; в этот момент у Хемингуэя, наконец, сложилось и название его произведения.
Сомнения окончательно разрешил кинорежиссер Леланд Хейуорд, гостивший на Кубе, которому Хемингуэй также дал прочесть рукопись. По свидетельству Мери Хемингуэй, Хейуорд убеждал писателя: «Вам надо публиковать эту вещь, Папа». Когда Хемингуэй выразил опасения, что рукопись «слишком мала для книги», Хейуорд ответил: «Чего вы достигли в ней, так это совершенства. Вам не удалось бы сказать больше того, что вы сказали, если бы написали тысячу с лишним страниц». Хейуорд посоветовал предложить повесть массовому иллюстрированному журналу «Лайф», будучи убежден в ее безусловном успехе. Хемингуэй последовал этому совету. В сентябре 1952 года повесть «Старик и море» увидела свет на страницах журнала «Лайф» (тираж журнала был 5 миллионов экземпляров).
Эта незамысловатая история о простом старом рыбаке, о его сражении с огромной меч-рыбой благодаря поистине магическому искусству Хемингуэя захватывала и потрясала.
…После восьмидесяти четырех дней бесплодных выходов в море старик Сантьяго, наконец, поймал рыбу огромных размеров; почти три дня сражается с ней, одолевает рыбу, привязывает ее к борту лодки и берет курс к родному берегу. Когда удача совсем близка, на его добычу набрасываются акулы, рыбак отчаянно с ними сражается, убивает нескольких голодных, рвущих пойманную рыбу хищниц. В итоге от улова остается лишь начисто обглоданный скелет. Еле добравшись до своей хижины, старик засыпает.
Почему же все, что происходит с этим стариком, его борьба и переживания держат нас в напряжении и исполнены неподдельного интереса? Почему сама повесть, при внешней своей непритязательности, вызывает богатые ассоциации и размышления?
Наверное, потому, что она — яркое свидетельство силы большого реалистического искусства! Это достигается многими средствами, но, пожалуй, прежде всего неотразимой достоверностью подробностей, конкретных, наглядных, словно врезающихся в нашу память. Именно они придают произведению «эффект присутствия», словно бы ставят читателя рядом со старым рыбаком, делают свидетелем событий. И действительно, в повести сказалось не только искусство Хемингуэя-стилиста, но и его глубокая любовь к морю, знание и понимание рыбацкого труда. Уже упоминавшийся Арнольд Самуельссон, проведший год рядом с писателем в Ки Уэсте в середине 30-х годов, в своей книге воспоминаний отмечает поражавшую всех удивительную наблюдательность Хемингуэя, интуицию рыболова. Он умел определить вид рыбы по тому, как она клюет, знал особенности ее поведения.
Рыбак Сантьяго — новое звено в типологии хемингуэевских «героев кодекса». Они словно бы мужали, старели вместе с писателем; Фредерик Генри из романа «Прощай, оружие!» был совсем молодым человеком, Роберту Джордану было где-то за тридцать, Кентуэллу — пятьдесят; Сантьяго — уже старик. Сантьяго также запечатлен в «момент истины», в экстремальной ситуации, наверное, самой драматической в своей жизни, когда выявляются все физические и нравственные силы, заложенные в этом человеке. Как и некоторые его предшественники, он одинок, немногословен, скромен и стоек. Перед нами — закат жизни. «Генетически» же Сантьяго близок к уже немолодому матадору Мануэлю Гарсиа, который в последний раз вышел на арену, был близок к победе, но оказался сраженным быком. Мануэлю посвящена новелла, которую Хемингуэй, не любивший патетики, назвал «Непобежденный». Подобно матадору, вооруженному мулетой, Сантьяго поражает гарпуном сердце рыбы. Он также после героических усилий в конце лишается плодов своего труда. Писатель словно бы возвращается к теме, обозначенной в названии его новеллистического сборника: «Победитель не получает ничего».
В начале своего пути Хемингуэй писал о мужестве молодых людей: Ника Адамса, Джейка Барнса, Фредерика Генри. Теперь его волнуют проблемы человеческого поведения в пору жизненного исхода. И устами своего героя он утверждает: «…Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (III, с. 275).
В Сантьяго есть новизна, отличающая его от прежних «героев кодекса». Он — труженик. Повесть — не только гимн мужеству, но и гимн труду. Именно в каждодневной борьбе за существование сложились те черты характера Сантьяго, которые импонируют читателю. Они, конечно же, были близки и самому Хемингуэю, потому что само создание этой повести было его писательским подвигом, итогом творческих усилий по овладению «большой рыбой», которая, как и старику, ему не легко далась.
Сантьяго наивен, непосредствен; он — «естественный человек», словно бы слившийся с природой — разговаривающий с птицами, рыбами, любящий море, как живое существо.
И в повести эта «технология» рыбацкого труда, все мельчайшие детали, касающиеся ловли марлина, увлекают больше, чем перипетии любой детективной истории. Такова магия хемингуэевского искусства!
Еще на заре своей литературной деятельности в письме к отцу он писал: «…Я стремлюсь во всех своих рассказах передать ощущение подлинной жизни — не описывать ее, не критиковать, а передать ее истинную сущность». Читая «Старика», мы ощущаем дыхание могучего океана, который переливается у нас на глазах своим многоцветьем; вглядываемся в таинственную непостижимую глубь Гольфстрима; сопереживаем старику, у которого одеревенела рука и который изо всех сил тянет леску; утоляем голод сырыми кусками тунца; с яростью колотим всем, что попадается под руку, по головам акул…
Но помимо внешнего, событийного, есть в этой повести другой — внутренний, философский план. Его герой — лицо индивидуальное, несет черты бедного кубинского рыбака. И вместе с тем он вырастает до символа человека, противоборствующего суровой судьбе. Правда, Хемингуэй делает это не нарочито, не навязчиво, «подымая» Сантьяго до универсальной масштабности. Она ощущается как-то сама собой как следствие художественной рельефности.
Повесть обретает черты притчи, аллегории. Но в то же время она свободна от схематичности, от лежащего на поверхности дидактизма, присущих этой жанровой разновидности. Конечно же, Хемингуэй философичен, и об этом говорят рассуждения, некоторое морализирование, пронизывающие повесть; они проявляются и в тех разговорах с самим собой, к которым склонен старик. Предельно выразительна и сама ситуация: одинокий человек лицом к лицу с природой, с океаном, со звездами.
И это было характерным знаком времени: тогда на рубеже 40—50-х годов в литературе США был заметен уклон в сторону притчи, аллегории, иносказания. Таковы повесть Стейнбека «Жемчужина» (1947), притча о мексиканском рыбаке Кино, ставшем жертвой алчности торговцев, выловившем сказочную жемчужину, источник несчастий для его семьи; повесть Ричарда Райта «Человек, который жил в подполье» (1945), герой которой негр Фред Даниел, нашедший убежище в водосточных трубах, становился символом униженности, «невидимости» чернокожего американца; роман Ральфа Эллисона «Человек-невидимка» (1952), развернутый как аллегория духовных и нравственных исканий негра в расистском обществе; роман Джона Стейнбека «К востоку от рая» (1952), эта семейная сага, данная как в реалистическом, так и в философском ключе, как история извечной борьбы добра и зла. Но, конечно же, за хемингуэевским «Стариком и морем» незримо возвышалась тень великого «морского» и одновременно философско-аллегорического романа Германа Мелвилла «Моби Дик» (1852).
Своеобразие хемингуэевской повести открывается, если сопоставить ее с другим выдающимся образцом «малой прозы», появившимся в те же 50-е годы, с шолоховской «Судьбой человека». Хемингуэй как бы исключает Сантьяго из конкретных социальных связей; его герой одинок, и в повести, конечно же, есть ощущение того, сколь горек удел человеческий. Андрей Соколов — частица народа в пору героических испытаний; мысль о Родине, о миллионах братьев по общему делу дает ему силу. И определяет оптимистическую тональность шолоховского шедевра.
Повесть Хемингуэя вызвала поток критических отзывов. Признавая высокие достоинства, рецензенты, в сущности, спорили: пессимистично или, напротив, оптимистично это произведение. Как в случае с шекспировским Гамлетом, где одни усматривают слабость, другие, напротив, — силу и решительность героя, рецензенты опирались на отдельные цитаты и ситуации, отстаивая свою точку зрения. Повесть, если рассматривать ее в целом, думается, не предполагает однозначного, прямолинейного толкования. Сантьяго выступает и как победитель, и как побежденный. Но даже в финале, как в классической трагедии, мы ощущаем, что морально он остается непобежденным. Важна в повести и фигура мальчика Манолина, которого так недостает старику в море, когда он сражается с рыбой; мальчик олицетворяет не только силу мужской дружбы, но и связь поколений. Пафос повести в том, что жизнь — сложна и многогранна, что она — суровое испытание, в котором есть и взлеты и неудачи, и триумфы и падения. И Хемингуэй по-своему, надо думать, солидарен с той хрестоматийной фразой служанки Розали, которой заключает Мопассан роман «Жизнь»: «Вот видите, какова она — жизнь: не так хороша, да и не так уж плоха, как думается».
2
Повестью «Старик и море» Хемингуэй взял убедительнейший реванш за известную неудачу с романом «За рекой в тени деревьев». Сообщения об успехе повести приходили со всех концов мира. Но всего более радовало автора проявление неподдельных читательских чувств. В течение трех недель на его имя поступало по восемьдесят — девяносто писем ежедневно. Откликались школьники, военнослужащие, университетские профессора, журналисты, старые знакомые, которых он помнил по Европе. Среди отзывов профессионалов Хемингуэя особенно тронуло одобряющее письмо от Бернарда Беренсона, маститого искусствоведа, знатока итальянского Ренессанса. Хемингуэй тепло поблагодарил Беренсона, «старого мудреца». Касаясь споров в критике относительно возможного символического смысла отдельных образов, Хемингуэй отклонил глубокомысленные толкования своей повести: «Море означает море, старик — старика, мальчик — это просто мальчик, а акулы не лучше и не хуже, чем все прочие акулы».
Поскольку суждение такого проницательного критика, как Беренсон, представляло для писателя ценность, Хемингуэй попросил его подробнее отозваться о повести. Беренсон прислал из Италии «несколько строк об этом скромном шедевре». Он, в частности, писал: «Старик и море» Хемингуэя — это идиллия моря как такового, но не моря Байрона или Мелвилла, а моря Гомера, запечатленного в прозе, такой же величавой и неотразимой, как гомеровская поэзия».
Очень важным для Хемингуэя было мнение, бесспорно, самого выдающегося его современника — Уильяма Фолкнера. Между двумя живыми классиками сложились непростые отношения: было здесь и взаимное уважение, и отчасти скрытое творческое соперничество. Но Фолкнер воздал должное повести своего литературного собрата. Осенью 1952 года в журнале «Шенандоа» он, в частности, писал: «Его лучшая вещь. Может быть, время покажет, что это лучшее из всего написанного нами — его и моими современниками».
Прием, оказанный книге, позволил Хемингуэю не без гордости сообщить в письме Адриане Иванчич: «Все издатели и еще некоторые люди, которые прочли «Старика и море», считают, что это — классика. Можно подумать, что я хвастаюсь. Но это не так, потому что это говорю не я, а все они. Они утверждают, что книга производит удивительное, самое разностороннее впечатление». Адриана выполнила рисунок для обложки книги, который был воспроизведен к большому удовольствию Хемингуэя.
Множились и официальные знаки признания. Повесть получила весьма престижную Пулитцеровскую премию за 1953 год по разделу прозы, ту самую, которой явно несправедливо не были удостоёны такие романы, как «Прощай, оружие!» и «По ком звонит колокол».
Между тем вслед за первыми откликами в прессе последовали более развернутые литературоведческие оценки. Повесть, внешне простая, дала пищу для разнообразных критических подходов и интерпретаций.
По поводу подобных анализов и предположений писатель высказался с достаточной определенностью: «Не было еще хорошей книги, которая возникла бы из заранее выдуманного символа, запеченного в книгу, как изюм в сладкую булку». При этом он пояснял: «Мне повезло повстречать хорошего старика и хорошего мальчика, а писатели в последнее время совсем забыли о существовании подобных людей».
Повесть «Старик и море» быстро приобрела международный резонанс. Итальянская переводчица повести сообщала Хемингуэю, что, работая над ней, она не могла сдержать слез. В норвежской печати прозвучало единодушное признание художественного совершенства повести, которая, будучи «чистой, благородной и искренней», исполненной нежности, в ряде моментов превосходит произведения, созданные Хемингуэем в пору молодости.
Публикации повести в СССР предшествовали любопытные события, о которых рассказывает в своих мемуарах И. Эренбург, бывший в ту пору членом редколлегии журнала «Иностранная литература». Повесть уже должна была появиться, когда неожиданно ее публикация была отложена. Выяснилось, что повестью недовольны «наверху», в частности тогдашний член Политбюро В. М. Молотов. Когда И. Эренбург был у него на приеме по делам Всемирного Совета Мира, то поставил вопрос о «Старике и море» Хемингуэя. В. Молотов ответил, что не читал этого произведения; далее выяснилось следующее. Как-то во время длительных переговоров в Женеве Молотов спросил своих сотрудников, слышали ли они о новой повести Хемингуэя, о которой много пишут на Западе. Через некоторое время один из сотрудников, прочитав повесть, начал довольно бодро излагать Молотову ее сюжет, на что Молотов заметил: «Какая чепуха». Эта реплика дошла до редакции и стала восприниматься — в соответствии с практикой тех лет — как официальная точка зрения на это произведение Хемингуэя (к которому вообще в последние годы у Сталина было настороженное, чуть ли не враждебное отношение). Разговором Эренбурга с Молотовым инцидент был исчерпан, повесть «Старик и море» появилась в № 3 «Иностранной литературы» за 1955 год, что стало настоящим литературным событием. После долгого перерыва, длившегося почти полтора десятилетия, писатель снова оказался в центре внимания.
Успех повести привлек к ней внимание Голливуда. Упоминавшийся режиссер и продюсер Леланд Хейуорд, тот самый, который содействовал публикации «Старика» в «Лайфе», предложил Хемингуэю принять участие в создании фильма по этому произведению. На роль главного героя был предложен известный киноактер Спенсер Трейси, сценарий поручили написать Питеру Виртелу, режиссером и постановщиком был Фред Циннеман, многоопытный мастер своего дела. Получив сценарий, Хемингуэй внимательнейшим образом его проштудировал и отредактировал. Однако работа над фильмом шла трудно, с перерывами.
В первый раз киноэкспедиция приехала на «Финку Вихию» в августе 1955 года: прежде всего писатель считал необходимым познакомить ее участников с бытом кубинских рыбаков, обитавших в рыбацком поселке Кохимар. Он хотел, чтобы все в фильме было абсолютно достоверным, чтобы «третьим действующим лицом», рыбой, был не каучуковый муляж, изготовленный в Голливуде и снабженный мотором, а самый доподлинный огромный марлин. Надо было заснять реальный процесс его ловли. Хемингуэй лично несколько раз выходил в воды голубого Гольфстрима, но крупный экземпляр, необходимый для фильма, никак не попадался.
Пришлось прервать работу, которая была возобновлена лишь в марте 1956 года, когда киногруппа прибыла в Капо-Бланко (Белый Мыс) на побережье Перу, на берег залива, место ловли крупных черных марлинов. Здесь с Хемингуэем произошло нечто подобное тому, что выпало на долю его героя Сантьяго. 15 выходов в море были неудачными, наконец Хемингуэю повезло. Была извлечена агуха весом в 2000 фунтов, процесс ее ловли был запечатлен кинокамерой. И все же работа над лентой не удовлетворяла писателя; он считал, что кинематографисты «украли» у него четыре месяца. Между режиссером Циннеманом и Спенсером Трейси не утихали бесконечные споры. Писатель считал, что выбор и сына гаванского банкира на роль мальчика Манолина, и самого Спенсера Трейси не был удачным; последний оказался «слишком толстым, состоятельным и старым, для роли рыболова-старика». Когда после небывало долгого для Голливуда четырехлетнего срока работы фильм, уже завершенный другим режиссером — Джоном Старджесом, был, наконец, отснят, он Хемингуэю не понравился.
Литературоведы и критики потратили немало усилий, выясняя, с кого Хемингуэй «списал» своего старика Сантьяго. Назывались разные лица, которые могли сыграть роль прототипов. Однако, думается, создавая образ такой обобщающей силы, Хемингуэй отталкивался не от одного конкретного жизненного примера. Как и всегда у Хемингуэя, реальные наблюдения и впечатления обогащались его писательской фантазией. Старик Сантьяго вобрал в себя черты и особенности тех, кого Хемингуэй встречал и хорошо знал в рыбацком поселке Кохимаре. Кубинцы находили в хемингуэевском герое черты национального характера. И именно в Кохимаре, в предместье Гаваны, установлен бюст писателя с такой надписью: «Эрнест Хемингуэй. Автор «Старика и моря».
3
Успех повести принес Хемингуэю удовлетворение и некоторое душевное успокоение. Теперь он стал серьезно готовиться к поездке в Африку на сафари, о которой давно мечтал. Массовый иллюстрированный журнал «Лук», учитывая популярность писателя, решил отправить туда специального фотокорреспондента, чтобы сделать снимки Хемингуэя и его друзей на охоте. Была весна 1953 года; писатель, томимый ностальгическим чувством, рассчитывал посетить места, где был 20–30 лет тому назад.
Путешествие началось в Париже, откуда он отправился на юг, в Испанию, следуя маршрутом, описанным в романе «И восходит солнце». Поскольку в стране сохранялся франкистский режим, Хемингуэй серьезно опасался, что его там ждут неприятности. Однако все кончилось благополучно: видимо, не мог не сказаться его высочайший международный авторитет.
Прежде всего Хемингуэй отправился на знаменитую корриду в Памплоне, когда-то красочно описанную в его романе; теперь он наблюдал современный бой быков. Тогда и возник у него замысел дописать своеобразный эпилог к книге «Смерть после полудня». Героем корриды был молодой Антонио Ордоньес, сын того самого Никола ла Пальеса, который послужил прототипом для создания образа красавца матадора Ромеро, увлекшего Брет Эшли из романа «И восходит солнце». Ордоньес, с которым Хемингуэй дружески сошелся, к большому для себя изумлению узнал, что его отец увековечен знаменитым писателем. Ордоньес импонировал писателю; этот элегантный молодой человек, исполненный чувства собственного достоинства и обаяния затмевал своего отца искусством на арене. Познакомился Хемингуэй и со сводным братом Ордоньеса, и его постоянным конкурентом Домингином. Позднее он еще дважды приедет в Испанию, а спор двух матадоров станет темой его книги «Опасное лето».
Побывал Хемингуэй и в горах Гвадаррамы близ Сеговии, с видимым волнением бродил по гранитным склонам, поросшим дубом и сосняком; вместе с Мери они разглядывали ущелье, через которое был переброшен каменный мост. Нашли то место, на котором действовали партизаны и Роберт Джордан в «Колоколе». Мери могла удостовериться, насколько точен писатель в своих описаниях.
В августе 1953 года, спустя ровно 20 лет, Хемингуэй отбыл на свое второе африканское сафари. Он отплыл на пароходе из Марселя и высадился в порту Момбаса в Кении, где его встретили его кубинский приятель Мейито Менокаль и фотограф журнала «Лук» Эрл Тийзен. Там же находился и Филип Персиваль, 68-летний белый охотник, сопровождавший его во время сафари 1933 года. Именно он считается прототипом белого охотника Уилсона в рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». Носильщиком ружей у Мери был 70-летний, кениец Чаро, который действовал еще в книге «Зеленые холмы Африки».
…Вскоре после начала охоты Хемингуэй подстрелил первого льва. Такая-же добыча была и у Мери. Писатель использовал свое ружье марки «Спрингфильд», которым пользовался еще в 1933 году. Однако удачи чередовались у Хемингуэя с промахами: сказывались и возраст, и чрезмерное употребление спиртных напитков. Любивший во всем дух соревнования, писатель остро переживал, что Менокаль, в котором он видел соперника, нередко оказывался более счастливым стрелком. Хемингуэй словно пытался забыть о возрасте и вернуть ушедшую молодость. К тому же рядом находился фотограф «Лука», и ему хотелось быть в ореоле охотничьей славы на снимках, приготовленных для журнала.
Всю осень 1953 года лагерь кочевал по Танганьике, в пределах обширного охотничьего заповедника, где можно было наблюдать причудливую смену флоры и фауны. Хемингуэй пребывал в бодром настроении, фантазировал, «играл», подружился с людьми из племени масаи и даже перекрасил свою одежду в их цвета. Пробовал он в духе масаи охотиться на леопарда с копьем, обучал туземных мальчишек вождению автомобиля, усвоил некоторые обычаи обитателей африканских джунглей. В джунглях встретил он и новый 1954 год.
А дальше началась целая серия несчастий. В конце января он вылетел с аэродрома Найроби с пилотом Роем Маршем на борту небольшого самолета марки «Чессна», чтобы осмотреть с высоты птичьего полета вулканы и озера Африки, расцвеченные бесчисленными стаями фламинго. Он увидел знаменитую вершину Килиманджаро, живописные берега озера Виктория, водопады; Мери сделала множество снимков, в том числе стад слонов и буйволов, а также поселений туземцев.
Во время третьего вылета произошло столкновение самолета с большой стаей птиц, самолет потерял управление, стал снижаться и повредил пропеллер, наскочив на телеграфный столб. Пассажиры остались в живых, но Мери сломала два ребра, а Хемингуэй серьезно повредил правое плечо. Пришлось провести ночь у костра неподалеку от стоянки стада слонов. Гул водопада заглушил шум мотора самолета, отправленного на их поиски; заметив следы аварии, летчик сообщил о гибели пассажиров.
Неожиданно утром на реке показался пароход «Мерчисон». Отчаянными криками потерпевшие привлекли к себе внимание. Выяснилось, что пароход был зафрахтован режиссером Джоном Хастоном, снимавшим ленту «Африканская королева». Хемингуэй и его спутники были доставлены в поселок Бутиаба на берегу озера Альберта. Однако беда не приходит одна. За Хемингуэем был прислан новый самолет марки «Х-89 де Хевиленд Репид», пилотируемый Реджинальдом Картрайтом. Летное поле было в отвратительном состоянии, изрыто кочками и ямами; когда самолет покатился по нему перед набором высоты, он подпрыгивал, словно мотоцикл. Едва оторвавшись от земли, он загорелся и рухнул. Первой из самолета выскочила Мери, потом Рой Марш, далее, выбив дверь, — Картрайт; последним из кабины вывалился Хемингуэй, получивший тяжелейшие травмы, в частности головы. Страдая от боли и кровотечения, он проделал 50-мильную дорогу до больницы в поселке Масинди. По его признанию, это было самое долгое и мучительное в его жизни путешествие. Потребовался еще один переезд, чтобы его доставили в приличный госпиталь в Энтеббе в Уганде; там он некоторое время пребывал между жизнью и смертью: страдал от шума в голове, боли в разных частях тела, нарушения слуха. В этих условиях Хемингуэй мобилизовал все свое мужество: беседуя с корреспондентами, он держался молодцом. В госпитале он смог прочесть в некоторых солидных газетах, таких, как «Нью-Йорк дейли миррор» и «Нью-Йорк геральд трибюн», сообщения о своей гибели в авиакатастрофе и напечатанные по данному поводу некрологи. Ему ничего не оставалось, как отшучиваться крылатой фразой Марка Твена: «Слухи о моей смерти преувеличены». Тем не менее он вырезал из газеты и хранил все подобные сообщения. Возможно, то, что он остался жив после двух аварий самолета, содействовало популяризации легенды о «несокрушимом мистере Папе».
Несмотря на плачевное самочувствие, он все же собрал силы, чтобы продиктовать статью в 15 тысяч слов для журнала «Лук», в которой не без иронии сообщал о выпавших на его долю злоключениях. Но и на этом его невзгоды не кончились. Неподалеку от охотничьего лагеря Шимони, где он находился, вспыхнул лесной пожар. Несмотря на скверное физическое состояние и слабость, Хемингуэй начал помогать гасить огонь, упал в пламя, его одежда загорелась, и он получил многочисленные серьезные ожоги.
Из Момбасы на борту парохода «Африка» Хемингуэй отплыл в Италию, где отдыхал и долечивался в больнице в Венеции. Из Италии он вновь отправился в Испанию, где осматривал архитектурные памятники и встречался со знакомыми матадорами, после чего вернулся на Кубу, где отсутствовал 13 месяцев.
4
В конце октября 1954 года друг Хемингуэя генерал Ланхэм находился в госпитале, ожидая операции, когда в его палате раздался междугородный звонок. Ланхэм сразу же различил рокочущий голос Хемингуэя. Между ними произошел следующий диалог:
— Бак, я звоню тебе, чтобы сказать, что я получил эту штуку.
— Эту штуку? Что ты имеешь в виду?
— Да шведскую. Ты понимаешь?
— Ты имеешь в виду Нобелевскую премию?
— Да, — сказал Хемингуэй. — И ты первый, кому я позвонил.
— Черт возьми, это замечательно, — закричал обрадованный Данхэм. — Я тебя поздравляю.
— Я должен был бы получить эту чертову премию давно. Я думаю сообщить им, что я от нее отказываюсь.
— Не будь сумасшедшим. Ты не должен этого делать.
— Хорошо, может быть, — ответил Хемингуэй.
В том же разговоре Хемингуэй сообщил, что не собирается в Швецию и передаст текст своего выступления.
Хемингуэй стал пятым американцем — лауреатом Нобелевской премии по литературе. В решении Нобелевского комитета отмечалось «яркое стилевое мастерство Хемингуэя, явившееся вкладом в современное повествовательное искусство»; говорилось и о «героическом пафосе», о его «мужественной любви к опасностям и приключениям», а также «искреннем восхищении каждым человеком, ведущим справедливую борьбу в реальном мире, отягощенном насилием и смертью».
По состоянию здоровья он не прибыл в Стокгольм на официальное вручение награды, а Хемингуэя представлял американский посол в Швеции Джон Кэбот, который зачитал короткое заявление писателя. Подчеркнув, что принимает премию «со смирением», Хемингуэй далее высказал свою излюбленную мысль о том, что «жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве. Писательские организации могут скрасить его одиночество, но едва ли повышают качество его работы».
У себя на вилле, отвечая на вопросы корреспондентов, Хемингуэй любил повторять, что «чувствует себя кубинцем», что повесть «Старик, и море», принесшая ему награду, вдохновлена Кубой, ее людьми и природой. Ему хотелось по-своему выразить благодарность и уважение к этой земле, и свою Нобелевскую медаль он передал в дар святой деве Каридад в соборе Эль Кобре. Это одна из исторических святынь Кубы.
В связи с присуждением премии писателя много интервьюировали, снимали. Взяли у него и телеинтервью. Советский журналист и публицист Юрий Папоров, просмотревший этот ролик, в своей уже упоминавшейся книге «Хемингуэй на Кубе» так передает свое впечатление от встречи с писателем на телеэкране: «…Мы видим человека, совсем непохожего на известного миру Эрнеста Хемингуэя, писателя, бесстрашного охотника, опытного рыболова, смелого, отчаянного путешественника, наконец, драчуна, как многие его себе представляют. Мы видим Хемингуэя, каким он был в действительности, не нарисованного нашим воображением, — Хемингуэя, смущенного, неуверенного в себе, «большого ребенка», который вот только сейчас одолел еще одну жизненную трудность».
Год 1955-й вообще был для Хемингуэя малопродуктивным в творческом плане. Писатель никуда не выезжал, жил на своей вилле, рыбачил, а главное, восстанавливал свои силы. Осенью 1956 года Хемингуэй совершает новую поездку в Европу, посещает Испанию, где становится свидетелем красочной феерии в честь святой девы Пилар в Сарагосе, а также боев быков с участием своего доброго знакомого Ордоньеса, который выходил на арену 66 раз, был трижды ранен, один раз весьма серьезно. Писателя не раз узнавали и бурно приветствовали, он был тронут, когда победы над быками несколько раз объявляли в его честь. Пришлось раздать множество автографов, и это стало еще одним свидетельством того, что его помнят и что рейтинг его высок.
Хемингуэй вернулся из Испании в Париж, где его ожидал приятный сюрприз. Оказывается, в отеле «Ритц», в котором он часто останавливался с 1928 года, в камере хранения все еще пребывал оставленный им почти 30 лет назад чемодан; в нем находился бесценный материал: несколько папок, перепечатанных на машинке рукописей, записные книжки и вырезки из газет. По дороге на Кубу Хемингуэй начал разбирать свой архив, и это явилось стимулом к работе над новой книгой.
Он трудился над ней осенью 1957 — весной 1958 года; она представляла собой серию очерков из его парижской жизни, относившихся к 1921–1927 годам. По его словам, в книге содержалась «истинная суть того, о чем каждый писал, но чего никто, кроме меня, не знает». Видимо, изначальная мысль о воспоминаниях такого рода посетила его еще в начале 30-х годов, но тогда он был слишком молод, чтобы всерьез заняться мемуарами. Параллельно с книгой воспоминаний он дописывал роман «Райский сад»; оба произведения остались в архиве писателя. Первое под названием «Праздник, который всегда с тобой» было опубликовано в 1964 году, второе — в 1986.
Хотя в этих книгах Хемингуэй возвращался к мотивам и событиям, памятным по прежним произведениям, это не было простым повторением сделанного. Над романом «Райский сад» Хемингуэй работал начиная с 1946 года и, видимо, до последних месяцев жизни, он не считал его завершенным и отделанным. Почти четверть века пролежал роман в архиве писателя. Редакторы из издательства Скрибнерса, где печатали Хемингуэя и хорошо чувствовали его манеру, — проделали большую работу над рукописью.
В романе Хемингуэй обращается к излюбленной теме: жизнь писателя, его взаимоотношения с женщинами, его творческие поиски. Молодой литератор Дэвид Берн, недавно вступивший в брак с очаровательной Кэтрин, богатой молодой женщиной, проводит нечто вроде медового месяца. Они путешествуют — сначала по Франции, затем переезжают в Испанию и снова возвращаются на средиземноморское побережье Франции: ловят рыбу, купаются, загорают, любуются красотами природы, останавливаются в тихих, малолюдных отелях. Как и обычно у Хемингуэя, герои много пьют, наслаждаются любовью, обедают в роскошных ресторанах.
Кэтрин искренне любит своего мужа. Но для нее, избалованной богатством, жизнь — сплошной праздник. И она хочет, чтобы Дэвид принадлежал ей безраздельно, чтобы их счастье никогда не кончалось. Ради этого она идет на разные ухищрения, перекрашивает волосы, меняет стрижку, хочет добиться необычного по красоте загара. Она даже требует, чтобы у нее с Дэвидом были одинаковые прически, чтобы они и внешне походили друг на друга, олицетворяя нерасторжимое единение. В своей любви она безрассудна и эгоистична. Наконец, она знакомится с молодой девушкой Маритой, делает ее своей подругой и смотрит сквозь пальцы, как та довольно ловко начинает отвоевывать у нее ее мужа. Но главным объектом ее ревности все же остается работа Дэвида, который не может постоянно развлекаться и отдает утренние часы писательству. А это, в конце концов, его главное дело, смысл существования, чего никак не может понять, а точнее, с чем не желает смириться Кэтрин. В раздражении и запальчивости она капризничает, старается задеть писательское самолюбие Дэвида, в то самое время как Марита, напротив, демонстрирует не только любовь и преданность, но, что особенно для него важно, живой интерес к его работе. Дэвид колеблется между двумя весьма привлекательными женщинами. Кэтрин, уразумев, наконец, что она теряет мужа, пробует его удержать, восстановить прежние отношения. Но, привыкшая жить только удовольствиями, она бессильна перебороть себя. Сначала она уничтожает вырезки из газет, рецензии на книгу Дэвида, столь для него существенные, а затем в ярости сжигает и рукопись его африканских рассказов, над которыми он работал с такой энергией. Это и определяет окончательный разрыв. Дэвид остается с Маритой, он начинает по памяти восстанавливать свой текст.
Таково внешнее действие, за которым просвечивают важные внутренние мотивы романа, во многом автобиографического. Сложный «треугольник» действительно воспроизводит некоторые обстоятельства отношений Хемингуэя с первой и второй женами Хедли Ричардсон и Полин Пфейфер. В Дэвиде, точнее говоря, в его отношении к писательству чувствуется сам Хемингуэй. Дэвид Берн ведет подробный дневник своего путешествия, и, видимо, этим объясняется обстоятельное, почти протокольное воспроизведение мельчайших подробностей во взаимоотношениях героя и двух женщин. Правда, в романе сохранились длинноты, повторения.
И все же в книге есть немало отличных страниц. Незабываема картина охоты на слона, которую вспоминает Дэвид Берн. Он заново переживает все перипетии охоты и свои ощущения. Он хочет, чтобы читатель все увидел, почувствовал и пережил так, словно это случилось с ним. Таким был, мы знаем, главный эстетический принцип Хемингуэя.
6
Несмотря на ухудшающееся здоровье и настойчивые обращения к врачам, тяжелое физическое и психическое состояние, Хемингуэй вел трудную борьбу с самим собой, пытаясь сохранить творческую форму. «Все работе и ничего развлечениям», — говорил он.
Во второй половине 50-х годов в мире сохранялась напряженная политическая обстановка, и Хемингуэй любил повторять, что «писательство — единственная положительная вещь», а потому им и стоит заниматься. Правда, иногда на него находили полосы депрессии, ему не работалось, он искал отдушину в путешествиях, в перемене мест, надеясь, что потребность писать вновь вернется к нему.
И вновь Хемингуэя потянуло в дорогу. Летом 1958 года он совершает многомильное путешествие на Запад через штаты Айова, Небраска и Вайоминг. Он останавливается в небольшом и столь любезном его сердцу городке Кетчуме, где сначала снимает, а затем приобретает дом в Солнечной Долине, необычайно живописной местности, известной как прекрасный зимний курорт. Однако его друзья не могут не заметить того, как разительно сдал Хемингуэй.
Осенью 1958 года Хемингуэй со вниманием следил за развитием острой политической борьбы на Кубе, переросшей в гражданскую войну. 1 января 1959 года Фидель Кастро вошел в Гавану; диктатор Фулгенсио Батиста бежал из страны. Друзья сообщили Хемингуэю, что его вилла находится в сохранности и не пострадала. Писатель в это время весьма четко выразил свое отношение к происшедшим событиям, к новой власти. Он с возмущением говорил, что Батиста и его шайка разорили некогда цветущий остров; при этом сам диктатор лично присвоил 800 миллионов долларов народных денег. Помнил он, что некоторые его соотечественники на острове поддерживали Батисту. «Я желаю Кастро удачи», — говорил писатель.
Лето 1959 года Хемингуэй проводит в Испании, продолжая следить за соперничеством двух матадоров Антонио Ордоньеса и Луиса Мигеля Домингина. Он договаривается написать очерк для популярного журнала «Лук» объемом примерно в 12 тысяч слов. Однако в итоге у писателя, который вел подробнейший дневник всего происходившего в то лето, получался материал примерно в 10 раз больше. Позднее с помощью своего друга, журналиста Хотчнера, Хемингуэй значительно сократил свою рукопись — до 50 тысяч слов, которая и была напечатана (в еще более усеченном виде) в трех номерах журнала в сентябре 1960 года. Полный же текст рукописи, которую Хемингуэй готовой не считал, пролежал в архиве писателя около четверти века. В 1985 году с рукописью стали работать редакторы из издательства «Скрибнерс энд санс», которые осуществили в ней ряд сокращений за счет повторений некоторых сцен и описаний, относящихся к корриде.
Несколько тем и мотивов переплетаются в этой книге. Прежде всего в ней возникает образ Испании: сидя в машине, мы видим окружающие пейзажи, стремительные взлеты на горных дорогах, зелень долин, уют маленьких белокаменных городков, особый колорит, присущий разным местностям и провинциям Испании, будь то Андалузия, Ламанча или Эстремадура, искрометность народных празднеств, например фиесты в Памплоне.
Другая тема связана с трудом матадоров. С особой симпатией пишет он об Антонио Ордоньесе, молодом и красивом человеке, сыне матадора Каэтано Ордоньеса, который под именем Ромеро был увековечен писателем в романе «И восходит солнце». Выразителен в книге и портрет его соперника Домингина, вернувшегося после некоторого перерыва на арену. Оба соперника яростно оспаривают друг у друга пальму первенства, стремясь добиться у публики признания своей победы. Ими движет не желание заработать, а потребность в самоутверждении.
Наконец, в книге «Опасное лето» мы видим самого Хемингуэя, который, несмотря на возраст, словно бы стремится вернуть молодость: он искренне увлечен корридой, с неутомимостью колесит по городам Испании, предается всякого рода развлечениям, веселым застольям после очередной корриды, купанию в море, игре в футбол, состязаниям в искусстве стрельбы; на одной из фотографий писатель меткими выстрелами сбивает пепел с сигары, которую курит Ордоньес…
В июле 1959 года в Испании писатель шумно и весело отметил свое шестидесятилетие. Было много друзей. Из США специально на юбилей приехал генерал Бак Ланхэм.
7
В ноябре 1959 года Хемингуэй возвратился на Кубу. В аэропорту Гаваны его встречали с флагами. Как только писатель сошел с трапа самолета, его взяли в плотное кольцо журналисты. «Я чувствую себя безмерно счастливым оттого, что я снова здесь, потому что я считаю себя кубинцем», — сказал Хемингуэй. Кто-то протянул ему кубинский флаг, и писатель поцеловал полотнище. Этот миг был запечатлен на одном из снимков. Когда фотографы попросили повторить этот жест, Хемингуэй отказался со словами: «Я сказал, что я кубинец, а не актер».
Отдохнув в своем доме в Кетчуме, Хемингуэй вернулся на Кубу в конце января 1960 года. Вскоре он решил еще раз посетить Испанию, чтобы встретиться со своим героем — матадором Ордоньесом. Он писал, что «Антонио хочет, чтобы я был с ним, ибо мы образуем непобедимый союз». Хемингуэй вновь был гостем богатого американца Билла Дэвиса на его вилле «Консул», однако его здоровье вновь ухудшилось, и хозяин дома на этот раз был поражен глубокими переменами, происшедшими с Хемингуэем. Писатель был болен, утомлен, раздражен, бой быков теперь оставил его равнодушным. У него появились признаки психического заболевания — мании преследования. Хемингуэя не покидал страх, ему казалось, что он находится «под колпаком» у ФБР.
В ноябре 1960 года писателя положили в клинику Мэйо в Рочестере в штате Миннесота, где он, чтобы избежать излишних кривотолков, находился под именем Джорджа Сэвиера. Там его наблюдали опытные и внимательные врачи. В начале января 1961 года о его пребывании в клинике стало известно, и туда начали поступать многочисленные письма сочувствия от друзей и незнакомых людей. Была получена телеграмма и от только что избранного Президента США Джона Ф. Кеннеди с приглашением быть на его аугурации, т. е. приведении к присяге. Хемингуэй вместе с Мери наблюдал церемонию по телевизору в клинике, а в телеграмме на имя Кеннеди писатель сообщил: «Хорошее дело иметь храброго человека нашим президентом во времена, столь трудные как для нашей страны, так и для остального мира». Ему импонировало, что Кеннеди был участником войны, служил на торпедном катере и проявил самообладание и мужество в боевой обстановке.
После 53 дней пребывания в клинике Хемингуэй в конце января 1961 года выписался и вернулся в Кетчум. Три дня спустя он писал: «Тружусь вновь с напряжением. Давление снизили». Каждое утро он вставал в семь часов утра, в восемь часов тридцать минут садился за письменный стол, из-за которого поднимался в час дня, смертельно уставший, после обеда гулял, отдыхал, старался следовать предписаниям врачей. Однако силы покидали его. Он почти не приглашал друзей, жил как отшельник, что прежде было ему совсем не свойственно. Начиная с марта он уже не мог писать, сократил переписку.
На него находили полосы депрессии. Сознание того, что он не может писать, что у него отказывает память, было столь мучительным, что он не мог сдержать слез. Однажды в апреле 1961 года Мери, спустившись по лестнице на первый этаж, увидела Хемингуэя с ружьем в руках, вкладывающим в него патрон. Он явно покушался на самоубийство. Мери начала уговаривать его не делать этого, напоминала о присущем ему мужестве, о том, что у него трое сыновей…
В конце апреля писатель был вторично направлен в клинику Мэйо в Рочестере, где его подвергли интенсивному лечению, причем, как и в первый раз, с помощью такого сильнодействующего и болезненного средства, как электрошок. Он ослаблял волю писателя и пагубно сказывался на его памяти. В конце июня Хемингуэй был выписан из клиники, хотя, по убеждению Мери, это было сделано преждевременно. Но Хемингуэй настаивал на возвращении домой, и Мери подчинилась. Проделав на машине за пять дней 1700 километров, они вернулись в Кетчум. Это было 30 июня. Следующий день, 1 июля, они провели спокойно, встречались со знакомыми.
2 июля 1961 года, в воскресенье, Хемингуэй встал, как обычно, рано. В доме все еще спали. Одетый в красный халат, который звали «императорским», он спустился в подвальное помещение. В одной из комнат хранились ружья, но дверь была заперта. Однако ключи не были спрятаны. Он выбрал двуствольное ружье, вложил в него два патрона и поднялся к себе наверх. Приставив дуло к голове, он нажал на курок.