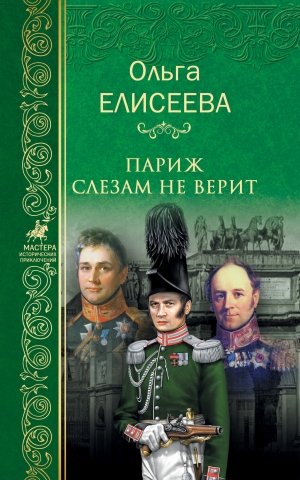
© Елисеева О.И., 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
Глава 1. Бедная Лиза
Киевская губерния. Имение Белая Церковь
Январь 1818 г.
«Я хочу быть счастлива. И я буду счастлива. Что бы он ни говорил».
Лиза проснулась, когда зимнее, белое от холода солнце уже царапалось в окно. Метель опала. Бледное, эмалево-голубое небо у кромки леса подтапливала заря. Шапки снега укрывали сад, двор, крыши конюшен и сараев.
Девушке пришло в голову, что ее страхи исчезли вместе с вьюжным крошевом, освободив место хрупкому, холодному воздуху, прозрачному, как стекло. Абсолютная ясность и тишина аж звенели: «Я должна быть счастлива. Во что бы то ни стало!»
Лиза спустила ноги с кровати, прошлепала босиком по полу, влезла на подоконник, толкнула ладонью форточку, загребла в горсть снег и растерла лицо. «И по какому праву он позволяет себе…» Уже топили, копоть из трубы успела осесть на карниз. Барышня размазала по щекам грязь и, охнув, побежала к зеркалу. Отворила резные готические створки, прятавшие тайное девичье счастье от дурного глаза, и уставилась в стекло.
«Ну, ты, матушка, расписала себя! Чистый папуас!» На Лизу глядело худенькое узкое лицо с темными глазищами, испуганными и одновременно строгими. Она намотала смоляной завиток на палец, дотянулась им до рта, на секунду пригорюнилась, что нижняя губка у нее слегка выпячена – послюнявила и принялась оттирать полоску сажи на подбородке. «Он мне не хозяин! Так дальше продолжаться не может! Я хочу иметь семью!»
Последняя мысль была самой важной и самой вымученной. Ждать одиннадцать лет – это называется: нет смирения? Это причина для насмешек: уж замуж невтерпеж? И непристойных намеков на острую бабью нужду? Не в нужде дело. Хотя и в ней тоже. Идеальные романтические чувства заставляли Лизу блуждать по лесам и полям с томиком Ричардсона, воображая себя Клариссой в разлуке с любимым. Но всему есть предел. Ей двадцать шесть. Сестры, кузины, молодые соседки давно обзавелись детьми. А она неприметно превратилась из долговязой, нескладной девочки в… старую деву. Многие уверяют, что недурную собой, но все же старую и еще деву.
Вчерашний приезд Ловеласа не сделал ее счастливой. Она ждала окончательного разговора. Решения своей участи. А вышло как у Шекспира: слова, слова, слова… Несколько поспешных поцелуев. Милостыня! Она не нищая, и все происходящее ее оскорбляет! Если Александр не хочет решать за них обоих, Лиза решит за себя.
Это было легче сказать, чем сделать. Она любила Раевского с детства. С того самого момента, как увидела кузена в новеньком мундире подпоручика Симбирского гренадерского полка и осознала, что больше нет мальчика, с которым они толкались на горке, трясли без спроса яблони и кидались картошкой в развешенное по двору белье. Есть бледный черноволосый красавец, уезжающий к новому месту службы в Молдавию. И Лиза поклялась ждать его, придумала игру: он рыцарь, отправился в поход, когда вернется, они будут счастливы. Кто бы мог подумать, что игра растянется на одиннадцать лет и кончится ничем.
Пустотой. Ожесточением. Острой нуждой. Той самой, над которой все смеются.
Франция. Мобеж. Лагерь русских войск
– Ну и у кого руки чесались вытащить труп из ямы? – Командующий оккупационным корпусом граф Михаил Воронцов обвел присутствующих недовольным взглядом. – Чья задница свербела? Diable![1]
Граф был спросонья, в одной шинели, накинутой поверх белой рубашки, и всем своим видом излучал раздражение. Какого черта его ни свет ни заря выдернули из теплой постели и притащили на окраину Мобежа к здоровенной балке, залитой талыми водами? Это у них во Франции называется январь! Скоро почки лопаться начнут!
– Кто такой умный? Je vais répéter ma question![2] – рявкнул он.
Заместителю начальника штаба Алексу Фабру пришлось сознаться, что «умным» был он. Генерал-лейтенант воззрился на подчиненного в крайнем изумлении и посоветовал познакомиться с готическими романами Уолпола, где подробно описана работа полиции. Сам Фабр предпочитал баллады с привидениями и учебник Клаузевица «Важнейшие принципы войны». Однако Михаил Семенович не одобрял ни Клаузевица, ни привидений, и, кажется, точно знал, как должно лежать тело в ожидании расследования своей таинственной гибели.
Алекс в смущении подергал себя за мочку уха: обожаемое начальство еще не знало, кто покойник. А вот Фабр при отменном ночном зрении уже различил и острый кадык на тощей юношеской шее, и шрам от виска к скуле, замазанный грязью. То-то сейчас будет музыка!
Командующий опустился на корточки, вынул из кармана платок и вытер несчастному лицо. Короткий удивленный вздох вырвался из груди графа.
– Это же Митенька! Митенька Ярославцев, третья дивизия. Что он тут делал?
Митенька числился по Нижегородскому драгунскому полку, но служил вестовым при штабе, и граф его хорошо знал. Он был в том возрасте, когда мальчики в компании уже готовы выпить водки, но на ночь непременно хотят горячего молока с пряниками. Свое недетское украшение корнет Ярославцев заработал в Битве народов при Лейпциге. Ему рассекли палашом щеку, и граф приказал немедленно убираться с позиции, но парень замотал голову офицерским шарфом, снятым с убитого француза, и ринулся вместе со всеми в атаку. Молодое дурачье! Они чувствовали, что война на исходе, что им не хватит битв, славы, наград…
Теперь Митенька навсегда сыт и тем, и другим, и третьим. С мокрыми от болотной воды волосами лежит на краю весенней канавы и…
– Что он тут делал? – повторил командующий, поднимаясь и пряча грязный платок в карман.
Сопровождавшие офицеры переминались с ноги на ногу.
– Ваше высокопревосходительство, дозвольте обратиться, – старый унтер ни на секунду не усомнился, что его слышат. – Должно, лягушатники парнишку стрельнули. Говорил я нашим баловням не шататься по девкам на вражеской стороне. А они, вишь, дело молодое… Разве удержишь? Овин близко. А тамошний народец очень озлобился, когда прошлой осенью сестру ихнего кюре обрюхатили. Тогда еще грозились. Вот и стрельнули мальчонку.
«Овином» русские называли городок Авен, расположенный неподалеку. Граф Михаил Семенович зябко передернул плечами. Ночной ветер пробирал даже под шинелью.
– Другие варианты есть?
– Чегось? – не понял унтер, но обращались уже не к нему.
– Возможно, самоубийство, – предположил адъютант Казначеев.
– Причина? – насмешливо бросил граф. – Неразделенная любовь к прекрасной лягушатнице? – Было видно, что он злится, и злится именно потому, что не понимает, как подобное могло произойти. У него в корпусе! При их-то мягкой дисциплине! И на тебе. Мало дома болтают, что он избаловал подчиненных. Устроил ланкастерские школы – грамотный обучи неграмотного – отменил розги… А их драть надо, как сидоровых коз, тогда будет толк! Выходит, его ненавистники правы? Он никакой командующий. Добр до глупости. Теперь еще и офицеры начали стреляться! Пройдет шесть, от силы восемь дней, о случившемся доложат государю…
– Причину сыскать нетрудно, – пожал плечами Казначеев. – Долги. Скоро корпус выйдет в Россию, а наши господа-офицеры жили, не тужили. На каждом либо карточные векселя, либо заемные у ростовщиков и банкиров. За ресторации платить надо. – Обстоятельный адъютант начал загибать пальцы. – За сердечные услады. За починку обмундирования…
– Ну, это уже черт знает что такое! – возмутился граф. – Починить обмундирование можно и в полку.
Казначеев молча опустил голову. Граф проследил за его взглядом и вспыхнул, прекрасно поняв, что хочет сказать подчиненный: «Но сами-то вы, ваше сиятельство, в парижских сапогах!» – «Я, Саша, трачу на это собственные деньги, не влезая в долги!» – «Не у всех такие средства, а выглядеть хочется каждому… Мир, весна, барышни…» Их немой диалог возник в голове у Михаила Семеновича, как продолжение его собственных мыслей. Служа долго бок о бок, они с Казначеевым привыкли хорошо понимать друг друга, на что способен не каждый адъютант не с каждым начальником. Оба заухмылялись, и граф махнул рукой, показывая, что разговор окончен.
– Отнесите тело к доктору Томпсону, пусть проведет обследование. Ордер я выпишу, как только найду перо и бумагу. Пусть вынет пулю. Я хочу знать, из какого оружия она выпущена. Сам ли Ярославцев стрелял? Или его убили?
Двое рядовых подхватили несчастного Митеньку за руки и за ноги и уложили на импровизированные носилки из двух ружей и шинели.
– Поднимите по тревоге казачью сотню полковника Голована и пусть через четверть часа будут у штаба, – продолжал граф.
– Осмелюсь узнать, каковы ваши намерения? – Фабр тоже встал с корточек и теперь смотрел прямо на графа. Ему не нравился мстительный блеск в глазах начальника. – Что вы задумали, господин генерал-лейтенант?
– Небольшую прогулку на местную таможню, Алекс. Если хочешь, можешь присоединиться.
Киевская губерния. Дорога к Белой Церкви
Сани вихрем летели с горы, влачились по дну лощины и нехотя, через силу, выползали на тракт. Ямщик не шустрил кнутом по спине лошади, справедливо полагая, что сивка-бурка сама знает дорогу домой. Проезжий офицер не понукал его ни словом. Он кутался в лисью шубу поверх серой егерской шинели и то и дело подтягивал медвежью полость, прикрывавшую ноги.
Зима 1818 года в Малороссии выдалась снежной и холодной, как шестью годами раньше, когда оголодавшие французы добредали аж до Киева. Их ловили и, не передавая властям, забивали чем попало. Сострадание оставило крестьянские души. Может быть, потому что среди шаромыжников было особенно много поляков? Они славно покуражились под Смоленском и Москвой, ожидали в награду земель, потерянных Польшей за последние пятьдесят лет, и выпрашивали себе в короли красавца маршала Мюрата. Его веселый гасконский нрав так хорошо сочетался с золотой шляхетской вольностью, мужчины были влюблены в черноглазого баловня фортуны так же сильно, как дамы. Ради него и императора французов они готовы были жертвовать жизнью. Своей и чужой. Но все накрыла вьюга. Пока топали от Москвы до Березины, местные жители нет-нет да выбрасывали на снег краюхи хлеба. Но тем, кто свернул на юг и попытался пробраться домой через Малороссию, подавали только свинцовые лепешки. Казаки еще хранили под половицей старые бердыши и умели, благословясь, приложиться ляху в лоб. Ненависть не утихала с годами.
Проезжий офицер знал обо всем этом только понаслышке. В двенадцатом году он с 5-м егерским полком сражался при Салтыковке, Бородине, Красном, получил Владимирский крест и золотую шпагу. Уже за границей при Фершампенуазе подцепил на ее кончик орден Святой Анны с алмазами. Париж брал в составе лейб-гвардии Егерского полка и осел в оккупационном корпусе адъютантом командующего. Только через три года ему удалось выхлопотать отпуск, чтобы показаться родителям в новых полковничьих чинах. Он почти целиком потратил его на поездку в село отца, Болтышка, под Черниговом. А теперь спешил на Святки навестить тетку – Александру Васильевну.
Имение графов Браницких Белая Церковь располагалось в восьмидесяти верстах южнее Киева. Покойный владелец Ксаверий Петрович был поляком на русской службе, женился на Сашеньке Энгельгардт, племяннице князя Потемкина, передоверил в ее прелестные ручки опутанные долгами владения и думать забыл о хозяйстве. Властная супруга за несколько лет увеличила состояние в четыре раза, предоставила мужу нечто вроде ренты и взяла с него слово не касаться наследства детей. С тех пор граф Ксаверий жил, в ус не дуя, и был бы счастлив, если бы не печальная участь его родины. Разделы Польши подкосили честного вояку, под старость он сделался яростным патриотом, разъехался с женой и поселился в польских имениях. Госпожа Браницкая осталась в Малороссии, окруженная гнездами родни своего великого дяди, в том числе и Раевскими.
Строго говоря, она считалась Александру не теткой, а двоюродной бабушкой. Но поскольку почтенная дама и его отец, знаменитый генерал Раевский, звали друг друга не иначе как «брат» и «сестра», то их многочисленное потомство перешло в категорию «кузенов». Александр был двумя годами старше Лизы и испытал бы легкое унижение, доведись ему обратиться к ней «ma tante». Вздор!
Молодой Раевский хотел попасть в Белую Церковь именно к Святкам, зная, что девушка гадает на него, и заранее наслаждаясь той радостью, которая вспыхнет в ее глазах при одном звоне дорожного колокольчика. То, что на свете есть преданное существо, всегда ждущее и ничего не требующее, кроме права изредка видеть своего идола, рождало болезненное удовольствие в душе полковника. Он волен был сделать Лизу счастливой или отказать ей в самом необходимом. Научить наслаждаться даже болью одиночества, если эта боль причинена им. Лиза истово поклонялась его уму, образованию, красоте и храбрости. Предпочитала то, что нравилось ему, ненавидела все, о чем слышала его неблагосклонный отзыв. У кого еще есть такая возлюбленная?
Он ценил и хранил ее, как зеницу ока. Если бы кто-нибудь из соседских помещиков – этих медведей в кургузых фраках киевского раскроя и домашнего пошива – посмел бы позариться на его имущество, Александр, ни минуты не сомневаясь, продырявил бы ему голову. Благо лучше Раевского на сто верст вокруг Чернигова никто не стрелял!
Мобеж
Через полчаса верховые запрудили центральную площадь Мобежа. Они теснились напротив штаба, а хвост сотни уходил в улицу между рубленой полковой баней и церковью Архистратига Михаила. Стараниями православного контингента маленький французский городок превратился в помесь Калуги и Вильно. Аккуратные домики под черепичным крышами были точно вывернуты наизнанку. В их подвалах поместились трактиры, парикмахерские, склады фуража, армейские мастерские, блинные с жестяными русскими вывесками и вечно распахнутыми настежь дверями. Пустыри перепахали под огороды. Подсолнухи по-малороссийски пялились в чужие небеса черными сетчатыми глазами в оранжевых ресницах. На ветру колыхались полотнища застиранных солдатских рубах.
Местные жители быстро приспособились к безалаберным квартирантам, которые знать не хотели французского, но умели очень доходчиво объяснить свои требования парой тычков в ухо. С точки зрения мобежских горожан, у победителей имелось одно неоспоримое достоинство – щедрость. Хорошенькой зеленщице они отстегивали вдвое богаче, чем ее мужу или сопливому гаврошу. А потому «мадамов» в Мобеже было явно больше, чем «мсье», и все как одна – парижанки.
Штаб занимал двухэтажный особняк в центре, где до революции жил некий банкир-роялист, а после располагался якобинский трибунал. При Директории и императоре он пустовал и, как говорили, ночами наполнялся звоном цепей и зубовным скрежетом невинно убиенных аристократов. Водворившись на новом месте, временные хозяева перво-наперво раскопали палисадник и вывезли сокрытые трупы на кладбище, приказав местному кюре хоронить их по кафолическому обычаю. Граф еще при вступлении корпуса в город особым приказом дал подчиненным знать, что французы – не «басурмане», а «схизматики». Из чего служивые поняли, что церемониться с местной братией не резон, но и сильно обижать начальство не позволит – все ж не турки.
Так и зажили. Климат мягкий. Служба – нетяжелая. На парады их сиятельство смотрел без задора. В корпус попали войска потрепанные, воевавшие без перерыва года с пятого. Сам командующий, слышно, лямку тянул с начала века, – а потому был «свой» и знал, чего надо. Получая корпус, на первом же смотру назвал их «инвалидной командой». Никто не обиделся – что правда, то правда, без наград никого, без ранений тоже. У графа была одна странность: он зверски жаждал обучить подчиненных грамоте и многих уже скрутил в бараний рог, заставив долбить ланкастерские таблицы. Но на эту блажь смотрели снисходительно – чем бы начальство ни тешилось… лишь бы не хваталось за шпицрутены. Такой привычки генерал не имел. А потому был признан «ангелом», сошедшим с небес, чтобы даровать служивым прижизненное блаженство за понесенные труды.
Теперь он стоял на ступенях штаба, натягивая перчатки, и раздраженно бросал полковнику Головану отрывочные фразы:
– Да, в Авен! Нет, надо скорее. Сколько можно возиться? Не серди меня, Петр Дмитрич, не то устрою твоим донцам учения суток на трое!
Граф терпеть не мог проволочек. Высокий, худощавый, с энергичным, нервным лицом, длинным носом и вечно сжатыми губами, он был красив той особой, проступающей изнутри, красотой, которая не изнашивается с годами. Волосы генерала рано поседели, отчего казались присыпаны солью, хотя еще сохраняли немало темных прядей.
– Так, ребята, будем брать таможню, – обратился граф к казакам. – Быстро. Налетом. Без мордобоя. Тем более смертоубийств. Похватать всех. Там человек двадцать пять. И на нашу сторону с собой в седлах. Сдать в караулку под роспись. У нас обнаружился труп. Если среди них убийца, судить будем по нашим законам. Их юстицией мы сыты.
Всадники понимающе закивали, задергали уздечки, лошади затрясли головами, отчего казалось, что и они одобряют решимость Воронцова. Около года назад ровнехонько в виду Авенской таможни ухлопали артиллериста, а еще через пару дней – казака. Убийцу удалось найти по наводке мобежского трактирщика, которому душегуб намедни угрожал ножом, требуя денег. Русские честь по чести сдали злодея судебным властям города Авена. Из симпатии к соотечественнику, прирезавшему оккупантов, служащие авенского суда потихоньку дали ему сбежать, а сами несколько дней водили русских за нос, уверяя, будто идет следствие. Когда вскрылась правда, негодяя и след простыл. Больше подобной оплошности Воронцов допускать не собирался.
Сотня плавно развернулась на площади перед штабом и рысью выдвинулась из города. Рассвет уже слабо алел. Когда всадники достигли предместья Авена, ясное, лучистое утро вставало во всей красе. Михаил Семенович не хотел арестовывать французов ночью. Была нужда! Русские – не разбойники, а пострадавшая сторона и собираются действовать в соответствии с законом… Своим законом. Раз у лягушатников юристы никак не опомнятся от «Кодекса Наполеона».
– Ваше сиятельство, осмелюсь доложить, предприятие рискованное! – к графу вплотную подскакал Фабр. – Вы же не собираетесь…
– Собираюсь, – генерал тряхнул головой, показывая, что все соображения штаб-офицера знает и считает несущественными.
Но Алекс был не из тех, кто отстает от начальства после одного недовольного движения бровей.
– Я повторяю, ваше высокопревосходительство, вы рискуете вызвать гнев короля Людовика, и на этот раз даже ваш друг герцог Веллингтон будет не в силах замять скандал…
– А я повторяю тебе, дорогой Фабр, что ты даже не представляешь, какой скандал я собираюсь устроить, адресуясь к его величеству Людовику. – Воронцов поджал тонкие губы. – Год назад я официально предупреждал Париж, что буду считать всякое нападение на моих солдат случаем объявления войны, и мои дальнейшие действия уже следует расценивать как боевые. Жителям Авена неплохо было бы это понять.
– Но Михаил Семенович, – опешил Фабр, – вы, что же, хотите устроить карательную экспедицию? Вы в своем уме?
На эту непочтительную тираду генерал расхохотался.
– А было бы неплохо, Алекс!
Собеседник вспыхнул.
– Вы забываете… Ведь это моя… – Он запнулся и уставился под ноги лошади.
Фабр был племянником французского эмигранта, его родители погибли в самом начале революции, четверть века назад. Дядя скитался по Европе, пока не прибился к месту в Петербурге. Алекс закончил Сухопутный шляхетский корпус и служил столько же, сколько и сам Воронцов. Во Франции он был сначала офицером по особым поручениям, а потом заместителем начальника штаба. Непосредственный руководитель бумажного царства, Понсет – строевой генерал – в дела администрации не вникал. Так что воз тянул Фабр, и Михаил Семенович ценил его больше многих.
Граф придержал повод, протянул руку и коснулся пальцами перчатки подчиненного.
– Извини. Я погорячился. Ну, какая карательная экспедиция?
Алекс примирительно кивнул.
– Что вы все-таки собираетесь делать с этими таможенниками? Разве во всей округе больше некому было застрелить Ярославцева?
– Подумай сам. – Генерал нетерпеливо передернул плечами. – Ты знаешь то же самое, что и я. Неужели трудно построить простенький силлогизм? Согласно конвенции боевое оружие имеется только у милиционных формирований нового правительства. За неимением оных в Авене вооружили служащих пропускного пункта. У остальных поснимали даже дедовские аркебузы с каминов. Как ни верти, а круг подозреваемых узок. Отберем ружья, проверим пулю. Если никому не подходит, подержим голубчиков пару суток для порядка, чтобы не вязались к казакам, когда им через границу домашний табак шлют, и отпустим.
– А убийца?
– Будем искать.
– А если…
– И думать не смей. – Михаил Семенович вновь придержал лошадь. Он прекрасно понимал, что хочет сказать Фабр: «А если это самоубийство?» – Вообрази, каково родителям получить известие о смерти мальчишки. После войны. Не с Кавказа. Не из Молдавии. Из Парижа. Да еще узнать, что он покончил с собой. Ни отпеть, ни похоронить как следует. Я просто не могу такого позволить. – Граф опустил голову. – И еще. Помнишь, как было в седьмом году, когда все вдруг начали стреляться после Тильзитского мира? Один дурак бабахнул, потом второй, третий – и пошло. Мысли нельзя допустить в корпусе, что Митенька наложил на себя руки… из-за долгов.
Заместитель начальника штаба разделял тревогу командующего, тем более что отчетливо помнил седьмой год, битье окон нового французского посла графа Коленкура, надрывные тосты за погибшую славу России и юношески глупую стрельбу в висок. Ухлопать себя прямо на Дворцовой площади в качестве немого укора государю считалось особым геройством. Сам Алекс тогда потерял двух товарищей и бывал не раз бит «за французскую морду».
– Однако все это не устранит причины, – протянул он. – Долги как висели на наших, так и будут висеть. Я не ожидаю, что подъемные деньги, которые нам пришлют из Петербурга для вывода корпуса, позволят покрыть все расходы, тем более заплатить по частным векселям.
Граф кивнул.
– Будем думать.
Белая Церковь
Разогретый над огнем рубль впечатался в седое от мороза стекло. Белые перья затрепетали под горячим серебром, и на мгновение в круглом ореоле проступил профиль императора. Лиза едва успела отдернуть пальцы, подула на обоженные подушечки и прижалась глазом к круглой полынье, образовавшейся на сплошном льду окна.
Во дворе позвякивали бубенцы – Раевский собирался везти матушку к вечерне. Лиза не хотела ехать с ними, она не знала, как будет сидеть возле него в санях. Боялась начать плакать или сказать что-нибудь неловкое, оскорбительное для обоих.
Но ехать пришлось. Александра Васильевна строго вытребовала дочь на крыльцо:
– Ты нехристь, что ли? В Крещение дома сидеть?
Закутанная до бровей в пуховую шаль и волоча по земле необъятную кунью муфту с хвостами, девушка поспешила к саням. Старая графиня уже угнездилась там спиной к кучеру. Молодые баре устроились пред ее ясновельможными очами, рядышком, как два голубка. Сказать нельзя, до какой степени это бесило Раевского. Он дернул подбородком и бросил в морозную пустоту:
– Ma tante, уж вы не сватаете ли меня?
– Упаси бог, кому ты, нищий, нужен! – Александра Васильевна ткнула кучера локтем в бок. – Трогай, Степаныч! Совсем заморозил!
Сани покатились со двора мимо длинного здания оранжереи. Езда была недалекой: до церкви и обратно. По дороге народ в праздничных платках и полушубках отступал к обочине, давая господскому возку место. Лиза почувствовала, как холодная рука Александра проникла внутрь муфты и крепко сжала ее ладонь.
– Нам надо объясниться, – прошептал он.
Его прикосновение не было ни дружеским, ни нежным. Лиза затрепетала. Ей показалось, что она в чем-то виновата.
Во все время вечерни молодая графиня Браницкая стояла сама не своя, думая о предстоящем разговоре, как о казни. Отчего он имеет над ней такую власть? Ведь это ей следует спрашивать и сердиться! Но Лиза трусила, как собака, приметив в руках хозяина веник, и готова была ластиться, вымаливая прощения.
Толком она не молилась. Лишь когда вступал хор, немного успокаивалась, роняла слезы и беспрерывно повторяла: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Больше ничего не шло в голову.
Раевский держался спокойно. Переминаясь с ноги на ногу, иногда позевывая, иногда покусывая нижнюю губу. Когда запели «Херувимскую песнь», он взялся ладонью за горло, тяжело сглотнул и поспешил выйти вон. От множества народу, чада свечей и аромата ладана в церкви царила духота. Лиза подумала: как странно, марево аж плывет, как летом, а белым розанам из матушкиной оранжереи, которыми к празднику, по приказу графини, убрали храм, хоть бы что. Бутоны раскрылись и жадно хватали лепестками воздух, добавляя свой аромат в общее благоухание.
Домой ехали молча. Александра Васильевна, как и всегда после службы, была в приподнятом настроении, но молодых не задевала. Понимающе поглядывала на них из-под кустистой изогнутой брови, точно говоря: «Все про вас знаю». На поверку же, как казалось Лизе, она не знала ничего. Полагала, что между племянником и дочерью дело слажено. Зря, что ли, ее дура столько лет в девках?
Барышне было жаль мать, больно за себя и боязно Александра. Для чего он приехал? Ведь ясно же – надо свататься. А если нет, то к чему и ездить! Держит ее, как кобылу за недоуздок, чтоб не убежала. Она и так не убежит. Куда? К кому?
Пока шли через сад, смотрели, как в заплывших льдом окнах дрожат огоньки и мечутся цветные пятна девичьих душегреек. Барская барыня Поладья Костянтиновна подгоняла горничных, сервировавших стол.
– Швитче, бисовы доньки, швитче! Сама госпожа графиня изволит на крыльцо подниматься! Dépêchez-vous![3] Пся крев!
Дворня говорила на смеси русского, украинского и польского, иногда вставляя слышанные от господ французские словечки. К празднику накрывали в гостиной. Просторная, с аркадой в глубине, двумя изразцовыми печами, она была по-домашнему уютной и торжественной одновременно. Ее украшали родовые портреты, едва вмещавшиеся под невысокий тесовый потолок. Александра Васильевна – румяная, статная богиня с алмазным вензелем Екатерины II на Аннинской ленте. И Ксаверий Петрович, уже грузный, лысеющий, в рыцарских латах на фоне горящего вражеского города. Они занимали стены друг против друга, словно держали оборону, разделенные даже столом с яствами.
Народу собиралось немного. Баре и дворня. По торжественным дням слуги садились вместе с господами. Из родни – только Александр. Старшие дети редко навещали графиню и никогда на престольные праздники. Католики – они и Рождество, и Крещение, и Пасху справляли в другое время. При разъезде Ксаверий Петрович увез с собой трех сыновей и двух дочек, щедро «забыв» про Лизу. Девушке случалось до слез больно глядеть на когда-то щедрый и шумный стол, за которым собиралось горластое, драчливое, веселое семейство Браницких. У нее было пять братьев и сестер, все они обожали возиться друг с другом, болтать, целоваться, поймать кого-нибудь из младших и дуть ему в уши и в пупок. Почему родителям понадобилось скомкать такую хорошую, радостную жизнь?
Когда после ужина начался домашний фейерверк во дворе, молодые господа выскользнули в библиотеку. Вокруг царила темнота, и только окна снаружи озарялись яркими вспышками. Лиза добралась на ощупь до старого кожаного дивана. Он предательски заскрипел, когда барышня коснулась его. Ей было боязно пошевелиться, чтобы не вызвать у Раевского нового приступа гнева. И все же она твердо решила объясниться с ним.
– Саша, так больше нельзя, – начала молодая графиня. – Я в отчаянии. Мама часто болеет, просит внуков. Я не могу все время ждать…
– У твоей матери есть внуки, – жестко оборвал ее кузен.
– Они поляки, – девушка вцепилась пальцами в край шали. – Мама их не признает. Не хочет помириться…
– Нам с тобой что за дело до ее причуд?
Лиза собралась с духом.
– Однако ты не можешь отрицать, что и я не совсем счастлива.
– Вот как? – Александр болезненно передернул щекой. – Когда-то я объяснил тебе, что не смогу быть твоим мужем. Мое положение не изменилось.
– А мое изменилось! – Девушка топнула ножкой и хотела встать, но он обнял ее за плечи и удержал возле себя. – Я помню, что ты говорил о моем состоянии. Я упросила мать уменьшить приданое. Теперь за мной только три тысячи душ. Тебя это все еще унижает?
– Только три, – саркастически рассмеялся он. – А у нас на всю семью одна и четыре девки на выданье. Мне достанется не более двух сотен. Я не могу венчаться с денежным мешком. Порядочный человек обязан сохранять самоуважение. К тому же я связан обязательствами…
– Ты обручен? – опешила Лиза. Она все понимала на свой манер.
– Нет. Конечно нет! – Раевского возмутило подобное подозрение. – Я собираюсь выйти в отставку и присоединиться к карбонариям в Италии. Пока нет возможности сражаться за вольность у нас. Поверь, если бы судьба уготовала мне участь мирного главы семейства, я бы не искал иного счастья, кроме тебя. Но я – другой человек. У меня есть принципы. Ты всегда это знала.
Лиза не отрывала глаз от его лица. Недоверие боролось в ее сердце с привычным восхищением.
– Возьми меня с собой. Я не буду обузой.
Молодой полковник покачал головой.
– Извини. Ты просто не понимаешь. Война – грязная штука. Подумай о матери. С кем она останется? Да и обо мне тоже. Что я буду делать в горах с женой? Там нужны свободные руки.
Лицо девушки погасло. На нем снова появилась печать усталости. Несколько мгновений она молчала, потом обняла Раевского за шею, притянула к себе, поцеловала в губы. Долго-долго, нежно-нежно, грустно-грустно. И оттолкнула:
– Прости, Александр. Но в таком случае и мне нужна свобода.
Мобеж
Доктор Томсон вскрывал трупы в холодной прозекторской на первом этаже возле морга. Царила тишина, и было слышно, как толстые сонные мухи, разбуженные весенним солнцем, с налету стукались в грязное стекло. Окна, казалось, не мыли со времен Директории. Полы тоже. Русский госпиталь занимал правое крыло знаменитой можебской лечебницы для умалишенных. За годы революций и войн пациенты, или лучше сказать, заключенные, разбежались, поумирали или пришли от потрясений в здравый рассудок. Немногие из уцелевших шатались по территории, клянчили у оккупантов табак или играли с ними в лапту.
Русских больных было немного. То ли дело в одиннадцатом году в Молдавии, когда одна половина армии страдала дизентерией, вторая – болотной лихорадкой, а сам Томсон успевал только привязывать к ногам покойников бумажки с указанием имени и причины смерти. Хороший климат, вода и пища делали свое – госпиталь почти пустовал. Имелся капитан Воскобойников, на спор проглотивший двадцать наперстков в швейной мастерской мадам Дежу. Теперь он страдал вздутием живота и запором. Доктор подумывал применить мыльную клизму, но полагал средство слишком рискованным.
Был ротмистр Тимофеев, ушибленный конем в коленку. Были печально известные всему корпусу братья-полковники Евгений Олонец-Мирский 1-й и Евгений Олонец-Мирский 5-й. Второй, четвертый и шестой сложили буйны головы на Шевардинском редуте, а третий с оторванной ногой благополучно попивал чай у матушки в имении и собирался жениться. Первому и пятому тоже не терпелось по девкам, и они приглядели актрису мадам Зелински – жонглировавшую сразу семью зажженными факелами. Оказалось, что шустрая полька лихо управляется не только с факелами, и братья впали в свальный грех. Об этом стало известно, когда оба с белыми трясущимися губами принеслись в госпиталь и обнажили перед Томсоном позорное нагноище, изобличавшее циркачку в гнусном преступлении.
На следующий день в корпусе поротно читали приказ командующего о немедленной явке в лазарет для освидетельствования всех видевших мадам Зелински ближе, чем на сцене. Таковых оказалось в достатке. Но медик принял своевременные меры, и вспышку дурной болезни удалось погасить. Только Олонец-Мирские, вляпавшиеся особо крупно, продолжали принимать ртутные ванны и служить посмешищем. Между тем щедрая на ласки дама была взята под стражу, выпорота и препровождена за пределы русской оккупационной зоны. Каково же было всеобщее удовольствие, когда дошел слух, что жонглерка объявилась по соседству, у пруссаков.
Словом, жизнь текла скучная, и на досуге доктор был рад заняться исследованием – осмотреть таинственный труп, выловленный из канавы. Ему удалось извлечь пулю, а также выявить кое-какие любопытные обстоятельства смерти.
В полдень, после героического налета казаков на таможню, медика визитировало высокое начальство. Сам командующий с запоздалым ордером в руках. На бумаге еще не просохли чернила. Заместитель начальника штаба, маленький коренастый француз Фабр, на лице которого была написана озабоченность первого министра при скоропостижно помешавшемся монархе. Несколько адъютантов графа, жадно ловивших каждое слово своего божества. И, наконец, священник храма Архистратига Михаила отец Василий, явно не одобрявший вскрытие трупов.
Все они столпились в прозекторской, куда Томпсон любезно пригласил гостей, и граф предупредил об абсолютной конфиденциальности дела.
– Что вы можете сказать по поводу ранения, Мартин Иванович? – ласково обратился он к врачу.
Томсон эффектным движением, как фокусник, выхватил из-за спины длинные медицинские щипцы, которыми была зажата пуля, и опустил ее на железный поднос. Стук металла о металл произвел на всех неприятное впечатление. Гости сгрудились над столом. Фабр извлек пенсне, а один из адъютантов подал графу белый носовой платок и лупу.
– Изволите видеть, господа, пуля пробила височную кость черепа, прошла глубоко в мозг и там застряла. Смерть была мгновенной.
Командующий осторожно взял пулю пальцами и поднес к глазам. Его лицо вытянулось. Не проронив ни слова, он передал тяжелый шарик Алексу. Затем и все остальные смогли убедиться, что виновница Митенькиной смерти – «российская подданная». О чем красноречиво свидетельствовали худо отшлифованные края.
– Пехотный пистолет, – протянул Фабр. – Возможно, штуцер.
Казначеев молча вынул из принесенного с собой свертка оружие Ярославцева. Старенький, образца 1808 года пистолет, со сбитым и замененным на французский затвором. Он явно достался парнишке в наследство от какого-нибудь лихого кавалериста, которому в рейдах по тылам противника нечем было починить сломанное оружие, кроме деталей трофейных неприятельских ружей. Благо дело перед войной между русскими и французами господствовало сердечное согласие в калибрах и принципах сборки.
Адъютант зарядил пистолет покойного и методично сделал из него три выстрела в дверной косяк. Затем поковырялся в дырках шомполом и достал пули. Доктор не возражал – стена вражеская, уходить скоро. Свинцовые шарики были подвергнуты придирчивому изучению. Причем на этот раз граф вооружился лупой и внимательно рассмотрел все царапины.
– Сомнений быть не может, – с тяжелым вздохом проронил он. – Стреляли из пистолета Ярославцева. Таможенников придется отпустить. У них на вооружении кремневые ружья образца 1745 года. Меня смущает только вот эта вмятина, – Воронцов снова взял с подноса пулю, погубившую вестового. – Каково ее происхождение?
– Стоит ли теперь задаваться праздными вопросами, ваше сиятельство? – вступил в разговор отец Василий. – Главное известно: корнет наложил на себя руки. Отпевание состояться не может.
Граф подскочил, как ужаленный. Он не переносил, когда ему перечили, перебивали, не признавали заслуг или подвергали сомнению правильность решений. Будь перед ним кто-нибудь из подчиненных, Воронцов просто вогнал бы его взглядом в землю. «Наш ангел» это умел. Но отец Василий не подчинялся командующему и на его гнев смотрел по-житейски просто. Грешен человек, самолюбив, вспыльчив. Все-то в жизни перемелется. Всех-то Господь смирит, построит и выведет, да не на парад. Если граф сейчас этого не понимает, поймет потом. После первого, второго, третьего удара… Хорошего человека Бог не оставит. Будет учить, пока кости в труху не перетрутся.
– Вы ведь сознаете, Михаил Семенович, – примирительно продолжал священник, – что напрасно разрешили препарировать парнишку, как лягушонка. Человеческое тело – храм.
– Я бы и хотел знать, кто в этом храме нагадил, – огрызнулся граф. – Застрелить человека могут и из его собственного оружия, честный отче.
– Взгляните на труп. – Томсон поманил собравшихся.
Граф развернулся и размашистыми шагами приблизился к длинному столу, на котором недвижимо лежало тело. По его знаку доктор откинул простыню, и глазам гостей предстал посиневший голый Митенька. С выбритыми вокруг раны волосами он выглядел особенно жалко.
– А почему дырка такая большая? – недоверчиво осведомился Воронцов, указывая на висок парня.
– В том-то и дело. – Начальник госпиталя выдержал паузу, а потом извлек из белого стеклянного шкафчика для инструментов второй поднос с такой же пулей. – Их было две, – торжественно объявил он. – Вогнанные одна за другой. Поэтому первая слегка деформирована. Ваше сиятельство верно заметили вмятину.
Командующий обвел собравшихся победным взглядом.
– И что это значит? – нетерпеливо потребовал отец Василий.
– Это значит, батюшка, что нельзя два раза застрелить себя в висок, – спокойным голосом отозвался Фабр. – Его высокопревосходительство оказался прав, Митенька не самоубийца.
Священник с облегчением вздохнул.
– Хорошо, отпевание состоится. – Он помедлил. – Но я не могу взять в толк, как злодей отобрал у малого пистолет?
Томсон, которому сегодня суждено было знать ответы на все вопросы, осторожно взялся руками за голову покойного, слегка приподнял ее от одра и продемонстрировал собравшимся небольшую опухоль в районе затылка. Скопившаяся под кожей кровь уже потемнела, и потому гематома была хорошо видна.
– Ярославцева ударили сзади чем-то тяжелым, предположительно поленом или прикладом ружья. Оглушили. Потом взяли его собственный пистолет и застрелили в висок. Убийца хотел представить дело так, будто жертва покончила с собой. Но почему он стрелял вторично, ума не приложу? Для верности? С перепугу?
Граф в раздумье помял пальцами нижнюю губу.
– Когда стреляешь в мягкое, хлопка не слышно. Была ночь. Темно. Злодей мог подумать, что первый раз пистолет дал осечку. Перезарядил и снова нажал на курок. Других версий у меня нет. Ваше мнение, господа?
Собравшиеся подавленно молчали. Фабр с тоской думал о том, какую кашу заваривает сейчас командующий. Для всех, наверное, кроме Митенькиных родителей, было бы легче, если бы Ярославцев застрелился. Особенно это устроило бы начальство наверху. У наших и так трения с новым французским правительством. А арест таможенников (кстати, перед ними придется извиняться, и, видимо, ему, Фабру – граф выше таких формальностей), способен был только подлить масла в огонь. И так за нашими офицерами следят, стоит им покинуть Мобеж. «Это называется “дразнить гусей”, ваше сиятельство! – с раздражением вздохнул Алекс. – А гуси, конечно, спасли Рим, но погубили галльскую армию».
Глава 2. Шутки Гименея
Санкт-Петербург
Утром 25 января дежурный генерал Главного штаба Арсений Закревский оторвал мутный взгляд от бумаги, лежавшей на столе, схватил себя за густые каштановые кудри у висков и взревел утробно и низко, как ревет медведица, которую потревожили в берлоге острым охотничьим рожном.
– Я просил подавать рапорты на имя начальника Главного штаба, графа Петра Михайловича Волконского, а не на имя военного министра Коновницына! Сучьи дети! И ставить число внизу страницы!!!
Канцеляристы за дверями замерли. Вообще-то Арсений Андреевич был человеком ровным. Многолетняя штабная служба приучила его взирать на течение дел с грустной, все понимающей усмешкой. В меру язвительный, твердый, как британец, и аккуратный, как немец, он не гнушался двадцать раз повторить подчиненным одно и то же. Однако всему есть предел. Штаб существует с пятнадцатого года, и до сих пор унаследованные из министерства столоначальники не могут усвоить новую форму документов! Только русское сердце способно так возмущаться отечественным раздолбайством.
Закревский толкнул ногой дверь из кабинета в присутствие и вышвырнул на пол пачку неверно заполненных прошений. Его жест говорил: «Решительно ничего не подпишу!» Секретари пригнулись к столам, наблюдая за начальником из-за бумажных стоп, как из брустверов. Но поскольку он не требовал никого на расправу, быстро успокоились и вновь заскребли копеечными перьями, от чего вокруг поднялся скрип, как от железа по стеклу.
Арсений прижал пылающую руку ко лбу и поспешил скрыться в кабинете. Канцелярские звуки вызывали у него мигрень. Генералу было едва за тридцать, но две тяжелые контузии напрочь расстроили здоровье. Вернувшись в кресло, он со стоном притянул к себе новую папку. Не важно, что она содержала. На его столе их громоздились десятки, а сам стол уходил за горизонт. Закревскому захотелось отвлечься, он оторвал четвертушку листа, взял перо, покусал кончик и начал:
«Милый Мишенька! Сил нет более выносить мои муки. Сказать не могу, в каком состоянии пребывает бывшая канцелярия Военного министерства. Денег на поправление нам не отпускают, а потому вообрази: в комнатах с грязными полами, стенами в паутине и потолком, зализанным сажей, сидят писаря самого скверного вида, иные в рубищах. Столы изрезаны ножами, уж не знаю, для чего, залиты чернилами и жирными пятнами от харчеваний. Стулья поломаны и связаны веревками. Под зад подкладывают журналы. Полено служит пресс-папье. Вместо чернильниц помадные банки. На окнах, столах, полах, лавках валяются кипы бумаг. Между ними шныряют крысы. Милый Мишенька, забери меня отсюда!»
Сочинив жалобное послание к Воронцову в Париж, Закревский похихикал, скомкал бумагу и зажег ее на медном блюдечке под кривым подсвечником. Ему захотелось спалить вообще все имевшиеся на столе документы, поскольку от их исчезновения ровным счетом ничего бы не изменилось.
В этот момент в дверь поскреблись, и один из столоначальников доложил, что к его высокопревосходительству прибыла дама.
– Какая дама? – не понял Закревский. Дамы вообще не вязались в его воображении с новым местом службы.
Но не успел он задать еще какой-нибудь вопрос, как у него в кабинете соткалось из золотистого света такое небесное создание, что Арсений предпочел ретироваться к столу. Женщина была вполне осязаема и вместе с тем… являла собой существо иного мира. Ростом с хорошего гренадера. Сложена, как античная статуя. Гордую голову венчали пшеничные косы, перевитые жемчугом. Римскому профилю позавидовала бы резная камея. Дивный стан облекала тончайшая туника из чего-то прозрачно-золотого, газово-флерового, облеплявшего тело наподобие пыльцы и не скрывавшего подробностей совершенства.
– Здравствуйте, Арсений Андреевич, – произнесла богиня низким грудным голосом, от которого по позвоночнику у Закревского пошли мурашки, а затылок вспотел.
– Здрасте, – только и мог произнести он, непроизвольно опускаясь обратно в кресло.
Не заметив его бестактности, дама тоже присела на стул с противоположной стороны стола, положила на колени сумочку – Боже, что это были за колени! – и извлекла из нее некий сверток, перевязанный голубой лентой.
– Вот, прошение моего отца, графа Федора Андреевича Толстого о предоставлении ему награды за службу.
Арсений машинально взял бумаги. Ему казалось, что, чуть только он коснется их одновременно с небесной гостьей, его ударит молния. Он мог поклясться, что по руке действительно проскочил электрический разряд.
– Что же вы не читаете? – осведомилась дама.
Закревский опустил глаза. Он честно два раза пробежал документы, но так ни слова и не понял. Составлены бумаги были, конечно, неправильно. Путано и без надлежащих подробностей.
– Вы не могли бы изложить суть дела? – попросил генерал. – Заметно, что ваш батюшка не знаток канцелярских правил.
Гостья залилась тихим смехом.
– Верно подмечено. А суть дела такова. Мы владеем богатыми поместьями в Пензенской губернии. В минувшую войну там собиралось дворянское ополчение, в коем числился и мой отец. Ныне он озаботился получить за службу какой-нибудь знак отличая. Теперь все с орденами, – мило улыбаясь, пояснила мадемуазель Толстая. – Стыдно и в обществе показаться без полосатой ленточки.
Последние слова сдернули Арсения на грешную землю.
– Ленточки? – повторил он. Язвительный тон генерала удивил гостью, ее фарфоровые глаза округлились. – Вам, должно быть, ведомо, сударыня…
– Аграфена Федоровна.
– …Аграфена Федоровна, сколько рук, ног и голов потеряно за эти полосатые лоскуточки. Пензенское дворянское ополчение, помнится, не принимало участия в боевых действиях. Враг до Волги не дошел. За что же ваш батюшка хочет награды? И почему, собственно, не приехал сам?
Аграфена молчала, выжидающе глядя на непонятливого генерала и картинно облизывая розовые лепестки губ. Ну, надо же, какой дурень! И что батюшке тут делать, вопрос-то деликатный?
Закревский еще раз просмотрел бумаги. Теперь уже на совершенно трезвый глаз.
– Мало того что здесь нет и половины сведений, – холодно бросил он, – вы еще предлагаете мне совершить должностное преступление. Чего ради я буду хлопотать для вашего батюшки?
– Не для батюшки, а для меня. Для меня вы похлопочете?
Что-то в ее голосе заставило генерала поднять взгляд. Лучше бы он этого не делал. Богиня расколола бриллиантовые аграфы на плечах, удерживавшие ее умопомрачительное одеяние, и оно золотой пыльцой осыпалось к ногам.
– Вам нужны еще какие-то пояснения?
– В-вы… что себе позволяете! – Закревский не справился с голосом и засипел, вместо того чтобы гаркнуть. – Вон отсюда!
Мадемуазель Толстая воззрилась на него с крайним недоверием. Комедию ломает? Или… Ее ресницы несколько раз хлопнули.
– Вы сами не понимаете, что творите! Оденьтесь, наконец! – К генералу вернулся голос, а вместе с ним и самообладание.
Аграфена рассчитанно медленно наклонилась, подобрала с полу край туники и долгим, тягучим движением повлекла ткань к плечу, где аграфы, как капли чистейших слез, дрожали при каждом колыхании ее персей.
– Это вы не понимаете, от чего отказываетесь, – произнесла она нараспев. И вдруг в ее сонно-равнодушных глазах мелькнуло любопытство: – Вы, правда, меня не хотите?
Арсений указал на дверь.
– Будем считать, что я равнодушен к женщинам.
– А-а, – понимающе протянула она. – Так бы и сказали.
Закревский запоздало понял, что сморозил двусмысленность. Но объясняться не стал.
– Обратную дорогу найдете?
На губах нимфы расплылась дразнящая улыбка.
– С вашего позволения, я еще некоторое время поблуждаю по здешнему заведению. Надеюсь, ваш начальник, князь Петр Михайлович, более снисходителен к прекрасному полу.
От такой наглости Закревский оторопел, но быстро взял себя в руки.
– Их сиятельства сегодня нет на службе, – отчеканил он. – Так что ваш визит, мадемуазель, останется без последствий.
– Жа-аль, – ее губы сложились в трубочку, и, послав ему воздушный поцелуй, девица выплыла из кабинета.
Едва дверь за ней закрылась, Арсений ринулся к створкам и приник к щели в надежде еще раз взглянуть на сокровище, которым только что пренебрег. Все присутствие провожало прекрасную просительницу восхищенным ропотом. Канцеляристы вскакивали с мест, взбирались на столы, а иные даже крались на цыпочках вослед дивному видению, но не осмеливались приблизиться. Аграфена шла по длинному, слепому от немытых окон коридору, делая вид, что не замечает кривляния чиновников. А солнце по очереди зажигалось в каждом стекле, мимо которого она проплывала.
– Эхма! – только и мог простонать Закревский. Ему было совершенно не понятно, как это он не завалил распутное божество на канцелярский стол? Подумаешь прошение! Тут горы таких прошений! И что, все справедливые?
Тем временем сверху раздался требовательный звон колокольчика. Оказывается, начальство материализовалось в своем кабинете. Князь никогда не приезжал на службу рано. Пока Закревский беседовал с незваной гостьей, карета Волконского подкатила к главному крыльцу, и никем не встреченный их светлость поднялся к себе. Судя по тому, как нетерпеливо дергалась медная проволока с колокольчиком, соединявшая два кабинета, князь был чем-то раздражен. Если он приехал прямиком из Зимнего, то дело ясно – государь опять недоволен, с любезным видом сверлил другу детства дырки в боках, и теперь Петрохан обрушится на подчиненных. Слава богу, что Толстая убралась!
Арсений вообразил голую нимфу в кабинете грозного руководителя Главного штаба, представил потрясенное, растерянное лицо князя и не мог сдержать улыбки. Про Волконского говорили, что он в среднем произносит одно слово в год и слово это «нет». На деле же Петрохан иногда задавал здравые вопросы и даже умел выслушать ответ – редкая в начальнике черта. Он истово занимался интендантской частью – самой важной после войны – и старался решать текущие дела без проволочек. Закревский служил с разными людьми – с добрейшим графом Каменским, с педантичным Барклаем и даже с самим государем – все по-своему хороши, по-своему плохи. Арсений не применялся ни к кому, и тем не менее его терпели. Терпел и Петрохан – не худший из названных.
Вооружившись папкой, дежурный генерал потопал на второй этаж. Там уже находились два адъютанта Волконского – так, мебель. Князь воздвигся из-за стола и протянул ему руку – знак большого уважения. В который раз Закревский поразился размерам своего начальника. Видал он в армии дрынов – взять хотя бы Воронцова с Бенкендорфом, те задевали за любую притолоку. Но князь Петр Михайлович был на полторы головы выше них и заметно шире в плечах. Входя в комнату, он не просто нагибался, а складывался пополам.
– Сударь мой, я из дворца, – начал Петрохан, раздраженно щелкая пальцем по чернильнице. – Его величество крайне недоволен самоуправством командующего оккупационным корпусом. Приходят известия, будто граф позволяет себе вольные высказывания об образе действий правительства… В присутствии своих офицеров отпускает критические замечания о результатах Венского конгресса, о восстановлении Бурбонов на троне и вообще… – Длинные предложения давались князю не без труда, лоб у него вспотел. – Голубчик, вы с ним дружны. Ну, напишите же ему приватным образом. Что он творит! Одновременно подготовьте официальный ордер от моего имени. В самых жестких выражениях. Можно подумать, кому-то нравятся Бурбоны!
Волконский запыхтел, втиснулся в кресло, от чего хрупкая карельская береза издала жалобный стон. «Надо найти ему что-нибудь из мебели прошлого царствования, – про себя отметил Арсений. – Вот тогда делали не на соплях». Знаком князь отпустил адъютантов, а когда двери за ними закрылись, вновь обратился к дежурному генералу:
– Подайте мне план дислокации частей на будущий год, кое-что хочу поправить.
Лицо у Арсения вытянулось.
– Ваша светлость, осмелюсь доложить, документ у вас.
Петрохан поднял бровь.
– Что это вы придумали? Как «у меня»?
– Вчера вы брали его с собой работать дома. – Закревский почувствовал, что у него подгибаются колени. Не о плане дислокации речь. Имелось одно секретное приложение. Относительно Турции. Пользуясь тем, что Россия завязла в конгрессах, османы опять начали резать греков, устроили погромы в Стамбуле, сами провоцировали разрыв. Государь приказал тайно подготовить план возможной кампании. Бумага была наисекретнейшая. Она-то и имела несчастье запропаститься!
– Вы понимаете, Арсений Андреевич, – свистящим шепотом осведомился Петрохан, – что может значить подобная утрата?
Арсений-то понимал.
– И вы еще смеете утверждать, будто я сам забрал документ такой важности! Идите и найдите его! Немедленно!!! Чтобы через час он был на моем столе!
Закревского как ветром сдуло. Он стоял на лестнице красный от гнева и хватал губами воздух. Всех собак хотят повесить на него! Пойти и сейчас же сказать князю, что он думает по поводу такого руководства! Но Волконский под пыткой не признается, что сам потерял план. А главное – этим не поможешь. Государь, должно быть, спешно требует бумагу. Отчего у Петрохана в костях трепет. Ну, чем заклеить царские очи, Арсений, пожалуй, знал. Однако сим дело не закончится. Надобно искать план.
Вернувшись к себе в кабинет, крайне злой и расстроенный генерал достал из секретера аккуратные черновики искомого документа. Вот, у него даже побочные материалы сохранены в надлежащем порядке. Он не какой-нибудь… Одернув себя, чтобы не расходиться, Арсений вызвал одного из секретарей – престарелого и весьма опытного Порфирия Федосеевича, служившего еще во времена матушки-царицы – и посадил у себя за приставной столик, велев вторично переписать набело текст плана. На настороженный взгляд чиновника ответил просто: «Князь кофием залил. Надобно переделать». После чего запер старика в своем кабинете, а сам вышел в канцелярский коридор продышаться.
Грудь теснила обида. Начальник пытался свалить на него упущение по должности. И какое! Да еще накричал. Трус и солдафон. Право слово!
Внимание Закревского привлекла толпа писцов, толкавшихся у одного из окон. «Вон, вон пошла! – тараторили они. – Где?» Решив, что речь вновь о Толстой, Арсений глянул на улицу. По двору брела женщина в роскошной шубе из черно-бурой лисы, но с непокрытой головой, что было неприлично. Она воровато озиралась по сторонам и вдруг, заметив поленницу, метнулась к ней, схватила обледенелое полешко и спрятала за пазуху. Раздался дружный смех. «Во дает!» Приказные были в восторге. «Глядите! Глядите! Комедия!»
Арсений вновь бросил взгляд во двор. Из двери черного хода пулей вылетел Волконский. Он догнал женщину, схватил ее за руку, отобрал полено, отшвырнул и, обняв несчастную за плечи, повел прочь. У устья арки виднелась карета. Даже сквозь двойные рамы был слышен гневный окрик Петрохана кучеру, а потом уже едва различимые слова: «Я же приказывал смотреть за княгиней!»
– Что это? – не понял Арсений.
– Супруга его высокопревосходительства, – отозвался один из адъютантов, хорошенький мальчик Белосельский, тоже подошедший к окну и лыбившийся на неприглядную сцену. – У нее бывают провалы в памяти, не помнит, кто она, воображает себя нищей. В театр не ходи! Дома бриллианты можно ложками есть. А она сахар по карманам прячет, корки хлебные. Иной раз даже во дворце. Князь велел слугам за ней приглядывать, но тут не уследишь. Когда ее светлость в памяти, она очень строга. Не посмеют же дворовые спрашивать, куда хозяйка поехала.
Закревский потрясенно молчал. Он видел княгиню Софью Григорьевну при дворе вместе с мужем. Такая гордая, неприступная. В каждом ее движении сквозили холод и отчужденность. Она, как и все в ее семействе, умела сохранять дистанцию между собой и низшими.
– Вот подсуропил государь другу жену, – заключил Белосельский, как видно, знакомый со всеми подробностями внутренней жизни Волконских. – Его была любовница. А Петрохан мучайся. Право, жаль.
В этой насмешливой фамильярности сопляка-адъютанта к начальнику, уж явно не позволявшему ничего подобного в глаза, было что-то задевшее Закревского.
– Я вам искренне советую, молодой человек, – сухо произнес он, – впредь изъясняться о князе Петре Михайловиче и его супруге с приличным уважением. В противном случае вместо Петербурга вы в одну минуту можете очутиться в Тифлисе и, – Арсений помедлил, – без этих игрушек. – Он щелкнул пальцами по адъютантским аксельбантам, повернулся на каблуках и пошел прочь.
В штаб князь вернулся только глубоким вечером. Свет горел в караулке, у сторожа и в кабинете Закревского. Туда Петрохан и поднялся.
– Я хотел сказать вам, Арсений Андреевич, – начал он, переступив порог, – что вы были правы. Я действительно увозил план с собой вместе с другими документами. Перерыл весь дом. Нашел только вот это. – Волконский с отвращением протянул помятый листок, который при близком рассмотрении оказался обрывком карты Бессарабии. Они от руки рисовали ее на черновике, крестиками отмечая, как встанут части по границе. «Вот примерно так. Перенесите на нормальную двухверстку». – Я напрасно накричал на вас. Прошу меня простить. Государь ждет план дислокации завтра утром. Думаю, мне надо подать прошение об отставке и возбудить служебное расследование. Вернее, наоборот. – Он сел на стул и уронил руки. На его усталом, помятом лице отражалась полная покорность судьбе. – Ума не приложу, как такое могло случиться? Объяснением служит только невероятное количество бумаг, под которыми я буквально похоронен.
Закревский извлек из секретера спрятанный еще на исходе дня новый беловик документа.
– Ваша светлость, вы строжайше приказывали мне уничтожать все промежуточные варианты. Каюсь, я этого не делал. Десять лет военной канцелярщины вырабатывают другие принципы. Вот план дислокации, который мы подадим государю. Расследование надо начать, но наше, внутреннее. Кто-то ведь похитил документ. Причем из вашего дома. Стало быть, злодей знал о том, что подобный проект существует, раз, и был вхож к вам во дворец, два. Кроме того, понятное дело, надо подготовить новый план, принципиально иной, и аккуратно убедить государя в его преимуществах. К тому же мы не знаем, зачем похитителю понадобился документ. Поверьте бывшему начальнику Особенного департамента армии, я чувствую – неприятность размером с гигантскую коровью плюху. Отставкой делу не поможешь. Надо действовать быстро, тихо и напористо.
Петрохан поднялся. Он взял обеими руками папку, повертел, потом протянул Арсению обратно.
– Пусть полежит до утра у вас. Так спокойнее. С чего вы предлагаете начать?
– Я знаю двух покладистых чиновников в Министерстве иностранных дел. Пусть поищут следы нашего плана среди документов Нессельроде и Каподистрии. Ребята старательные, но дорого берут.
– Сколько? – рассмеялся Волконский. – Просто поразительно, у нас все можно купить!
– Рублей по пятьсот на нос.
– Однако.
– Если их скромный труд увенчается успехом, дело будет стоить дороже.
Князь пожал саженными плечами. Ему ли душиться из-за тысячи рублей?
– Деньги будут. – Он протянул Закревскому руку. – Надеюсь, не откажетесь пожать? – И повернулся к двери. – Переночую здесь, у себя в кабинете. А завтра прямиком поеду ко двору. Ну и гадостная же каша заваривается…
Арсений проследил глазами за удаляющимся по коридору начальником и подумал, что вот он беден и холост, ему некуда спешить, на квартире, которую снял, маршируют тараканы. А у человека дом – полная чаша, чины – выше некуда, царская милость – с пеленок. Но, в сущности, та же пустота и одиночество. Да еще страшный недуг жены. А впереди ничего. И с этим надо жить.
Мобеж
Вопреки предположениям Фабра, таможенников не отпустили ни на первые, ни на вторые сутки. А когда граф Михаил Семенович благосклонно вспомнил о них, он не стал гонять заместителя начальника штаба извиняться. Напротив. Отправился в караулку сам и издевательским тоном – подчеркнуто вежливым, с неизменной британской полуулыбочкой – объявил беззубым церберам, что их оружие освидетельствовано и признано «не участвовавшим в деле». Поэтому самих таможенников «не станут задерживать впредь до выяснения обстоятельств».
– Но, – напоследок заметил командующий, подтверждая серьезность своих слов изящным поклоном, – ежели бы среди вас, господа, нашелся виновный, нынче утром вы бы имели честь присутствовать при его казни через повешенье. За сим остаюсь к вам неизменно доброжелательным.
Бедолаг выгнали из караулки, посадили на телеги, вывезли за расположение русских частей, вернули ружья и предоставили возможность пешком топать до Авена. Таков был урок, смысл которого дошел до Алекса спустя неделю, когда из Бельгии, через границу, привезли почту. Без малейшей задержки. Непотрошеную. Что в последнее время бывало редко.
– Медведь сдох, – сказал Казначеев, вскрывая туго запечатанную пачку «Амстердамского Меркурия» – газеты для солидных людей, интересующихся серьезной политикой, биржевыми котировками и новостями высокой культуры. – Их сиятельство уже второй месяц брезгует брать в руки книги после таможенников. Он сам любит разрезать страницы.
О да! Изящные вкусы графа были известны. Помнится, он научил Фабра определять качество издания по запаху типографской краски, а место изготовления журнала – по шелесту страниц, изобличавшему способы брошюровки:
– Дрожайший Алекс, у каждого камина есть тяга. Подставляете журнал вот так… Да не так, он сейчас полыхнет! А вот так, и слушаете. Слышите? Вот это Лондон. А вот это отечественное барахло. Не могут тетрадку в корешок вшить! Les conquérants du monde![4]
История с Ярославцевым послужила поводом для наказания не в меру ретивых французских чиновников за досады, причиненные квартирующим русским. Корпус располагался на севере Франции, и долгое время таможни на бельгийской границе не существовало. Морским путем удобнее было получать корреспонденцию из дому, в чем правительство Объединенного Королевства Нидерландов оказывало «дорогим гостям» любезную помощь. Попробовало бы оно покочевряжиться! Через Антверпен, Амстердам и Брюссель посылки шли без досмотра.
Однако французская сторона, по осколкам собиравшая свой государственный аппарат, возложила обязанности пограничного контроля на авенскую таможню. С тех пор казаки не могли дождаться домашнего табака пополам с опилками, а господа офицеры – любимого сатирического листка «Желтый карлик». В Брюсселе – так близко от галльских рубежей! – бушевала бонапартистская эмиграция: новоявленные князья и графы времен империи пробовали свои силы в изящной словесности и вели с Бурбонами газетную войну.
Русские на правах спасителей Европы не считали себя никому ничем обязанными. Поэтому в Мобеж изобильно поступали издания, запрещенные на остальной территории королевства. Из расположения оккупационных войск они скорехонько оказывались в Париже, завезенные туда каким-нибудь удалым гусаром в седельной сумке. И это, как говорил граф, было в списке претензий короля Луи Дважды Девять[5] пунктом «Last but not least»[6].
Сегодня, 21 января, его сиятельство наконец получил «дружескую просьбу» герцога Веллингтона – главы объединенного командования – прибыть в Париж. Было ясно, что графом недовольны. Но, поскольку каждый из национальных корпусов вел себя достаточно независимо, ничего, кроме очередного сетования: «Дорогой Майкл, на меня давят, и я обязан довести до вашего сведения крайнее огорчение его величества…» – Воронцова не ожидало.
Но визит к англичанам был уместен. По журналу отправки курьеров выяснилось, что накануне гибели Ярославцев ездил в гоф-квартиру британских войск в городке Камбре, а оттуда в столицу с обычной почтой. Существовали бесчисленные формы и циркуляры, которыми обменивались военные чины во избежание делопроизводственной скуки. Союзники оповещали друг друга о намерении провести учения, количестве больных в лазаретах, посаженных на гауптвахту и подвергнутых иным взысканиям, ценах на фураж, продовольствие, кожи и сукно для солдатских курток и вообще порождали горы бесполезной документации, среди которых нет-нет, да и проскальзывали очень любопытные шифровки. Например, официальное заверение русского правительства в том, что флот, вышедший из Кронштадта, вовсе не намеревается усиливать собой корпус Воронцова. Или столь же конфиденциальная нота британской стороны о несостоятельности слухов, будто Наполеон вновь бежал из мест заключения на Святой Елене.
Поскольку курьерская сумка Ярославцева была найдена рядом с телом пустой, это могло означать три вещи. Либо он не довез почту, либо исполнил задание благополучно и возвращался порожним, либо имел некие документы из английского штаба, которые ныне утрачены. Так как британская сторона не задавала никаких вопросов и ни о чем не напоминала, следовало предположить, что почту Митенька доставил, а ответных бумаг не взял. Все это стоило ненавязчиво выведать, конечно, не у самого Веллингтона – была герцогу нужда вникать в штабное крючкотворство – а у нижних чиновников, для разговора с которыми граф прихватил верного Казначеева.
На рассвете – их сиятельство имел привычку вставать с петухами – они сели в закрытую коляску и покинули Мобеж. Впереди было восемь часов дороги. Граф любил помолчать и почитать газеты. Невозмутимый адъютант никогда не нарушал спокойствия командующего. При нем всегда имелась книга или текущая почта. Он никогда не заговаривал первым и не позволял себе брать издания, еще не распечатанные начальником. Все эти особенности поведения подчиненного Михаил Семенович очень ценил.
Взяв в руки «Амстердамский Меркурий», граф углубился было в статью о действиях повстанцев Симона Боливара, но через минуту опустил газету на колени и уставился в окно. Война настолько опротивела генерал-лейтенанту, что описания пальбы вызывали у него желудочную резь. Стреляли везде – от Греции до Венесуэлы. И временами Воронцову казалось, что мир вот-вот начнет блевать патронами. Между тем остро хотелось домой. Правда, он не знал, в Петербург или в Лондон. Предпочел бы поехать к отцу и сестре, но там в последнее время имелся один тяжелый пункт, разговоров о котором Михаил Семенович избегал всеми силами.
Его хотели женить.
То-то новость! После войны женятся все. Ничего удивительного. Из-за непрерывных кампаний начала века семьями не успели обзавестись ни ветераны 70-х годов рождения, ни его сверстники 80-х, ни молодняк начала 90-х. Все скопом попали на великую бойню, многие погибли, иных искалечило, но и те, кто остался, был в такой степени пережеван, измотан, потерт, что мало годился в отцы семейств.
Но, вишь ты, чуть только забрезжила надежда, будто мир продлится более двух лет (сам Воронцов в это не верил), как изрубленные калеки потянулись в отставку. Без рук, без ног, а некоторые, по ядовитому замечанию Ермолова, и без головы, они пустились в марьяжные пляски на лужку. Сам Алексей Петрович холостяцких привычек держался твердо и в каждом письме к Воронцову высмеивал дураков, вздумавших на старости, будто чины, ордена и заслуги перед Отечеством заменят им в глазах барышень цветущие лета. Где она, эта молодость? Любезное Отечество проглотило ее, не поперхнувшись, и выплюнуло их, одиноких, контуженных, без семей и родных – греться у чужого очага. Так ведь еще и не пустят!
Много было горького в письмах с Кавказа. Но Михаил Семенович всей душой понимал правоту друга. Кому они нужны? Однако его случай был особый – последний граф Воронцов – надежда рода. Пока он становился хозяином осиротевших имений своих тетушек и дядюшек, это еще забавляло. Из его поместий можно было сложить одно небольшое владетельное княжество, поднять флаг и отправиться на конгресс монархов в Вене. Но всему этому требовались наследники. Срочно. Пока не поздно.
Поздно же могло стать в любой момент. Это ужасное открытие граф сделал ненарком. Читал очередное письмо Ермолова, от души смеялся над шутками. Проконсул рассуждал, что в потомки великим людям дается всякая шваль, и лично он не хочет, чтобы его имя трепал и унижал какой-нибудь обормот. А потом вдруг признался: «В молодости очень хотелось мне жениться на одной особе. Но она была бесприданница, а я так беден, что не знал, на какие шиши коня содержать, не то что семью. Так вот мы и встречались наездами лет пять, потом она от меня отстала. Очень мне было обидно, да что делать? Теперь, может, и стоило бы попытать счастья, но поздно. Alles kaput».
Граф Михаил перечитал строки, понял их откровенный смысл и похолодел. Ермолов был всего шестью годами старше него. На сорок втором году Алексей Петрович расписывался в полной неспособности. А чему удивляться? Он воевал с семнадцати, отправившись еще с Суворовым в Польшу. При Павле сидел в крепости. А потом каждый год – новая кампания. Во время попоек принято было мериться количеством сражений. Милорадович выставлял пятьдесят, Сеславин – семьдесят три. Михаил до них не добирал. Ермолов крыл обоих.
Кто бы мог подумать, эдакий бычина! Не человек – разбуженный медведь. Как гаркнет, как глянет – земля дрожит. И на тебе. Конечно, Ермолов вел невоздержанный образ жизни: ел так ел, пил так пил, орал так орал. Но, может быть, именно он, щедро растрачивая молодость, был прав? А Михаил, которого с детства приучили к порядку – мой руки перед едой, уши перед сном – просто лишил себя юношеских радостей? Стоило погулять вволю, теперь нашлось бы, что вспомнить, кроме рутины полковой службы. Кочевья и бивуаки на дорогах Кавказа, Молдавии, Финляндии, а потом уж и всей Европы искалечили каждого – буйных и примерных, дерзких и кротких, трусов и храбрецов.
Воронцов вспомнил, как отступали из-под Смоленска. Встали лагерем под какой-то Сычевкой. Шел дождь. Он приехал в сумерках от командующего с уже начинавшейся лихорадкой. Заполз в первый попавшийся шалаш и попытался заснуть. Среди ночи явился пьяный генерал Курута и вытолкал непрошеного гостя. Михаил безропотно полез на улицу. Под телегами мест уже не было, он лег на землю, натянув на голову шинель. Капли с одуряющим однообразием ударялись по набухшему сукну, а потом просачивались вместе с дорожной пылью, оставляя на лице грязные следы. Утром его уже трясло. Но получили приказ выступать. Он кое-как взгромоздился на лошадь, начал командовать. Вокруг сплошное месиво – пушки, телеги, отбившиеся от своих рот люди. Думать забыл о лихорадке. К вечеру отпустило.
А еще было уже на Березине при наступлении. Авангарды наводили мосты. Лес не близко. Народу мало. Лед то встанет, то двинется. К утру должны были подоспеть основные части. Рубили деревья всем наличным составом – и рядовые, и полковники. Потом таскали бревна к реке, вязали веревками, каким-то тряпьем, французскими трофейными шарфами и ремнями. По пояс в зимней воде. Были провалившиеся в полыньи. Потом Михаила не удивляло, что многие заболели. Поражало, что нашлись здоровые.
Мудрено было в таких обстоятельствах поберечься. Кому какое дело, что в твоем корпусе у личного состава поголовно цинготные язвы на ногах? Сапоги яловые. Тридцать градусов мороза. Если их снимать, то только вместе с кожей. А потому и не разувались до весны. Теперь о таких вещах и вспомнить конфузно, а тогда – ничего, у всех одно и то же.
О каких барышнях речь? Позавчера граф получил от отца письмо с радостным известием – сестра Катенька благополучно разрешилась от бремени шестым ребенком. Батюшка был в восторге, но все же не преминул напомнить, что английские чада – суть графы Пемброки, а внуков Воронцовых у него, старика, нет. Все это снова растравило душу Михаила. Во время последнего приезда в Англию он осторожно осведомился у отца, каков в их роду мужской век.
Старичок страшно смутился, но ничего утешительного сообщить не смог:
– Видишь ли, Мишенька, – начал он, – я своему батюшке подобных вопросов не задавал. Не такие у нас были отношения. Брат мой старший, канцлер Александр Романович, был не по женской части. Так что тут тоже ничего твердо сказать нельзя. Я же сам, потеряв твою маменьку, попытался, грешник, найти утешение, но не получил никакой услады, только разбередил раны и решил навсегда от этого отстать. Было же мне в ту пору сорок шесть. И до сего часа могу засвидетельствовать верность ее памяти.
Михаил призадумался. Его отец – образец добродетели, чего про себя командующий сказать не мог. Напоследок старый граф совсем огорошил сына:
– Вот что тебе надобно знать. Ежели ты пошел в нашу породу, то любить много не будешь. Мы все, как волки, живем одной парой. Тетка твоя Екатерина Романовна схоронила князя Дашкова и никого больше знать не хотела. А натура у нее была пылкая, мужа она обожала до безумия. Я имел несчастье полюбить свою двоюродную сестру, но родство было слишком близкое. Она вышла за графа Строганова и вскоре умерла с тоски. Я же оставался холост, но все равно что вдовец, пока не встретил твою матушку. С нею уже будем у Бога. Так что подыскивай невесту тщательно. Нового случая Господь может и не дать.
У Михаила Семеновича голова шла кругом. Он не чувствовал себя готовым к браку, не знал, где ищут невест, и не имел в России обычного контингента тетушек, которые брали подобные хлопоты на себя. Вчера пришло известие о смерти в Москве генерала Дохтурова, крайне опечалившее графа. Отчего-то сейчас вспомнились не его боевые заслуги, а курьезная история женитьбы.
После кампании 1807 года Дмитрий Сергеевич оказался без дела в Питере. И даже подумывал об отставке. Родных у него не было. Круг знакомых, помимо армии, не то что узок – вовсе никаков. Пятый десяток на носу. Поступать на статскую службу поздно, да и тяжело – изранен. Ехать в деревню – совсем обабиться. Тут в столицу пожаловало многочисленное семейство князя Оболенского, с которым в былые годы Дохтуров водил дружбу. Сам князь был уже совсем старенький. А всем в доме заправляла его супруга – Екатерина Андреевна, важная барыня, державшая шестерых сыновей, четырех дочек, их жен, мужей и несметный выводок внуков огромным кланом, где все купались в ее широчайших объятиях, подчиняясь не давящей, но и не отпускающей силе. Встретившись как-то на улице с этой флотилией дамских зонтиков и детских соломенных шляп, генерал был узнан, обласкан и приглашен в гости на званый вечер.
У Оболенских собирались в пять. Дохтуров пришел, был заново всем представлен, после чего сел в сторонке на стул и стал сидеть, глазея по сторонам. От природы он был человек тихий и не любил обращать на себя внимание. Рост имел невысокий, тело плотное, физиономию обыкновенную, а поскольку никогда не надевал все ордена, то и приметить его было мудрено. Невдалеке поместилась на стуле одна из младших барышень Оболенских – княжна Марья Петровна.
Когда молодежь пошла танцевать, она осталась недвижима и только покусывала краешек бумажного веера.
– Отчего вы не танцуете? – осведомился у нее Дмитрий Сергеевич.
Девушка промолчала, зато бежавший мимо с обручем постреленок бросил:
– А она у нас хромая!
– Я тебе уши оборву! – возмутился генерал. – Я видел, как твоя сестра поднималась по лестнице. Никакая она не хромая.
Тут княжна вмешалась в разговор и примирительно заявила, что брат говорит правду. В детстве она неудачно прыгнула с крыши сарая и сломала ногу. Ей удалось научиться ходить так, что хромота почти незаметна, и даже неплохо ездить верхом. Но вот танцевать достаточно ловко не получается.
– А не сыграть ли нам в шахматы? – предложил Дмитрий Сергеевич, чувствуя обязанность развлечь невольную собеседницу.
– Шахматы – игра мудреная, – робко заметила Марья Петровна – Мне, помнится, показывали, как ходит конь. Но я не уверена, что смогу составить вам партию.
– Все лучше, чем в углу сидеть, – простодушно подбодрил ее Дохтуров.
Сначала барышня не знала, как и справиться с фигурами, бросала все пешки в наступление, оставляла короля без защиты и совершала иные простительные глупости. Но уже на третьей партии сумела поставить соперника в довольно сложную ситуацию и искренне радовалась его недоумению.
После танцев гости пошли к столу. Дохтуров и княжна не заметили перемены звуков вокруг. Они сражались, отделенные от всего мира пыльной, бархатной портьерой у колонны, не были никому заметны и никого не замечали. Когда спустя четыре часа князь и княгиня Оболенские, уже проводив всех приезжих, приблизились к тихому уголку, из него слышалось:
– А я вас предупреждал, мадемуазель, что вы напрасно оголяете левый фланг! Надобно было прикрыть его ладьей! Но вы же ничьих слов не изволите слушать. Вы все знаете сами. Вот вам и мат, голубушка. Нечего шмыгать носом!
Обнаружив, что гости разъехались, а он один обременяет порядочных людей, Дохтуров смутился хуже некуда. Но княгиня всегда умела спасти положение.
– Спасибо, Дмитрий Сергеевич, что развлекли нашу дуреху, – сказала она. – Заезжали бы вы к нам почаще. Ведь мы как-никак родня.
– Какая же мы родня? – удивился честный Дохтуров.
– Все друг другу какая-нибудь родня, – заверила его княгиня. – Если сядем ладком да начнем считаться тетушками, то непременно отыщем. Так что, ради бога, приезжайте запросто. Видите, какой у нас тут Содом и Гоморра: детей прорва, вечно заваривают то шалости, то поездки. С ними не соскучишься.
Все это весьма озадачило генерала, но от нечего делать он стал заезжать к Оболенским. И даже участвовал в их легкомысленных предприятиях – катался на яхте по Неве, ездил смотреть цыган в Царское, опробовал с детьми гигантские шаги в саду. Но более всего – играл с Марьей Петровной в шахматы. Он так привык видеть ее кругленькое личико склоненным над доской, следить, как она прикусывает нижнюю губку или дергает упрямым маленьким подбородком, что считал день пустым, если не встречался с княжной.
Два месяца промчались мимо, и вот случайно от детей Дмитрий Сергеевич услышал краем уха, что Машеньку в доме уже дразнят «генеральшей». Это несказанно смутило Дохтурова, сутки он промучился мыслью, а не скомпрометировал ли ненароком девицу своими частыми визитами? Потом неделю трусливо не являлся к Оболенким. И, наконец поняв, что вторую седмицу без Марьи Петровны не снесет, пришел с повинной головой.
Княжна выслушала его молча. И вот когда Дмитрий Сергеевич уже думал, что отказ состоялся, вдруг повисла у него на шее. Всем известная своим непосредственным нравом, Машенька посчитала излишне потуплять взоры и разыгрывать смущение. Она визжала и чмокала жениха в щеки, повторяя: «Какое счастье, что вы решились! А то я думала, что придется делать изъяснение первой!» Свадьбу сыграли уже в Москве, куда все семейство перебралось под зиму. Оболенские были рады за дочь и горды приобретением собственного героя. Дохтуров вошел в их дом необычайно легко, точно до сих пор его место пустовало и вот наконец было занято. Дети висли на нем, требуя лодок и качелей, княгиня советовалась относительно хозяйственных забот. Сам же Дмитрий Сергеевич с гордостью посматривал, как округляется его жена, грозя на исходе лета осчастливить первенцем.
В России, навещая Дохтуровых, граф имел случай убедиться, что Марья Петровна действительно боготворила мужа. Одиннадцать лет они провели в ненарушимом согласии, а когда Дмитрий Сергеевич скончался – тихо, как и жил после войны – вдова посвятила себя воспитанию четверых детей, благотворительности и поездкам на богомолья. Никакие мужчины уже не входили в светлую горенку госпожи Дохтуровой, но до седых волос она продолжала обыгрывать гостей в шахматы.
Отложив газету, его сиятельство уставился на адъютанта. Тот невозмутимо запечатывал почту вчерашнего дня малой графской печатью, разложив на коленях походный ларец-секретер.
– Саша, а ты собираешься играть свадьбу? – спросил Воронцов.
– Да, – ни минуты не колеблясь, отозвался Казначеев. – Как только вернемся в Россию.
– С кем?
– Пока не знаю. Но тянуть не буду. Мне двадцать девять. Пора родителей порадовать.
– Но нельзя же так сразу…
Адъютант его не слышал.
– Там их пруд пруди! – радостно заявил он, явно пересказывая чужие восторженные басни. – На любой вкус. И девицы, и офицерские вдовы. Некоторые хотят взять даму постарше… Надеюсь, к нашему возвращению самых хорошеньких не разберут!
Коляска уже катилась по улице Шуазель, приближаясь к парижскому особняку Воронцова. Здесь вновь прибывшие должны были привести себя в порядок и не позднее пяти часов отправиться к Веллингтону.
Санкт-Петербург
Солнце лупило в окно, точно собиралось его выбить. День, по-весеннему яркий, с легким прощальным морозцем – как раз такой, какой нужен для катания с гор – порадовал бы любого. Но Арсений заранее мучился, предчувствуя перемену погоды. Его больная голова гудела, как наковальня, по которой вот-вот должны были ударить здоровенной кувалдой. Такое случалось часто – неустойчивый климат столицы превращал жизнь контуженого генерала в сплошную борьбу с мигренями. Мысли путались, на языке вертелось колючее иностранное слово «грандефлер», значение которого Закревский забыл, оно зудело, как пчела, и жалило в распухшие мозги. Как назло, именно сегодня приходилось тащиться на пустырь за Сенатской площадью!
Летом там стояли качели, зимой – высоченные катальные горы. Внизу толкался народ. Торговали сбитнем, пирогами и леденцами на палочках. В этом столпотворении легче всего было встретиться с нужным человеком. Один из служащих графа Каподистрии, статс-секретаря по иностранным делам, некто Петранопуло, парень сметливый и жадный, кажется, выкопал нечто любопытное. Он запиской вызвал Закревского в балаган для медвежьей травли. Не пойти Арсений не мог, пойти – тоже. Оставалось ползти.
Генерал попытался взять извозчика, но от первых же ударов копыт по мостовой взвыл не своим голосом, вылез и зашагал пешком. Благо от Галерной, где он квартировал, до Сенатской рукой подать. Не блуждая среди катающихся, Арсений сразу повернул направо к высокому деревянному забору, опоясавшему шатры с дрессированными животными. Он не любил здесь бывать – жалел мишек в цветастых цыганских юбках. Топтыгины били в бубны или крутили ногами бревно. В прошлый раз Закревский чуть не купил мартышку, сидевшую на снегу, но она сорвалась с веревки у пьяного хозяина и ускакала на шпиль карусели. После Арсений много раз представлял, как поразился бы его денщик Тихон, явись барин домой с ручной обезьяной.
Петранопуло уже торчал в балагане на скамье и лущил семечки в ожидании забавы. Внизу, на круглой арене стоял железный шест, к которому был прикован цепью облезлый медведь – из тех, что циркачи списывают за старостью. В клетках с противоположной стороны амфитеатра надрывались собаки, натасканные рвать жертву. По сигналу мужика в красной атласной рубахе двое парней затопали смазными сапогами по опилкам, лязгнули засовами и выпустили своих страшных подопечных. Черные, с острыми ушами и пенящимися от надрывного лая пастями, псы эти походили на чертей. Они рванулись к медведю и стали, подпрыгивая, хватать его зубами за лапы. Топтыгин взвыл, встал на задние лапы, отчаянно замахал передними, пытаясь сбросить неприятелей. Одна из собак отлетела в сторону с распоротым его когтями животом и, жалобно скуля, поползла к клетке, волоча по арене розовые, облепленные опилками кишки.
Арсений не понимал одного: зачем людям после войны, где кровищи было гляди – не наглядишься, подобные зрелища.
– Вы принесли то, что обещали?
В его руки перекочевал сверток. На ощупь он почувствовал под пальцами бумагу, но брать кота в мешке не собирался. Пока публика вокруг орала в неистовом восторге, а медведь ревел все глуше и глуше, Арсений вскрыл пачку и пробежал пальцами по листам.
– Что это?
– Переписка с повстанцами.
– На греческом?
– Разве у вас не переведут? Здесь о войне говорится как о решенном деле, перечислены корпуса, которые пересекут границу Бессарабии, точно названы места соединения основных сил…
– Это любопытно, – кивнул Закревский. – Но где гарантия, что вы не подсовываете мне страницы из «Илиады»? Пока я не увижу перевод, вам придется потерпеть с оплатой.
– Но как…
– Только половина. Вторая после изучения вашего улова.
Арсений встал, показывая, что разговор окончен и недовольство чиновника его не беспокоит. Собаки и медведь еще катались по арене живым клубком, а генерал уже выбирался из балагана, дурея от рева и звериного запаха. Вопреки ожиданиям, на улице ему стало совсем плохо. Он сунул сверток за пазуху и, пошатываясь, побрел мимо ярких шатров. Нужно было выходить к горкам – народ вокруг шнырял ушлый, множество цыган, да и свои того и гляди прирежут за бобровый воротник на шинели.
К счастью, Арсений миновал забор благополучно, его побаивались, хотя со стороны он больше всего напоминал перебравшего гуляку – законную добычу уличных обирал. Выйдя к горкам, генерал двинулся через толпу, стараясь держаться как можно ближе к краю дорожки и никому не преграждать путь. Его мутило. По губам вело холодом. Казалось, вот-вот стошнит. И это был бы лучший вариант – после тошноты голова всегда прояснялась, становилось легче. Закревского уже не смущало, что его могут принять за пьяного. Лишь бы избавиться от страшной, разламывающей череп боли. На секунду у генерала исчезло боковое зрение – он видел только то, что впереди. Мир странным образом вытянулся, шум вокруг отзывался канонадой полковых орудий, и вдруг Арсения кто-то толкнул. Мимо бежал мальчишка, он держал в руках гармошку бумажного фонаря, сорванного с ближайшей горки. Ее длинное красное рифленое тело волочилось по земле, как вырванные кишки собаки… Генерал понял, что теряет сознание, ткнулся головой в сугроб и замер.
– Арсений Андреич! Арсений Андреич! – Кто-то тер ему лоб пригоршней снега.
Закревский попытался посмотреть – не получилось. Бред обрел новые подробности. Возле него на земле сидела недавняя знакомая, мадемуазель Толстая, правда, теперь она не была голой. На ней красовалась великолепная шуба из горностая, капюшон которой сполз, открыв голову, убранную атласными розами.
– Арсений Андреич! – Девица страшно обрадовалась, что он пришел в себя. – Я думала, вам дурно.
«Нет, я был на вершине блаженства!» Его поразило, как спокойно она сидит на земле, нимало не заботясь, какое произведет впечатление на посторонних людей.
– Пойдемте, я вас провожу, – заявила Толстая.
Закревский с трудом понимал, чего от него хотят.
– Сударыня, вы здесь с кем? – осведомился он. – Где ваши спутники?
– Потерялись, – беспечно отозвалась Аграфена. – Влезли на горку, наверное, скатились, и больше я их не видела. – Она повертела головой по сторонам. – А что?
– Вы ведете себя неприлично, – понизив голос до шепота, сообщил Арсений.
Мадемуазель Толстая расхохоталась, прикрыв рот варежкой.
– Я это слышу от человека, валяющегося на дороге! Милостивый государь, если бы я вела себя прилично, я бы никогда к вам не подошла. Идемте, наконец!
Аграфена довольно уверенно перекинула руку Закревского себе через плечо, и в этот момент возле ее головы промелькнуло что-то блестящее. Если бы девушка не наклонилась, эта штука непременно ударила бы ее в шею. Генерал обернулся настолько быстро, насколько был в состоянии. Он заметил, как в толпе промелькнула спина удалявшегося человека. Тот явно спешил покинуть место происшествия. Будь Арсений на ногах, имей он силы… Закревский не без труда поднялся и сделал несколько шагов. Из снежного намета сбоку дорожки торчал нож. Красиво изогнутый, турецкий, с костяной ручкой. Не особенно дорогой и не особенно редкий, но все же и не кухонный резак, каких пруд пруди.
– Мадемуазель, сделайте милость, – обратился он к Аграфене. – Достаньте носовой платок и аккуратно, слышите, аккуратно возьмите нож.
– Зачем? Это не наше. – Толстая непонимающе хлопала ресницами. – Кто-то потерял. Будет искать…
– Сударыня, на вас только что покушались. – Генералу хотелось взвыть от досады. Ну что же она такая дура! И притом, видимо, славная дура. Не бросает его, пытается помочь.
– На меня? – Аграфена сделала большие глаза. – Вы шутите?
– Пойдемте отсюда. – Закревский решительно заковылял прочь, не выпуская при этом руки своей странной знакомой. Он был сердит не на шутку и тащил ее довольно быстро.
Спутники удалились от гор, пересекли Сенатскую площадь. И тут не дожидаясь, пока он возьмет сани, Аграфена подняла муфту и звонко закричала:
– Извозчик!
«Бог мой!» – обомлел генерал. Она еще и извозчиков сама останавливает. Ну, ниже некуда! Графиня Толстая! Драть нужно не ее, а папеньку!
Между тем извозчик явился, как по мановению волшебной палочки.
– Садитесь, мы быстро доедем. Вы где живете?
Арсений уже ничему не удивлялся.
– Вообще-то это я должен вас отвезти, а вы – испытывать неловкость, что находитесь в карете с малознакомым мужчиной.
– Разве мне было дурно? – парировала Аграфена. – Кстати, что с вами? От вас вином не пахнет.
– Это контузия, – без всякого удовольствия признался генерал.
– Ого! – Мадемуазель Толстая сделала страшные глаза. – Вам повезло. У моих подруг Олениных брата так шарахнуло, что он до сих пор в беспамятстве, не может говорить и мочится под себя.
– Я не мочусь под себя, – побагровел Арсений. «Дайте мне этого папеньку, я его удушу собственными руками!»
– Ну так где вы живете? – повторила нимало не смущенная Аграфена. – Я же вижу, вы весь зеленый. Поедемте. А не то вам сейчас опять станет плохо, и неизвестно, куда еще этот извозчик вас завезет. Завтра в газетах напишут, что в лесу нашли генеральский труп, и я буду по гроб жизни казниться, что бросила вас.
Арсений сдался.
– Вас не смущает, что вы едете на квартиру к холостому мужчине? – уже откинувшись на подушки, спросил он. – Трогай на Галерную!
– Господи, да разве бы я поехала к женатому? – всплеснула руками Толстая. – У меня совершенно иное воспитание. Моя матушка, если хотите знать, была из старообрядцев, дочь заводчика Дурасова, несметно богатая. Я и креститься, как они, умею. – В подтверждение она осенила себя широким двуперстным знамением. – Так вот, матушка по своей вере отличалась исключительной строгостью…
– Жаль, что ваша maman рано скончалась, – слабым голосом отозвался Закревский.
– Откуда вы знаете? – поразилась Аграфена.
– Заметно. Нож вы взяли?
Толстая продемонстрировала платок, с завернутым в него предметом.
– Вот уже приехали.
Арсений настоял на том, чтобы самому заплатить извозчику.
– Как хотите.
Не без ее помощи он поднялся по лестнице на второй этаж, где заспанный денщик открыл дверь на настойчивый стук Аграфены.
– Эй, ты, – цыкнула на него графиня. – Живо за доктором!
Закревский слабо отмахнулся.
– Это бесполезно. Не стоит. Он ничем не поможет.
– Пусть придет, – потребовала капризная гостья. – Не разломится. А вы ложитесь на диван.
Она огляделась по сторонам. Квартира явно не произвела на нее впечатления. Слепой, темный коридор. Три комнаты: кабинет, спальня, столовая. Чуланчик для денщика.
– Бедненько вы живете, – протянула Аграфена.
– Я не богат, – с достоинством оборвал ее Закревский.
– А я богата, – простодушно отозвалась гостья. – И что? Не в деньгах счастье.
После недавней истории с Петроханом генерал был готов поверить.
– В чем же, по-вашему, счастье, Аграфена Федоровна?
– Не знаю. – Толстая задумчиво глядела на улицу. День начинал сереть, на небе собирались тучи. – Некоторым его не положено.
– Вы говорите странные вещи, мадемуазель. – Закревский впервые внимательно всмотрелся в ее нарочито беспечное лицо. – Сколько вам лет?
– Восемнадцать. А вам?
– Тридцать три.
– Хорошая разница.
– В каком смысле?
– Ни в каком. – Она делано рассмеялась. – А скажите, неужели вам до сих пор хочется жить? При таких-то болях?
– Кому же не хочется?
– Многим, – уклончиво ответила гостья. – Зовите меня Груша.
– Не могу, – развел руками генерал. – Мы с вами до сих пор не представлены. Вы явились ко мне в штаб без приглашения. Так делают только в крайних обстоятельствах, оправданных смертью кормильца и отсутствием родственников. Нас должны были представить хорошо знакомые люди. Представление является поручительством порядочных намерений сторон.
Аграфена вздохнула.
– Какая скука! Вы всегда так живете: «порядочных намерений сторон»? – передразнила она. – Ну и где эти «порядочные стороны» были сегодня, когда вы лежали на снегу? Посчитали недостаточно «порядочным» для себя подойти и посмотреть, не помер ли человек? Кстати, – ее лицо на мгновение стало серьезным, – форма, насколько я помню, говорит сама за себя и в представлениях не нуждается? И что? Кто-то вспомнил об этом?
Мадемуазель Толстая процитировала строку из правил Благородного собрания и с вызовом смотрела на генерала. Гостья вдруг перестала казаться ему такой уж простодушной. Выходит, она намеренно нарушала светские приличия?
– Зовите меня Грушей, – настойчиво повторила девушка. – А я буду называть вас так, как вы пожелаете, даже «ваше высокопревосходительство», если лично вам это будет приятно.
– Хорошо, – вздохнул Закревский. – Можете называть меня Арсением. Это, в конце концов, не важно. Груши растут на дереве. А у вас прекрасное имя – Аграфена. Положите нож на стол и подумайте, пожалуйста, кто мог желать вам смерти?
На лице мадемуазель Толстой отразились страшные мыслительные усилия. Она наморщила лоб, а кончик носа у нее несколько раз дернулся, как у кошки, почуявшей мышь.
– Я… я не знаю. Кто же может желать? Я никого не обидела…
– Женщины? Ревнивые возлюбленные? – терпеливо подсказал генерал.
Последнее предположение было встречено циничным смешком.
– Зачем же меня ревновать? Я никому не отказываю…
– А почему?
Аграфена задумалась. Потом выпрямилась во весь рост и несколько раз повернулась перед Закревским.
– Красиво?
– Не стану спорить.
Толстая удовлетворенно хмыкнула.
– А скоро ничего не будет. Еще лет семь или десять. Что же беречь? Красота – не золото, веками в сундуках не лежит. Надо уметь быть щедрой. Пока не поздно.
– Странная у вас философия, мадемуазель, – протянул Арсений, все еще не в силах оторвать взгляд от ее стана. – Ну да оставим это. Может быть, вы в последнее время оказывались в какой-нибудь необычной ситуации? Слышали нечто непонятное? Видели недозволенное? Что-то о ком-то узнали…
– Я не сплетница, – обиделась Толстая. – Если что-то о ком-то узнаю, то тут же забуду. Мне ни к чему… Постойте! – она стала изо всех сил тереть указательным пальцем переносицу. Видимо, сие означало у нее крайнюю сосредоточенность. – Может, это и не важно, – гостья колебалась, – однако в тот момент я была удивлена…
– Ну? Ну?
– Хорошо. Я была у своего любовника Каподистрии…
Закревский поперхнулся.
– Он же старый. Зачем он вам?
– Ничего не старый! – возмутилась Аграфена. – Иван Антонович одного года с государем. К тому же он – грек. Мне любопытно было, как греки это делают…
– Так же, как и все. – Негодованию генерала не было границ. – Велика разница!
– Не скажите, – тоном искушенного гастронома заявила гостья. – Да и откуда вам знать, вы же не интересуетесь женщинами.
Закревский вспыхнул.
– Я не то имел в виду. Просто… сейчас не так часто… интересуюсь.
– Вот! – просияла Толстая. – Я знала! Вы не похожи на этих! А еще прикидываетесь. Весьма стыдно.
– Вернемся к Каподистрии, – с глубоким вздохом протянул Арсений.
– Я и говорю. Они ссорились по-немецки. Я немецкий не очень понимаю. Но все же… Выходило так, что этот второй на Ивана Антоновича очень сердился и требовал «отречься от бессмысленных мечтаний». Точно. Или «беспочвенных». Не важно. Словом, нажимал…
– Стоп, стоп! Кто они? Какой второй?
– Ах, да почем мне знать? Дверь в будуар была прикрыта. Оставалась только то-оненькая щелочка. Я проснулась от их шума. Часов в десять. А так бы спала до двенадцати!
Арсений заломил руки. Не приведи бог, стать полицейским и вести дознания. Последнего ума лишат!
– Мы приехали вечером с маскарада. До спальни как-то не добрались. Греки гораздо темпераментнее… А будуар как раз смыкается с кабинетом. Иван Антонович имеет привычку работать после, ну вы понимаете. И вот я слышу. Второй голос говорит: «Вам не на что надеяться. Государь предан принципам легитимизма». Кстати, что такое легитимизм?
– Потом объясню. Продолжайте.
– Государь, значит, предан этим самым… Та-та-та. А Иван Антонович отвечает: «Но его величество не покинет единоверцев на произвол судьбы». Второй так рассмеялся, очень гаденько, и сказал: «Вы думаете только о своих соотечественниках. Между тем Россия – великая держава и у нее есть в Европе дела поважнее, чем мешать султану вешать бунтовщиков». «Ну да, – отвечал Иван Антонович, – например, идти в Италию и вешать там бунтовщиков австрийского императора! Любезный Карл, вы тоже думаете только о своих соотечественниках». Второй: «Государь сам создал Священный союз. Он не станет разрушать свое детище. Посмотрим, что скажут другие дворы, когда узнают, что русский император намерен помочь возмущению подданных против своего законного владыки». Каподистрия взвился: «У вас нет доказательств!» А второй помедлил и обронил: «Теперь есть». – Толстая перевела дух. – Вот, собственно, и все.
Арсений молчал минуту другую, мял нижнюю губу. Даже голова как будто прошла. Так и есть, на улице тучи заволокли небо, и мягкими хлопьями начал падать снег.
– А вы-то какое ко всему этому имеете отношение, Аграфена Федоровна? – наконец спросил он. – Вас кто-то видел?
– Ну да, – кивнула Толстая. – Этот второй. Носатый. Он хотел выйти через будуар, но Каподистрия его выволок и указал на другую дверь, через библиотеку. Тот еще возмущался, что Иван Антонович позволил себе вести важный разговор, когда за стенкой у него… А Каподистрия бросил: «Да ее из пушки не разбудишь».
– Вы его рассмотрели?
– Кого?
– Карла. Носатого.
– Ну, да-а. Говорю, нос такой костистый, большой и глаза круглые, как у попугая. Только совсем пустые. Неприятные.
«Много в мире попугаев с приятными, полными огня очами!»
– Это Нессельроде. Ума не приложу, как вы могли его не узнать, – с укоризной произнес Арсений вслух.
– Я разве чиновник Министерства иностранных дел? – возмутилась гостья. – Маленький, как карлик. Буду я его рассматривать!
– А вот он, как видно, вас рассмотрел.
– Ну и что? – мадемуазель Толстая опять напустила на себя обычную наглость. – Мне есть что показать. Вы обещали про легитимизм.
– Вам это надо? – со вздохом спросил генерал.
– Если меня зарежут, то хотелось бы знать, за что.
– Ладно. Легитимизм – это преданность принципам наследственной монархии.
На лице Аграфены не отразилось ничего.
– Проще говоря, когда кончилась война, победившие стороны создали Священный союз, чтобы не допустить в Европе новых революций. Главный принцип – не позволять подданным бунтовать против своих государей. А греки в Турции возьми да и восстань. Император в трудном положении. Они наши единоверцы. Но они же изменили своему султану. На что постоянно указывают австрийцы – наши союзники.
Аграфена боднула головой.
– Вы слишком много сразу говорите, Сеня. Я в толк не возьму: почему мы должны быть чем-то обязаны султану? Он же турок? И он действительно режет людей. А еще непонятно, какое право австрийцы имеют нам указывать? Много они помогали в войну?
Закревский смерил гостью снисходительным взглядом.
– Аграфена Федоровна, этими вопросами задается вся Россия. Вряд ли мы с вами их разрешим. Скажу попросту. У нас два статс-секретаря по иностранным делам – грек Каподистрия и немец Нессельроде. А еще раньше был поляк Адам Чарторыйский. Вам все ясно?
Толстая засмеялась.
– Для разнообразия не хватает русского.
– Очень не хватает, – кивнул генерал. – Кстати, вы не помните, что такое «грандефлер»?
– Такой очень дорогой цветок. Голландский.
Из прихожей послышалась возня. Явился доктор. Денщик Тихон провел его в гостиную и враждебно уставился на Толстую, мол, шла бы ты отсюда, девка.
Аграфена и сама засобиралась. На прощание она, как и пару дней назад, послала Закревскому воздушный поцелуй. Велела ошарашенному медику лучше смотреть за пациентом и покинула холостяцкое жилище довольная собой.
– Однако, молодой человек, – протянул доктор Литке, провожая диву долгим, полным сожаления взглядом. – Я вас предупреждал, вести жизнь воздержанную. Щадить себя. Если вы будете прожигать здоровье с такими… нимфами, у вас не хватит сил дожить до старости.
Генерал принял тираду эскулапа равнодушно, в его голове связывались нити двух, казалось бы, не имевших друг к другу отношения происшествий. После ухода Литке он вручил Тихону пятьдесят рублей из суммы, накануне полученной от Волконского.
– Ступай к Бирже, там в лавках торгуют оранжерейными цветами. Купи букет голландских грандефлеров. Потом поезжай к особняку графа Федора Толстого на Шпалерной и положи на порог.
Париж
Веллингтон занимал дом в Латинском квартале, на пересечении улиц Монж и Роллен. Это было старинное приземистое здание с толстыми стенами, вросшими в тротуар по подоконники нижнего этажа. Во внутренний двор уже вынесли кадки с пальмами и померанцами. Звенела капель, солнце припекало, от жестяных крыш к небу поднималось марево. Двое знакомых адъютантов встретили Воронцова в холле, приняли перчатки и плащ и проводили вверх по мраморной лестнице времен Ришелье в кабинет своего начальника. Расторопный Казначеев остался внизу потолкаться среди штабных.
Герцога пришлось дожидаться. Он прощался с прусским фельдмаршалом Блюхером, отбывавшим из корпуса в Берлин. Семидесятилетний вспыльчивый и прямодушный старик едва не погубил все дело при Ватерлоо, выбрав для войск неудачную позицию. А во время атаки свалился с лошади, был накрыт потоком французской кавалерии, не узнан и отбит только двумя мощными контрнаступлениями своих. На следующий день, когда части Веллингтона вели яростное сражение у замка Угумон и фермы Ла-Хэ-Сент, Блюхер промедлил почти до полного разгрома неприятеля и появился уже перед деморализованными французами, обратив их в бегство одним своим видом. Несмотря на это он пребывал в неколебимой уверенности, что выполнил союзнический долг, и даже предложил назвать совместные действия англичан и пруссаков Belle alliance[7].
Вся объединенная армия скалилась на сей счет, но только у Воронцова хватило ума, прогуливаясь в Тюильри и увидев статую Психеи, защищавшей сон Амура, назвать их Belle alliance. Шутка разлетелась, Блюхер заподозрил неладное и на всякий случай решил не здороваться с русским командующим. Поэтому Михаил предпочел тихо посидеть в кабинете Веллингтона, куда из-за стеклянных дверей гостиной долетали радушные восклицания и заверения в вечной дружбе. Комизм ситуации состоял в том, что Блюхер говорил по-немецки, а Веллингтон по-английски. Французским оба решительно пренебрегали. Воронцов, слушая диалог двух глухих, должен был констатировать, что в целом прощание прошло на высоте. Ни один не дал почувствовать другому, что не понимает, о чем речь.
«Вот так они и командовали», – желчно усмехнулся граф, до сих пор страдавший, что Ватерлоо состоялось без него. Русские войска выступили из Польши на помощь, но известие о победе настигло их на марше. Сколько тогда было пролито скупых генеральских слез! Чего не скажешь о рядовых.
Чтобы не скучать, Михаил Семенович взял со стола папку с новыми гравюрами, присланными Веллингтону из Лондона. Работа была хорошая. Иллюстрации к античной истории. Цезарь переходит Рубикон. Брут кончает жизнь самоубийством. Клеопатра поднимает смертельно раненого Антония на веревках в свою усыпальницу. Особенно Воронцова привлек лист под названием «Фауста вырезает язык Цицерона». На нем была изображена римская матрона, державшая на коленях отрубленную голову великого оратора и сосредоточенно ковырявшая ножом у него во рту. Подумав немного, Мишель позаимствовал на столе карандаш и написал под картинкой: «New French censorship»[8]. Потом вернул папку на место и принялся за газету.
Веллингтон распахнул двери со стремительностью ребенка, ворвавшегося в гостиную рождественским утром. Подарок под елкой ему понравился.
– Майкл! Сто лет не виделись! Я думал, что отдам концы! Пожилые люди говорят так длинно! Неужели и мы будем старыми пердунами и просрем все битвы?!
Герцог умел выражать свои мысли с прямотой и напором истинного парламентария. Он потряс руку Воронцова, мигом заметил картинку на столе, кинулся на нее, как коршун, прочел, заржал и тут же спрятал в верхний ящик, чтобы показать только доверенным людям.
– Вы погубите себя! Эти ваши шуточки! Мне приказано вас ругать – и вот я вас ругаю! – Веллингтон плюхнулся в кресло и скрестил руки. Он был высок и сухощав, имел широкое лицо, почти безгубый рот, уголки которого уходили вниз. А прямые черные волосы по французской моде зачесывал на лоб, что предавало ему сходство с Бонапартом. Из-за этого герцог не переносил свои портреты, но стрижку не менял. Когда знаменитый Лоуренс изобразил его на коне и в треуголке, Веллингтон, ко всеобщему смеху, заявил, что особенно удались лошадь и шляпа.
– Ну, скажите, дорогой друг, кто вас все время тянет за язык? – благодушно брюзжал герцог. – Зачем было в прошлый раз портить газету? Сознайтесь, ведь это вы приписали к статье о La Sainte-Alliance[9] эпиграф из Шекспира: «Безумны короли, безумен их союз!» Полштаба вас цитирует.
Воронцов скроил невинную физиономию.
– А кто назвал басни Лафонтена «новейшей французской историей»?
Михаил Семенович взмахнул рукой.
– Артур, но ведь это же невыносимо! Вот речь Луи Дважды Девять из последней газеты. – Граф зашуршал «Парижским экспрессом»: – «На двадцать третьем году моего царствования…» Вас не оскорбляют подобные пассажи? Я все могу понять. Он хочет числиться с 1795 года, когда умер бедный дофин Луи-Шарль. Пусть так. Король в изгнании – тоже король. Но зачем делать вид, будто революции не было? Жечь архивы и выпускать фальшивые указы, якобы принятые в 1801 или 1811 годах? Кого и в чем он хочет убедить?
Веллингтон покусал губу и усмехнулся.
– Вы слишком близко принимаете к сердцу глупости этого ярмарочного клоуна. А между тем ему тоже приходится защищаться. Ваш император не оставил надежд заменить его кем-нибудь более преданным России. Например, своим зятем принцем Вильгельмом.
– Я не обсуждаю намерения своего государя, – отчеканил Воронцов. – Если у британской стороны имеются конкретные сведения, которые вас беспокоят, предоставьте их. Я сделаю официальный запрос в Петербург. Ведь вы прекрасно знаете, Артур, – тон графа смягчился, – что я не принадлежу к числу тех, кто может вас подставить.
Это была правда. Михаил познакомился с герцогом в доме своего отца – русского посла в Лондоне, когда тот еще скромно именовался капитаном Уэсли. Веллингтон был на четырнадцать лет старше. Когда молодой Воронцов выпросил разрешение ехать на Кавказ поручиком, Артур уже покорял Индию. Позднее они встретились в Париже. Герцогу предстояло управлять объединенной оккупационной армией. Император Александр любезно спросил союзника, с кем из русских тому будет приятно служить? Веллингтон назвал Воронцова. Государь поморщился, но согласился.
Михаил Семенович прекрасно понимал, что обязан своим назначением не столько императору, сколько Веллингтону. Умел ценить подобные вещи и всегда шел навстречу пожеланиям Артура. Если они, конечно, не задевали казенных интересов. Сейчас герцог темнил, и это у него плохо получалось.
– В чем дело, Артур? Что-то стряслось?
– Стряслось! – с неожиданной злобой отозвался тот. – Стряслось! То, что вы устроили на таможне. То, что через бельгийскую границу валом валят бонапартистские газеты. То, что из Кронштадта вышла русская эскадра. И говорят, ваш государь намерен использовать ее здесь, во Франции, чтобы выдавить толстяка Луи, как прыщ, из Парижа, а вместо него посадить Вильгельма Оранского, муженька своей сестры – Анны Павловны. У меня уже голова идет кругом! Майкл, неужели нам придется стрелять друг в друга?
Воронцов даже слегка привстал с кресла, продолжая держаться руками за подлокотники. Его ладони мигом стали влажными, и мягкий плюш неприятно прилипал к ним. Крайнее удивление, отразившееся на лице гостя, казалось, удовлетворило Веллингтона. Но он ждал прямого ответа. Выдержав паузу, Михаил сказал:
– Если мне прикажут стрелять, я буду стрелять. Как и вы, Артур. Тут ничего не поделаешь. Но вы можете быть абсолютно уверены, что я не стану делать этого внезапно, без объявления войны, какие бы инструкции на сей счет ни получил.
Герцог кивнул. Именно это он и хотел услышать.
– Майкл, мы оба солдаты. Подчас не ведаем, что творится наверху. – Артур глубокомысленно поднял глаза к потолку. – Если бы вы только знали, как я устал от политиков! Слушайте, у меня есть ирландское виски-бленд. Давайте выпьем.
Граф одобрил начинание. Веллингтон открыл секретер красного дерева. Пощелкал там какими-то замочками и извлек здоровенную глиняную бутыль, запечатанную сургучом поверх крепко заколоченной деревянной пробки.
– Из Кули, – с гордостью провозгласил он. – Десятилетней выдержки.
Гость молча оценил марку. Собеседники выпили не чокаясь и только после третьей небольшой стопки посчитали себя достаточно расслабившимися, чтобы возобновить разговор. Для умиротворения нужна была другая тема, и Михаил не придумал ничего лучше, как задеть больной вопрос:
– Кажется, у вас есть семья?
– Не женитесь, – сразу ответил Веллингтон.
– Откуда вы…
– Не важно. Слушайте. Корпус – гораздо лучше жены. Ему можно приказывать, и он будет подчиняться. Он не тратит ваши деньги. Не наставляет рогов. Не плодит детей. И главное: пока у вас есть корпус, вам не нужна супруга. А когда у вас корпуса нет, – тут герцог с горечью усмехнулся, – супруге не нужны вы.
Пока Михаил переваривал услышанное, Артур опрокинул еще стопку и сообщил:
– Во время моего последнего приезда в Лондон я виделся с вашим отцом. Он очень обеспокоен и начал сам подыскивать вам невесту. В Англии.
– Не может быть! – Граф тоже схватился за граненый стаканчик с виски.
– Я попытался объяснить вашему батюшке, почему у нас так много старых дев. Все мужчины, когда-либо покидавшие остров, привозят жен с континента. Но он преклоняется перед всеми товарами британского производства!
– Вы смеетесь!
– А что еще остается? – Герцог снова наполнил стопки. – Всех совершенств Господь не дает одной стране. У нас лучшая политическая система. Зато у вас женщины разительно отличаются от кобыл.
Они пропустили еще по одной, и Воронцов засобирался. Пора было предоставить союзника текущим делам, но графу казалось, что Веллингтон хочет его о чем-то предупредить, тянет и не решается.
– Артур, неужели вы сегодня огорошили меня не всеми подозрениями?
Хозяин кабинета смутился, засопел и наконец выдавил:
– Вот какое дело. Вы там ищете убийц своего вестового? Не надо, Майкл. Не вмешивайтесь в это. Ваш мальчик покончил с собой.
Воронцов обомлел. Осведомленность герцога заслуживала уважения, но все же смерть чужого курьера – не его уровень.
– Не копайте дальше, – с нажимом повторил Веллингтон. – Парню уже ничем не поможешь.
– Я не могу этого обещать, – после секундного молчания произнес граф. – Убит мой подчиненный. Что противоестественного в законном расследовании? Если вам известны подробности, то я вынужден просить вас сообщить их.
– Не тот случай, – отозвался Веллингтон. – Есть дела, где не какой-нибудь сопляк-курьер может потерять голову, но и люди нашего калибра. Ваш парень просто оказался не в том месте не в то время.
– Что это значит? – холодно осведомился Воронцов. Приятную расслабленность как рукой сняло.
– Я все сказал. – Веллингтон встал, показывая, что разговор закончен.
Глава 3. Юность жандарма
Воронцов прекрасно знал, что делать с лошадью в галопе. Но галопирующего верблюда он видел впервые. Да и вообще эту тварь не имел чести наблюдать живьем. В детстве у них с сестрой Катенькой была цветная английская азбука, где целый лист занимал двугорбый губастый зверь, под которым красовалась надпись: «a camel». Рядом стояли бедуин с ружьем и женщина, укутанная в паранджу. Из уроков географии Михаил Семенович помнил, что верблюды живут в Африке и плюются. Встретить их в Париже, в Булонском лесу, он не чаял.
Однако чему удивляться, если на прогулку его увлек Бенкендорф, явившийся нежданно-негаданно во французскую столицу нынче утром?
Михаил стоял у открытого окна в своем особняке на улице Шуазель и чинил ножом разлохматившееся гусиное перо – он терпеть не мог писать неаккуратно, и так почерк плохой, да еще и перья мажут – как вдруг заметил, что по аллее к дому движется знакомая долговязая фигура. Человек в преображенском мундире размахивал при ходьбе руками и все время сбивался то на одну, то на другую ногу – толком маршировать Христофорыч так и не выучился. Он вертел во все стороны головой, наслаждаясь весенним солнцем, и топорщил рыжие залихватские усы, вдыхая ароматы Парижа.
При виде Бенкендорфа граф от неожиданности резанул себя по пальцу. Выругался и поспешил другу навстречу. Явление этого человека всегда предвещало судьбоносные перемены. Шурка приносил на крыльях своего офицерского плаща новые ветры. Рядом с ним жизнь теряла ровное течение, закручивалась в водовороты и била фонтанами в разные стороны. Он вечно попадал в глупейшие истории, как в первый день их встречи, пятнадцать лет назад, в Астрахани. Даже сейчас, вспоминая об этом, граф не мог не смеяться.
Дорога на Кавказ тогда проходила частью по Волге, частью посуху, берегом Каспия. Прибыв в город, двадцатилетний поручик Воронцов был потрясен изобилием разноплеменного народа и совершенно азиатским видом улиц. Тут и там ходили персы в полосатых халатах, сновали юркие татарские торговцы, черемисы продавали лошадей. Есть предлагалось что-то невообразимое, вроде халвы, пахлавы, чебуреков с бараниной, плова и пресных сухих лепешек, выпекавшихся в земляных печах прямо под открытым небом. При этом слышался звон колоколов православных церквей, а некоторые центральные улицы имели вполне европейский вид. Поехав прогуляться, Воронцов свернул в один из проулков, разглядывая потертые ковры-навесы, защищавшие лавки от солнца.
Как вдруг мимо него пронеслась целая толпа цыган. Они гнались за каким-то человеком и громко горланили на своем языке, то ли угрожая ему, то ли клянча. Преследуемый мчался прочь большими прыжками, благо его журавлиные ноги позволяли участвовать в дерби. Он непременно удрал бы, но, на беду, улицу перегораживала широченная лужа величиной с Каспий. Из тех, что не мелеют даже в засуху и могут утянуть на дно годовалого поросенка. Беглец стал жертвой черной, как антрацит, грязи. Он опрометчиво решил, что минует ее, коль скоро у него на ногах высокие офицерские ботфорты. Не тут-то было. На середине трясина обхватила сапоги выше щиколоток и отказывалась отпускать, как настойчивая возлюбленная. Босоногие цыгане были умнее. Они не полезли в лужу, а встали по ее берегам и радостно улюлюкали.
– Спасите! – закричал увязший по-немецки. – Я не знаю, чего они хотят!
Между тем один из преследователей – старый кудлатый цыган в черной шляпе с серебряными образками по тулье, вероятно, барон этого чумазого воинства – обратился к жертве с прочувствованной речью на непонятном языке. Он выразительно указывал палкой то на лужу, то на самого несчастного и, очевидно, требовал денег.
Сцена показалась Михаилу забавной. Поручик направил коня «вброд» через астраханские грязи и под гневные крики цыган приблизился к увязшему. Это был парень лет двадцати, во флигель-адъютантском мундире, с эполетом на правом плече и со шляпой в руках. Встретить в низовьях Волги, за сто верст от столицы придворного шаркуна было само по себе событие примечательное. А его бедственное положение в купе с откровенно остзейской внешностью наполнило бы радостью даже самое сострадательное гвардейское сердце. В детстве Михаила воспитывали в приязни ко всем нациям. Но за пару лет полковая служба внушила юноше обычные предрассудки. Немцы казались ему наказанием Господним, они не заботились об Отечестве, обожали ходить строем под барабан и занимали лучшие офицерские места.
– Садитесь, – через губу бросил поручик горе-адъютанту и освободил одно стремя.
Цыгане заголосили и надвинулись.
– Пошли прочь! – Михаил как бы невзначай положил руку на хлыст.
Толпа подалась назад, продолжая осыпать их бранью. Увязший вцепился руками в седло Воронцова и, против ожидания, довольно ловко вскочил на круп лошади. Сапоги горестно чвакнули, сползли, но все же удержались на ногах.
– Как вас угораздило? – Молодой граф направил коня к противоположному берегу лужи.
Цыгане, не желая отвязываться, выпустили вперед толпу чумазых ребятишек. Их разбойничья тактика состояла в том, чтобы дети повисли на подпруге у лошади и шныряли под брюхом, не давая ей шагу ступить. Попрошайки понимали, что два молодых олуха в форме не станут давить мелюзгу. Не тут-то было, Михаил успел дать шпоры прежде, чем окружение завершилось. Конь вынес седоков из вражеского кольца и оставил преследователей далеко позади.
– Вы меня спасли! – воскликнул спутник. – Скажите на милость, кто это? Чего они хотели?
Воронцов смерил недотепу презрительным взглядом.
– Вы с луны свалились? Первый раз в жизни видите цыган?
– Да, – признался парень, хлопая короткими рыжими ресницами.
Позднее Михаил узнал, что его новый знакомый не просто служил во дворце, он родился, вырос и жил в императорских резиденциях, не имея ни времени, ни позволения покидать высочайших особ. Не только цыгане, но и весь окружающий мир выглядел для него, как цирковое диво. В бедной адъютантской голове мешались названия и должности, он не знал, как себя вести с извозчиками, как требовать коней на станциях и сколько платить за чай в трактире. Кое-как добравшись до Астрахани, бывший придворный, а ныне волонтер Кавказской армии отправился посмотреть город – пешком, что уже было непростительно. Он вышагивал по улице, глазел по сторонам и жевал медовый татарский пирожок, купленный у торговки. Как вдруг к нему подбежал черный, как сажа, чертенок в цветных лохмотьях и стал подпрыгивать, протягивая грязные ручонки к лакомству.
– Он у меня его чуть изо рта не вырвал! – пожаловался адъютант.
Воронцов только хмыкнул. Ему-то отец еще в детстве объяснил, как себя вести на улице. У нового знакомого такой школы не было. Он отдал цыганенку пирожок, а когда подскочили еще трое – видимо, братья и сестры первого «невинного сироты» – по доброте душевной купил им тоже по пирожку. Это было роковой ошибкой – из-за угла за глупым офицером ринулась целая толпа голодных оборванцев, к которой присоединился табор голосящих мамаш, девок, старух, а за поворотом в дело вступили и плясуны с медведями. Завидев деньги, которыми прохожий расплачивался с торговкой, они уже не отставали от него и наконец загнали в лужу.
– Поделом вам, – наставительно сказал Михаил. – Не связывайтесь с уличными. Кошелек на месте?
Оказалось, что и портмоне давно нет. То ли беглец его выронил, то ли кому-то из цыган удалось его все-таки стянуть. Несчастный сидел, понурив голову, и подавленно взирал на свои грязные сапоги.
– А где остальные деньги?
– В гостинице.
– Вы оставили деньги в гостинице?
Возмущению Михаила не было границ. Надо же быть таким остолопом!
– Сударь, скажу вам прямо, – бросил он, – вы напрасно едете на Кавказ. Вы погубите себя и не принесете никакой пользы. Взгляните на дело здраво: вас ретировала толпа цыган.
Спутник еще ниже опустил голову, но с неожиданным упрямством заявил:
– Я хочу служить в действующей армии.
– А я хочу отдыхать в Ницце! – рассмеялся Михаил. – Сначала поглядите, целы ли деньги.
Они вместе явились в гостиницу. Воронцов уже считал своим долгом сопровождать недотепу-адъютанта, чтобы тот не влип в историю похуже. Так и есть, денщик сбежал с барскими капиталами. Жертва цыганского преследования осталась не только без копейки, но и без заметной части багажа.
– У вас нет другого выхода, как возвращаться в столицу, – с облегчением констатировал поручик. – Я займу вам пятьдесят рублей, и поворачивайте, пока не поздно.
Но его новый знакомый проявил прямо-таки древнеримскую твердость.
– Я как-нибудь доберусь, – с отвагой обреченного заявил он. – Если надо, пойду пешком. Спасибо вам за все, прощайте.
Михаил рассердился:
– Да вы понимаете, куда едете? Как вы будете командовать? Кому вы там нужны?
– Это вы не понимаете. – Адъютант отвернулся в угол комнаты, чтобы скрыть закипавшие слезы. – Я не вернусь в столицу. Лучше пойду пешком.
– Ну ладно, – Воронцов смягчился. – Поехали вместе. У меня хватит денег.
Ему совсем не улыбалось путешествовать в компании остзейского болвана, но не бросать же его здесь на произвол судьбы! Бог посылает товарищей.