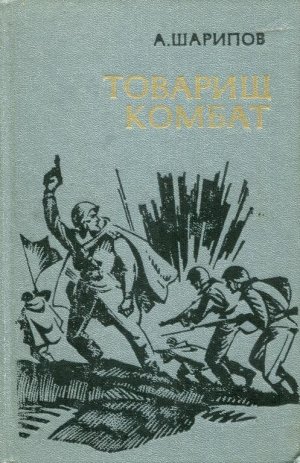
Часть первая
ТАК БЫЛО НА ВОЙНЕ
1
Внезапный выстрел на рассвете оборвал трель соловья. Боец с пограничной заставы старшего лейтенанта Василия Губкина, стоявший на посту у моста через реку Шервинту, упал, схватившись за грудь. На той стороне реки взревели моторы, застучали пулеметы.
Под грохот разрывов вражеских снарядов и мин Василий поцеловал дочь и сына, выбежал из дому и уже на ходу крикнул жене, чтобы немедленно уезжала в тыл.
Все было настолько внезапно и страшно, что Алевтина растерялась. Как и все жены офицеров на границе, она чувствовала близость войны. Но от того, что война началась именно вот в это летнее воскресное утро 22 июня, ей стало жутко. Она никак не могла взять себя в руки, тыкалась как слепая, не соображая, что уложить в чемодан. В дом вбежал боец и сказал, что машина уже во дворе.
Алевтина схватила на руки трехлетнюю Венеру, а старшему Вовочке, которому исполнилось восемь лет, велела крепко держаться за ее платье и не отставать. Так они добежали до полуторки, в кузове которой уже сидели заплаканные женщины и дети. Когда машина тронулась, на заставе стали рваться снаряды, что-то там загорелось.
Василий Губкин во главе заставы вступил в бой с гитлеровцами, которые намеревались с ходу овладеть мостом через реку Шервинту. Разгорелся жестокий неравный бой. Не раз немцы поднимались в атаку, но сильный ружейно-пулеметный огонь пограничников заставлял их откатываться назад. Мелким группам вражеских автоматчиков все же удалось переправиться на наш берег. И тогда Василий поднял бойцов в контратаку. В ожесточенной рукопашной схватке пограничники отбросили врага.
Успех, однако, оказался непродолжительным. Гитлеровцы вновь ринулись на мост и стали обходить заставу с флангов. Пограничники сражались отчаянно. Василий расстрелял последний пулеметный диск, у него осталась одна-единственная граната. Он выжидал, когда немцы подойдут совсем близко. И тут на помощь подоспела резервная застава погранкомендатуры. Вражеские автоматчики залегли, но вскоре, получив подкрепление, вновь устремились в атаку. Пограничникам пришлось отступать к лесу Котовщизна.
В это же время ожесточенные бои шли и в Науместисе, в расположении штаба погранкомендатуры.
Начальник погранкомендатуры капитан Бедин с группой бойцов и командиров удерживал каменные постройки и мост через реку Шешупу на шоссейной дороге, ведущей в Каунас. Натиск противника усиливался с каждым часом. Комсорг старший сержант Быков с четырьмя бойцами занял траншею во дворе комендатуры. Он хладнокровно продолжал косить фашистов длинными очередями из ручного пулемета. Противник вынужден был подтянуть артиллерию.
«Завоеватели» Европы, промаршировавшие с музыкой по Парижу и другим городам западных стран, в небольшом пограничном советском городке Науместисе столкнулись с неожиданным для них сопротивлением.
Щеголеватый немецкий офицер в лайковых перчатках, поглядывая на здание штаба комендатуры, показал на пальцах расчету противотанкового орудия: три снаряда, — и небольшой двухэтажный кирпичный дом окутался дымом. Вражеская колонна двинулась вперед.
Немецкий майор ехал по улице в открытом «опель-капитане». Покуривая сигарету, он рассматривал развернутую на коленях топографическую карту. Внезапно из окон штаба погранкомендатуры вновь ударили пулеметы и автоматы. «Опель-капитан» резко остановился, майор, дернувшись, замер на сиденье, один из трех сопровождавших машину мотоциклов перевернулся. Движение по дороге на Шакяй прекратилось. Немцы оттащили с дороги подбитый автомобиль с трупом майора, подобрали остальных убитых. К дому комендатуры выдвинулся танк. Первый снаряд попал в крышу дома, второй — в окно. Пограничники во главе с капитаном Бединым продолжали оказывать яростное сопротивление, снова застрочили пулеметы из полуразрушенного домика комендатуры, закрывая немцам путь.
Враг предпринял еще одну атаку. Несколько человек забрались на крыши строений, расположенных рядом со зданием штаба, и оттуда спрыгнули во двор комендатуры. Началась рукопашная схватка. Здоровенный фашист железными объятиями стиснул старшего сержанта Быкова, пытаясь захватить его в плен; Быков изо всех сил ударил фашиста ногой в пах; тот охнул, скрючился, расслабил руки. Этого старшему сержанту было достаточно, чтобы выхватить из ножен кинжал и вонзить его в живот гитлеровца. Сзади на Быкова набросился другой гитлеровец и начал душить. Подскочивший на помощь боец ударом приклада автомата уложил врага, но и сам упал, сраженный пулей.
Кольцо окружения вокруг комендатуры сжималось все теснее. Капитан Бедин с небольшой группой пограничников забаррикадировался в здании штаба. «Рус, сохраним жизнь, прекрати огонь!» — вопил один из гитлеровцев на ломаном русском языке.
— Слышите, что предлагают? — обратился к бойцам Бедин. — Изменить Родине и ждать милости от фашистов. Не дождутся, гады! — И с ожесточением нажал на пулеметную гашетку…
Третий час шел бой в Науместисе, когда машина с семьями пограничников, отъехав километров пять, сломалась и стала на опушке леса Котовщизна. Солнце палило нещадно, дети в один голос просили пить, но ни у кого не оказалось воды. Шофер отдал свой котелок, однако никто из эвакуирующихся не решился пойти на поиски ручья: грохот боя приближался к лесу и машина могла умчаться в любую секунду. Со стороны заставы показалась группа пограничников. Это Василий Губкин со своими бойцами спешил на помощь капитану Бедину. Задержались у машины лишь на несколько секунд — напоили из своих фляжек детей и побежали дальше. Василий успел обменяться с Алевтиной несколькими фразами.
В семь часов утра немцам удалось ворваться в первый этаж здания штаба комендатуры. Немногие оставшиеся в живых бойцы Бедина заняли круговую оборону на втором этаже. Бедин торопливо сжигал последние документы. В комнату вбежал начальник разведки лейтенант Арцишевский:
— Товарищ капитан, немцы поднесли с тыльной стороны здания ящик со взрывчаткой, тянут провода…
Старший лейтенант Василий Губкин с шестью бойцами, вооруженными двумя ручными пулеметами и карабинами, пытался пробиться к штабу комендатуры. Мысль о том, что совсем рядом гибнут товарищи, не давала покоя Василию. Немцы заметили группу Губкина и открыли артиллерийский огонь. С трудом пограничникам удалось добраться до опушки леса. И в это время раздался оглушительный взрыв; над медленно оседавшим зданием комендатуры поднялся столб дыма…
Бойцы и командиры погранкомендатуры капитана Бедина ценою жизни задержали продвижение врага в глубь советской территории на четыре часа — четыре часа, положивших начало краху плана «Барбаросса», рассчитанного на достижение победы над Советским Союзом за шесть — восемь недель.
Подобных застав, мужественно отражавших вероломный удар противника, были десятки, и каждая из них внесла свой неоценимый вклад в общую копилку победы, той победы, которая была невообразимо далека от этого кровавого июньского утра…
Немцы некоторое время вели неприцельный огонь по лесу, а Губкин со своими бойцами пробирался к шоссе, ведущему на Каунас. Пройдя около километра, они сквозь просвет деревьев увидели на поляне остовы сгоревших немецких танков, а метрах в трехстах — наши разбитые орудия. Фашисты, обойдя заставу с флангов, наткнулись на наши артиллерийские позиции.
Пограничникам навстречу вышел капитан-артиллерист в разорванной гимнастерке, весь в пороховой гари. Он обрадовался, увидев старшего лейтенанта, и показал рукой на видневшиеся в полукилометре немецкие танки, не обгоревшие и, похоже, не подбитые, но неподвижные.
— У немцев кончились снаряды, но они не знают, что у нас тоже снаряды на исходе, — сказал капитан. — При нас Знамя части. Мы можем погибнуть, но Знамя не должно попасть к врагу!
— Товарищ капитан, приказывайте. Я в вашем распоряжении, — вытянулся по стойке «смирно» Василий Губкин.
— Переподчиняю вам, товарищ старший лейтенант, последнее орудие, оставшееся от дивизиона. Отдаю все, что есть, вот еще ящик со снарядами. Прошу прикрыть нас.
— Есть, прикрыть! Не беспокойтесь, товарищ капитан, на помощь нам должны скоро подойти части 184-й стрелковой дивизии.
— Я командир отдельного артдивизиона этой самой дивизии, она уже отошла с боями…
Капитан спрыгнул в окоп и быстро расчехлил Знамя части. Опустившись на колено, он поцеловал его и энергичным рывком отделил от древка. Затем сдернул с себя гимнастерку и обмотал тело алым полотнищем…
Грузовик с семьями пограничников проехал по шоссе на Каунас километров семьдесят, когда вдруг завыла сирена и машина, вильнув в сторону, чуть не опрокинулась в кювет. Алевтина со страхом увидела прочертившую над автомашиной красную строчку трассирующих пуль. И в ту же секунду вдоль шоссе низко пронесся самолет. «Мессершмитт» обстрелял автомашину с женщинами и детьми. Грузовик резко затормозил, люди стали выпрыгивать из него. В кузове осталась лишь Алевтина с детьми. Самолет опять с воем пронесся над грузовиком и взмыл ввысь. Пожилая женщина в ужасе закричала из кювета: «Беги! Спасай детей!» В ответ раздался крик, от которого вздрогнули все, кто был рядом. Когда женщина, поборов страх, подбежала к машине и заглянула в кузов, то увидела, что обезумевшая от горя мать сидит, склонившись над сыном, закрывая рукой кровоточащую рану на голове мальчика, и рыдает. Прильнув к матери, испуганно плакала дочь. Женщины помогли Алевтине вместе с дочкой выбраться из машины и вынести мертвого сына. Едва они отбежали, как грузовик охватило пламя.
Алевтина, прижав к себе дочь, бежала вдоль обочины. Вокруг свистели пули, но убитая горем женщина ничего не слышала. Совсем выбившись из сил, упала, не добежав до заросшей кустарником канавы. «Мессершмитт» снова развернулся. Алевтина обмерла от ужаса — самолет пикировал прямо на нее. Только страх потерять последнего ребенка вернул ей самообладание. Она с девочкой на руках бросилась в канаву. Бомба взорвалась где-то невдалеке, их обдало тугой волной. Оглянувшись, Алевтина увидела, как на гребне ближайшего холма высаживаются солдаты с автоматами, в касках незнакомой формы. Она с дочкой кинулась к проходившей мимо машине наших отступающих тыловых подразделений. Передав ребенка в кузов, несчастная женщина хотела вернуться за телом сына, но чьи-то сильные руки втащили ее в отъезжавший грузовик…
Наконец добрались до Каунаса. На станции красноармейцы помогли Алевтине сесть в первый проходивший на Москву поезд. В пути на него тоже налетели вражеские самолеты. Вагоны окутались клубами черного дыма. Грохот взрывов смешался с людскими криками и стонами, черный дым застилал насыпь и вагоны. Алевтина с дочуркой оказались в овраге рядом с железнодорожным полотном. Вдруг вагоны стали дергаться, и поезд медленно двинулся, все с криком бросились его догонять. Каким-то чудом Алевтина вместе с ребенком успела взобраться в один из последних вагонов. Он был переполнен, но люди потеснились, и здесь Алевтина остолбенела — она держала за руку чужого ребенка…
Дальше она ничего не помнила. Очнулась от того, что девочка дула ей в лицо. Сквозь путаницу мыслей Алевтина с ужасом осознала, что в суматохе схватила не своего ребенка. Она не могла уже ни кричать, ни плакать. Лишь голосом, полным отчаяния, повторяла имя мужа, словно звала его: «Вася, Вася…» Чужая девочка робко жалась к ней, с новой силой напоминая о страшной потере. Частые разрывы бомб, стрелы трассирующих пуль, разрезающие небо, и все происходившее за окном вагона Алевтина перестала воспринимать как нечто реальное. Она решила вернуться назад и стала пробираться к выходу. Открывая дверь вагона, внезапно покачнулась… Кто-то успел подхватить ее у самой подножки.
— Гражданка! Очнитесь наконец! Не одной вам тяжело! Сядьте и успокойтесь! — Капитан-пограничник с забинтованной головой с силой тряхнул ее.
Взгляд Алевтины стал осмысленнее. Она посмотрела вниз и увидела, что рядом стоит чужая девочка и не выпускает ее руку. Собрав последние силы, Алевтина обошла все вагоны, но Венерочки своей нигде не нашла.
Вскоре поезд ненадолго остановился на каком-то полустанке. Вокруг была такая тишина, какая бывает только за фронтовой полосой. В тревоге и волнении прошла ночь; обезумевшая от горя Алевтина не сомкнула глаз. Девочка — ее звали Галей — не отходила от нее ни на шаг.
На третьи сутки, в полдень, поезд с эвакуированными женщинами и детьми прибыл в Москву. Галя еле стояла на ногах. Алевтина, взяв ее на руки, спросила:
— Как зовут твою маму?
Девочка в ответ заплакала. Алевтина стала успокаивать несчастного ребенка, хотя у самой сердце разрывалось от боли за судьбу собственной дочурки и мужа.
В эвакопункте ее сочувственно выслушали и выдали проездные документы до Благовещенска, чужого ребенка предложили сдать в детдом. Галя обхватила ручонками шею Алевтины и, рыдая, не отпускала.
— Она останется со мной, — прижав девочку к себе, заявила Алевтина инспектору по делам эвакуированных.
Уже садилось солнце, когда Алевтина с Галей вернулись на Ярославский вокзал. Поезд на Владивосток отошел с опозданием. Уставшая и измученная девочка, засыпая, назвала Алевтину мамой.
Поезд, выбившись из расписания, подолгу стоял на остановках. Алевтина всю ночь напролет проплакала — такая тоска на нее нахлынула, что было впору наложить на себя руки. Из головы не выходил Васин наказ: «Береги детей!»
2
На Дальнем Востоке, в Благовещенске, воскресное утро 22 июня выдалось солнечным, жители города беззаботно отдыхали на берегу прохладного Амура.
На полянке, у речного залива, окруженного соснами, было людно. Среди ярких платьев женщин, белых рубашек мужчин мелькали гимнастерки защитного цвета. Георгий Губкин лежал, раскинув руки, блаженно подставив лицо теплым лучам солнца; перед глазами в голубом прозрачном небе плыли белоснежные кучевые облака. Рядом с ним пристроился двухлетний сын Юрик, что-то сооружая из сосновых шишек. Ася зачерпнула пригоршнями речной воды, на цыпочках подкралась к мужу и, плеснув на него, отбежала в сторону. Георгий вскочил, в несколько прыжков настиг жену, подхватил ее на руки. Ася завизжала, Юрик, испугавшись, закричал: «Мама! Мамочка!» Георгий опустил Асю на землю, Юра успокоился. Внимание Губкиных привлек сигнал остановившейся неподалеку эмки. Из нее вышли подтянутый, стройный мужчина в военной форме и женщина в белом платье. Георгии и Ася узнали в них капитана-артиллериста Константина Петрова и его жену Светлану, которая работала учительницей в одной школе с Губкиным.
Светлана и Ася быстро приготовили закуску, радушно пригласили мужей за стол. Константин, разлив вино, шутливо произнес тост:
— В нашей компании численный перевес на стороне учителей, — кивнул он в сторону Георгия и Светланы, — поднимем бокалы за них, чтобы они и впредь уверенно и бесстрашно несли светоч знания, добра и радости… чтобы вечно бил неиссякаемый родник их мудрости!..
Георгий задумался над словами капитана, почувствовав особую ответственность за своих учеников. Он относился к тем людям, которые постоянно живут надеждами и ожиданиями, и удовлетворение находят в результатах своего труда.
Размышляя о будущем, Георгий не раз задавал себе вопрос, как поступить, если начнется война, какой род войск выбрать. То, что он не останется в стороне, было яснее ясного.
— Послушай, Костя, как ты полагаешь, Япония будет соблюдать договор о нейтралитете или же в удобный момент не посчитается с ним?
Петров круто повернулся к Георгию, подумал и сказал негромко, но твердо:
— Как поступят милитаристские круги Японии, предугадать трудно. Мы готовимся к любым неожиданностям. О том, насколько серьезна обстановка, говорит факт создания Дальневосточного фронта, хотя военных действий нет… Лично я считаю, что нельзя верить словам и обещаниям милитаристов. Все они одним миром мазаны…
— Значит, это только отсрочка, — вздохнул Георгий.
Обнаружив, что мужчины слишком уж увлеклись своими разговорами, Ася поднялась и стала перед ними отбивать плясовую. Константин и Георгий вынуждены были покориться натиску женщины: с удалым присвистом пустились вприсядку.
Военные и учителя, составив одну компанию, еще не подозревали, что это последние минуты их мирной жизни, что на западной границе уже рвутся вражеские бомбы и льется людская кровь… Георгий редко видел жену такой веселой. А его самого почему-то мучила непонятная тревога.
В самый разгар веселья к капитану Петрову подбежал боец с карабином и противогазной сумкой на боку. Приложив руку к пилотке, он срывающимся голосом доложил:
— Война, товарищ капитан, с фашистской Германией!
Ася схватила на руки сына, тревожно и вопросительно посмотрела на Георгия. Все вокруг замерли. Не хотелось верить, что все, чем они жили до сегодняшнего дня, все их радости, повседневные заботы, планы рухнули. Раньше о войне говорилось немало, считалось, что главный враг — Япония, но война пришла не с востока, а с запада.
Словно перед бурей, вдруг засуетились люди, в один миг собрали свои вещи. Взревели моторы машин и автобусов. Поляна опустела.
Ася, прижавшись к мужу, плакала:
— Что теперь будет?.. Такая война!..
— Завтра я пойду в военкомат, — сказал Георгий как о давно и хорошо обдуманном решении. — Брат Василий уже воюет, и я не могу быть в стороне.
— А как же мы? — залилась слезами Ася.
— Мои тебе во всем помогут: и брат Михаил, и отец с матерью. В беде не оставят. Да и война продлится недолго…
Всю ночь Георгий не сомкнул глаз. Лежал не шелохнувшись, чтобы не разбудить жену, стараясь представить, что ждет его впереди.
На следующее утро Георгий торопливо шагал по благовещенским улицам в военкомат. Внешне все было вроде бы прежним, но в глаза бросалась озабоченность и молчаливость людей. Черная тень войны уже задела своим крылом город.
В военкомате толпился народ, разноголосый шум время от времени прерывал начальственный окрик: «Тише, товарищи!» Дождавшись своей очереди, Георгий подал дежурному листок с просьбой направить его на фронт.
— Какая у вас военная специальность? — спросил дежурный, прочитав заявление.
— Я хорошо стреляю из винтовки, закончил полный курс Осоавиахима.
— Кроме умения метко стрелять необходимо многое другое. Пошлем вас в училище. Срок обучения, наверное, будет сокращенный. Согласны?
— Что нужно получиться, согласен, но это я с успехом сделаю и в боевых условиях. Я прошусь на фронт, а не в училище.
— У вас незаконченное высшее образование, вы сможете учить солдатской науке бойцов. А это в настоящее время не менее важно. Подумайте. Скоро мы вас вызовем…
В конце июля Георгий получил повестку. Накануне отъезда он зашел проститься к старшему брату Михаилу, тот работал заместителем директора областной партийной школы.
— Вот и тебе вслед за Василием выпала доля защищать Родину, — сказал Михаил. — Прошусь и я на фронт, но пока не отпускают. За Асю и сына не беспокойся, все будет в порядке. Пиши почаще — сам понимаешь, как дорога весточка оттуда… Вот о Василии нет никаких сведений, вся душа изболелась, а о матери с отцом и говорить не приходится.
— Застава Василия на границе с Восточной Пруссией. В том направлении, если судить по сводкам Совинформбюро, сражения идут самые ожесточенные, и Василию не до писем, — ответил Георгий.
Михаил согласно кивнул, но обеспокоенность в глазах оставалась.
Михаил, Ася и Юра провожали Георгия от военкомата до вокзала. Колонна новобранцев, окруженная плотным кольцом родных, медленно продвигалась по улицам Благовещенска. Строй давно уже шел не в ногу, и Георгий непрестанно крутил головой, стараясь не выпустить из виду Асю с Юрием и Михаила. Так дошли до привокзальной площади, и здесь раздалась команда: «Разойдись!»
Георгий бросился к жене. Никто еще толком не знал, сколько времени отпущено на прощание с родными, поэтому все торопились сказать главное. Георгий взял Юру на руки. Ася сквозь слезы твердила одно и то же: «Береги себя, береги ради детей!»
— Асенька, на войне всякое бывает, — на какой-то миг Георгий будто заглянул в будущее, — ты должна вырастить сына!
Губкин, сам того не желая, проговорился, и Асю будто током ударило, ей стало не по себе.
— Георгий! — вскрикнула она, потрясенная его словами. — Мальчику нужен отец, девочке — мать! — Она обхватила его, прижалась что было сил и тихо сказала: — У нас будет второй ребенок.
Он ласково обнял жену. В это время ударил колокол, его раскатистый звон словно заглушил все звуки вокруг. Ася хотела что-то сказать на прощание, но спазмы сдавили горло. Губкин на ходу прыгнул на подножку вагона.
— Георгий! Возвращайся! — закричала Ася изо всех сил.
В отчаянии, с ребенком на руках, она побежала вдоль вагонов, умоляющим взглядом провожая мужа. По ее щекам безудержно текли слезы. Маленький Юра всхлипывал, глядя на мать. Платок с ее головы сполз на шею, растрепанные волосы закрыли лицо, искаженное гримасой невыразимого ужаса.
Губкин, высунувшись из вагона, долго смотрел, как удалялись, становясь все меньше и меньше, фигурки жены и сынишки…
Ася часто получала письма от мужа. В них Георгий писал, что скучает по ней и сыну, что его учеба в Хабаровском пехотном училище идет успешно.
К ноябрьским праздникам Георгий прислал свою фотокарточку в курсантской форме. «Как видишь, родная, форма мне идет…» — писал он. И ни единого намека, как трудно ему дается армейская служба, как валится он с ног после очередного двадцатикилометрового марш-броска, как болят и ноют натруженные руки, которыми приходится отрывать не одну сотню метров окопов.
К своему удивлению, Георгий довольно быстро втянулся в строгий армейский распорядок, окреп физически. Он хорошо освоил стрельбу из пулемета по всем целям, неподвижным и движущимся, на «отлично» сдал теорию стрельбы. Тактические учения пришлись на суровую пору — позднюю осень и зиму — и были по своим условиям максимально приближены к боевым, не прекращались в грязь и слякоть. Георгий овладел и этой наукой.
Перед Новым годом он получил от матери письмо. Нетерпеливо вскрыл конверт, там оказалось несколько листов, исписанных незнакомым почерком; поверх листков лежал клочок оберточной бумаги, на котором мать химическим карандашом написала:
«Милый сынок, у нас в доме и радость и горе. Сама я не в силах пересказать тебе то, что пришлось пережить Алевтине, кровь стынет в жилах от ее рассказов. Она долго отказывалась, но потом согласилась послать тебе письмо… Ася разрешится весной, жди прибавления семейства. Отец и я целуем тебя и желаем быть в добром здравии».
Пробежав глазами письмо матери, Георгий не мог сразу решиться читать то, что написала Алевтина. Он представлял, что она пережила. Наконец собрался с духом и расправил сложенные вчетверо листы.
Письмо Алевтины заканчивалось словами:
«…Извините, Георгий, писать больше нет сил, и я прощаюсь с Вами. Если будете на фронте, отомстите за нашу поломанную жизнь, за страдания всех женщин и детей, перенесших ужасы и боль потерь».
Георгий был потрясен исповедью Алевтины, война впервые перед ним открылась с такой беспощадной жестокостью, какой он не представлял. Его душу глубоко ранила трагедия Алевтины. Друзья-курсанты заметили перемену настроения Георгия, стали участливо расспрашивать его. Замкнутый и сдержанный по натуре, Георгий на этот раз изменил своему правилу. Срывающимся голосом он рассказал ребятам о судьбе брата и его семьи. Посуровели, гневом и ненавистью наполнились лица товарищей.
— Они сполна заплатят нам за свои зверства, — проговорил земляк Губкина, сжимая кулаки.
В училище, как и повсюду, в минуты отдыха шли споры о положении на фронте; все верили, что в скором времени ход войны изменится. Особенно радовались сообщениям о разгроме немцев под Москвой, Тихвином и Ростовом. Курсанты дотошно изучали сводки Совинформбюро, ревниво отыскивая сообщения, в которых рассказывалось о подвигах дальневосточников и сибиряков. Перелом, наступивший на фронте, отозвался в сердце Георгия нетерпеливым желанием поскорее попасть на передовую. Он подгонял время, которое и без того летело неудержимо, от подъема и до отбоя каждая минута была на счету. Незаметно наступила весна, все чаще проводились учения с боевой стрельбой, по всему чувствовалось: скоро экзамены, скоро расставание с училищем…
В день выпуска курсанты торжественным маршем под музыку духового оркестра в последний раз прошли по плацу. После строевого смотра в актовом зале был зачитан приказ о присвоении воинских званий.
У Георгия была двойная радость: он получил телеграмму, что Ася родила девочку, а в петлицах его гимнастерки рубиново поблескивали лейтенантские кубари. «Хотя бы раз взглянуть на дочку», — мечтал он, но отпуска были запрещены, и Георгия печалило, что он не знает, когда сможет приласкать Юрика, подержать на руках дочурку.
5 мая 1942 года Георгий явился в штаб отдельной Краснознаменной армии, оттуда получил направление в первый батальон 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии.
Свое первое занятие командир пулеметного взвода лейтенант Губкин начал с рассказа о достоинствах пулемета «максим» в умелых руках воина. В пример привел Анку из кинофильма «Чапаев» и отважного пулеметчика, который под Москвой отбил атаку гитлеровцев силой до пехотной роты. Бойцы внимательно выслушали рассказ своего командира, и у многих сложилось мнение, что «максим» — грозное оружие, которым только необходимо умело владеть.
Одни тактические занятия сменялись другими. Но от наблюдательного Губкина не ускользнуло, что бойцы все еще настороженно присматриваются к нему. Вспомнились молодому лейтенанту напутственные слова комиссара училища:
«Ваша служба будет успешной, а вы сами будете избавлены от многих ошибок, если с самых первых дней поставите перед собой задачу: досконально изучить личный состав своего взвода, роты. Задача эта неимоверно трудная, и для вас она осложняется тем, что у вас нет прочных навыков работы с бойцами. Не стесняйтесь, обращайтесь за советом к своим командирам, политрукам. Только усвоив их опыт, вы сможете делать самостоятельные шаги. Если вы будете знать своих бойцов, как знает мать своих детей, их привычки, особенности характера, то бойцы станут понимать вас с полуслова, на лету ловить приказ. И тогда вы увидите, на что они способны».
Георгий напряженно разглядывал бойцов, стоявших в строю. По давней учительской привычке, он быстро запомнил их фамилии, лица. Понимал, что первые дни во многом определят, как дальше сложится их совместная служба.
Боец Ахметов, второй номер пулеметного расчета, на очередных тактических занятиях поленился отрыть окоп полного профиля. Губкин спрыгнул в окоп, осмотрел его и, заметив, что бойцы наблюдают за своим командиром, громко сказал:
— Представьте себе, что на ваш окоп наваливается вражеский танк. Как вы думаете, выдержат его стены и останется ли место для вас?
Ахметов пожал плечами:
— Вряд ли…
— То-то, — укоризненно произнес Губкин. — Малость поленились довести окоп до полного профиля и тем самым поставили под угрозу себя и своих товарищей. Я не раз спрашивал фронтовиков, что главное для солдата в бою, и все они отвечали: умение выбрать позицию и оборудовать ее. Земля-матушка спасает солдата и от пуль, и от снарядов, и от бомб, и от осколков. В хорошем окопе ему не страшны ни танк, ни осколки вражеских снарядов. Вот и выходит, товарищ Ахметов, что окоп — это тоже оружие солдата, его броня. А вы этого не хотите понять. Здесь, на учениях, еще можно исправить любой промах, а на фронте за него придется расплачиваться кровью.
Смуглое лицо Ахметова покрылось румянцем, он опустил голову и упорно смотрел на свои вымазанные в глине сапоги.
— Все ясно, товарищ лейтенант, — сказал боец негромко. — Через час можете снова проверить мой окоп, все будет по уставу.
— А кем вы работали до армии, товарищ Ахметов? — поинтересовался Губкин. Ему захотелось проверить свое предположение.
— Плановиком, — ответил тот.
— Приблизительно так я и думал, — усмехнулся лейтенант. — Понаблюдав, как вы орудуете лопатой, понял, что вы человек городской, сидели где-нибудь в конторе. И с лопатой поближе познакомились только здесь, в армии. По секрету скажу вам: инструмент этот для солдата так же важен, как и алюминиевая ложка, что торчит у вас за голенищем.
Бойцы, находившиеся поблизости, засмеялись, увидев, как вытянулось лицо Ахметова.
Всю вторую половину мая полк усиленно занимался боевой подготовкой, одна тревога сменяла другую. По тому, как служба тыла начали исподволь готовиться в дорогу, Губкин сделал вывод: вот-вот поступит приказ об отправке на фронт, недаром так придирчиво анализируются итоги учений, вновь и вновь приходится отрабатывать то форсирование водных преград, то бой за высоту, то отражение танковой атаки.
Однажды ночью взводу Губкина была поставлена задача: в полном боевом снаряжении совершить пятнадцатикилометровый марш-бросок, занять круговую оборону на высоте Горбатой с отметкой «80». Третья рота получила приказ штурмом взять эту высоту.
Губкин волновался: впервые он вел взвод ночью по незнакомому маршруту, притом в отрыве от своей роты. Майская ночь была на удивление темной, сначала моросил дождь, потом налетел шквалистый ветер, который в Приморье называют братом тайфунов. Дождь усилился, струи резко били в лицо, слепили глаза. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Как ни напрягал зрение Губкин, за плотной сеткой дождя он не различал ни одного ориентира. Часто приходилось останавливаться и, включив фонарик, сверять азимут. Фигуры бойцов растворились в темноте. Дальше протянутой руки ничего не было видно. Впереди и сзади шли самые крепкие ребята, но время от времени Губкин делал перекличку: боялся, что кто-нибудь отстанет. То один, то другой боец останавливался, судорожно хватая воздух широко открытым ртом.
До высоты оставалось чуть больше двух километров, но люди уже смертельно устали, а предстояло преодолеть самый сложный участок пути. Сильно пересеченная местность окончательно вымотала бойцов. Только Георгий собрался скомандовать: «Привал!», как неожиданно ничком упал красноармеец Глушковский. Он глухо застонал и не сделал попытки подняться. Губкин бросился к нему, перевернул на спину, торопливо расстегнул ворот гимнастерки.
— Что с тобой, Глушковский? — с участием и тревогой спросил командир, освещая фонариком лицо бойца.
— Совсем выдохся, — хрипло отозвался тот. — Так ведь и концы отдать недолго. И кому только нужны эти ночные марши?! — выкрикнул он с нескрываемой злостью.
— Набирайтесь сил, Глушковский, — словно не слыша его сварливого голоса, сказал Губкин, — а о необходимости ночных маршей мы поговорим на досуге. Разговор такой, как я вижу, нужен. Ахметов, возьмите шефство над Глушковский, — распорядился Губкин и скомандовал: — Получасовой привал.
Бойцы сбросили снаряжение и привалились к мокрым стволам деревьев, в темноте светлячками замигали огоньки козьих ножек, кто-то, чертыхаясь, переобувался. И хотя у Георгия подкашивались ноги, он не позволил себе расслабиться, подходил то к одному бойцу, то к другому. Полчаса пролетели как один миг, и снова взвод в пути. Серело небо на востоке, рассвет боролся с темнотой, и она нехотя отступала, цепляясь за низины и кустарники.
Все тревожнее становилось на душе у взводного: по времени они уже должны были подойти к высоте, а она все не показывалась. Губкин отгонял от себя мысль, что заблудился и вышел не туда, куда нужно. Опыт таежного жителя подсказывал ему, что взвод идет правильно. Прошли еще несколько сот метров, и послышался радостный крик сержанта Еремеева:
— Вижу Горбатую!
«Наверное, магеллановские матросы так кричали, увидев землю», — усмехнулся Георгий и невольно прибавил шаг.
После короткого отдыха взвод принялся окапываться. Губкин придирчиво осматривал позиции, шутками подбадривал бойцов. Время от времени он нетерпеливо поглядывал на часы: пора бы «противнику» начать атаку Горбатой, но разведчики, высланные вперед, никаких сигналов не подавали. Губкин поначалу утешал себя мыслью, что противоборствующая рота сильно опоздала, однако время все шло, а «противник» не подавал признаков жизни, и в Губкине с каждой минутой росло чувство досады. Связи с батальоном не было, и взводный попросту не знал, что предпринять в такой ситуации. Он с облегчением вздохнул, когда в полдень на высоту верхом на лошади прискакал ротный и, выслушав доклад Губкина, приказал взводу вернуться в лагерь. Уже на марше ротный объяснил:
— Когда ваш взвод покинул лагерь, а третья рота готовилась выступать, обрушился такой ураган, что командир батальона вынужден был отменить учения. Вот такая получилась неувязка, со стихией не поспоришь…
Возвращались в лагерь с песней. Сержант Еремеев, взводный запевала, сильным баритоном начинал:
Губкин тоже пел и с гордостью думал, что его подчиненные проявили себя достойно, ночной марш-бросок совершен. Бойцы не подкачали, даже Глушковский старался изо всех сил, хотя чувствовалось: устал он больше других; видно, в семье рос маменькиным сынком. Вскоре на привале в этом убедились и его товарищи.
— А мы понапрасну протопали тридцать километров с гаком, — сетовал Глушковский, — все наши труды на высоте пошли кобыле под хвост!..
— Ошибаетесь, товарищ Глушковский, — вмешался в спор командир взвода. — Учение не состоялось, это верно, но польза от марш-броска огромная. Во-первых, мы доказали, что непогода нам нипочем, а во-вторых, ночной марш крепче сплотил нас — вспомните, как выручали ребята друг друга, как помогали вам. И в-третьих, прибавил всем нам выносливости. А качество это одно из основных в характере бойца. Мои слова, кажется, не убедили вас? — напрямик спросил лейтенант, видя скептическую ухмылку на лице бойца.
Глушковский без застенчивости ответил:
— Вам положено такие слова говорить.
Лейтенант пристально посмотрел на рядового Глушковского, хотел возразить, но убедительных аргументов в защиту своих доводов не нашел и, махнув рукой, раздраженно скомандовал:
— Становись!
Взвод зашагал по знакомой дороге… Весь остаток пути Губкин думал над тем, как ему подступиться к Глушковскому, с чего начать разговор с ним, чтобы тот его понял.
Утром Георгия прямо с занятий неожиданно вызвали к комиссару батальона.
— Товарищ лейтенант, жалуются на вас бойцы, — сурово начал разговор старший политрук Харламов.
— В моем понимании армия — не институт благородных девиц, боец должен привыкнуть к тяжести солдатского труда. Трудно в учении, легко в бою, так учил Суворов, — убежденно ответил Губкин, догадавшись, кто мог пожаловаться на него. У Георгия и без того было тяжело на душе. Накануне он получил письмо от матери, где она писала, что из военного комиссариата официально сообщили: Василий пропал без вести…
— Все это так, — согласился Харламов. — Но искусство командовать не только в умении отдавать приказ и требовать его исполнения, а прежде всего в умении поднять сознательность бойца, его моральный дух, чтобы он осмысленно выполнял вашу волю. В нашей Красной Армии основной метод воспитания — убеждение, а не принуждение.
Долго еще Губкин размышлял потом о разговоре с комиссаром батальона. «Нет, товарищ старший политрук, — мысленно возражал он Харламову, — без суровой командирской требовательности, стойкости и решительности одним убеждением в этой войне вряд ли победишь».
Губкин думал, что разговор с комиссаром на этом не закончится и что он еще вызовет его. Но вскоре текущие дела были отодвинуты на второй план. Дивизия получила приказ грузиться в эшелоны и двигаться на запад. Началась предотъездная суматошная жизнь. Одна за другой на станцию Уссурийск с песнями прибывали колонны бойцов, звучали бодрые марши духовых оркестров.
Эшелон за эшелоном четко по графику уходил на запад. Георгий послал матери и Асе телеграмму: «Одиннадцатого буду на станции Белогорск» — и теперь подсчитывал часы, оставшиеся до встречи. Почти год он не видел жену, Юрика, дочурку же впервые возьмет на руки.
На одной из редких остановок сержант Еремеев (он стал помощником командира взвода) принес из штабного вагона полную пилотку черных пластмассовых медальонов.
— А ну, братва, налетай! — с напускным оживлением крикнул он. — На бумажке напишите адрес семьи или близких и вложите в медальон.
Бойцы с любопытством потянулись за медальонами. Пилотка быстро опустела, и Еремеев собрался было натянуть ее на голову, когда заметил на дне оставшийся медальон.
— Кто еще не взял? Что за охотник выискался попасть в число без вести пропавших? — спросил он, обводя всех строгим взглядом. Бойцы молча заговорщически переглянулись. Что-то они знали, чего не знал сержант.
Губкин недоуменно спросил:
— Еремеев, что случилось?
Сержант ухмыльнулся и весело ответил:
— Это вы, товарищ лейтенант, намерены перехитрить смерть…
— Точно, — засмеялся Губкин. — Потому и не признал свой медальон. На войне военная хитрость — первейшее оружие.
— Судьбу свою ни обойдешь, ни объедешь, — не согласился Глушковский. — Что кому на роду написано, тому и быть. Наверное, слышали такую народную мудрость?
— Слышал. Только зря вы ставите свою жизнь в зависимость от какой-то предопределенности. Наверное, Глушковский, страх поселился в вашей душе, как только вы надели красноармейскую форму…
— Только покойники ничего не боятся, — с вызовом проговорил Глушковский и исподлобья посмотрел на лейтенанта. — На войну едем, а не к теще на блины. За прошлую ночь я насчитал три встречных эшелона с ранеными. И другие так же думают, только смелости признаться в этом не хватает.
— Ты за других не распинайся, — резко перебил Глушковского Еремеев. — Тебе лишь себя жалко, и думаешь ты только о себе, потому и трясешься, как овечий хвост.
— Посмотрим, как ты на передовой себя покажешь, — обозленно огрызнулся Глушковский…
Губкин понял, что, делая упор на боевую подготовку, упустил важный момент в воспитании бойцов. Глушковский в самом деле трусит, значит, он психологически не готов к боям. Хорошо, что выявилось это не в боевой обстановке.
— Так вот что скажу тебе, Глушковский, и ты это, пожалуйста, запомни: с товарищами всегда нужно быть откровенным. Потому что взаимовыручка в бою основана на солдатской дружбе. Слов нет, когда видишь санитарные эшелоны, тяжело становится на душе. Но если боец замкнется в себе, даст волю мрачным мыслям, то от него нельзя ждать стойкости. Я слушал ваш спор и думал, что храбрость бывает разная, недаром существует несколько ее названий — отвага, смелость, мужество. И проявляется она у каждого по-своему. В основе храбрости лежит чувство долга, презрение к смерти. Помните, как у Суворова: «Побеждает тот, кто не жалеет себя в бою». Или: «Истинно храбр тот, кто воюет смекалисто, с умом и помнит о товарищах своих». И еще: «Время дороже всего: первым увидеть — значит победить».
— Товарищ лейтенант, — подал голос Еремеев, — вы, говорят, в школе историю вели. Расскажите нам поподробнее о жизни Суворова, Кутузова и других полководцев. Дорога-то длинная!
Бойцы оживленно загомонили. Губкин смотрел то на одного, то на другого, радостно отмечая, что неожиданно для самого себя задел в их душе какую-то очень важную струну. В заключение он им напутственно сказал:
— Наступление ведется под прикрытием артиллерийского огня, по врагу выпускается масса снарядов, но не всегда удается полностью подавить его огневые точки, а вот воронок остается много, поэтому задача станковых пулеметчиков умело воспользоваться ими как укрытиями от огня противника во время перебежек и смены огневых позиций.
— Это в наступлении, а в обороне? — кто-то из бойцов перебил командира взвода.
— В обороне имеются свои тонкости. Надо во что бы то ни стало удержаться в своем окопе, не срываться из него от страха. Как только покинете окопы, считайте, что вам крышка. Вражеские танки оставят мокрое место на голой земле. И еще очень важно в боевом охранении не смыкать глаз. Заснете — в два счета подведете своих товарищей!..
Ночью в вагоне наступило относительное затишье, нарушаемое лишь перестуком колос. У Губкина из головы не выходил Глушковский. Как он покажет себя в деле, в боевой обстановке? Кто знает, может, не хуже других воевать станет. Но пока он не внушал доверия и казался не таким, как все. Хитрость сквозила в его лице, когда он улыбался, щуря глаза и обнажая острые зубы. И даже улыбался он как-то пренебрежительно. Со стороны было заметно, что он недолюбливает помощника командира взвода сержанта Еремеева, говорившего немного по-деревенски. В душе Глушковский кичился тем, что призван со второго курса института. И Еремеев, видать, не зря называл его студентом, часто назначал в наряд на самые грязные работы.
Время и обстоятельства оказывают на человека существенное влияние, рассуждал Губкин, взять хотя бы Ахметова, парня как будто подменили, стал собранным, исполнительным. И так командир взвода долго перебирал в памяти каждого бойца из своего взвода. Ни один из них не был похож на другого. У всех были свои причуды. На что уж сержант Еремеев, человек мужественный, с жизненным опытом, а вот одолеет ли немецкого фельдфебеля, еще неизвестно. Впрочем, что их ожидает, Губкин и сам толком не представлял. Может быть, это даже к лучшему. Когда он слушал рассказ командира, вернувшегося с фронта в училище после ранения, его самого охватывал леденящий душу страх. Ужасала мысль, что он может не выжить даже после первого боя, погибнуть, так ни разу и не увидев дочурку.
Литерный эшелон мало где останавливался, на остановках к вагонам подходили женщины, с надеждой в голосе окликали бойцов, называли фамилии. Услышав «Нет таких», с потухшими глазами отходили к следующему вагону. По их лицам было видно, что не один день они высматривают своих сыновей, братьев, мужей. «Вот и мои, наверное, так же ищут меня», — подумал Георгий. Он стоял у настежь раскрытых дверей вагона и с грустью смотрел на знакомые места. С каждым километром паровоз приближал его к Белогорску, волнение все сильнее охватывало Губкина. Вот показался вдоль и поперек исхоженный лес, вплотную подступивший к станции, мелькнула старая водокачка. Вагон сильно качнуло на входных стрелках, Георгий едва удержался на ногах. Он высунулся из дверей и наметанным глазом определил, что эшелон остановится на вторых путях между двумя товарняками. Как только состав, звякнув буферами, замер, Георгий выпрыгнул из вагона. Не жалея новенькой гимнастерки, которую надел по случаю встречи с родными, Георгий нырнул под грязный товарняк и бегом кинулся к вокзалу. Залитый солнцем перрон был заполнен людьми. Вскоре товарняк тронулся с места, и толпа хлынула навстречу Георгию. Он скользил цепким взглядом по чужим лицам, но ни Аси, ни матери не видел. И мгновенно отяжелели ноги, в душу хлынула пустота, все стало безразличным.
«Видно, не получили моей телеграммы», — решил Георгий. Ему вспомнилось, как мать провожала его отсюда на курсы учителей в Хабаровск. Тогда было не так людно, но на душе была горечь, как и сейчас. Тогда — от разлуки с матерью, сейчас — от несостоявшейся встречи с семьей. Сколько бессонных ночей мечтал он об этом дне! Чувствовал: бойцы взвода завидуют ему, что посчастливится увидеть семью. А вышло все не так…
Георгий повернулся и удрученно зашагал к своему эшелону. Вдруг издалека донесся знакомый, такой родной и милый голос:
— Сынок! Сынок!
Губкин резко обернулся и увидел спешившую к нему мать. И будто крылья выросли у него и метнули навстречу матери. Евдокия Тимофеевна, глотая слезы, торопливо говорила:
— Вторые сутки здесь, уж думала, пропустила. Ася только утром уехала, из-за грудного ребенка не могла больше ждать. Вот горе-то какое, сынок! И проститься по-людски война проклятая не дает! Ты напиши ей письмо с дороги. Твое слово ей очень дорого.
— Я понимаю, мама, — сказал Георгий. — Асе сейчас очень тяжело… Мне до слез обидно, что не пришлось повидаться с детьми. Поцелуй их за меня, почаще наведывайся к ним…
— Асе удалось с августа устроить их в ясли, — сообщила приятную новость мать.
— А почему отец не приехал? — спросил Георгий. — Я ждал вас всех, надеялся, что и Михаил здесь будет.
— Ни отцу, ни Михаилу отлучиться нельзя. Отец работает с рассвета до поздней ночи. Как придет домой, так пластом валится, устает очень. Михаил теперь председатель колхоза, забот у него много. В колхозе одни бабы да старики, лошадей нет, какие были трактора да машины — все на фронт отправили. А пахать, сеять, убирать урожай надо. Людей нехватка, вот и крутится Михаил день-деньской в заботах и хлопотах. В мае — июне почему-то похоронок много стало приходить, и не только в нашу Семидомку, а и в другие села. Бабы почтаря бояться стали хуже лешего. Как появится, знай — беда пришла.
— Бои тяжелые идут на юге, — сказал Георгий и спохватился: не нужно было это говорить матери. Словно подслушав его мысли, та залилась слезами:
— Значит, везут вас в самое пекло?! Может, я тебя в последний раз вижу. Васеньку забрала война, не дай бог, тебя теперь…
У Георгия защипало глаза. Чтобы скрыть свою слабость, он низко нагнул голову, не знал, как утешить мать. Да и можно ли было ее утешить?
— Перестань, не надо раньше времени слезы лить, — сказал он глухо. — Ты лучше расскажи, как живут сестры, как устроилась Алевтина.
— И то правда, сынок, слезами горю не поможешь. Только сердце материнское так устроено, что не может оно без слез пережить ни радость, ни беду… Сестры тебе кланяются. Алевтина просила передать отдельно свой поклон. К Гале так привыкла, признает ее за родную и очень боится, что отыщутся родители и заберут девочку. По правде говоря, в себя Алевтина вряд ли придет. Прошло больше года, а она до сих пор заговаривается, послушаешь — волосы дыбом становятся. Васенька-то, наверное, в плен попал, — на глаза Евдокии Тимофеевны снова набежали слезы.
— Нет, мама, Василий не из таких! — твердо сказал Георгий. — Пограничники в плен не сдавались.
— А если ранен, беспомощен был? — спросила Евдокия Тимофеевна. — Разговаривала я здесь, пока тебя ждала, с ранеными из санитарного эшелона. Так они говорят, на войне всякое бывает…
— Именно поэтому я и надеюсь на то, что Василий жив и мы еще получим весточку от него…
— Может, на фронте бог даст вам свидеться! — высказала мать свою затаенную мечту. — Послушаешь людей, какие только истории не рассказывают…
Георгий не стал разубеждать мать, ему не хотелось в эти минуты огорчать ее. Он прижал ее седую голову к своей груди и ласково гладил.
— Что же ты мне не говоришь, как выглядит моя доченька? На меня похожа или больше на Асю?..
Евдокия Тимофеевна не успела ответить, сипло прогудел гудок паровоза, толпа загомонила, к эшелону с разных концов устремились бойцы.
Евдокия Тимофеевна отстранила от себя сына, пристально поглядела ему в лицо, троекратно поцеловала и легонько дотронулась до плеча:
— Пора, сынок, поезд уже пошел. — Она протянула Георгию аккуратный сверток: — Это тебе на дорогу…
Георгий обнял мать, подхватил сверток и бросился догонять медленно уползавший состав. Уже на бегу крикнул:
— Мама, обязательно съезди к Асе! Сегодня же! Поцелуй детей! Скажи ей, что я вернусь!
Губкин стоял у раскрытых дверей вагона, жадно вглядываясь и стараясь запомнить мать: старенькую, чуть сгорбленную, любящую его больше всего на свете. Что бы с ним ни случилось, она все равно будет его ждать, как и брата. И, думая о матери, он поймал себя на мысли: а придется ли ему еще вернуться в эти дорогие сердцу места?
Евдокия Тимофеевна давно уже скрылась из виду, а Георгий все смотрел и смотрел туда, где мелькал ее платок. Далеко позади осталась станция. Из-за березового лесочка вынырнула грунтовая дорога и запетляла по зеленому косогору. Десять лет назад он ехал по ней с матерью в весеннюю распутицу жить к брату Михаилу. Тогда он впервые увидел железную дорогу, впервые попал в город. Не легко было матери решиться на такое, но иного выхода не было: семья большая, шестеро детей, работал только отец. Брат заменил Георгию отца. Но временами накатывала тоска по дому. Как ни хорошо было у брата, а с матерью лучше: она и пожалеет, и поласкает. Он скучал по материнской ласке. Всякий раз с нетерпением ожидал летних каникул, встречи с Семидомкой, с братом Василием, который был всего на три года старше его. Их многое связывало. Бывало, проказничали вместе, а когда получали нагоняй от отца, то Василий всю вину брал на себя. У Георгия не было более близкого друга, чем брат. Последние два года перед войной они не виделись. Прошлым летом Василий хотел приехать в отпуск, но не мог — его назначили начальником погранзаставы. И кто теперь знает, суждено ли им когда-нибудь увидеться…
После Белогорска в вагоне не было привычного шума, громких разговоров. Бойцы чувствовали, как переживает командир взвода. Каждый старался не потревожить лейтенанта. Незаметно сгустились сумерки, а Георгий все еще стоял у распахнутых дверей. Мимо проносились телеграфные столбы, из паровозной трубы летели снопами искры, мелкие кусочки угольной пыли больно кололи лицо, но Георгий не замечал этого. Заснул он только перед рассветом, ненадолго. Его разбудил протяжный паровозный гудок.
— Товарищ лейтенант, даже Читу проскочили без остановки, — доложил Губкину дежурный по вагону Ахметов. Ему недавно присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром отделения. Это преобразило Ахметова, он стал расторопнее, сноровистей. — Эшелоны с войсками и техникой идут почти впритык друг к другу. Такая силища прет, что жарко станет фашисту…
— Да, везут нас со скоростью курьерского, — подтвердил Губкин. — Значит, очень нужны мы на фронте.
— Да-а, — протянул подошедший Еремеев. — Видать, неважные дела на фронте, если нас везут так быстро. Вы бы раздобыли, товарищ лейтенант, сводку. Разговор я слышал, будто отдали наши Севастополь, немцы заняли Крым, Харьков…
После завтрака красноармейцы расселись группами, кто за столом, кто на нарах. По просьбе Губкина Глушковский вычертил несколько силуэтов немецких танков, цветными карандашами обозначил уязвимые места.
В пути шла настоящая подготовка к предстоящим боевым действиям. Командир взвода еще раз напомнил, как пулеметчики должны бить по смотровым щелям, как отсекать пехоту, идущую за танками, как сбивать с танковой брони десант. И рассказал о встрече в училище со стрелком-виртуозом старшиной Ведерниковым, о котором ходили легенды.
— Он воевал на Хасане, потом с белофиннами. Пулемет в его руках был как игрушка. Однажды Ведерников показал нам, как надо стрелять. На мишени размером в полтора метра он выбил пулями свою фамилию.
— Вот это стрелок! — восхищенно воскликнул Образцов.
— А вы, товарищ лейтенант, не пытались расписаться из пулемета? — спросил Еремеев и добавил: — Вам было бы легче — фамилия не такая уж длинная.
— Нет, я не смог, — честно признался Губкин. — У меня уже третья буква выскакивала за край мишени. Но я понял, что в любом деле успех приходит тогда, когда ты в совершенстве овладеваешь своей профессией. Солдату такое мастерство, кроме всего прочего, и жизнь спасает.
— Это точно, — поддержал лейтенанта сержант Еремеев. — Говорят: где умение да сила — там врагу могила…
Губкин привел еще несколько примеров из боевой практики пулеметчиков, когда находчивость и смекалка помогали найти выход из самого безвыходного положения. Командир взвода не жалел сил и времени на «внеклассную», как он называл про себя, работу с людьми. Ему хотелось дать бойцам настоящий боевой настрой, и он был убежден, что, освоив опыт фронтовиков, его пулеметчики получат представление о реальной обстановке, о том, что ждет их на передовой. Он надеялся, что этот опыт убережет бойцов от грубых ошибок, которые они могут совершить из-за своей необстрелянности. Губкину очень хотелось, чтобы его подчиненные во время долгого пути не расслабились, а, наоборот, приобрели хорошие бойцовские качества.
Через полмесяца эшелон миновал Куйбышев. Всем стало ясно, что дивизию направляют на защиту Сталинграда. Уже под Куйбышевом на дальневосточников пахнуло тревожным дыханием войны. Все чаще навстречу шли санитарные поезда, эшелоны с эвакуированными, с разбитой вражеской техникой, которую везли на переплавку. На разъездах и в тупиках застыли целые составы обгоревших вагонов, пострадавших от бомбежки паровозов. Горестная печать войны лежала на лицах женщин и подростков, которые работали на станциях, приводили в порядок железнодорожный путь.
…В июле 1942 года в большой излучине Дона началось ожесточенное сражение с армиями генералов Гота и Паулюса. Не считаясь с потерями, они напролом пробивались к Сталинграду с юга на север и с запада на восток. Немцы не сомневались, что мощный таран их танковых дивизий и воздушных эскадр сокрушит советские войска и Сталинград падет в срок, назначенный Гитлером. Отступая, наша армия изматывала противника, его ударные соединения теряли силу, а в это время на дальних подступах к городу занимали оборону свежие войска. 126-я дивизия в числе других восьми дивизий дальневосточников и сибиряков входила в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. Эшелоны без задержек шли к фронту. И. В. Сталин по нескольку раз в сутки интересовался, как соблюдается график движения, несмотря на то, что за этими эшелонами постоянно наблюдали работники Генштаба. Вместе с другими частями Сталинградского фронта дивизии дальневосточников и сибиряков должны были остановить наступление врага и сорвать замысел немецко-фашистского командования захватить Сталинград с ходу.
Эшелон, в котором находился взвод Губкина, должен был прибыть в Сталинград ночью. Но в эти дни немцы усилили воздушные налеты, непрерывно бомбили железнодорожные магистрали, крупные и мелкие станции, стремясь вывести из строя фронтовые коммуникации. Командование вынуждено было направить дивизию полковника Сорокина по новой дороге в обход Сталинграда. Недавно построенная железнодорожная ветка шла параллельно Волге строго на юг, к Астрахани. Было еще темно, когда внезапно эшелон остановился. Губкин высунулся из вагона, но не увидел ни станционных построек, ни человеческого жилья, лишь чернели телеграфные столбы да монотонно гудели провода.
От вагона к вагону неслась команда:
— Старшие по вагонам, к комбату!
— Приехали, собирай котомки, — пошутил кто-то сонным голосом.
Бойцы напряженно ждали возвращения командира взвода. Давно все уже было собрано, каждый сидел с зажатым в руках карабином, рядом лежали каска и вещевой мешок.
Вернувшись от комбата, Губкин сообщил: «До места еще не доехали». Как бы в подтверждение его слов звякнули буфера вагонов, эшелон вздрогнул и, набирая скорость, покатил дальше.
В сумерках 27 июля на станции Владимировка 690-й полк, которым командовал майор Наумов, стал перегружаться на теплоход «Борис Щукин». Берег был забит машинами, повозками, полевыми кухнями, санитарными двуколками, всюду громоздились ящики артиллерийских снарядов и мин. Сумятицу людской разноголосицы прорезали тревожные пароходные гудки. В той стороне, где находился Сталинград, звездное небо расчертили лучи прожекторов.
Губкина назначили дежурным по части. Вскоре он принял телефонограмму: одна из сибирских дивизий, по маршруту которой должны были следовать части полковника Сорокина, на подступах к Сталинграду подверглась сильной бомбардировке с воздуха.
Тотчас командование полка приняло меры противовоздушной обороны. На теплоходе выставили дополнительных наблюдателей, обо всем замеченном они докладывали дежурному по части.
Ночь прошла спокойно. Только утром, когда Губкин сменился, объявили воздушную тревогу. Он занял место у дежурных пулеметов своего взвода. Тревога, однако, оказалась ложной: сигнальщики приняли звено наших истребителей за вражеские самолеты.
— А ведь всю дорогу изучали силуэты фашистских стервятников, — чертыхнулся комвзвода, провожая взглядом краснозвездные «яки».
Губкин стоял на палубе и с любопытством смотрел на струящуюся воду, на волжские берега. Буксиры тяжело тянули осевшие в воду баржи, бронекатера сновали поперек реки, ослепительно блестевшей под жарким солнцем. Теплоход держался ближе к высокому правому берегу. И на воде были видны оставленные войной следы. Вот мимо медленно пропыхтел до предела загруженный пароходик с обгоревшей палубой — метиной недавней бомбежки, а вот на волнах качаются армейские носилки, яркие детские игрушки.
Далеко впереди глухо ударили зенитки, лазурное небо запятнали черные разрывы. И сразу река вспучилась высокими белыми столбами. Они вырастали один за другим и обрушивались, вспенивая воду. Теплоход сбавил ход, стал прижиматься еще ближе к берегу. Разом стихли разговоры на палубе, не только дежурные пулеметные расчеты, но и все остальные бойцы тревожно вглядывались в небо, ожидая, что с минуты на минуту фашистские самолеты спикируют на теплоход. Но те, отбомбившись по баржам у пристани, прошли стороной: в бинокль Губкин рассмотрел черно-белые кресты на их фюзеляжах. Он с облегчением перевел дух, когда услышал отбой воздушной тревоги, и только теперь почувствовал, как все тело задеревенело, а по лицу и спине скатываются капельки пота.
Остальной путь до причалов Сталинградского речного порта прошел спокойно. Капитан лихо и красиво пришвартовал теплоход. И сразу началась разгрузка. Бойцы торопливо носили ящики с патронами, снарядами и минами, быстро катили по сходням пулеметы. Командиров взводов, в том числе и Губкина, вызвали к ротному, там он узнал, что предстоит форсированный ночной марш. О цели марша и районе сосредоточения ничего не было сказано. Задача дивизии была известна только в штабе фронта. Командиру авангардного батальона капитану Шакуну указывался лишь маршрут ближайшего ночного перехода. Вернувшись к взводу, Губкин приказал:
— Всем надеть каски. — И после небольшой паузы добавил: — Мы идем в составе головной походной заставы. Соблюдать строжайшую дисциплину и быть в постоянной боевой готовности.
Стемнело, когда взвод вошел в ночной Сталинград. Кругом было тихо и безлюдно. Только гулко стучали по мостовым солдатские сапоги да мощные прожекторы беззвучно шарили своими длинными щупальцами по звездному небу. Фронт был уже недалеко, изредка сюда доносилась глухая артиллерийская канонада.
Первые полтора десятка километров преодолели сравнительно легко, бойцы даже не успели почувствовать усталости. Когда вышли из города, объявили привал. В это время колонну догнали грузовые автомобили и остановились неподалеку. После короткого отдыха, к радости всех, последовала команда: «По машинам!» Бойцы быстро разместились в грузовиках. Многие тут же задремали, привалившись друг к другу. Часа через два машины свернули к обочине, бойцы снова зашагали по дороге.
Душная, но все-таки не знойная ночь сменилась нестерпимо жарким днем. Нещадно палило июльское солнце, обжигая лица шагавших в клубах пыли бойцов и командиров. От пота на гимнастерках выступила соль, и они задубели, натирали тело. Скрипел песок на зубах, трескались губы. Люди задыхались. А вблизи ни единого деревца, ни озерка, ни колодца. Всюду, куда ни падал взгляд, лишь ковыль, да полынь, да шныряющие в них суслики. Всех одолевала нестерпимая жажда. Бесконечная дорога лениво ползла по степи. А сотни бойцов шагали и шагали вперед, в неизвестность. Клубы пыли обволакивали колонну так плотно, что трудно было рассмотреть рядом идущего. Вдруг Губкин заметил, как Глушковский пошатнулся и грузно осел на обочину дороги. Лейтенант подбежал к нему и, с трудом расцепив солдату стиснутые зубы, влил несколько глотков воды. Глушковский открыл глаза.
— Что, брат, устал? — сочувственно спросил Губкин.
— Сил совсем нет, — признался Глушковский, еле шевеля черными потрескавшимися губами.
— Ничего, сейчас что-нибудь придумаем, — ободрил его комвзвода и, подозвав Ахметова и Образцова, попросил их помочь товарищу.
Глушковский поднялся и, опираясь на плечи друзей, зашагал за колонной.
Наконец долгожданный привал, рядом с дорогой балка с кустарником, а на возвышенности — домик с колодцем. Бойцы наполняли водой фляги, котелки, даже каски и, захлебываясь, жадно пили. Двадцать минут, отведенные для отдыха, пролетели незаметно. Перемотав портянки, солдаты заняли свои места в строю. Все вновь пришло в движение.
Длинной лентой колыхалась колонна людей по дороге, которой, кажется, не было конца. Бойцы ступали тяжело: несли на себе по два комплекта боеприпасов, на два дня продуктов, скатку, полный вещевой мешок. На ремне — несколько гранат в чехлах, патроны в подсумках, саперная лопатка, фляга с водой, на боку — противогаз. Полная солдатская выкладка весила, казалось, тонну.
В колонне давно не слышно смеха, голоса почти смолкли. Лишь приближающийся гул отдаленного боя нарушал тишину. Люди старались беречь силы, предчувствуя, что впереди их ждут нелегкие испытания.
На краю степи медленно догорал багровый закат. Казалось, вся степь пламенеет. Незаметно на землю опустилась ночь. Вместе с ней наступило затишье. Кто-то нечаянно брякнул котелком, гулкий звук прокатился далеко по степи. В иссиня-черном небе показалась луна и словно застыла на месте, освещая растянувшуюся по дороге колонну.
По колонне передали, что привал будет, как только подойдет кухня с ужином. А идти с каждой минутой становилось все труднее: ночь не принесла прохлады и по-прежнему давила духота.
Вокруг стояла тишина, только время от времени можно было услышать легкое позвякивание саперной лопатки или котелка о приклад винтовки.
Губкин внешне совсем не здоровяк, но он считал себя выносливым, и даже у него временами в глазах появлялись разноцветные круги, свинцовой тяжестью наливалась голова. Чтобы отвлечься от усталости, подсчитывал, когда дойдет его письмо к Асе, которое он послал из Сталинграда. Да и Глушковский не выходил у него из головы: он был единственным во взводе, кто так тяжело переносил походные трудности и изнуряющую жару. Поравнявшись с Глушковским, Губкин протянул руку, чтобы взять его винтовку, но тот слабым голосом сказал:
— Я сам, товарищ лейтенант.
Образцов, шагавший рядом, негромко проговорил:
— Мы глаз с него не спускаем.
Особенно тяжело давались последние километры. А тут еще в хозяйственном взводе сломалась повозка, и пришлось раздать бойцам дополнительно по два боекомплекта патронов.
Незаметно пролетело время, отведенное на ночной привал. Рассветало. В сизом тумане просыпалась земля. Опережая сигнал подъема по тревоге, первым проснулся Ахметов. В долине безымянной речки простирались луга, пестревшие ромашками вперемешку с полынью. Аромат полевых цветов и трав напомнил ему родную Башкирию, долину реки Белой у себя дома в Бирске, где с утра до вечера купался с ребятами. Но неумолимо приближавшийся с запада гром разрывов артиллерийских снарядов как бы провел черту между вчерашним и сегодняшним днем Ахметова. С каждым часом солнце припекало все сильнее. Воздух стал горячим и сухим. Прихрамывая, люди брели из последних сил. Многие с трудом различали дорогу — пот застилал глаза. Растянувшаяся колонна бойцов, обвешанных с головы до ног грузом, тащилась по выжженной солнцем дороге, которая вела в гору. Гудела земля, гудели ноги. Все чаще и чаще бойцы перебрасывали с плеча на плечо тяжелеющее с каждым шагом оружие. Даже большой привал с отдыхом не принес облегчения.
Глушковский опять потерял сознание, и Губкин приказал нести его на носилках, потому что санитарная двуколка была уже перегружена.
Через час Глушковский приоткрыл глаза и, хотя чувствовал сильную слабость, попросил опустить носилки, с трудом встал на ноги и зашагал, превозмогая усталость.
— Глушковский, черт тебя побери! — вполголоса сказал в сердцах сержант.
Очнувшись, Глушковский понял, что наступил на пятку впереди идущему Еремееву.
— Извините, товарищ сержант, — испуганно пробормотал он. И сразу весь сник, обмяк, будто из него воздух выпустили.
Солнце клонилось к горизонту, жара стала спадать. В опускавшихся сумерках отчетливо слышались глухие раскаты артиллерийских залпов. Трассирующие снаряды расцвечивали горизонт, строй затих. Бойцы прислушивались к шуму приближающегося боя и жадно смотрели на далекие кровавые зарницы пожарищ, лишь время от времени что-то говоря друг другу вполголоса.
Дивизия, которой командовал полковник В. Е. Сорокин, с марша поступила в распоряжение командующего 64-й армией генерал-лейтенанта М. С. Шумилова и, сменив части полковника Г. Б. Сафиуллина, заняла оборону в районе станции Абганерово. По замыслу командарма ей предстояло на заранее подготовленных позициях остановить противника.
Полк под командованием майора Наумова составлял первый эшелон. Более пятисот человек батальона Шакуна, растянувшись на два километра по фронту, рыли окопы, готовили новые огневые позиции для станковых пулеметов, минометов и артиллерии.
Ощущение близости противника уже овладело всеми, никого не пришлось подгонять. Все понимали, что матушка-земля — надежная защитница, поэтому старались подготовить огневую позицию быстро и рыли траншею полного профиля, благо песчаная почва легко поддавалась. Люди работали молча, рассредоточившись по полю, с которого еще не были убраны хлеба. Позади окапывались артиллеристы.
Фронтовая обстановка накладывала на людей отпечаток. Губкин видел озабоченность бойцов, охваченных непривычным для них ощущением близости поля боя. Неизвестность исхода предстоящей первой схватки с противником волновала всех. Что такое первый бой, не знал ни сам Георгий, ни его люди, поэтому все были чрезмерно насторожены и скованы.
На правом фланге полка гул сражения становился все ближе и ближе. По всему чувствовалось, что скоро и здесь начнется кровопролитный бой. Первая схватка с врагом — что она сулит Губкину и его бойцам? Георгий заметно изменился, еще больше осунулось его худощавое лицо, заострился прямой, с чуть заметной горбинкой, нос, только, как прежде, блестели задором живые светло-карие глаза.
Получив боевой приказ на оборону, Губкин провел рекогносцировку, потом показал командирам отделений вероятные рубежи развертывания гитлеровцев к атаке, уточнил ориентиры.
Настала ночь. Перед позициями взвода все утонуло в кромешной тьме. Наступила страшная тишина, будто все вокруг затаило дыхание в ожидании, что же будет дальше. И в этой тишине ночь вступала в свои права, сжимая и обволакивая все вокруг. Только где-то слева вдруг мелькнула и исчезла падающая звезда, прочертив огненный след на небосводе. И опять все замерло в первозданном покое. Так, однако, продолжалось недолго. На вражеской стороне вновь начали вспыхивать сигнальные ракеты. Бойцы Губкина не отрываясь смотрели на далекое мерцание вспышек, завороженные неизвестным для них сиянием.
Георгий, размышляя о предстоящем бое, отдавал себе отчет в том, что теперь на его траншеи будут наступать не «синие» из соседней роты, как это было прежде на учениях, а реальный враг. Он мысленно представил себе состав и вооружение пехотной роты немцев. Время до начала боя между тем исчислялось лишь несколькими часами. И Губкин снова и снова прикидывал, правильно ли он расположил станковые пулеметы, все ли сделал для того, чтобы удержать занимаемую позицию. Все будто бы сделано так, как учили… Надо довести боевую задачу до каждого бойца.
Губкин вызвал к себе командира первого отделения.
— Ахмеджан, — обратился лейтенант к Ахметову, — наш батальон развернут на широком фронте. Взвод, оседлав высоту 124,0, теперь воюет за роту, а пулеметное отделение — за взвод. Боевые расчеты выдвигаются на рубеж боевого охранения, чтобы ночью не подкрались фашисты. А если днем начнут наступление, то вы должны заставить их развернуться к бою перед основными позициями. Но преждевременно себя не демаскируйте, постарайтесь подпустить немцев поближе.
— Не беспокойтесь, товарищ лейтенант, сделаю как приказано.
Провожая отделение Ахметова на рубеж боевого охранения, Губкин подумал, что на этого крепыша можно положиться, не струсит и раньше времени огонь не откроет.
Всю ночь работали бойцы боевого охранения, отрывая себе окопы и ходы сообщения.
Основные силы взвода старательно и скрупулезно оборудовали огневые позиции. Губкин всю ночь не сомкнул глав. Лишь в далекой Семидомке Евдокии Тимофеевне в эту ночь снилось, что война окончилась, эшелоны с войсками возвращаются домой и ей нужно встретить Георгия…
Только под утро лейтенанту Губкину удалось вздремнуть. Но и во сне тревога не покидала его. На рассвете загрохотала артиллерия. Вражеские снаряды и мины рвались совсем рядом. Георгий со своими бойцами напряженно смотрел в сторону противника, с тревогой ожидая, когда появятся цепи немецкой пехоты.
Правее батальонного района обороны капитана Шакуна «юнкерсы» с надсадным гулом пикировали на позиции 550-го стрелкового полка, и взрывы бомб сотрясали землю. Дежурный телефонист сообщил, что у соседей убиты двое бойцов и командир взвода. Гибель однополчан, воинов своей дивизии, заставила Георгия реально ощутить близкую опасность. Лейтенант посмотрел на Еремеева, Образцова, Глушковского, пытаясь по их лицам понять, как они восприняли известие, не струсили ли.
Шум боя все увеличивался, стал доноситься какой-то странный гортанный звук, похожий на дикое завывание: «Га…о, га…о». Кто-то вдруг крикнул: «Фашисты!» Губкин у подножия холма увидел вражеские цепи. Отчаянный вопль то ослабевал, то усиливался. Гитлеровцы приближались. Уже можно было различить на них мундиры мышиного цвета, причудливые каски на головах. Рты открыты, они отчаянно что-то горланили под аккомпанемент шума боя и, прижав автоматы к животу, шли в полный рост, стреляя на ходу. Пулеметы Ахметова из боевого охранения открыли по ним ответный огонь. Впереди бегущий дернулся и, загребая воздух руками, свалился. Другие, согнувшись, делали перебежки, падали и снова бежали.
Губкин заметил, что бойцы выжидаючи посматривают то на приближающихся фашистов, то на него, командира, и старался быть спокойным, ничем не выдать нервного напряжения. Он окинул быстрым взглядом позиции взвода. Еремеев стоял в траншее, широко расставив ноги, надвинув каску на глаза. Вся его фигура выражала готовность к рукопашной схватке. Боец Игнатов прильнул к «максиму», сосредоточив внимание на прорези прицела. А вот Глушковский явно дрейфил: сидел пригнувшись на дне траншеи; пот градом катился по его лицу, руки судорожно сжимали комья земли. Георгий, чтобы подбодрить бойца, пошутил:
— Ты, брат, как страус, голову спрятал, а до остального и дела нет.
Под общий смех Глушковский распрямился и занял свое место в окопе. Губкин пожалел, что не поставил его рядом с Ахметовым: под опекой Ахмеджана Глушковский чувствовал бы себя увереннее.
Минуты ожидания были для командира взвода пыткой, и он еле сдерживал себя, чтобы не дать команду открыть огонь, хотя отлично понимал, что тем самым преждевременно раскроет свои огневые точки и даст возможность вражеской артиллерии быстро подавить их. И он терпеливо и настойчиво ждал, властно повторяя команду: «Не стрелять, подпустить ближе!»
Мина разорвалась совсем рядом с НП Губкина, осколки с визгом пронеслись над бруствером траншеи. Серой лавине фашистов до позиции боевого охранения оставалось пройти меньше трехсот метров, когда Губкин подал Ахметову сигнал открыть огонь. Длинные очереди «максимов» полоснули по цепи: гитлеровцы заметались на открытом поле, залегли.
Тут же отозвались вражеские минометчики. Их шквальный огонь обрушился на позиции боевого охранения. Губкин приказал Ахметову отвести отделение на основную позицию. Немцы заметили отход и снова поднялись в атаку. Прикрывая товарищей, Ахметов ударил в упор из пулемета по гитлеровцам и не давал им поднять головы, пока его отделение не достигло расположения своего взвода.
По команде Губкина станковые пулеметы взвода открыли по врагу массированный огонь. Фашисты несколько раз возобновляли атаку, но безуспешно. Стволы «максимов» раскалились, вода в кожухах закипела. Губкин приказал залить последнюю воду из фляг. С удивлением Георгий заметил, что, увлеченный боем, он перестал обращать внимание на разрывы снарядов и мин, на свист вражеских пуль. Когда ранило наводчика, он сам припал к пулемету и открыл огонь по гитлеровцам.
Вражеская пехота не выдержала и отошла на исходные позиции.
Вскоре в воздухе послышался нарастающий рокот авиационных моторов. Из глубины нашего тыла появились самолеты, держа курс на запад. Бойцы обрадованно переглянулись, ожидая подмоги. Но самолеты оказались немецкими. Наблюдатели распознали их не сразу и не успели объявить воздушную тревогу. Бомбардировщики, включив сирены, начали пикировать на наши позиции. Губкин опустился на дно траншеи и вжался в землю. Взрывы бомб и свист осколков оглушили его. Все вокруг покрылось дымом и гарью. Поборов противное чувство страха, он попытался приподняться, но очередной взрыв бомбы снова потряс все вокруг. Усилием воли он все-таки заставил себя взглянуть на небо и увидел, как черные точки оторвались от самолета и, быстро увеличиваясь в размерах, понеслись вниз. Ему показалось, что одна из них падает прямо в его траншею. Губкин в ужасе закрыл глаза и прижался к стенке. Сделалось страшно от мысли, что он тоже может быть убитым. Вражеская бомба упала где-то рядом. Он ощутил всем телом, как вздрогнула и закачалась от взрыва земля, за шиворот посыпался песок.
Душераздирающий вой сирен и визг падающих бомб придавили бойцов к самому дпу траншеи. Испытание на стойкость выдержали не все: сначала трое бойцов бросились по ходу сообщения в тыл, за ними сломя голову побежали еще двое. Никто из них еще не знал, что при налетах с такой большой высоты в траншеях безопаснее и потерь обычно не бывает. Губкин кинулся им вдогонку, что было сил крикнул: «Стой! Стрелять буду!» И не узнал своего голоса. Вскинув автомат, выпустил очередь поверх головы вырвавшегося вперед Глушковского. Тот остановился. Беглецы, следующие за ним, чуть не сбили его с ног. Губкин властно приказал всем вернуться на свои позиции. Глушковский и его «попутчики», пытаясь скрыть постыдную растерянность, понуро поплелись мимо командира взвода на свои места.
Губкин проводил их презрительным взглядом, досадуя на то, что в его взводе оказались малодушные. «Плохо, невероятно плохо, выходит, готовил я подчиненных к бою, — сокрушался лейтенант. — Мало уделял внимания психологической закалке, выдержке. Надо учесть все эти промахи…»
3
4 августа генерал-полковник А. И. Еременко принял командование войсками Сталинградского фронта. В тот же день он побывал в 57-й армии генерал-майора Ф. И. Толбухина и в 64-й армии генерал-лейтенанта М. С. Шумилова. 48-й танковый корпус противника при поддержке пехотных частей 4-го армейского корпуса наносил удар от Котельникова вдоль железной дороги по кратчайшему пути к Сталинграду. И потому командующий фронтом был особо обеспокоен за абганеровское направление. Вместе с Шумиловым он выехал на передний край. Машина остановилась невдалеке от КНП 126-й дивизии. Еременко выслушал доклад комдива Сорокина, которого знал еще по Дальнему Востоку.
— Выстоите до подхода резервов? — спросил Еременко.
— Если противник не введет в бой дополнительные свежие силы, выстоим.
— Ваша задача: во что бы то ни стало приостановить дальнейшее выдвижение противника к южному фасу сталинградского внешнего обвода и ни в коем случае не допустить прорыва этого обвода, равно как не допустить выхода противника к Волге южнее Сталинграда. Высота 124,0 в полосе обороны вашей дивизии имеет ключевое значение, — напомнил Еременко.
— Понимаем, товарищ командующий.
— Кто обороняет высоту 124,0?
— Батальон капитана Шакуна, а на самой вершине занимает оборону взвод станковых пулеметов лейтенанта Губкина. Противник подступы к высоте держит под непрерывным минометным, артиллерийским и пулеметным огнем.
— Справляются пулеметчики со своими задачами?
— Воюют отменно, противник предпринял несколько атак, и все безуспешно. Высота ему как кость в горле.
— Пригласите ко мне лейтенанта.
Высота, значившаяся на картах под отметкой «124,0», скаты которой круто уходили вниз и в сторону, где находились гитлеровцы, была самой высокой точкой на этом участке, и успех обороны полка во многом зависел от ее удержания.
Еременко и Шумилов отдали необходимые распоряжения полковнику Сорокину, а Губкин все не появлялся.
— Передвижение на высоту осуществляется ночью, днем туда проходят только те, кто хорошо знает складки местности, — доложил Сорокин, заметив беспокойство командующего фронтом.
Губкин спешил на КНП комдива и все гадал, зачем он понадобился. Из-под каски по его покрытому пылью лицу струился пот. Немцы вели непрерывный огонь, и пришлось продвигаться по-пластунски по еле заметной тропинке. Дорога заняла более получаса.
— Товарищ генерал-полковник, лейтенант Губкин по вашему приказанию прибыл, — доложил он.
— Поздравляю вас, товарищ лейтенант, с боевыми успехами. Впредь так же высоко держите честь дальневосточников! Награждаю вас командирскими часами и желаю дальнейших успехов, — Еременко пожал руку Губкину.
— Служу Советскому Союзу! — отчеканил в ответ лейтенант, растерянно обводя взглядом генералов. Он не понимал, почему именно его выделили среди остальных командиров, и испытывал неловкость.
Возвращаясь обратно, Георгий устал ползти и пригибаться к земле, хотя знал, что на этом пути погиб уже не один человек. Только он стал перебегать открытое место, вражеские снайперы тут же открыли перекрестный огонь и заставили его ползти, но он, ловко используя лощины, благополучно соскочил наконец в ход сообщения, который вел на позицию.
Поздно вечером командующий фронтом, отдав необходимые распоряжения, ждал разговора со Ставкой. Зазвонил телефон ВЧ, Еременко торопливо взял трубку.
— Как, товарищ Еременко, разобрались в обстановке? Абганерово удерживаете? — спросил Верховный.
— Товарищ Сталин, Абганерово удерживают дальневосточники.
— Уверены, что не допустите выхода противника к Волге?
— Да, товарищ Сталин! Войска полны решимости дать отпор врагу!
За день батальон капитана Шакуна отбил четыре вражеские атаки. Только с заходом солнца гитлеровцы прекратили наступление. Постепенно стрельба затихла с обеих сторон, на позиции опустилась тревожная тишина. Старшины доставили в расположения своих рот термосы с чаем, консервы из горбуши и сухари вместо хлеба. Измотанные напряжением дневного боя, солдаты Губкина нехотя ужинали, кое-кто уже дремал, привалившись плечом к земляной стенке траншеи, изредка вспыхивали огоньки цигарок, разговоров не было слышно.
Глушковский сидел, уставившись в одну точку. Последнее время он особенно остро почувствовал отчуждение сослуживцев. Товарищи не забыли и не простили ему паники во время бомбежки. Никак не удавалось Глушковскому вжиться в суровый солдатский быт. Здесь, на переднем крае, где каждую минуту подстерегала смертельная опасность, он до слез тосковал по дому. Тяготы солдатской жизни действовали на него угнетающе. А после бомбежки неотступно преследовала мысль, что он должен погибнуть.
Снова наступила тревожная фронтовая ночь. Губкин сообщил бойцам взвода последние известия: наши войска на Сталинградском фронте, отражая крупные силы противника, оставили ряд населенных пунктов. Затем он стал подводить итоги боя за день так же скрупулезно, как это делал, когда проверял домашние задания своих учеников.
Школьные воспоминания часто вставали перед глазами Губкина, бойцы казались ему такими же учениками, и он делил их на отличников и посредственников. Они были так же доверчивы и искренни, может быть, лишь с той разницей, что в школу приходили прямо от своих игрушек, а бойцы были почти взрослыми, хотя тоже ничего не видели в жизни.
Первый же бой внес изменения во взгляды Губкина. Многие посредственные бойцы проявили храбрость и мужество. И наоборот, среди тех, кого он считал отличниками, оказались весьма посредственные. Главный вывод, который он сделал для себя, был таким:
«Командир — отец солдата и должен не только заботиться о нем, но и служить примером стойкости, мужества».
Подведя итог боя, он успокоился тем, что потери во взводе по сравнению с противником были незначительными: двое раненых бойцов были эвакуированы в батальонный медпункт.
…Высота 124,0 то освещалась яркими вспышками ракет — и тогда становилось видно как днем, то вновь утопала во мраке августовской ночи. В той стороне, где лежал Сталинград, полыхало зарево и тускло розовел край неба. Губкин смотрел на крупные звезды и удивлялся их яркости. Где-то мерно долбила саперная лопатка — кто-то углублял траншею. Полынный ветерок нес с собой слабый привкус пороховой гари и неостывшей за ночь раскаленной степи. Лейтенант задремал, и ему показалось, что совсем рядом падают немецкие осветительные ракеты. Очнувшись, Губкин сразу же направил ординарца Образцова проверить выставленные впереди секреты. Ординарец вернулся и доложил, что все на своих местах, противник ведет себя спокойно. Губкин не мог понять, что его насторожило.
По рассказам бывалых фронтовиков лейтенант знал, что тишина на переднем крае не сулит ничего хорошего и что от гитлеровцев нужно ждать любой каверзы. Может, потому так и неспокойно на душе. А может, еще почему-то…
Зазвонил телефон. Лейтенант взял трубку.
— Губкин, как дела? — поинтересовался командир батальона капитан Шакун. — Доложите обстановку.
— Пока все спокойно, товарищ Сто первый! Наблюдатели следят за тем, что делается в расположении врага, пулеметчики дежурят у своих огневых точек.
— Добро. Почаще проверяйте расчеты. Будьте начеку…
А на переднем крае по-прежнему царила тишина. Даже ракеты перестали разрывать ночную темноту. И так до самого утра.
Солнце неторопливо выкатилось из-за горизонта, и выжженная степь стала пробуждаться: застрекотали кузнечики, то там, то здесь из нор выныривали суслики; воспользовавшись затишьем, они тоже, видно, решили подкрепиться.
Немцы не изменили своей пунктуальности: ровно в восемь часов открыли массированный минометный и артиллерийский огонь, потом пошли на штурм высоты. Их отделяло от наших позиций менее двухсот метров. Губкин, пробираясь на свой наблюдательный пункт, чутко прислушивался к очередям «максима», из которого вел огонь Еремеев. Когда Георгий был уже у НП, пулемет внезапно замолчал…
Георгий знал: Еремеев — опытный и храбрый пулеметчик, надежный помощник командира взвода, и даже от одной мысли, что с ним случилось худшее, ноги будто налились свинцом. Неужели?.. И он повернул к огневой точке своего помощника. Предположение подтвердилось. Еремеев лежал, уткнувшись в лужу крови, продолжая сжимать гашетку пулемета.
Губкин на мгновение застыл перед убитым, он не в силах был отодвинуть его от «максима». Это был первый погибший, увиденный им на фронте. Он, конечно, знал, что на войне убивают. Но видеть застывшее, обескровленное тело близкого ему человека пришлось впервые. И это потрясло его. Губкин бережно отодвинул Еремеева и схватился за ручку «максима» с такой яростью, какой еще не испытывал. Нажал на гашетку. Пулемет задрожал, свинцовые струи хлестнули по самой гуще фашистов.
— Так их, так, товарищ лейтенант! — проговорил прибежавший к нему на помощь Образцов, подавая очередную коробку с лентами.
Вражеская атака захлебнулась, гитлеровцы сначала залегли, а потом ползком и перебежками вернулись на свои исходные позиции.
Губкин долго еще не мог опомниться, гибель Еремеева не выходила у него из головы. Да и понятно: когда теряешь человека, с которым ел из одного котелка, спал рядом, особенно тяжела горечь утраты. И вот нет Еремеева. А ведь он даже мысли не допускал, что не вернется в родные края, к мирной жизни.
В некоторых местах немцам все же удалось продвинуться метров на двести. Огневые позиции наших пулеметов островками вдавались в ничейную полосу, которая насквозь простреливалась гитлеровскими снайперами.
Губкину доложили, что на вершину высоты из тыла пробираются трое командиров. Георгий забеспокоился: вражеские снайперы могли в любую минуту подстрелить их. Командиры шагали быстро, почти бежали. Несколько вражеских мин пролетели с визгом и взорвались чуть в стороне от них. Сделав рывок, командиры успели вскочить в траншею. В одном из них Георгий узнал вновь назначенного комиссара батальона Поликарпова (Харламова отозвали в штаб армии), двое других ему были незнакомы.
— Гостям мы всегда рады, товарищ комиссар, — приветствовал их Губкин, — только время вот неподходящее выбрали, немцы скоро опять начнут обстрел наших позиций.
— К обстрелам мы привычны. Как настроение у бойцов?
— С высоты не уйдем, будем стоять до последнего.
— Да, высоту надо удержать! Поэтому решили здесь рассмотреть ваше заявление о приеме в партию.
Георгий никак не ожидал, что его будут принимать в партию прямо на поле боя. Чувство гордости за оказанную ему честь охватило его: встать в строй коммунистов в минуты смертельной опасности, нависшей над страной, когда партийная привилегия выражалась только в одном — быть впереди, вести за собой остальных и, если потребуется, отдать жизнь за свободу и независимость Родины.
— Если нет возражений, — сказал председатель партийной комиссии, — заседание считаю открытым. На повестке дня один вопрос…
Старший политрук зачитал заявление Губкина:
— «В столь ответственный для Родины час, когда решается судьба Сталинграда, который неразрывно связан с моей судьбой, я хочу быть в рядах партии большевиков…»
Поблизости разорвался вражеский снаряд. Все замерли в ожидании очередного взрыва, но его не последовало. Старший политрук продолжал зачитывать рекомендации. Лишь когда Губкин начал отвечать на вопросы членов парткомиссии, снова засвистели снаряды. По всему было видно, что гитлеровцы засекли наблюдательный пункт на высоте и вели огонь на поражение. Стрельба стала усиливаться с обеих сторон. Под шум нарастающих разрывов снарядов председатель парткомиссии, крепко пожимая Губкину руку, сказал:
— Поздравляю вас, товарищ лейтенант, теперь вы уже коммунистом возглавите свой взвод! Бейтесь до последней капли крови, держитесь за каждую пядь земли, будьте стойким до победного конца!
— Оправдаю доверие партии, товарищ старший политрук, — твердо ответил Губкин.
…Высота 124,0 господствовала над окружающей местностью. Если противник захватит ее, он сможет прорваться в тыл полка Наумова. Потому комиссар батальона старший лейтенант Поликарпов, проводив членов дивизионной парткомиссии, остался на высоте. Не торопясь, он обошел позиции пулеметчиков, проверил, как организована огневая система, правильно ли выбраны секторы обстрела, нет ли впереди мертвых пространств, в которых может накапливаться противник; лишь после этого попросил командира взвода собрать людей, свободных от наблюдения за противником.
В недавно прибывшем в батальон комиссаре нетрудно было разглядеть сугубо штатского человека, призванного из запаса: новая хлопчатобумажная гимнастерка топорщилась на нем, кобура с пистолетом съехала на живот, и Поликарпов время от времени сдвигал ее на правый бок. Говорил он тоже не очень-то красноречиво, бессистемно и по-простецки, изрекал давно известные всем солдатские истины, и мнение о нем как о военном комиссаре у бойцов сложилось неважное, но когда гитлеровцы открыли огонь из минометов и орудий и под прикрытием огневого вала пошли на высоту в атаку, комиссар будто преобразился. Он облюбовал стрелковую ячейку, откуда противник был виден как на ладони, и, положив рядом с собой автомат, противопехотные и противотанковые гранаты, спокойно стал ждать. Расстояние до первой цепи противника сокращалось мучительно медленно, словно гитлеровцы сбавили шаг, чтобы поиграть у наших бойцов на нервах. Но выдержки хватило у всех. Бойцы наблюдали за комиссаром и терпеливо ждали. До вражеской цепи осталось метров сто, и вот тогда-то заговорил автомат комиссара. За ним зарокотали «максимы». По цепи гитлеровцев будто коса прошлась. На место сраженных уже накатывалась вторая цепь, третья. Удерживать оборону становилось все труднее: из четырех станковых пулеметов осталось лишь два действующих, выходили из строя и наши бойцы.
В разгар боя кто-то крикнул: «Комиссара ранило!»
Губкин бросился к пулемету, из которого вместо убитого первого номера Игнатова стрелял второй, и приказал бойцу: «Помоги комиссару!» Вокруг рвались снаряды. Губкин схватил пулемет и перенес его на запасную позицию. Не успел он открыть огонь, как вражеская мина угодила в то место, откуда минуту назад он убрал пулемет.
— Молодец, лейтенант! — похвалил его комиссар, лежавший невдалеке в траншее. — Не зря вручили тебе сегодня партбилет.
Дым от разрыва вражеской мины рассеялся. Губкин неторопливо водил стволом по вражеской цепи, поливая ее свинцом. Вскоре пулемет накалился, в кожухе «максима» закипела вода. По лицу Губкина струйками бежал пот, руки онемели от напряжения. Но Георгий не отпускал гашетку и тогда, когда ненавистные ему серые мундиры замелькали спинами.
Когда бой затих, лейтенант подошел к комиссару, лежавшему на носилках, и склонился над ним. Лицо Поликарпова побледнело; лихорадочно блестевшие глаза, обведенные густой синевой, глубоко запали.
— За меня не беспокойтесь, лейтенант, — с трудом проговорил комиссар. — Главное — высоту мы удержали. А судьба Сталинграда, если хочешь знать, решается именно на таких вот высотах. Понял?
— Понял, товарищ комиссар!
— Так что готовься отбивать очередную атаку… Помни, у каждого человека есть своя высота.
— Это я понял. Но и моих бойцов теперь на испуг им не взять…
— На стрелковое отделение, приданное для усиления из резерва комбата, не очень полагайся — от одиночных выстрелов толку мало. Стрелками усиль пулеметчиков. — Комиссар перевел дух и слабым голосом добавил: — Подкрепление вряд ли получишь, рассчитывай только на свои силы…
Под Абганеровом немцы не могли преодолеть ожесточенное сопротивление дальневосточников. Командующий 4-й немецкой танковой армией генерал-полковник Гот докладывал, что дальнейшее продвижение его частей приостановлено. Для развития наступления он просил дополнительно одну танковую и одну моторизованную дивизии. Командующий 6-й армией генерал-полковник Паулюс получил личный приказ Гитлера: «24-ю танковую дивизию передать в 4-ю танковую армию».
Генерал Гот, перегруппировав силы, намеревался нанести удар по тылам 126-й дивизии. Под прикрытием танков фашистская пехота атаковала позиции дальневосточников. Полковник Сорокин отчетливо сознавал, что если передовые полки его дивизии не удержат рубеж Абганерово, то путь к Сталинграду немцам будет открыт. Но удержать такую лавину без резервов не только трудно, но и невозможно. Генерал Шумилов по телефону предупредил: «Держитесь до подхода резервов».
Значит, резервы есть и спешат на помощь. Значит, надо держаться. Многое будет зависеть от умелого маневра силами и средствами, имеющимися в распоряжении командира дивизии.
Сорокин, тщательно проанализировав обстановку, решил нанести удар по врагу дивизионом реактивных минометов «катюш» ранним утром, когда крупные силы танков и пехоты немцев, сосредоточенные в балках и оврагах, изготовятся к атаке.
Так и сделал. На рассвете будто гром грянул, ходуном заходила земля, с оглушающим свистом полетели реактивные снаряды. Резкий, давящий на уши грохот и свист вихрем прокатился над головами наших бойцов. На позициях противника огненными фонтанами заплясали разрывы. Здесь, на этом участке, эрэсы были применены впервые и вызвали животный страх у гитлеровцев. Те, кто остались живы, кинулись назад сломя голову, врассыпную. Но новые залпы «катюш» накрывали их, испепеляли все живое и неживое: горели танки и бронетранспортеры, взлетали в воздух боеприпасы. Пленный ефрейтор, чудом уцелевший от «адского огня», рассказывал потом: «Мы не знали, куда деваться, все вокруг горело, обугливалось, плавилось».
Минут двадцать спустя после удара реактивных минометов в воздухе появились немецкие самолеты, чтобы разгромить «катюши». Но тех уже и след простыл — расчеты сменили огневые позиции.
Тяжесть напряженных боев усугубляла изнурительная жара. Ноги в кирзовых сапогах прели, пот и пыль разъедали тело. Люди слабели от постоянной нехватки воды.
7 августа немцам все же удалось прорвать нашу оборону и захватить высоту 124,0, окружив третий батальон полка Наумова. Создалась чрезвычайно сложная обстановка, нависла угроза окружения штаба и тыловых подразделений полка. Но к этому времени немцы тоже выдохлись. Этим, надо было воспользоваться, чтобы помочь третьему батальону. Майор Наумов приказал первому и второму батальонам приготовиться к контратаке.
Крутой дугой взлетела красная ракета. Батальоны майора Наумова устремились на врага. Какое-то время немцы не открывали огня, и лейтенант Губкин никак не мог понять, намеренно ли их подпускают ближе или все еще не заметили. И вот впереди, словно зарница, полыхнул залп. Инстинктивно Георгий упал на землю, но едва прогремел взрыв, как он снова вскочил и устремился в атаку.
Огонь с вражеской стороны нарастал. Мины и снаряды рвались слева и справа, впереди и сзади. Нужно было как можно быстрее преодолеть пристрелянную врагом зону, и Георгий, подбадривая бойцов, совершал короткие стремительные перебежки, занимая новые огневые позиции. Он не думал об опасности, лишь одна мысль владела им — вывести своих бойцов из губительной зоны. Падал, вскакивал, бежал, снова падал. И чем ближе становились первые вражеские траншеи, тем сильнее вели огонь фашисты. Одна мина разорвалась около Георгия. Он ощутил тупой удар в ногу, но в горячке пробежал еще шага три, и вдруг нога подломилась, лейтенант, словно споткнувшись, упал на землю.
А громогласное «ура» уже катилось над вражескими траншеями.
Как потом выяснилось, гитлеровцы действительно не ожидали, что русские начнут контратаку после захода солнца. А пока они опомнились, наша атакующая цепь ворвалась в оставленную ранее траншею.
В медпункте Губкину сделали перевязку. К счастью, осколок не задел кость.
Наутро бой закипел с новой силой. В небе выли десятки немецких самолетов. От огня нашей зенитной артиллерии загорелся один из «юнкерсов» и тут же развалился в воздухе. Гитлеровцы при поддержке танков вновь перешли в наступление. Подразделения соседней 157-й стрелковой дивизии, понесшие потери в затяжных оборонительных боях, не выдержали натиска и стали отходить, оголив этим фланг полка Наумова. Комдив Сорокин вынужден был бросить в бой свой последний резерв — бронеавтомобильную роту разведбатальона, усиленную батареей противотанковых орудий. До третьего батальона оставалось менее километра, но наша контратака захлебнулась. Комдив приказал майору Наумову подготовить полк к ночной контратаке. Все получили опознавательные повязки. В центре боевого порядка 690-го стрелкового полка наступал первый батальон капитана Шакуна. В нем, как и в остальных батальонах, насчитывалось всего-навсего около восьмидесяти активных штыков. Взвод Губкина придали первой стрелковой роте.
Темная ночь и безбрежная голая степь затрудняли ориентировку. А гитлеровцы не подавали признаков жизни, даже ракеты пускали изредка. Казалось, все вокруг вымерло.
Шли довольно долго в напряженной настороженности. Наконец последовала команда: «Боевой порядок в цепь». И словно по этой команде черное небо прорезали белые ракеты, кругом стало светло как днем. Как и в прошлый раз, немцы опоздали: первая рота батальона Шакуна ворвалась во вторую траншею противника. Разгорелся рукопашный бой. Цепи смешались, трудно было понять, где свои и где враг, отовсюду раздавались то одиночные выстрелы, то автоматные и пулеметные очереди.
Заспанные немцы выскакивали из окопов и тут же падали под пулями. Где-то за поворотом траншеи послышался истошный вопль: «По-мо-ги-те!» Образцов, опередив своего командира взвода, бросился на фашиста, который кого-то душил на дне траншеи, ударил его изо всех сил кинжалом. Гитлеровец вскинул голову и свалился. Образцов выдернул кинжал и столкнул убитого. Под ним лежал Глушковский. Фашист все-таки успел задушить его.
Полк Наумова на своем участке выбил противника из первых двух линий траншей и окопов. Губкин, собрав свой взвод, недосчитался двоих. Он быстро расставил станковые пулеметы и приказал боевым расчетам дооборудовать огневые позиции.
В разгаре боя первая рота захватила немецкую кухню. Взводу Губкина выделили мясо с макаронами и термос кофе. Когда немного подкрепились, настроение у бойцов приподнялось.
Гитлеровцы, однако, разгадали наш маневр и вскоре перешли в контратаку. Снова разгорелся ожесточенный встречный бой. Неожиданно для всех в атакующих цепях первой роты над головой комиссара полка майора Швеца заполыхало кумачом Боевое Знамя полка. По цепи, заглушая шум боя, покатился клич комиссара: «Равнение на полковое Знамя! Вперед, за Родину!» В ответ загремело могучее многократное «ура». Бойцы бросились в штыковую атаку на врага. Но кумачовое полотнище заколыхалось, качнулось и упало, накрыв майора Швеца.
— Знамя — вперед… — еле слышно сказал комиссар подбежавшему лейтенанту Губкину, который успел подхватить его. Он умирал на руках Губкина, но лейтенант понял последний приказ. Осторожно опустив тело майора на землю, лейтенант вскочил. Кругом рвались вражеские мины, гитлеровцы на ходу строчили из автоматов. Наши атакующие цепи замешкались, лейтенант Губкин со Знаменем устремился вперед. Но и ему не суждено было добежать до бойцов третьего стрелкового батальона: правую руку пронзила острая боль, голова закружилась, и он упал. Кто-то подхватил Знамя.
Очнулся он, когда санинструктор наложил ему на руку тугую повязку.
— Надо в медсанбат, товарищ лейтенант, рана серьезная. И крови вы много потеряли, — сказал санинструктор.
До полкового медпункта было не менее километра, и расстояние это предстояло преодолеть под обстрелом. Сопровождать Губкина было приказано ординарцу Образцову. Они прошли метров восемьсот, на их счастье, ни один вражеский снаряд не разорвался близко. Но, когда уже миновали рубеж, который гитлеровцы доставали пулеметным огнем, Георгию стало плохо, он потерял сознание. Образцов осторожно взвалил лейтенанта на спину и, пошатываясь от тяжести, продолжал путь.
В медпункте Георгий пришел в себя. Ему сделали перевязку и вместе с другими ранеными эвакуировали в госпиталь в Бекетовку. Там он узнал, что в соседней палате лежит комиссар батальона капитан Поликарпов. Едва Георгию разрешили подняться, он тут же пошел к комиссару. Застал его на носилках, с проволочной шиной на ноге. В палате находились еще восемь раненых командиров.
— Как рана?
— Уже легче, вот поднялся… — Губкин замолчал, вспомнив о Глушковском.
Комиссар протянул руку и тронул его за плечо.
— Что-то тяготит тебя, лейтенант? Выкладывай все без утайки, глядишь, и разберемся вдвоем.
— Погиб боец из моего взвода и вот никак не выходит у меня из головы, — признался Георгий. — Был он физически слабым и боязливым… Считаю, в том есть и моя доля вины. Не смог заставить его до седьмого пота подниматься на турнике и заниматься приемами штыкового боя. Он частенько увиливал от физподготовки, а я смотрел на это сквозь пальцы…
— Вы сделали правильный вывод: за любое послабление в учебе приходится расплачиваться кровью, а то и самой жизнью. Надо жалеть бойцов не снисходительностью, а высокой требовательностью…
Беседуя с Поликарповым, Георгий все время ловил себя на мысли, что ему легко говорить с этим малознакомым человеком. Он охотно отвечал на расспросы комиссара о своей доармейской жизни, о семье, о родителях, с неожиданным для себя красноречием рассказывал о своих учениках, о своей мечте продолжать учебу в педвузе.
Разговор их прервала палатная сестра: в числе других раненых Губкин должен был эвакуироваться на другой берег Волги. Он тепло простился с комиссаром и вышел на улицу.
С Волги дул легкий, прохладный ветерок. Впереди, на опушке березовой рощи, раскинулась зеленая поляна. Так хотелось побродить по ней, посидеть под кронами деревьев.
Эти места фашисты часто бомбили. Но даже когда стояла тишина, птичьих голосов не раздавалось — птицы будто отвыкли петь на войне.
На пристани мелькнула знакомая фигура Образцова. Губкин окликнул его, и тот торопливо подошел.
— Наш катер сейчас отходит, товарищ лейтенант, — сообщил он, — встретимся на том берегу…
Раненых перевозили на катерах и на баржах, идущих с интервалом метров двести: в небе часто появлялись «юнкерсы» и бомбили суда. Заметили они и катер, на котором плыл Георгий. Лейтенант сидел на палубе, когда в небе появилась тройка бомбардировщиков со свастикой на борту и спикировала на катер. Одна из бомб упала совсем близко, и катер перевернулся.
Санинструктор, сопровождавший раненых и чудом оставшийся в живых, недосчитался многих, в том числе и Губкина, которого течением отнесло далеко вниз. На родину лейтенанта в Семидомку пошла похоронка.
Лейтенант Губкин между тем, подобранный артиллеристами, был доставлен в медсанбат, а оттуда эвакуирован в госпиталь, в Саратов. После долгих маршей и бессонных ночей в траншеях с сыпучим песком в приволжских степях Георгий испытал особое блаженство, ложась в чистую постель. Люди в белоснежных халатах казались ему добрыми волшебниками. Особенно запомнилась девушка лет девятнадцати, нежная и стройная, как березка, старшая медсестра. Она подсаживалась то к одному, то к другому раненому и участливым словом облегчала боль. Это была Муза Собкова. Ее сияющее лицо красили большие голубые глаза, немного застенчивые, но такие искренние и одухотворенные. Она заботливо перевязала и рану Георгия, и от прикосновения ее рук боль сразу утихла. Впервые в эту ночь Георгий спал крепким безмятежным сном. Проснулся он, когда солнце поднялось уже высоко и заливало своим светом всю палату. Рядом на соседней койке кто-то стонал.
— Вам плохо? Позвать сестру? — забеспокоился Георгий.
Стон прекратился.
— Ничего, просто мне приснился ужасный сон, — ответил сосед. — Будто девушку мою сватали за плохого человека… Спасибо, что разбудили.
Губкин взглянул повнимательней на широкоскулое лицо соседа с повязкой на глазах.
— Скажите, товарищ, из какой вы части? Мне кажется, мы виделись с вами.
— Я курсант Краснодарского военного училища. Моя фамилия Гафуров.
— Так мы же под Абганеровом вместе стояли! — воскликнул Георгий. — Когда расстался со своими?
— В августе.
— И с того времени в госпитале?
— Нет, сначала был в плену, — нехотя проговорил сосед. — Потом с одной девушкой мне удалось бежать.
— Ее зовут Мухабат? Во сне вы произносили это имя.
— Нет, Мухабат — моя невеста, а убежал я с Катей. Ночью, на машине немецкого офицера. Гитлеровцы сразу бросились в погоню. Мы свернули с большака, проехали их тыловые позиции. До своих оставалось рукой подать, но в темноте я, видно, заехал на минное поле. Услышал взрыв и больше ничего не помню… Очнулся, слышу голос Катюши. Хотел открыть глаза, но почувствовал невыносимую боль. Меня охватил страх. Вдруг, думаю, открою глаза и ничего не увижу? Спрашиваю Катюшу: что с моими глазами? А она как заплачет. Тогда я напряг все силы и разорвал слипшиеся веки. Только ничего не увидел… Одна непроглядная тьма. С ужасом понял безвыходность своего положения. Слепой во вражеском тылу… Сказал я Катюше, чтобы оставила меня, а сама срочно пробиралась к нашим. Но она не согласилась. Где-то нашла воды, промыла глаза, сделала перевязку. На себе притащила меня к нашему переднему краю… У тебя есть любимая девушка? — спросил Гафуров.
— Я женат, у меня уже сын и дочка растут…
В палату вошли старшая медсестра Муза и две санитарки. Гафурова повезли в операционную. Губкин от души пожелал ему удачи. А когда Муза вернулась в палату, Георгий попросил у нее карандаш и бумагу. Попытался левой рукой написать письмо домой, но вместо букв получались какие-то каракули. Недописанное письмо пришлось отложить.
К вечеру у Губкина поднялась температура. Раненая рука вспухла, покрылась синими пятнами и нестерпимо разболелась. Главный хирург осмотрел руку и сообщил решение:
— Будем ампутировать — началось загноение. Это единственная возможность сохранить вам жизнь.
— Доктор, какой же я командир без руки? — Губкин еле сдерживал выступившие на глазах слезы.
— Иного выхода нет! — жестко произнес хирург. — Что важнее — сохранить руку или жизнь? На том свете рука вряд ли вам понадобится.
— Рука мне нужна на этом свете. На операцию я не согласен! — упрямо стоял на своем Георгий.
— У нас с вами имеется четверть часа на размышление. Хорошенько подумайте. — И главный хирург в сопровождении дежурного врача вышел.
С Губкиным осталась старшая медсестра Собкова.
— Надо скорее сделать операцию, иначе будет поздно, — присев на край кровати, ласково сказала Муза.
— Нет, сестричка, без руки меня жена разлюбит, — попытался через силу пошутить Губкин.
— До шуток ли сейчас? У вас началось заражение крови…
— Ничего, у меня крепкий организм, я же дальневосточник, с вашей помощью все пойдет на поправку. Кстати, помогите мне написать письмо домой. Я продиктую.
Муза взяла листок и карандаш.
— Здравствуйте, дорогие мои Ася, Юра, Женя! С письмом задержался, шли бои, — диктовал Георгий. — Наша дальневосточная дерется с фашистами геройски. На своем участке врага не пропустили. Меня легко ранило в правую руку. — Он посмотрел на медсестру. — Так и пишите. Нахожусь на излечении в том самом городе, где в гражданскую войну лежал после ранения отец. Соскучился по вас сильно. Так хочется посмотреть на вас, но свидимся еще не скоро. По газетам знаете, какое теперь положение. Не удивляйтесь, что письмо пишет медсестра, правая рука моя забинтована. Дело идет на поправку. Следующие письма буду писать сам. До скорой встречи! Целую. Папа. Пришел палатный врач.
— Ну, что решили, Губкин? — спросил он. — Операцию вам сделает прямо-таки чародей, стопроцентная гарантия успеха.
— На операцию не согласен, товарищ военврач. Лечите как угодно, только без ампутации.
— Когда начнется газовая гангрена, мы уже ничем вам не поможем.
— Мое решение окончательное, прошу передать это главному врачу. На ампутацию не согласен! Какой же я командир взвода без руки? — твердо повторил Губкин.
Всю ночь лейтенант метался в бреду, состояние его было кризисным. Дежурила Муза Собкова, она понимала, что Георгий сильно рискует, надеясь на один шанс из ста возможных.
За ночь Муза не раз на цыпочках входила в палату, делала Георгию укол и так же бесшумно уходила.
Температура у Губкина продолжала держаться высокая. Лишь на третьи сутки он почувствовал облегчение. Ртутный столбик опустился на несколько делений вниз. Это было сигналом того, что кризис миновал. Теперь с каждым днем самочувствие его становилось лучше. Вскоре Губкину разрешили вставать.
Госпиталь жил своей обычной жизнью. Выздоравливающие отъезжали кто на фронт, кто домой, кто в тыловые части, их места тут же занимали вновь прибывающие раненые. Однажды в госпитальном саду Губкин неожиданно разговорился с капитаном из оперативного отдела штаба 64-й армии.
— Как 126-я дивизия воюет? — спросил Губкин.
— 126-я? — удивленно переспросил капитан. — Вы из 126-й?
— Да. Что-нибудь случилось?
Капитан задумался, видимо решая, нужно ли лейтенанту знать правду о дивизии.
— Ну так что же? Я многих знал в дивизии.
И капитан рассказал все, что ему было известно.
В последних числах августа немцы, подтянув свежие силы, бросились на штурм внешнего обвода обороны Сталинграда. На узком участке фронта Гот нанес сильный удар по левому флангу армии и прорвал оборону переднего края. Соединения нашей армии в многодневных боях были изрядно потрепаны и не могли удержать занимаемые позиции. Ценой огромных потерь враг овладел станцией Абганерово и разъездом «74-й километр». Резервов у нашей армии не оставалось, немцы вот-вот могли выйти ей в тыл и отрезать ее. Командующий фронтом отдал приказ отвести основные силы на новый рубеж по реке Червленной. Дивизия полковника Сорокина держала оборону в центре армии, против нее Гот сосредоточил одну танковую и две пехотные дивизии. К полковнику Сорокину выехал член Военного совета армии генерал Абрамов, чтобы сообщить комдиву, что его дивизия будет прикрывать отход армии. Командующий армией высоко ценил Сорокина и просил передать ему свою личную просьбу: «На тебя вся надежда, Владимир Евсеевич, выручай!»
В ночь на 29 августа армия начала отход, а с рассветом десятки «юнкерсов» и «хейнкелей» набросились на позиции дивизии. Потом ударила артиллерия; в сопровождении танков двинулась в атаку пехота. На армейском НП не умолкал грохот разрывов снарядов, небо заволокло завесой дыма и пыли. Но дивизия не дрогнула, остановила лавину танков и отбила наступление пехоты.
Часа через три после повторной бомбежки и артподготовки последовала новая атака гитлеровцев. На этот раз их танки прорвались к артиллерийским позициям дивизии. Полковник Сорокин доложил генералу Шумилову, что много людей выбыло из строя, убиты несколько командиров батальонов, командир полка. Шумилов коротко сказал: «Приказываю держаться!»
Помощи ждать было неоткуда. Армия потому и отходила, что у нее не было сил, чтобы удержаться на занимаемых позициях. Во второй половине дня немцам удалось прорваться к командному пункту Сорокина. Дивизионная артиллерия потеряла половину орудий, снаряды были на исходе. Сорокина тяжело ранило, однако эвакуироваться он категорически отказался и продолжал руководить боем. Спустя немного погибли комиссар и начальник штаба дивизии. Личного состава и боевой техники осталось меньше одной трети. Начальник оперативного отделения доложил о создавшемся положении в штаб армии. Оттуда последовала команда: «Задача вами выполнена, по мере возможности отходите к внутреннему обводу обороны Сталинграда». Отойти к своим удалось немногим.
— 126-я дивизия дала возможность армии развернуться на внутреннем обводе обороны Сталинграда, — заключил рассказ капитан.
— А что стало с комдивом? — спросил Губкин.
— Судьба его мне неизвестна. Знаю только, что из окружения он не вышел…
— Значит, погиб и командир полка майор Наумов… — сокрушенно вздохнул Губкин. — Может, слышали о судьбе капитана Шакуна?
— Нет, — коротко ответил капитан. — Остатки дивизии отошли в полосу 57-й армии.
Губкин долго еще сидел молча, не в силах смириться с мыслью, что многих однополчан больше нет в живых, вспоминал своего комдива, храброго и волевого полковника, восхищался его мужеством. Не распорядись так жестоко и безжалостно судьба, из него вышел бы крупный военачальник.
Георгий с нетерпением ждал выздоровления, но рана заживала медленно, и чувствовал он себя плохо. В глубине души сознавал, что все его переживания вызваны прежде всего отсутствием писем от Аси. Мать ему прислала письмо, в котором почему-то просила как можно быстрее подтвердить, что он, Георгий, в самом деле жив, и сообщить всю правду о своем ранении, но ничего не писала об Асе и детях. В Георгии с новой силой пробудилась тоска по родным, по дому. Ему казалось, что на передовой у него была спокойней жизнь, правда, она в любой момент могла оборваться, но на сердце не было такой тяжести, какую он переживал здесь, в госпитальной палате.
Скверно было на душе и от фронтовых сводок. Враг прижал наши войска к Волге, в Сталинграде днем и ночью кипели жестокие уличные бои.
Шел третий месяц пребывания Губкина в госпитале, а от Аси не было вестей, она почему-то упорно молчала. Отсутствие писем от нее насторожило Георгия и отдалило их друг от друга. Находясь вдали, он не мог объяснить, что же между ними произошло. Между тем дело шло к выздоровлению. Перед самой выпиской его навестил Образцов. Он тоже был ранен и эвакуирован в Саратов, только находился в другом госпитале. От наблюдательного взгляда ординарца не укрылось подавленное состояние взводного, и он уговорил лейтенанта вечером пойти в госпитальный клуб.
В клубе собрались выздоравливающие раненые, медсестры, шефы-студентки. В зале звучала музыка. Георгий сразу же увидел Музу и пригласил ее на танец. Они плавно закружились под звуки вальса «На сопках Маньчжурии». Муза танцевала легко и красиво, какая-то притягательная сила таилась в ней. После вальса был следующий танец, потом еще и еще. И каждый раз, приглашая ее, Георгий испытывал все большее волнение.
Муза нравилась ему и внешностью и характером. Она показалась Георгию прелестным созданием, неожиданно возникшим среди смертей и пожарищ войны. В белоснежном халате в палате раненых бойцов она была похожа на ангела, а не на сестру милосердия. Ее большие голубые глаза, казалось, излучали теплоту и нежность. Георгий любовался ею, как первым весенним благоуханным цветком, от которого нельзя отвести глаз. Хотелось высказать идущие от сердца слова восхищения, но что-то сдерживало его. После танцев, прощаясь, он сообщил Музе, что завтра уезжает на фронт.
— Выписываетесь? — упавшим голосом переспросила она. — Но вы ведь не долечились?
— Спасибо вам большое, все в порядке! — бодро произнес Георгий и неожиданно для себя обнял Музу.
Девушка не отстранилась, она выжидательно смотрела ему в лицо.
— Вот и все… Больше не увидимся! — грустно проговорила она.
Они тепло простились, и Губкин долго смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью.
Наутро он пришел за документами, продовольственным и вещевым аттестатами. Старший лейтенант интендантской службы был с ним предупредителен.
— Куда бы хотели поехать, лейтенант?
— В одну из дивизий Западного фронта.
— Есть какая-нибудь причина?
— Да. На границе с Восточной Пруссией служил мой брат, он пропал без вести. И мне хотелось бы на то направление.
— Что ж, постараюсь помочь вам. Есть у нас дивизия, дислоцирующаяся сейчас в районе Пензы. Она как раз готовится к отправке на Западный фронт. Поезжайте-ка туда…
На вокзале, как и договорились накануне, Губкина ждал Образцов. Вывший ординарец хотел во что бы то ни стало попасть со своим командиром взвода в одну часть и оставил госпиталь на свой страх и риск без разрешения. Патрульные военной комендатуры, проверявшие документы, приняли его за санинструктора, сопровождавшего лейтенанта Губкина.
Хотя в вагоне народу было много, Губкину и Образцову удалось забраться на верхние полки. Георгий попытался заснуть, но грустные мысли о жене не давали покоя. Почему она не пишет? И на станции тогда не дождалась его, и теперь не шлет ни весточки. И мать почему-то молчит о ней. Может, получив известие, что погиб, Ася вышла за другого? И он стал вспоминать, как познакомился с ней, как жили. Выходило не очень-то здорово. Никогда она о нем особенно и не заботилась, не переживала. Нет, не любила она, потому и не дорожила, — все крепче убеждался он.
Поезд подходил к Пензе. Вошедшие в купе патрули потребовали документы. Губкин пытался объяснить, кто такой Образцов и почему едет с ним, но старший патруль приказал Образцову следовать за ним. Губкин сошел вместе с патрулями и, позвонив дежурному по гарнизону, к радости, добился освобождения Образцова. Вместе с ним лейтенант и явился в гарнизон.
Командир 184-й стрелковой дивизии полковник Кайда, выслушав лейтенанта, сказал удовлетворенно:
— Нам обстрелянные люди очень нужны. Дивизия, хотя и воевала на подступах к Сталинграду, почти полностью обновилась, и молодое пополнение надо серьезно учить боевому мастерству. Пойдете в 297-й стрелковый полк в распоряжение командира 2-го стрелкового батальона капитана Мельниченко. Принимайте пока взвод в пулеметной роте, а остальное будет зависеть от того, как себя проявите.
В начале января 1943 года дивизия выгрузилась на станции Таловой и своим ходом двинулась к Дону, в район Нижней Марковки, а 14 января в составе 3-й танковой армии генерала П. С. Рыбалко прорвала оборону противника в районе Кантемировки.
Из-за вьюги наступление развивалось медленно, но ко второй половине дня 15 января танкисты генерала Рыбалко, пробив брешь в районе Павлово, вышли в тыл итальянскому корпусу, который занимал оборону на противоположном берегу Дона. Развивая успех подвижных войск, полки 184-й стрелковой дивизии вновь атаковали врага. Взвод лейтенанта Губкина в составе передового батальона ворвался в Валуйки и закрепился на западной окраине города.
Стояли сильные морозы. Солдаты разожгли костер. В условиях зимних боевых действий костер имел почти такое же значение, что и вода в пустыне. Сколько радости он приносил промерзшим воинам! Бойцы грели у огня окоченевшие руки и ноги, солдатскими прибаутками разгоняли тоску о доме.
Губкин буквально валился с ног от усталости. Образцов уговорил своего командира прилечь на теплую золу и вздремнуть, заботливо укрыл его. Но холод все равно пронизывал до костей. К рассвету Георгий совершенно закоченел, его начала трясти лихорадка, которой он переболел когда-то в детстве.
Губкин то метался в жару, то дрожал от холода. Из медпункта его эвакуировали в медсанбат дивизии. Но медсанбату было приказано сменить место расположения. Снова Георгия повезли в санитарной летучке. Ночью прибыли в какой-то населенный пункт. Прифронтовое село спало тревожным сном. Скорее не спало, а дремало, как дремлет солдат, сидя в окопе на передовой. Губкина разместили в домике, где при немцах жил староста. В соседней комнате остановился командир артиллерийского полка. Когда он вошел в комнату, Георгию показалось, что они где-то встречались. И вспомнил: это же муж Светланы Петровой, с которой он работал в одной школе!
— Здравствуйте, товарищ Петров! — обрадовался земляку Губкин. — Не узнаете?
— Надо же, учитель! — радостно воскликнул подполковник. — Здорово, брат! А я тут не один, вместе с боевой подругой. — И пояснил: — Жена со мной. Захотела поехать на фронт, и все. Да вот и она.
В дверях появилась Светлана с сержантскими знаками различия:
— Здравствуйте, Георгий Никитович! Какими судьбами?
Губкину на мгновение показалось, будто он в родной школе. В учительской открылась дверь, и Светлана напевно произносит с порога: «Здравствуйте, Георгий Никитович!»
— Очень просто, дорогой войны! — с улыбкой проговорил он.
— Правильная пословица: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком…»
— Ты что, болен? — подполковник внимательно посмотрел на Губкина. — Эк как тебя трясет!
— Малярия…
— Где вы умудрились ее зимой подцепить? — огорчилась Светлана. — Ну ничего, мы сейчас вас в два счета вылечим. Константин, — обратилась она к мужу, — принеси-ка ром. Трофейный.
— Сейчас, согреешься, лейтенант! — Возвратившийся из соседней комнаты Петров наполнил солдатские кружки ромом. — Пей, земляк!
— Эх, была не была! — Губкин махнул рукой. — Ваше здоровье, друзья! — Он выпил всю кружку. Дух захватило. Но он пошутил: — Если со мной будет плохо, вы отвечаете.
Петров засмеялся:
— Не беспокойся, умереть не дадим! А теперь — спать.
Под утро Губкин проснулся весь мокрый от пота. Он чувствовал слабость во всем теле, но лихорадку как рукой сняло. В избе никого не было. С недоверием прислушался к тишине. Она показалась ему страшнее стрельбы. Тревожные мысли охватили его. Георгий знал со слов Петрова, что в нашем тылу осталось довольно много разбитых немецких и итальянских частей. Они перехватывали обозы, нападали на отдельных бойцов и командиров.
В соседней комнате кто-то говорил, но трудно было разобрать, чья речь — наша или немецкая. Георгий приник к стене. Вроде женский голос: наверное, хозяйка с кем-то разговаривала. Он вышел к ней.
— Поправились? Вот и хорошо, — улыбнулась хозяйка.
На столе лежала записка, написанная рукой Светланы:
«Мы отправились вперед. До встречи после победы на берегу Амура».
Губкин быстро натянул белый дубленый полушубок, вышел на улицу. К обеду он добрался до своего батальона.
4
В начале февраля 184-я стрелковая дивизия получила приказ наступать на Харьков. Неожиданно рано пришла оттепель, дороги развезло. Совершая изнурительные переходы, полк, в который входил взвод Губкина, вышел к окраинам Харькова. На улицах города завязались бои. Наши войска стали охватывать противника с флангов. Танковый корпус СС, оборонявший Харьков, оставил город, несмотря на численное превосходство.
Во второй половине февраля в Запорожье прилетел Гитлер. На совершенно секретном совещании, в котором участвовали командующий группой армий «Юг» фельдмаршал фон Манштейн, генералы Клейст и Йодль, Гитлер решил пойти ва-банк — бросить основные силы на южное крыло фронта и нанести мощный контрудар под Харьковом, чтобы как-то реабилитировать себя за поражение под Сталинградом и воспрепятствовать освобождению Донбасса.
Войска Н. Ф. Ватутина и Ф. И. Голикова, преодолевая неимоверные трудности, продолжали двигаться на запад. О готовящемся контрударе противника разведка на этот раз узнать не сумела.
Ночью взвод Губкина двигался в походном строю по раскисшей дороге, когда внезапно впереди раздался громкий крик: «Немцы!»
Лейтенант тут же подал команду: «К бою!» Отделения заняли оборону.
Солдаты хорошо знали, что, чем глубже окоп, тем безопаснее, поэтому, хотя земля мерзлая, рыли сноровисто. Командир взвода, перемещаясь от одной стрелковой ячейки к другой, подбадривал бойцов советами, шутками.
Вернувшись на свой НП, Губкин увидел, что Образцов сбросил шинель и в одной гимнастерке роет окоп для командира взвода, а свою стрелковую ячейку еще не начинал. Георгий отстранил его и взялся было за лопатку, но тут прибежал запыхавшийся солдат из боевого охранения:
— Товарищ лейтенант, в селе, в двух километрах от нас, гул моторов вражеских танков!
— Беги, доложи командиру роты и скажи, что я прошу пушечку на прямую наводку.
Губкин собрал командиров отделений и приказал им довести до каждого солдата, что немецкие танки поблизости, поэтому всем надо во что бы то ни стало успеть отрыть окопы и приготовиться к отражению вражеской атаки. Реальная опасность подтолкнула людей, дружнее заработали ломы и саперные лопатки в руках бойцов.
Уже развиднялось, а связной от командира роты еще не возвращался и никакой пушки не было. Губкин проверил наличие имеющихся во взводе противотанковых гранат. Их оказалось двенадцать штук. Мало, очень мало.
Между тем гул вражеских танков стал еще ближе, наша артиллерия открыла заградительный огонь.
У троих солдат Губкина сломались лопатки, один за другим солдаты прибежали к командиру взвода. Первому он отдал свою, остальным ничем помочь не мог.
— Сколько можно говорить, копайте малой лопаткой! — сорвался он на крик.
— Мы не только копаем, зубами готовы грызть, а толку от этого… Вон они на подходе!
Солдат махнул рукой в сторону танков. Те уже взбирались на гребень холмика, в километре от позиции взвода. Вот-вот из дул их пушек вырвутся языки пламени, и снаряды взметнут вверх мерзлую землю. Губкин понял, почему немецкие танки идут медленно: чтобы не отрываться от своей пехоты. Значит, можно надеяться на выигрыш еще нескольких минут. Бойцы за этот короткий миг успели углубиться в землю на два штыка — окопчики такой глубины не спасали не только от гусениц танков, но и от осколков снарядов.
Губкин чувствовал, что гитлеровцы вот-вот откроют прицельный огонь. И действительно, позади позиции взвода разорвался снаряд. Когда дым рассеялся, невдалеке показался связной, а за ним — артиллеристы, катящие сорокапятимиллиметровую пушку. В это время по вражеским танкам открыла огонь с фланга и противотанковая батарея. В бой вступил противотанковый резерв командира полка. Танки остановились и, отстреливаясь, начали пятиться назад.
Через час противник возобновил атаку. Несмотря на большие потери, ему удалось прорвать оборону батальона капитана Мельниченко и выйти к позициям полковой артиллерии. Дуэль между вражескими танкистами и нашими артиллеристами продолжалась до глубокой ночи.
184-я стрелковая дивизия и приданная ей танковая бригада, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами противника, на пятые сутки оказалась в окружении. Утром 25 февраля повалил густой липкий снег. Видимость резко ухудшилась. Командир дивизии полковник Кайда приказал после пятнадцатиминутного артиллерийского налета прорвать кольцо окружения немцев и присоединиться к своим.
В ответ на залпы нашей артиллерии заговорили пушки и минометы противника. Красные ракеты, вспоров небо, послужили сигналом начала атаки. Наши бойцы бросились на прорыв. Однако враг усилил артиллерийско-пулеметный огонь, и атака захлебнулась. Стало ясно, что в этом направлении не пробиться.
Разведка не сработала и на этот раз: главный удар дивизии оказался по тому участку, где противник успел укрепиться и имел превосходство. Полковник Кайда плохо изучил противника, передоверился начальнику разведки и теперь остро переживал, что его бойцы оказались в ловушке. Гитлеровцы пропустили их через свой передний край, а затем фланкирующим огнем и контратаками отрезали. Лишь танковая бригада, потеряв две тридцатьчетверки, сумела организованно отойти.
После неудачной попытки вырваться из окружения долго пришлось собирать остатки дивизии. 297-й полк отступил в извилистый овраг. Людей и боевой техники в стрелковых ротах осталось меньше половины. Лишь во взводе Губкина положение было неплохое: здесь потери за день составили три человека — благодаря тому, что бойцы не поленились отрыть глубокие окопы.
В маленькой избушке на окраине заброшенного села разместился штаб дивизии. Полковник Кайда, накинув на плечи полушубок, сгорбившись, сидел на низком табурете, мрачно поглядывая на топографическую карту, испещренную красными и синими знаками. Глубокие балки, ведущие на восток, как нарочно, упирались в траншеи и узлы обороны противника. Полковник все больше убеждался, что выйти из окружения без помощи извне невозможно.
Встав из-за стола, он долго ходил по комнате, потом подошел к замерзшему окну, побарабанил пальцами по обледеневшей раме, тяжко вздохнул. Вышел в соседнюю комнату, где помещался дивизионный радиоузел, и потребовал от радиста еще раз попытаться установить связь с командным пунктом 3-й танковой армии. Но все попытки были тщетны: штабу армии удалось выйти из окружения, и расстояние, разделявшее их, настолько увеличилось, что дальность действия радиостанции не перекрывала его.
Положение дивизии становилось катастрофическим. Чем дальше уходили главные силы армии, тем теснее смыкалось вражеское кольцо, тем меньше оставалось шансов выйти из окружения.
— Товарищ полковник, я их слышу, а они меня нет! — с отчаянием доложил старший радист.
— Не отвечает радиостанция начальника штаба — вызывайте командующего армией!
— Передатчик работает на всю мощность, но они все равно нас не слышат.
Время тянулось мучительно долго.
— Товарищ полковник, «Леопард» в эфире! — вдруг встрепенулся радист и передал микрофон комдиву.
— Прошу к аппарату товарища Гунько[1].
— Гунько ведет переговоры с верхом, — Кайда по голосу узнал адъютанта командующего армией.
— «Леопард», я «Каштан», к аппарату Пожарского[2].
— Пожарского нет, ждите товарища Гунько, он вами интересовался! — ответил адъютант генерала Рыбалко.
Комдив обрадовался этому известию. «Значит, разыскивают», — подумал он, надеясь на помощь. Кайде многое было еще не ясно. Он считал, что непременно надо переговорить с генералом Рыбалко, доложить ему обстановку и попросить помощи. Полковник еще не отдавал полностью себе отчета в том, что должен был действовать самостоятельно, не дожидаясь помощи командующего, и что потерянные часы могут оказаться пагубными для всей дивизии.
Связь с КП армии окончательно прервалась. Повторные попытки радиста восстановить связь не увенчались успехом.
Полковник Кайда тяжело опустился на стул. Разрывы бомб и снарядов отдалялись к востоку. Чуть слышное эхо боя удручающе действовало на комдива. Сейчас он думал не о своей судьбе, а о людях, попавших вместе с ним в окружение. И больше всего комдива волновали потери. Они были значительны и, главное, ни к чему не привели.
Второй час не переставая шел мокрый снег, завывала вьюга. Дверь раскрылась, и в избушку вошли командир и начальник политотдела приданной танковой бригады. Они прибыли к комдиву и начальнику политотдела дивизии, чтобы обсудить создавшуюся обстановку.
— Итак, товарищ полковник, прорыв из окружения не удался, — без обиняков начал генерал-майор танковых войск И. И. Волков, командир приданной танковой бригады.
— Товарищ генерал, вы не хуже меня знаете, насколько противник превосходит нас в танках, артиллерии и пехоте, — тихо отозвался Кайда.
— Дело не только в превосходстве. Главный удар вы сосредоточили против сильного участка обороны противника. И это, прежде всего, следствие полного бездействия разведки.
— Разведка, к сожалению, тоже оказалась в трудном положении.
— Каково ваше решение?
— Необходимо установить связь со штабом армии или фронта, уточнить направление выхода из окружения, заручиться их поддержкой и тогда начать действовать.
— Если бы штаб армии имел такую возможность, то давно бы помог.
— И что же предлагаете вы? — низко склонив голову над картой, спросил Волкова Кайда.
— Сейчас нам дорого обходится каждая упущенная минута, связь со штабом армии вряд ли удастся восстановить. Бездействовать — значит погубить всех. В соответствии с создавшейся критической обстановкой предлагаю общее руководство по осуществлению прорыва из окружения поручить командованию танковой бригады.
Полковник Кайда не ожидал такого поворота событий.
— Вы потеряли уверенность в успехе прорыва, — чуть помедлив, добавил Волков. — Командир, не верящий в победу, беспомощен.
— В таком случае выслушаем мнение начальника политотдела дивизии, — стараясь быть спокойным, сказал Кайда, надеясь на его поддержку.
— В создавшейся обстановке до выхода из окружения командование дивизией должно быть передано тому, кто верит в победу, — неожиданно для Кайды поддержал комбрига начальник политотдела дивизии. — К тому же роли наших соединений переменились, дивизия понесла большие потери, а танковая бригада сумела сохранить боеспособность и является главной ударной силой для прорыва вражеского кольца окружения.
Кайда не возразил.
Все разошлись. Домик, который служил штаб-квартирой комдиву, сразу опустел. «Судьба играет человеком, — невольно подумалось Кайде. — Лишь накануне поздравили с правительственной наградой, а сегодня отстранили от командования дивизией».
Низко склонив голову, он думал о том, что будет с ним, когда дивизия выйдет из окружения. Выйдет ли?..
…Комбриг Волков решил прорывать кольцо окружения в двух направлениях.
Левая колонна под командованием генерал-майора Волкова располагала четырьмя танками КВ, двадцатью семью тридцатьчетверками, двумя «катюшами» на танкетках, за которыми следовали два десятка автомашин с боеприпасами и горючим. Остатки 297-го стрелкового полка, куда входил взвод Губкина, составили танковый десант и использовались в основном в походном охранении. На каждом танке разместился десант — по восемь — десять стрелков.
Все эти силы были приведены в полную боевую готовность и расположились в глубокой балке, протянувшейся на несколько километров. В правой колонне под командованием начальника штаба дивизии было восемь тридцатьчетверок, четыре бронеавтомобиля и остатки 184-й стрелковой дивизии — около полутора тысяч солдат и офицеров с обозом на тридцати двух автомобилях и пятидесяти подводах.
Перестал валить снег, небо постепенно очистилось от туч. Вражеские самолеты не заставили себя долго ждать. Вначале появились «мессершмитты», за ними — «юнкерсы». Встав в круг, бомбардировщики начали бомбить старый район сосредоточения дивизии, где еще оставались тыловые подразделения.
Генерал Волков решил начать прорыв в девятнадцать часов, а до этого приказал занять круговую оборону и готовиться к предстоящему бою.
Командиром десанта тридцатьчетверки под номером «661», замыкавшей колонну, был назначен лейтенант Губкин. Один станковый пулемет он подготовил для стрельбы по наземным целям, а другой приспособил для ведения огня по вражеским самолетам. Не успел лейтенант отдать все необходимые распоряжения, как за ним на мотоцикле с коляской приехал офицер связи.
Остановились они у командирского КВ. Генерал-майор Волков стоял у развернутой прямо на гусенице танка карты в окружении штабных командиров. Он был в черном комбинезоне и ничем не выделялся среди танкистов.
— Товарищ лейтенант, — обратился генерал к Губкину, — ваша десантная группа вместе с танковым экипажем составит тыльную походную заставу. Командир танка подчиняется вам. Решение принимайте по обстановке. Если нужно, вступайте в бой. Необходимо прикрыть отрыв главных сил от противника. Действуйте энергично, не позволяйте гитлеровцам висеть на хвосте колонны. Связь поддерживайте непосредственно со мной через танковую радиостанцию. — Волков, строго посмотрев на Губкина, спросил: — Надеюсь, вы понимаете, что от вас требуется?
— Стоять насмерть! — ответил Губкин.
— Во что бы то ни стало вы должны обеспечить отрыв главных сил от противника! Если врагу удастся развернуть крупные силы, к вам на помощь придет арьергардный танковый батальон. Поступите в распоряжение командира этого батальона.
Губкин вернулся к своим бойцам в приподнятом настроении. Вид комбрига, его решительность вселили в Георгия уверенность. Чувствовалось по всему, что такой человек, как Волков, сможет вывести дивизию из окружения, хотя на войне бывает всякое…
Вновь неожиданно появились немецкие бомбардировщики. Образцов прильнул к пулемету, приспособленному для зенитной стрельбы. Но команды стрелять не последовало. В небо взлетели две зеленые ракеты, это сигнал «я — свой», и вражеские летчики, приняв наши части за свои, пролетели мимо. Правда, немного спустя над колонной пронеслась «рама» и открыла огонь. В ответ с нашей стороны снова взвились две зеленые ракеты. Вражеский самолет-разведчик опустился совсем низко, затем, набрав высоту, улетел. Все напряженно ожидали повторения налета. И лишь с наступлением сумерек облегченно вздохнули. Очевидно, фашистские летчики были введены в заблуждение нехитрой маскировкой: на одну из наших машин был натянут брезент с нарисованной на нем свастикой — опознавательным знаком, которым гитлеровцы обозначали свои колонны.
На пути следования левой колонны находился населенный пункт Семеновка. Генерал Волков направил туда разведдозор, чтобы установить, есть ли там противник. Уже совсем стемнело, но разведчики все не возвращались. Лейтенант Губкин по радио докладывал генералу Волкову:
— В хвост колонны пристроились три «пантеры».
— Развернуться на выгодных позициях, подпустить противника ближе и уничтожить его, — последовал приказ генерала.
Учитывая явное превосходство противника в силах, Губкин мог рассчитывать только на дерзкие действия своих бойцов и экипажа танка и на военную хитрость. Еще раз оценив ситуацию, он решил занять оборону не на западных скатах высоты, которые были обращены в сторону противника и где имелся обзор для стрельбы, а на обратных, восточных. Командир танка младший лейтенант Назаров с недоумением наблюдал за действиями Губкина.
— Товарищ лейтенант, — удивился он, — мы что, от своих будем отстреливаться? Немцы ведь наступают с запада, с восточных скатов их не видно!
— Сейчас для нас важна внезапность, — разъяснил Георгий. — Необходимо, чтобы до открытия огня мы не демаскировали свой танк.
Назаров, поняв замысел Губкина, одобрительно кивнул.
Уже без десанта на броне наш танк неожиданно для противника появился на гребне высоты и первыми же двумя выстрелами поджег головную машину гитлеровцев. Затем отъехал назад, скрывшись за высотой. Две «пантеры» в сопровождении автоматчиков устремились за ним. Башня танка Назарова вновь показалась на гребне, но теперь в другом месте. Четвертым снарядом младшему лейтенанту удалось поджечь еще одну «пантеру» и снова отойти. Третья «пантера» гитлеровцев, сопровождаемая ротой автоматчиков, тем временем преодолела западные скаты и вышла на восточную сторону. Губкин открыл огонь по врагу из станковых пулеметов. Автоматчики, не ожидавшие организованного огня с обратных скатов высоты, понесли большие потери и вынуждены были залечь. «Пантера» отползла за боевые порядки своей пехоты.
Тыльная походная застава воспользовалась этим замешательством и оторвалась от противника.
— Молодец, Губкин! — скупо похвалил комбриг лейтенанта, выслушав его доклад по радио.
Время приближалось к полуночи. Георгий уловил сквозь треск в наушниках голос командира головной походной заставы, который сообщил: «Из села Ивановка спешно выдвигается на конной тяге противотанковая батарея. Спешит перерезать дорогу, по которой должна двигаться наша колонна». Губкин в свою очередь доложил о показавшихся позади них примерно в километре вражеских танках. Генерал Волков приказал Губкину:
— На выгодном рубеже принять бой и задержать противника!
Вражеская батарея еще не успела развернуться и открыть огонь по нашим танкам с фронта, как внезапно началась пушечная стрельба с фланга. Генерал Волков, выбравшись из своего КВ, прислушался к приближающемуся грому пушек. Казалось, противник наносит удары по правой колонне. Уточнить это не представлялось возможным, так как радиосвязь вышла из строя.
Тыльная походная застава Губкина, усиленная еще одним танком, снова навязала гитлеровцам короткий бой. На этот раз противнику удалось разгадать маневр командира танка «661» и, выждав момент, поджечь тридцатьчетверку. Назаров успел выпрыгнуть из верхнего люка и, борясь с огнем, стал кататься по снегу. Следом выскочили механик-водитель и радист в обгоревших комбинезонах. На помощь заставе вовремя подошли еще две тридцатьчетверки и с ходу вступили в бой.
Генерал Волков видел, что балки и овраги, занесенные снегом, не позволяют противнику выйти во фланг нашей тыльной походной заставе. С фронта батарея противотанковых орудий тоже не представляла особой угрозы для танков. Поэтому он решил основные силы развернуть на флангах, в своем распоряжении оставил лишь второй танковый батальон.
Вражеские снаряды начали рваться у дороги. Справа по заснеженному полю медленно выдвигались двенадцать немецких танков, ведя огонь с коротких остановок. Еще четырнадцать средних и легких танков спускались с холма и тоже обстреливали колонну генерала Волкова. Стрельба усиливалась с обеих сторон. Левая группа вражеских танков, потеряв три машины, застряла у оврага. Правая, заняв выгодную позицию, наносила урон нашим машинам. Волков по балке, пересекавшей дорогу, бросил в контратаку второй батальон. Гитлеровцы заметили маневр и быстро развернули свои машины навстречу нашим. Танковая дуэль длилась минут сорок.
Противнику, действующему слева, удалось по балке вырваться на дорогу, вывести из строя четыре наших танка и создать угрозу соединения со своей правой группой. Генерал Волков, возглавив на своем КВ оставшуюся в его распоряжении танковую роту второго батальона в составе четырех танков, ринулся в контратаку. Броню машины генерала не брали снаряды немецких легких и средних танков. И хотя врагу удалось поджечь идущий следом танк командира роты, остальные успели вклиниться в боевые порядки противника. КВ Волкова протаранил три вражеские машины, четвертой выстрелил в борт, и над ней сразу взметнулся столб черного дыма. Вражеская атака была отбита.
Когда Губкин нагнал хвост колонны, наши танкисты мирно отдыхали у опушки рощи. Броня их танков еще не успела остыть после боя. Генерал Волков приказал командирам батальонов и начальникам походных застав прибыть к нему. Когда Губкин прибежал туда, генерал поздравлял их с победой. «Из тридцати одного танка, — сказал он, — мы потеряли девять, враг понес гораздо большие потери. Но среди нас нашлись люди, которые смалодушничали и бросили подбитую танкетку с ракетной установкой. Приказываю командиру батареи «катюш» совместно с подразделениями усиления вернуться назад и подорвать танкетку с секретным оружием».
В состав группы, назначенной для выполнения этой боевой задачи, кроме трех танков в качестве десанта прикрытия вошел пулеметный взвод Губкина.
Мороз крепчал. Нелегко было держаться десанту на танковой броне под холодным пронизывающим ветром. Снег бил в лицо. От малейшего прикосновения к броне, схваченной морозом, жгло руки. Гораздо легче было пробиваться на восток, чем возвращаться назад. Это было все равно что бросаться на разъяренного зверя. Но секретное оружие нельзя было оставлять врагу.
Генерал Волков тревожно вглядывался в ночную мглу. Время шло, и пора бы вернуться боевой группе. Но ни взрывов, ни стрельбы ниоткуда не доносилось. Близился рассвет. И вот наконец-то впереди полыхнуло, послышался отдаленный взрыв. Холодное небо разрезали вражеские трассирующие снаряды. Но вскоре опять все вокруг стихло…
Немцы никак не предполагали, что русские, вырвавшись из окружения, вдруг вернутся. Боевая группа, выполнив задачу, пристроилась в хвост колонны и вышла к нейтральной полосе. До своих оставалось рукой подать. Но на пути возникло новое препятствие — высота с крутыми скатами. Разведка доложила, что противника на ней нет, но подъем слишком крут. Предстояло преодолеть около километра, а уже наступал рассвет. По параллельной дороге, что севернее, началось движение вражеской техники. Всем стало ясно, что выход колонны из окружения опять под угрозой.
Головной танк командира 1-го батальона застрял у подножия высоты, которую пересекала единственная дорога.
Движение остановилось. Обеспокоенные бойцы высыпали на обочину дороги. Генерал Волков вырвался вперед на своей машине и подал команду: «Делай, как я!» Его тяжелый танк, зигзагами огибая высоту, продвинулся метров на двести и… забуксовал. Опытный механик-водитель давал газ, но машина все больше зарывалась в землю.
— Назад и с разгону! — послышался спокойный голос комбрига.
Со второй попытки КВ наконец выскочил вперед, оставив за собой оголенный до красной глины след. Когда танк Волкова достиг середины высоты, гул вражеских машин, преследующих нашу колонну параллельным курсом, стал слышен уже впереди, артиллерийская канонада усилилась. По всему было видно, что гитлеровцы успели перерезать дорогу. Волков считал, что противник столкнулся с нашими передовыми частями. В этих условиях обстановка, конечно, могла сложиться по-разному. В случае если бы гитлеровцам удалось опрокинуть заслон, Волкову пришлось бы всю боевую технику взорвать и выходить из окружения лишь со стрелковым оружием. Танки не могли свернуть с дороги из-за больших снежных заносов.
Во что бы то ни стало и как можно быстрее надо было овладеть высотой. Подъем к вершине становился все круче, и танки могли просто перевернуться. Но генерал Волков личным примером увлек за собой танкистов.
Вскоре его КВ вполз на вершину высоты. Оттуда стали видны две дороги, разветвлявшиеся на юго-восток и на восток. Впереди, за чахлой рощицей, раскинулось село. Разведдозор донес, что там располагаются тыловые подразделения частей нашего кавкорпуса. Колонна двинулась к селу.
Утро наступило ясное и морозное. Немцы лишь изредка стреляли шрапнелью по той роще, где час назад передовые артиллерийские части кавкорпуса дали бой вражеской танковой колонне.
Генерал Волков, распорядившись накормить людей, сам направился на КП кавкорпуса, где встретился с начальником штаба. Полковник признался:
— Я, грешным делом, чуть маху не дал: приказал открыть огонь. Мои разведчики доложили, что столкнулись с танковой колонной врага. На счастье, командующий артиллерией усомнился в их докладе и направил своих корректировщиков. Когда те сообщили, что выходят из окружения наши танки, мы, конечно, обрадовались…
— Ваших разведчиков, как и моих, не сухой колбасой, а сухой соломой надо кормить! — пошутил Волков.
— С разведчиками разберемся. У немцев подошли резервы, они готовятся к наступлению. Что намерены делать вы?
— Приказано поступить в распоряжение генерала Рыбалко.
Не успел Волков вернуться на свой КП, как обстановка резко изменилась: немцы ринулись в атаку. Врагу удалось оттеснить кавкорпус и присоединившиеся к нему части правой колонны 184-й стрелковой дивизии, которые также вышли из окружения. Танки, артиллерия и пехота, следовавшие в составе левой колонны генерала Волкова, были брошены к ним на помощь.
Стрелковый полк, куда входил взвод станковых пулеметов Губкина, был временно подчинен 25-й гвардейской дивизии и занял оборону южнее Соколова, на стыке с отдельным чехословацким батальоном полковника Свободы.
Губкин обрадовался, узнав о том, что чехословацкие воины сражаются на нашей стороне и что еще один союзник начал боевые действия против фашистской Германии. Он с любопытством разглядывал их форму, необычную кокарду на шапке. Вооружение в батальоне было наше. Особенно поразило лейтенанта сходство наших и чехословацких воинов во внешности, языке, обычаях. Это, видимо, и сближало быстро людей, делало их друзьями.
На наблюдательном пункте командира первой роты надпоручика Отакара Яроша накрыли импровизированный стол. На ящике из-под махорки разложили хлеб, галеты, сало, колбасу, американскую тушенку. Чехословацким друзьям больше всего понравилось русское сало. Только выпить ничего не нашлось, лишь к вечеру должны были подвезти наркомовские. Вместо водки пили чай.
Гитлеровское командование не оставило без внимания батальон Свободы и бросило против него в бой сразу около шестидесяти танков в сопровождении автоматчиков, пытаясь во что бы то ни стало расправиться с отважными чехословацкими воинами. Соколово несколько раз переходило из рук в руки. Враг превосходил в силах роту Отакара Яроша, и на прикрытие ее фланга был брошен взвод станковых пулеметов Губкина. Гитлеровцы попали под кинжальный огонь советских пулеметчиков.
Много фашистов полегло в том бою. Первая рота батальона Свободы получила приказ отойти на новые позиции.
На прощание Ярош, окинув Георгия долгим взглядом, сказал:
— Спасибо, друже, за крепкую поддержку. До скорой встречи!
Немцы обнаружили отход чехословацкого подразделения с переднего края и навалились на позиции бойцов Губкина. Им пришлось отбить подряд шесть атак. Роте Отакара Яроша под утро удалось закрепиться на новом рубеже. Но встретиться двум побратимам-командирам не было суждено: в эту грозную ночь Ярош пал смертью храбрых. Позже Георгий узнал, что посмертно Отакару Ярошу, первому из иностранцев, было присвоено звание Героя Советского Союза.
В боях под Соколовой солдаты надпоручика Отакара Яроша и лейтенанта Губкина на поле боя скрепили совместно пролитой кровью братский союз.
Гитлеровские танковые дивизии СС так и не смогли прорваться на этом участке к Харькову по кратчайшему пути с юга. Враг вынужден был провести перегруппировку и перебросить крупные силы на север. Оборона по реке Мже — на рубеже дружбы советских и чехословацких воинов — оказалась непреодолимой для противника.
После жестоких боев под Харьковом 184-ю дивизию вывели в район Старого Оскола на доформирование. Здесь уже не рвались мины, не свистели вражеские пули. Был конец марта. На снежных проталинах начали выглядывать подснежники, предвещая наступающую весну. Лейтенанта Губкина назначили командиром 4-й стрелковой роты.
Тяжело было Георгию расставаться со своими пулеметчиками, их сроднили бои и походы, трудности и лишения военного времени. Образцова Губкин хотел взять с собой, но комбат капитан Мельниченко воспротивился:
— Если каждый, кто уходит от нас с повышением, будет забирать с собой бойцов, от батальона ничего не останется.
— Товарищ капитан, я же не просился командовать ротой. Тем более такой ротой, которая меньше взвода и в которой все надо начинать почти с нуля.
— Во-первых, товарищ лейтенант, желающие командовать ротой среди командиров взводов найдутся, а во-вторых, не думаю, чтобы рядовой Образцов помог сколотить роту. Говорят, он у вас в сутки спит по двадцать четыре часа, да еще выпивать любит.
— Не может быть такого! У него «сузак», — хитровато сощурился Губкин.
— Это еще что такое? — в недоумении спросил Мельниченко.
— «Сузак» — значит «сухой закон». До конца войны дал слово не брать водки в рот. С Образцовым мы воюем со Сталинграда, нас ранило, вместе лечились в госпитале, потом вместе прибыли к вам в пулеметный взвод.
— Почему же на него наговаривают?
— Потому и наговаривают, что строг и требователен. Уж я-то его знаю больше, чем кто-либо.
— Уговорил, быть по-твоему. Бери своего «сузака» с собой! — улыбнулся Мельниченко.
— Разрешите представить Образцова к воинскому званию «ефрейтор»? — воспользовался Губкин переменой настроения комбата.
— Не возражаю. Передайте начальнику штаба батальона, чтобы включил его в список.
Временно 4-й стрелковой ротой командовал лейтенант Пырьев, командир первого взвода. Встретил он лейтенанта Губкина с подчеркнутой независимостью, как равного, даже не пожелав представиться. На вопрос нового командира роты, чем солдаты занимаются, ответил неопределенно:
— Да как вам сказать… ждем поступления нового обмундирования и обуви.
— Впредь попрошу вас докладывать по уставу, а сейчас постройте роту и доложите, как это положено в таких случаях.
Пырьев построил роту. Людей в наличии оказалось чуть больше, чем во взводе. В ответ на приветствие командира роты вяло прозвучала разноголосица. «Да, слабовато», — подумал Губкин и стал обходить строй, пытливо рассматривая каждого бойца.
— Я отныне не только командир роты, но и ваш товарищ, — обратился он к солдатам. — Почему же вы так плохо отвечаете, товарищи бойцы?
Строй молчал, голос командира роты разбился о стену равнодушия.
Губкин обратил внимание на неряшливый вид бойцов. Он испытал на себе, что значит провести на передовой около двух месяцев безвылазно, и понял, что взял не тот тон — резковато для первого знакомства. Среди солдат большинство хороших воинов, и не от них зависит, что они так выглядят.
Губкин раздумывал, как наладить отношения с солдатами, с которыми предстоит скоро вновь идти в бой.
— Товарищ лейтенант, вы позабыли подать команду «Вольно», — подсказал Губкину Пырьев. В его взгляде ротный уловил насмешку, однако команды не подал. Он подошел к левому флангу строя. В глаза сразу бросился солдат, полы шинели которого обгорели, подошвы сапог отстали, поясной ремень сбился набок. Из-под каски глядели сердитые черные как уголь глаза. Небрежный вид солдата раздосадовал лейтенанта. Ему захотелось поговорить с ним, и он подал команду «Вольно».
— Ваша фамилия? — спросил Губкин.
— Рядовой Жубатырев, — ответил солдат.
За обгорелые, видно, у костра полы шинели, за неряшливо застегнутый ремень Губкин всыпал бы Жубатыреву на полную катушку, но вспомнились напутственные слова командира батальона капитана Мельниченко: «В роте работать с людьми будет еще сложнее, хотя бы из-за того, что их втрое больше, чем во взводе. Больше будете уставать. Но никогда не теряйте выдержки, самообладания…»
— Товарищ Жубатырев, кем вы работали до войны?
— Рядовым колхозником!
— Не верится, что вы были колхозником.
— Это почему же?
— Потому что колхозники — бережливый народ, трудолюбивый. А вы вон до чего докатились — на огородное пугало похожи, а не на бойца.
Солдаты весело заулыбались.
— Так я специально, товарищ лейтенант, чтоб немцы боялись, — шуткой на шутку решил ответить солдат.
— Строй — священное место, товарищ Жубатырев, и чтобы таким я вас больше не видел, — строго заключил лейтенант. — По внешнему виду судят о боевых качествах бойца.
Когда строй был распущен, Губкин вызвал старшину роты. Тот явился в новенькой комсоставской шинели, перетянутой портупеей, в добротных, хорошо начищенных сапогах. Его полноватое лицо было спокойным и довольным.
Губкин строго и властно спросил:
— Как же это так получается, товарищ старшина, сами вы одеты с иголочки, а бойцы оборваны, в разбитой обуви?
— Срок они еще не выносили, — попытался оправдаться старшина.
— Значит, надо починить обмундирование. Даю вам двое суток сроку. За это время приведите в порядок шинели и обувь бойцов. Срочно организуйте ремонт.
В роте нашлись и портной, и сапожник. Заработала своя мастерская. К вечеру прибыло пополнение: два командира отделения, четырнадцать бойцов.
За ужином Георгий поздравил своего ординарца с присвоением ему воинского звания «ефрейтор».
— Товарищ лейтенант, мне это не очень-то нужно, — усмехнулся Образцов, хотя видно было, что он польщен. — Вот если бы вам присвоили старшего лейтенанта!
— Не надо торопить события, все придет своим чередом.
— Так-то оно так. Только старшим лейтенантом вы увереннее командовали бы ротой.
— Не время нам заниматься рассуждениями, победа — она сама не придет, для этого надо каждому из нас с честью выполнять свои обязанности.
— Вот с этого и начнем. Что входит в круг моих обязанностей?
— Ты, брат, теперь как бы адъютант командира роты, звание у тебя «ефрейтор», можешь солдатам приказывать. И круг твоих обязанностей намного расширился. Ты должен уметь ориентироваться на местности, днем и ночью находить батальонную кухню и пункт боепитания, наблюдательные пункты командиров взводов, а главное — своевременно доводить до них мои приказания.
— Понятно, товарищ лейтенант!
— Не торопись понять содержание приказания. Лучше несколько раз переспросить, чем один раз перепутать и нести неоправданные потери.
— Мне кажется, прежде всего я должен вовремя накормить вас и позаботиться о ночлеге.
— Само собой разумеется, без фронтового быта воевать невозможно. Долго нам не дадут здесь засиживаться, так что готовься в поход, скоро снова в бой!..
Часть вторая
ПЕРЕЛОМ
1
Летом 1943 года 184-я стрелковая дивизия была переброшена на Воронежский фронт, где назревали новые серьезные события.
Дивизия заняла оборону на меловых горах восточнее совхоза «Чапаев». Четвертой стрелковой роте теперь уже старшего лейтенанта Георгия Губкина, усиленной противотанковой батареей из шести пятидесятисемимиллиметровых пушек и взводом станковых пулеметов, предстояло отрыть и оборудовать в общей сложности пять километров траншей и десятки огневых позиций для орудий и пулеметов.
День был жаркий, и утомленные бойцы работали вяло. Тогда Губкин скинул гимнастерку и сноровисто стал орудовать то лопатой, то ломом. Бойцы приободрились, постарались не отставать от своего командира. К концу дня отрыли более километра траншей.
Наутро Губкин проснулся совершенно разбитый, все тело ломило от усталости. У многих бойцов на ладонях образовались кровяные мозоли, но работу надо было продолжать. Никто словом не обмолвился о трудностях, и за двенадцать часов они отрыли еще километр траншей.
Прошла неделя. Многое было сделано за это время. Губкину удалось в сверхжесткие сроки оборудовать все три взводных опорных пункта, создать запасные огневые позиции для боевых расчетов пулеметов и орудий.
Мельниченко пристально следил за тем, как Губкин командует ротой. Ему нравилось, что старший лейтенант напорист и целеустремлен. Он верил, что четвертая рота станет лучшей в батальоне. И не ошибся — инженерные работы она завершила первой.
Командир полка майор Котляр поинтересовался у Мельниченко:
— Как это четвертой роте удалось достичь таких успехов? Может, ты чем помог?
— Наоборот, пять человек взял у них для оборудования КНП батальона.
— В чем же секрет? Грунт помягче?
— Нет никакого секрета, товарищ майор. Все очень просто. Командир роты смог сплотить вокруг себя коллектив, умело организовал работу, а главное — увлек бойцов личным примером.
— Если он и воевать так будет, хороший командир из него получится.
— До войны Губкин был учителем. Навыками воспитательной работы обладает. Проявляет постоянную заботу о подчиненных. Много рассказывает им из истории и литературы. Солдаты за это особенно любят его.
— Зря вы ему позволяете такую роскошь. Солдата надо учить работать на войне по известному вам принципу: «На ученье больше пота, на войне меньше крови». И учтите, у нас сейчас слишком мало времени, чтобы увлекаться литературой, это, надеюсь, вам понятно, товарищ капитан?
— Понятно, товарищ майор.
— Значит, Губкин по профессии учитель? В таком случае, помогайте ему овладевать тактикой…
В первых числах июня на одном из ротных тактических учений с боевой стрельбой капитан Мельниченко сообщил вводную:
— До четырехсот автоматчиков противника в сопровождении десяти танков атаковали роту с фронта. Кроме того, с фланга, со стороны участка обороны соседа, в тыл прорвалось около роты автоматчиков с пятью танками. Ваши действия?..
Все ждали, чью фамилию назовет комбат для принятия решения. Выбор Мельниченко пал на Губкина.
На учениях все было как в бою. Стрельбу предстояло вести боевыми патронами и снарядами. Командиры приданных противотанковой батареи и минометной роты ждали распоряжений. Поначалу Губкин медлил. В данной обстановке многие предпочли бы, удерживая занимаемые позиции основными силами, частью сил во взаимодействии с соседом слева контратаковать вклинившегося противника. Губкин воздержался от такого соблазна, на который явно толкала вводная, и решил всеми тремя взводами и приданными подразделениями прочно удерживать занимаемые позиции.
Капитан Мельниченко утвердил решение старшего лейтенанта Губкина без особых замечаний, лишь подсказав, что необходимо создать более сильный резерв в распоряжении командира роты.
В течение дня было проиграно несколько возможных вариантов прорыва противником нашей обороны. Уставшие солдаты приводили себя в порядок, кое-кто уже приступил к чистке оружия. Неожиданно в блиндаж к Губкину вбежал взволнованный Образцов:
— Товарищ старший лейтенант! В роте ЧП! Убит Юлдашев!
— Как убит?!
— Подробности мне неизвестны. Дежурный офицер ждет вас.
Губкин кинулся к месту происшествия. Ефрейтор Насреддинов сидел, низко склонив голову, над трупом своего друга Юлдашева и горько плакал.
Увидев Губкина, он вскочил.
— Товарищ старший лейтенант! Расстреляйте меня! — весь дрожа, взмолился он.
— Без истерики! Расскажи по порядку все, как было, — потребовал Губкин.
— После учений я решил почистить ручной пулемет, — запинаясь, начал Насреддинов. — Стал разбирать и нажал на спусковой крючок. А в патроннике оказался патрон…
— По окончании стрельбы проверял свой пулемет?
— Вытащил диск, осмотрел…
— Кто-нибудь кроме тебя осматривал пулемет?
— Командир отделения. Он даже сказал: «Успел все патроны выпустить».
— Когда же вновь зарядил пулемет?
— Не заряжал я! — срывающимся голосом ответил Насреддинов. — Все могут это подтвердить.
Губкин промолчал. Было о чем задуматься.
О чрезвычайном происшествии он доложил командиру батальона Мельниченко. По ходу разговора почувствовал, что тот уже знает о случившемся.
— Придется писать рапорт, — сказал Мельниченко. — Подробности доложите заместителю командира полка по политической части майору Джамбаеву. Он ждет вас.
Когда Губкин вошел в блиндаж, замполит поднялся ему навстречу. Тусклый свет, пробивавшийся сквозь небольшое оконце, придавал смуглому лицу майора какой-то землистый оттенок. Губкин вдруг на миг растерялся, пораженный удивительным сходством между ним и Юлдашевым. «Словно близнецы», — подумал он, не сводя глаз с Джамбаева.
— Садитесь, рассказывайте, как погиб солдат, — ровным голосом сказал замполит.
— Рассказывать, собственно, нечего, товарищ майор, нелепая случайность!
— Может быть, причиной ЧП явилось отсутствие в роте уставного порядка и необходимого контроля со стороны командира роты?
От слов замполита, произнесенных бесстрастным тоном, Губкину стало не по себе.
— Где были вы во время чистки оружия?
«Знает подробности», — подумал Губкин и неожиданно смутился. Это не ускользнуло от майора.
— Капитан Мельниченко приказал мне подготовиться к разбору тактических учений с боевой стрельбой. Чисткой оружия руководил дежурный офицер.
— По чьей же вине произошло ЧП?
— В этом надо еще разобраться.
— Так разбирайтесь, товарищ старший лейтенант! — сердито бросил майор. — На ефрейтора Насреддинова готовьте материал в трибунал.
— Насреддинов не виноват.
— Кто же виноват в гибели солдата? Может быть, мы вас должны привлечь к ответственности за то, что не обеспечили уставной порядок в подразделении и не научили своих подчиненных пользоваться оружием? — раздраженно произнес Джамбаев.
— Порядок, предусмотренный уставом, в роте соблюдается. И во время чистки оружия соблюдался! — Губкин побледнел, дыхание у него перехватило.
Некоторое время они молчали, и мрачный взгляд замполита не предвещал командиру роты ничего хорошего. Наконец майор снова заговорил:
— Товарищ старший лейтенант, вам доверили роту, и вы в первую очередь несете ответственность за каждого солдата, сержанта, офицера перед Отчизной и перед их родными. — Помолчал, затем подошел к Георгию почти вплотную. — Юлдашев мой земляк, я хорошо знаю его семью. Отец погиб от рук басмачей. Старший брат был смертельно ранен в боях под Москвой. А теперь вот и младший…
— Свою ответственность я не собираюсь с себя снимать.
— Вот с этого и надо было начинать!
— Большая часть моей вины, однако, в том, что я своевременно не подал рапорт по команде, когда мне стало известно о дефектах ручного пулемета Дегтярева.
Джамбаев недоуменно взглянул на Губкина, не понимая, о каких дефектах говорит старший лейтенант. Боевое оружие прошло тщательное испытание и контроль. Со времени финских событий пулемет действовал безотказно.
— Я что-то не понимаю вас, товарищ Губкин. О каких недостатках РПД идет речь?
— Нередко после прекращения стрельбы из пулемета в его патроннике остается патрон… А Насреддинов — молодой боец, не знал этого. Потому я прошу не отдавать его под суд.
— Хорошо, товарищ старший лейтенант, — проговорил замполит уже спокойнее, — мы посоветуемся и проведем расследование…
В роте с тревогой ждали возвращения старшего лейтенанта. Ужин, который Образцов принес в землянку, давно остыл. Ординарец грустно размышлял, чем все это может кончиться.
Губкин вернулся поздно ночью. Образцов сразу засуетился, стал подогревать ужин и как бы между прочим поинтересовался:
— Товарищ старший лейтенант, ну и как начальство восприняло все это?
— Пока никак, назначат расследование, будет работать комиссия.
— Да вы не переживайте, все обойдется!
— Человека потеряли не в бою, а в родной роте… И Насреддинова могут отдать под суд военного трибунала. А ты говоришь, обойдется…
Насреддинова судить не стали. Учитывая его молодость и то, что пулемет действительно частенько не выбрасывал патрон из патронника, командир полка ограничился тем, что наложил на солдата дисциплинарное взыскание.
В ночь на 2 июля изредка вспыхивали и гасли немецкие и наши ракеты. Генерал Н. Ф. Ватутин то и дело требовал доклада о том, как ведут себя немцы. На столе, прикрытом картой, белел лист бумаги — директива, подписанная Верховным:
«По имеющимся сведениям, немцы могут перейти в наступление на нашем фронте в период 3—6 июля. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
Усилить разведку и наблюдение за противником с целью своевременного вскрытия его намерений.
Войскам и авиации быть в готовности к отражению возможного удара противника»…
Немецкий перебежчик подтвердил данные нашей разведки: «3 июля, во второй половине дня, всем солдатам выдали по шестьдесят патронов. Ночью саперы соседней с нами танковой дивизии СС «Мертвая голова» снимали мины перед передним краем обороны».
В ночь на 5 июля немецким солдатам был зачитан приказ Гитлера. Целью операции «Цитадель» он ставил: в течение трех дней взять Курск и разгромить советские войска, обороняющиеся на Курской дуге. Офицеры заверяли солдат, что сделать это будет нетрудно, поскольку германская военная промышленность обеспечила их сверхмощными танками «тигр», не пробиваемыми никакими снарядами, и самоходными пушками «фердинанд».
«С вами бог! Его волю выполнят «тигры», — в таком духе заканчивалось напутствие Гитлера своим солдатам.
Гитлеровцы еще не знали, какой сюрприз их ожидал. Советское командование, установив точное время перехода противника в наступление, решило провести упреждающую артиллерийскую и авиационную контрподготовку. Кроме того, для борьбы с «тиграми» и «фердинандами» в район Курской дуги были доставлены новые противотанковые пушки и подкалиберные снаряды.
Предрассветную тишину разорвали залпы тысяч наших орудий и минометов. Голоса гаубиц слились с залпами «катюш». Десятки тысяч снарядов и мин обрушились на вражеские войска, занявшие исходные позиции. В воздухе стоял сплошной гул. Стонала земля под напором раскаленного металла. Чтобы сорвать начало немецкого наступления, нашей артиллерии пришлось израсходовать более трехсот вагонов снарядов и мин. Но цель была достигнута: враг вынужден был перенести начало атаки и лишился внезапности.
Войска второго эшелона на меловых горах долго не вступали в бой — ждали своей очереди. Солдаты Губкина пристально всматривались в ту сторону, где находился совхоз «Чапаев». Там шел жестокий бой, слышалась артиллерийская канонада, виднелись трассы залпов «катюш» и штурмовики, нависшие над позициями противника. Весь горизонт был охвачен пламенем.
Уже четвертые сутки держались войска первого эшелона, принявшие на себя самый страшный удар врага. На просторах между Орлом, Курском и Белгородом разгорался огонь гигантского сражения. Фашистам удалось вклиниться в нашу оборону и развить ценой огромных потерь наступление.
На рассвете на ротном НП раздался телефонный зуммер. Губкин снял трубку.
— Немцы прорвали оборону первого эшелона, — услышал он хриплый голос Мельниченко. — Понял? Очень скоро могут оказаться перед нами! Все ли подготовлено для отражения вражеской атаки?
— Стрелковые взводы и орудия противотанковой батареи заняли основные огневые позиции и готовы к отражению атаки противника.
— Как чувствуют себя бойцы?
— Откровенно говоря, по-разному. Некоторые робеют… Особенно молодое пополнение.
Комбат уловил в голосе командира роты нотки сомнения и после небольшой паузы твердо сказал:
— Стоять до последнего! Без приказа ни шагу назад! — Потом как бы по секрету добавил: — Высылаю тебе дополнительно пятьдесят противотанковых гранат. Понял? Еще раз пройдись по окопам и поговори со своими орлами. «Тигров» и «фердинандов» старайтесь бить в борта! Но если угодите противотанковыми гранатами в моторную часть или под днище — тоже хорошо.
— Все проинструктированы. Будем бить «тигров» по уязвимым местам.
— Помни и всем скажи, что от стойкости вашего ротного опорного пункта зависит оборона всего батальона!
Бой шел уже в каких-нибудь трех километрах от меловых гор. Танковая дивизия генерала Шмидта вышла на стык двух наших стрелковых дивизий. Над полем сражения нависли черные дымные облака, темно-красные вспышки разрывов снарядов и бомб покрыли землю. Само небо будто раскололось на части. Недалеко от опорного пункта пронеслось несколько десятков «доджей» с пятидесятисемимиллиметровыми длинноствольными пушками на прицепах. Из глубины обороны выдвигался противотанковый резерв армии. По проселочной дороге промчалось еще десятка два автомашин с солдатами. Это был армейский батальон бронебойщиков.
А накал боя все нарастал. Непрерывно грохотала артиллерия. Лавина артогня катилась в глубь меловых гор. Сотни орудий били с обеих сторон на очень узком участке фронта. Немецкие бомбардировщики продолжали бомбить промежуточные позиции, а также примыкавшие к переднему краю рощи и овраги, где на закрытых огневых позициях притаились наша артиллерия и минометы. На чашу весов враг бросил все, что имел[3]. Войска первого эшелона Воронежского фронта, упорно сопротивляясь врагу, медленно отходили на заранее подготовленные рубежи.
Где-то там впереди сражался школьный товарищ Губкина Дмитрий Украдыженко. О нем Георгий узнал из последнего номера армейской газеты. Теперь там, в первом эшелоне войск генерала Чистякова, шли ожесточенные бои. Фашистам удалось прорвать главную полосу обороны, а батальон капитана Украдыженко оказался на острие главного удара, где наступали около тридцати вражеских танков и до полка мотопехоты. Силы были слишком неравные. После напряженных боев с противником батальону пришлось оставить первую траншею. Жестоко дрались за вторую. Скотный двор с каменными строениями, куда отступили стрелковые роты Украдыженко, три раза переходил из рук в руки. К вечеру в батальоне осталось всего лишь сорок четыре солдата и три офицера. Все они были сведены в одну стрелковую роту.
Ночью наступило затишье. Уже под утро подвезли боеприпасы. А потом тишину разорвали пулеметные очереди и разрывы вражеских мин и снарядов. Гитлеровцы вновь поднялись в атаку и отбросили остатки батальона Украдыженко в овраг, заросший кустарником. Фронт к тому времени отодвинулся на восток.
Отсутствие информации о положении наших войск и войск противника действовало на Украдыженко удручающе. Весь черный от пыли и пороховой копоти, в разорванной гимнастерке, капитан сидел на земле расслабившись, тоскливым взглядом изучая создавшуюся обстановку. Он должен был принять решение, что делать и как поступить дальше.
Радист крутил ручку настройки радиостанции, пытаясь связаться со штабом полка. Наконец с большим трудом ему удалось это сделать.
Украдыженко грустно доложил обстановку.
— У тебя же почти целая рота! — услышал он в ответ.
Такая реакция командира полка была неожиданной. А когда тот поздравил Украдыженко с представлением к званию Героя Советского Союза, все поплыло у комбата перед глазами. Оказалось, что события развернулись совсем иначе, чем предполагал он. Его батальон не только сковал почти до полка вражеской мотопехоты, но и вынудил гитлеровцев преждевременно ввести в бой резервы. Стрелковые роты и приданная батальону противотанковая артиллерия удерживали занимаемый район обороны на протяжении нескольких часов. Враг понес большие потери. В ротах моторизованного полка подполковника Вульфа в строю осталось менее чем по тридцать солдат.
…На рассвете 10 июля перед ротой Губкина показались первые вражеские танки. Они медленно, но неумолимо ползли прямо на его позиции. Казалось, могучие желто-зеленые громадины ничем не остановить. Георгий отдал приказ подготовиться к отражению танковой атаки. Тотчас же грянули залпы наших тяжелых пушек и гаубиц, замаскированных на закрытых огневых позициях. Вражеские танки упрямо продолжали двигаться вперед, ведя огонь на ходу. Гул моторов был подобен горному обвалу.
Вскоре тупоносые желто-зеленые коробки с крестами на бортах прорвали в некоторых местах рубежи армейского противотанкового резерва и стали подходить к меловым горам. Для солдат Губкина наступили решающие минуты. Или — или… Или солдаты сожгут эти железные чудовища с устрашающими названиями, или танки сомнут их. Каждый хотел выжить, победить.
Гул моторов, гром вражеской артиллерии становился все ближе. Высота, занимаемая ротой Губкина, начала сильнее вздрагивать от разрывов снарядов и мин, будто началось землетрясение. Комья земли градом сыпались в траншею, ударяя по каскам солдат. Надсадный вой авиационных моторов резал уши. Вражеские самолеты поливали землю из пулеметов трассирующими пулями.
Молодой командир роты Георгий Губкин всем своим видом старался не показать, что ему страшно. Впрочем, такого страха, как это было под Сталинградом, он не чувствовал, ибо еще там убедился, что не так страшен черт, как его малюют, и побеждает тот, у кого крепче нервы, у кого тверже выдержка.
Временами от грохота и скрежета металла закладывало уши. Армада вражеских танков двигалась с интервалом двадцать пять — тридцать метров. В двухстах метрах за «королевскими тиграми» шли «фердинанды», за ними средние танки, следом бронетранспортеры… Казалось, что этой грозной стальной лавине нет конца.
Губкин ободряющим взглядом окинул бойцов и заметил, как Насреддинов, словно загипнотизированный, стоял на правом колене, следя за танками расширенными от ужаса, черными как угли глазами. Карабин он положил на бруствер, руки бессознательно сжимали комья глины.
До танков оставалось метров двести, когда с вершины высоты взвилась красная ракета. В ту же секунду на боевые порядки гитлеровцев обрушился шквал огня и то тут, то там заполыхали «тигры» и «пантеры».
Бойцы Губкина воспрянули духом, и хваленые «тигры» горели не хуже других…
Когда дым рассеялся, за подожженными танками на левом фланге появилось еще девять. За ними двигались густые цепи солдат. «Тигры» накатывались на позиции роты. Губкин с удивлением увидел, как пожилой артиллерист, сидя на станине у одного из орудий, неторопливо раскурил самокрутку.
— Азим! — закричал Губкин командиру батареи Махмудову. — Не пора ли открывать огонь?
— Подпустим поближе…
На фронте, чем труднее становилась боевая обстановка, тем сильнее сплачивались люди и без лишних слов понимали друг друга. Сближению двух командиров подразделений способствовали общительный характер Махмудова, его обаяние, простота. Азим располагал к себе и своим безукоризненным внешним видом. На высокой и стройной фигуре ладно сидели хорошо подогнанные чистенькая гимнастерка с белым подворотничком и бриджи, заправленные в хромовые сапоги. Чисто выбритое смуглое лицо украшали коротко стриженные черные как смола волосы, чуть выступавшие из-под пилотки. На нем все было опрятно, и солдаты старались подражать ему. В батарее во всем чувствовался порядок.
…Вражеские танки с грохотом приближались, медленно вращая башнями и водя из стороны в сторону орудийными стволами.
«Вот теперь пора», — решил Губкин и дал сигнал зеленой ракетой бронебойщикам. Невдалеке оглушительно треснуло — выстрелило одно из наших орудий. Головной вражеский танк окутало дымом. «Махмудов, — догадался Губкин. — Молодец Азим, так их!» Но радоваться было рано: идущий следом «фердинанд» двумя снарядами накрыл то место, откуда стреляла пушка Махмудова. В ответ сзади ударило наше тяжелое орудие. Башня переднего танка отлетела в сторону. Губкин, связавшись по телефону с батареей Махмудова, с радостью узнал, что Азим жив. Он успел откатить пушку в укрытие. Снаряды «фердинанда» разорвались на пустом месте. Вскоре Махмудову удалось перебить гусеницу еще одного танка, и тот завертелся на месте.
На ротный опорный пункт Губкина за «тиграми» наступало более двухсот фашистов. Командир батареи прибежал к Губкину.
— Чего ждешь? Видишь, сколько их? — задыхаясь крикнул он. — Открывай огонь! С танками мы не справимся, если на мои позиции прорвется пехота!
— Не спеши, Азим, прежде времени раскрывать наши огневые точки.
Не отрывая взгляда от изрытого воронками поля, по которому двигались немцы, Губкин подождал еще немного и подал сигнал пулеметчикам отсечь пехоту. Несмотря на шквальный огонь, гитлеровцы рвались вперед. Губкин выпустил красную ракету. Это был сигнал открыть огонь из всех видов стрелкового оружия.
Немцы, не считаясь с потерями, приближались. Их шестиствольные минометы усилили огонь. В траншеи градом летели осколки. Губкину пылью засыпало глаза. Невдалеке застонал раненый командир взвода лейтенант Пырьев.
— Образцов, — позвал Губкин, протирая глаза, — где ты? Окажи помощь лейтенанту!
Но ординарца рядом не оказалось: он побежал в блиндаж за противотанковыми гранатами. Тогда Губкин сам на ощупь пробрался к Пырьеву:
— Что с тобой, лейтенант?
— В левую лопатку садануло!
Превозмогая режущую боль в глазах, Губкин осмотрел командира взвода:
— Осколок там у тебя торчит. Кто-нибудь есть рядом?
Ответа не последовало; грохот боя заглушал все вокруг. Из-за поворота траншеи выскочил запыхавшийся Образцов. Губкин узнал его по тяжелому топоту.
— Давай сюда, — позвал старший лейтенант. — Окажи Пырьеву помощь!
Пока Образцов бинтовал Пырьева, Губкин промыл глаза водой из фляги ординарца, но видел все еще плохо.
— Образцов, залегли немцы или нет?
— Никак нет, товарищ старший лейтенант! Поднялись в «психическую», гады, в полный рост прут.
Наконец Губкину удалось промыть глаза, и он схватил бинокль. Взгляд его задержался на новичках второго стрелкового взвода. К радости и удивлению Губкина, на своем участке они вынудили врага залечь. Молодые, еще необстрелянные бойцы выстояли, не отступили ни на шаг!
В окулярах бинокля один за другим возникали танки с крестами на бортах. Под одним из них взметнулось пламя — «тигр» попал на минное поле. На какие-то секунды пять вражеских машин остановились, затем две из них с противоминными катками устремились к нашим позициям. Остальные поначалу прикрывали их огнем из пушек и пулеметов, а потом, ведя прицельный огонь на ходу, двинулись следом.
Однако вражеская пехота лежала, прижатая пулеметным огнем. Огонь противотанковой батареи тоже не ослабевал ни на минуту. Звонкий мальчишеский голос Махмудова выделялся даже среди страшного грохота боя:
— Васин, головной «тигр» тебе борт подставил, что смотришь?! — Махмудов резко махнул рукой. И повторил команду третьему взводу: — Огонь по головному танку!
В ответ телефонная трубка прохрипела:
— Лейтенант тяжело ранен, огонь ведет сержант Семаренко.
В одном боевом расчете воевали отец и сын. Расчет действовал дружно. Младший Семаренко, Василий, командовал орудием, старший, Николай Давыдович, был замковым. Они стреляли почти без промаха, выбирая у танков наиболее уязвимые места.
На поле боя перед ротой Губкина горело уже около десятка танков. Но росли потери и в роте.
В батарее Махмудова в первом огневом взводе осталось одно орудие, командир взвода был ранен. Во втором взводе вышли из строя все пушки, командир погиб. Лишь в третьем взводе оба орудия действовали.
Махмудов сам корректировал огонь. Противоборство между «тиграми» и батареей продолжалось. Снаряды один за другим летели в цель.
Подбежал запыхавшийся связной:
— Командир орудия сержант Ефимов тяжело ранен. Два «тигра» пошли в обход, справа по лощине!
«Стоит «тиграм» прорваться в тыл батарее, тогда конец», — пронеслось в голове Махмудова. Не оглядываясь и почти не пригибаясь, он кинулся к пушке первого огневого взвода, которая осталась без командира. И увидел, как с правого фланга, преодолев первую и вторую траншеи, немецкие автоматчики устремились в тыл батарее.
Увидел это и Губкин. Но ничем помочь не мог: два «тигра» и до сотни автоматчиков наступали прямо на его опорный пункт. Вражеская артиллерия и минометы непрерывно обстреливали позиции. Телефонная связь несколько раз выходила из строя. В роте в строю осталось всего около пятидесяти солдат, из трех офицеров — один, младший лейтенант Зайцев. Остатки третьего взвода пришлось передать на усиление первого и второго стрелковых взводов. Командование вторым взводом временно принял сержант Закаблук.
Обстановка требовала от Губкина принятия немедленного решения: или бросить все оставшиеся силы на отражение атаки гитлеровцев, или часть сил выделить на спасение батареи Махмудова.
Целесообразнее, конечно, было бы сосредоточить силы на одном направлении, но если гитлеровцы захватят орудия Махмудова, опорному пункту роты Губкина без противотанковой артиллерии не выстоять.
Трудно было сделать решающий выбор.
Губкин пришел к выводу, что надо отказаться от намерения сосредоточить силы на одном направлении. Вместе с двенадцатью бойцами сержанта Закаблука он устремился по траншее, ведущей на отсечную позицию, наперерез немецким автоматчикам.
Гитлеровцы двигались навстречу, но им нужно было под огнем преодолеть метров сто пятьдесят по открытой местности. Надо было опередить их.
Внезапно кто-то крикнул:
— Немцы в траншее!
И в тот же миг на самом изгибе траншеи разорвалась вражеская граната. На Вавилова и Насреддинова посыпались комья земли.
— Стой! — скомандовал Губкин, выдергивая предохранительную чеку лимонки. Граната полетела над головами наших бойцов туда, где мелькнули каски чужих солдат.
Вавилов, выскочив за изгиб траншеи, выпустил очередь из автомата по гитлеровцам, бежавшим навстречу, и тут же отпрянул за бруствер окопа.
Пулеметы и автоматы били со всех сторон. Все потонуло в грохоте выстрелов. Казалось, центр боя переместился в эту узкую извилистую траншею. Рядовой Литвинов, выставив ручной пулемет на бруствер траншеи, блокировал немцев. Но недолго — вражеская пуля угодила ему в голову. Губкин бросился к пулемету, и свинцовая струя полоснула по фашистам.
Несмотря на численное превосходство, противник отошел. Губкин сделал бойцам знак рукой — продвигаться вперед.
Он вдвоем с ординарцем пробрался на наблюдательный пункт роты. Там Губкин застал старшего лейтенанта Махмудова, раненного в голову. Из раны сочилась кровь.
— Что же вы смотрите? — набросился Губкин на находившегося рядом старшину. — Перевязывайте — и в медпункт!
— Нет индивидуальных пакетов. Все кончились, — ответил старшина.
Образцов быстро достал свой индивидуальный пакет.
Губкин забрал у него пакет и умело забинтовал, голову Махмудова.
— А теперь, Азим, в медпункт! — сказал он, слегка хлопнув по плечу старшего лейтенанта.
— Зачем, Георгий Никитович? Это ж царапина. А немцы, того и гляди, снова полезут.
Не успел он закончить фразу, как кто-то крикнул:
— Танки с фронта!
Губкин приказал Зайцеву отсечь пехоту, а сам следил за тремя вражескими танками, которые двигались прямо на его траншею.
Махмудов скомандовал батарее:
— Подкалиберными — огонь!
Один за другим грянули выстрелы, четвертый снаряд попал в лоб впереди идущего «тигра» и высек из брони сноп искр. Танк продолжал ползти, судорожно водя пушкой.
— Семаренко, не в лоб бей, а в борта! — закричал Махмудов, хотя Василий Семаренко не мог его слышать.
Снова прозвучал выстрел. Над башней «тигра» вырос столб дыма.
Когда дым рассеялся, все увидели, что танк продолжает двигаться на орудие. Немцы схитрили: поставили дымовую завесу, имитировав прямое попадание.
Семаренко, хотя и был опытным артиллеристом, никак не мог поймать танк в перекрестие прицела. Бронированная громадина, меняя направление, то ускользала, то опять появлялась. Вот она выскочила на бугор.
— Душа из них вон! — в сердцах выругался Семаренко и выстрелил еще раз. На него пахнуло горячей волной от близкого разрыва вражеского снаряда и отбросило в сторону. Поднявшись, он лихорадочно ощупал себя и обнаружил, что невредим, если не считать непонятного сковывающего оцепенения. Огляделся вокруг. Невдалеке, рядом с колесом пушки, лежал отец, залитый кровью. Василий бросился к нему. Николай Давыдович ослабевшей рукой показал в сторону танков, приказывая сыну вернуться к орудию. Василий с ненавистью крикнул:
— Нет, гад, не прорвешься!
Качаясь, как в тумане, превозмогая боль в висках и подступившую тошноту, он снова припал к прицелу. «Тигры» один за другим медленно ползли, ведя огонь с коротких остановок, до них оставалось совсем немного. Василий понимал, если откажет пушка или он промахнется — это конец. Невероятным усилием сосредоточил всю свою волю. Поймав в перекрестие прицела вражеский танк, выстрелил. «Тигр» резко остановился и загорелся.
Василий, разрывая на ходу индивидуальный пакет, метнулся к отцу. Николай Давыдович лежал на земле, схватившись левой рукой за колесо пушки, правая рука его утопала в луже крови. Василий приподнял его. Отец тяжело вздохнул и скончался на руках сына.
Потрясенный Василий бережно опустил отца на землю и бросился к пушке. С помощью раненого наводчика загнал снаряд в казенник. Все делал машинально, интуитивно. «Пантера» увеличила скорость, мчась прямо на орудие. Раздался выстрел. Танк охватило пламя. Это была третья вражеская машина, уничтоженная сержантом Семаренко в этом бою.
На следующее утро в борьбе за меловые горы наступил критический момент. Гитлеровское командование, невзирая на большие потери, на стыке двух наших дивизий ввело в бой еще шестьдесят танков. Из них три «тигра» и четыре «пантеры» наступали на позиции роты Губкина. Несколько танков снова попытались обойти батарею Махмудова по лощине. Нависла опасность над двумя последними противотанковыми орудиями. Неравный бой с вражеской пехотой в сопровождении танков рота вела с наивысшей стойкостью. На поле боя противник оставил четыре подбитые и подожженные машины. Грудами трупов гитлеровских солдат и офицеров были устланы скаты меловых гор, но вершина ее, словно заколдованная, оставалась в руках солдат Губкина. Однако грохот боя все усиливался. Губкин понял, что в этом кромешном аду чувства притупляются, высокопарные слова, образы, мысли — все теперь для него не имело прежнего значения. Во имя победы он был готов личным примером воодушевить своих солдат, лишь бы отстоять меловые горы.
Гитлеровцы во что бы то ни стало стремились захватить опорный пункт на господствующей высоте. Им удалось нащупать слабое место в нашей обороне — стык между соседними полками 184-й стрелковой дивизии, который проходил по левому флангу роты Губкина.
В роте осталось не более тридцати человек. Бойцы вопросительно смотрели на своего командира.
— Дорогие мои солдаты, настал и наш час! Гитлеровцы намереваются раздавить противотанковую батарею Махмудова и овладеть нашим опорным пунктом. Этого мы не можем допустить, тогда и всем нам конец! Слушай приказ: взводу младшего лейтенанта Зайцева не пропустить противника с фронта, стоять до последнего солдата. Сам я с двумя расчетами бронебойщиков преграждаю путь вражеским танкам!
Командиру первого расчета ефрейтору Черненко он поставил задачу уничтожить вражеский танк, наступающий слева; второму расчету сержанта Вавилова — «пантеру», двигавшуюся прямо на них.
Вавилов со своим вторым номером Насреддиновым, отбежав по траншее метров на двадцать, приготовил к бою гранаты. Гитлеровцы вели огонь на ходу из танковых пушек. Осколок снаряда смертельно ранил Вавилова.
Вражеский танк был совсем близко. Насреддинов выпрыгнул из окопа с гранатой в руке и устремился к «пантере». Он полз, плотно прижимаясь к земле, не спуская глаз с намалеванной на броне желтой пасти «пантеры». Когда танк был уже в каких-нибудь пятидесяти метрах, резко дернулась башня и торчащий из нее ствол пулемета повернулся в сторону Насреддинова. Фашисты открыли огонь из пулемета, но трассирующие черточки на фоне низко нависшего черного неба не доставали его — Насреддинов находился в мертвом пространстве. «Пантера», гремя броней и гусеницами, медленно надвигалась на него. Что-то просвистело над головой. Он приподнялся во весь рост, когда до танка оставалось метров тридцать, и бросил противотанковую гранату. Клубы пламени вылетели из-под танка, и он окутался дымом. Но «тигр», следовавший за «пантерой», полоснул из пулемета по Насреддинову трассирующими пулями. Солдат упал.
«Тигр» приближался к окопам. Вот-вот начнет утюжить их. Если он прорвется, за ним устремятся другие вражеские танки…
Выждав момент, когда танк забрался на пригорок и подставил борт, Губкин метнул гранату. Она взорвалась, не долетев до цели. «Тигр» продолжал надвигаться. Отчаяние и ярость охватили Георгия. Высовываться из окопа уже было нельзя — гитлеровцы подстрелят как куропатку. Значит, надо выждать, подчинить нервы разуму. На Губкина уже дохнуло раскаленным металлом, рев мотора и скрежет гусениц заставили вдавиться в дно траншеи. Но о смерти он не думал. Надо выждать. Сзади у танка броня тоньше, там мотор, топливный бак.
«Тигр» двигался медленно, видимо опасаясь мин. Лязг гусениц болью отдавался в голове Губкина. Стиснув зубы, он вытащил новую противотанковую гранату и терпеливо ждал. Секунды казались очень длинными, мучительно томительными.
С бруствера посыпалась земля, стало темно — танк с ревом накрыл траншею. Георгий ощутил каждый падающий комок земли. Не поднимая головы, он увидел, как посветлела стенка траншеи — «тигр» перевалил на другую сторону. Удушливый запах машинного масла и гари ударил в нос и подбросил Губкина, словно пружиной. Он вскочил, с силой швырнул последнюю гранату под днище «тигру» и метнулся в сторону, вниз.
Грохнул взрыв…
Еще одну «пантеру» подбила батарея Махмудова. И хотя вражеским танкам все же удалось пройти первую и вторую траншеи, навстречу им был выдвинут армейский противотанковый резерв, который сумел отбить атаку противника.
Смолкли орудийные залпы, казалось, время остановилось — выдохлось после трудного дня, покорилось и замедлило свой бег. Губкин и Махмудов потеряли счет времени. Часы, дни и ночи слились в единый бесконечный поток. Оглохшие, черные от гари и пыли, люди едва держались на ногах. Продлись бой еще хоть полчаса, оставшиеся в живых бойцы упали бы от изнеможения. Но противник тоже выдохся.
Теплые июльские сумерки опускались на землю, перепаханную снарядами и бомбами. Теперь она уже не вздрагивала от взрывов, а только местами дымилась, напоминая о недавней битве.
Тишину нарушил телефонный звонок.
— Губкин, доложите, какие потери! — прозвучал в трубке бас капитана Мельниченко.
— От роты остался один взвод, — тяжело вздохнул старший лейтенант.
— А сколько подбили вражеских танков?
— Восемь! — ответил Губкин.
— Артиллеристы доложили, что они подбили пять.
— Сержант Семаренко с отцом подбили три танка.
— Значит, три танка подбили твои солдаты противотанковыми гранатами. Так, что ли?
— Так точно!
— Сколько уничтожили гитлеровцев?
— На нашем участке похоронная команда насчитала сто семьдесят.
— Это почти в три раза превышает наши потери! Подготовьте представления к правительственным наградам на отличившихся. Кстати, как фамилии тех, кто подбил вражеские танки?
— Ефрейтор Черненко, рядовой Насреддинов.
— Это тот самый Насреддинов, которого хотели отправить в штрафную роту?
— Тот самый.
— Как только выйдем на доформирование, напомните, предоставлю ему отпуск в Ташкент.
— Товарищ капитан, он погиб в этой схватке с вражескими «пантерами».
— Жаль героя! — с сожалением сказал Мельниченко. — Как фамилия того, который подбил третий вражеский танк? — Губкин молчал. — Я спрашиваю, кто подбил третий? — требовательно прозвучал голос комбата.
— Третий подбил я, — сказал Георгий.
— Вас тоже представляю к правительственной награде, — спокойнее сказал Мельниченко.
— Меня не обязательно, а вот Насреддинова прошу посмертно наградить орденом Отечественной войны.
— Посмотрим, может, наградим его орденом Красного Знамени.
— Прошу вас представить его к ордену Отечественной войны! По статуту лишь этот орден можно выслать родным погибшего воина. А он будто чувствовал свою гибель, просил накануне, если что случится, написать письмо матери.
11 июля в комфортабельном салон-вагоне штабного поезда, в котором размещался командный пункт группы армий «Юг», на запасном пути в лесу в районе Черного Лога начальник оперативного отдела подполковник Шульц Бюттгер докладывал Манштейну:
— Господин фельдмаршал, наступление войск оперативной группы Кемпфа захлебывается. 3-й танковый корпус столкнулся с вновь прибывшими танковыми бригадами русских. Следует принять срочные меры, чтобы перебросить в распоряжение Кемпфа 24-й танковый корпус из района Донбасса.
Манштейн не поверил:
— Бюттгер, интуиция меня не обманывала еще ни разу. Кемпф разгромил оперативные резервы русских. Теперь же вводом своего второго эшелона должен опрокинуть их недобитые дивизии.
— Боюсь, что это ему не удастся, русские ввели в сражение новую танковую армию.
— Генерал Буссе, ваш шеф, утверждает, что танки не летают, и в радиусе трехсот километров он исключает наличие дополнительной танковой армии у русских. Против групп армий «Центр» и «Юг» русские бросили в сражение около двух тысяч танков, все до последней машины. А как вам известно, господин Бюттгер, танки не грибы, они не растут так быстро!..
Вместе с сумерками наступило затишье на широком фронте. Там, где только что бушевал огонь и плавилась сталь, гибли люди, шло сражение, которому, казалось, не будет конца, все вдруг стихло. Лишь изредка еще строчили пулеметы, с визгом проносились одиночные снаряды, разрываясь где-то за меловыми горами. И только перепаханная взрывами земля, зияющие воронки и остовы сгоревших вражеских танков напоминали о недавней смертельной схватке. Оставшиеся в живых хоронили погибших, провожали в медсанбат раненых. Махмудова эвакуировали в тыл. Губкин проводил его с братской нежностью. «Придется ли еще встретиться?» — подумал Георгий.
Утро 12 июля для Губкина стало памятным. Его назначили адъютантом старшим 2-го стрелкового батальона. Он сменил на этом посту капитана Щепетильникова, выдвинутого на должность первого помощника начальника штаба полка.
Прощаясь со своей ротой, Губкин с особой теплотой и нежностью смотрел на усталых, грязных, несколько дней не брившихся боевых товарищей, храбро сражавшихся на меловых горах.
Батальон по сравнению с ротой показался Губкину громадиной: три стрелковые, пулеметная и минометная роты, взвод противотанковых орудий. Непосредственно адъютант старший курировал хозяйственный взвод, батальонный медпункт, а взвод связи был его персональным подразделением и предназначался для обеспечения управления.
К тому времени в Советской Армии было принято адъютанта старшего называть просто начальником штаба, коим он в действительности и являлся в батальоне. На новой должности круг вопросов, которыми Губкин должен был заниматься, значительно расширился: надо было принять участие в рекогносцировке, позаботиться о завтраке теперь уже всего батальона, проверить, как несет службу боевое охранение, подсчитать потери, распределить прибывшее пополнение, предложить комбату замену вместо выбывших командиров. На свое место командиром четвертой роты он порекомендовал младшего лейтенанта Зайцева.
За последние сутки обстановка на Курской дуге резко изменилась, время работало на Ватутина и против Манштейна. Накануне переданная Ставкой в оперативное подчинение командующему Воронежским фронтом 5-я гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова в составе четырех танковых и одного механизированного корпуса к шести утра 12 июля заняла исходные рубежи для контрнаступления во взаимодействии с 6-й гвардейской армией генерала Чистякова, куда входила и 184-я стрелковая дивизия. В восемь часов тридцать минут после короткого артиллерийского налета началось наше контрнаступление под Прохоровкой. Здесь с обеих сторон действовало более 1500 танков. И в этом грандиозном сражении, какого еще не знала военная история, главную роль играли танки генерала Ротмистрова. Они стремительно контратаковали противника и стальным клином врезались в боевые порядки танковых соединений группы армий «Юг».
Командир немецкой танковой дивизии генерал Шмидт, потеряв больше половины танков, в ночь на 13 июля вернулся на свой командный пункт, расположенный в роще западнее меловых гор. Моросил дождь, но ветвям обгоревших деревьев стекали крупные капли воды, черные от копоти. Генерал, уединившись в блиндаже, не стал принимать доклады штабных офицеров, в этом он уже не видел смысла. Дивизия разгромлена, и этот факт не опровергнешь. Шмидтом овладела апатия. Ни о чем не хотелось думать. С трудом дотянувшись до стола, он взял бутылку французского коньяка, налил в бокал и судорожно отпил. Едва дотащившись до постели, тут же уснул. Его вызывал к телефону командир корпуса, но тщетно.
В четыре часа утра позвонил командующий группой армий «Юг» Манштейн. Шмидт поднял трубку.
— Где лучшая танковая дивизия? — услышал он гневный голос фельдмаршала.
— Спросите у нашей прославленной разведки! — раздраженно ответил полусонный генерал. — У русских каждый кустик, каждая высотка превращены в крепость. Мы наткнулись на систему хорошо замаскированных огневых точек и дзотов, которые невозможно было обнаружить даже на расстоянии тридцати метров.
Манштейн не ожидал такого ответа от командира дивизии. В течение прошедшего дня не было сообщений об особых потерях. Ему не верилось, что случилось непоправимое. Он предполагал, что танковые полки сбились с маршрута и вот-вот должны вернуться, а генерал Шмидт просто паникует раньше времени.
— Потрудитесь собрать все оставшиеся танки! В восемь часов утра совместно с другими соединениями атакуете русских!
— Русские с утра сами перейдут в контрнаступление, им удалось сосредоточить крупные танковые силы. Если мы перейдем в наступление, то этим только поможем им.
— Именем фюрера приказываю!
— В таком случае, фельдмаршал, я слагаю свои полномочия. Пришлите другого командира дивизии.
— Через час быть на моем командном пункте!
Шмидт долго еще в раздумье держал в руках трубку. Как же случилось, что он, командир прославленной танковой дивизии, перед которой падали твердыни Европы, теперь генерал без войск? Если так обстоят дела и в других дивизиях, то для Германии проиграна не только операция «Цитадель», но и война в целом. Генерал впервые произнес вслух то, о чем долго размышлял после поражения немецких армий под Москвой в 1941 году. Все его сомнения, накопившиеся за три года войны, вместились в одно слово — «авантюристы».
В указанное время «пантера» доставила генерала Шмидта на командный пункт фельдмаршала.
— Хайль Гитлер! — вяло приветствовал он Манштейна вытянутой вперед рукой.
Фельдмаршал ответил тем же движением руки и медленно осмотрел подчиненного с ног до головы. Мундир генерала был в грязи и копоти.
— Так где же все-таки танковая дивизия?
— Танковые полки разгромлены, у меня нет больше дивизии. Операция «Цитадель» проиграна, господин фельдмаршал, — устало ответил Шмидт.
— Прикажете так и передать фюреру? — выжидающе взглянул на него Манштейн.
— Как вам будет угодно! Я не забыл о своем долге, господин фельдмаршал, — сдавленным голосом произнес Шмидт.
— Через три часа вы, генерал, поведете в атаку то, что у вас осталось, или будете разжалованы и направлены в штрафную роту.
— Разрешите выполнять? — Шмидт вскинул руку и неожиданно резко выкрикнул: — Хайль Гитлер!
Манштейн удивленным взглядом проводил генерала. Спускаясь по лесенке штабного вагона командующего группой армий «Юг», Шмидт на ходу еще раз выкрикнул: «Хайль Гитлер!» Затем остановился на нижней ступеньке и, вытащив из кармана платок, стал вытирать глаза. Манштейн через открытую дверь наблюдал за Шмидтом. Ему стало неприятно, что он оказался свидетелем слабости своего прославленного в прошлом командира дивизии. Он отвернулся и склонился над картой. В глаза ему бросилось надломленное в районе Прохоровки острие клина немецкого наступления.
В это время раздался выстрел. Манштейн, подбежав к двери, увидел, как тело Шмидта медленно сползает на землю. Из безжизненной руки генерала выпал пистолет.
Верховный Главнокомандующий высоко оценил битву на Курской дуге и в своем приказе от 24 июля объявил благодарность воинам Центрального и Воронежского фронтов, в том числе и 184-й стрелковой дивизии. Участники этой исторической битвы были отмечены высокими правительственными наградами. Сержант Семаренко был удостоен звания Героя Советского Союза, рядового Насреддинова наградили орденом Отечественной войны I степени посмертно.
2
Батальон Мельниченко расположился под Тулой на доформирование. Время, отведенное для этого, считалось отдыхом, хотя большая часть его использовалась на боевую подготовку. С рассвета до поздней ночи учились прорывать вражескую оборону. Но даже такой активный отдых оказался коротким; неожиданно пришел приказ срочно грузиться в эшелон. Дивизия должна была передислоцироваться под Смоленск и поступить в распоряжение командующего Калининским фронтом генерал-полковника А. И. Еременко.
Привычно для Губкина застучали колеса теплушек. Дорога была недолгой. В сумерки погрузились, а утром следующего дня уже прибыли на место. В штабе полка Мельниченко и Губкина ознакомили с приказом:
«Совершить семидесятикилометровый форсированный марш в головном отряде дивизии и сосредоточиться в окрестностях населенного пункта Житки».
Марш проходил под непосредственным руководством штаба фронта. Полностью скрыть перегруппировку дивизии не удалось. На следующий день после сосредоточения еще двух новых дивизий на подступах к Смоленску Гитлер получил очередной пакет, доставленный фельдсвязью, — доклад руководителя восточного отдела генерального штаба сухопутных войск Германии, в котором говорилось об усилении группировки русских под Смоленском, о вероятности наступления не только на Минск, но и на северо-запад, в Прибалтику и к границам рейха. Перелистав четыре страницы машинописного текста, Гитлер пришел в ярость. Он понимал, что оставить Смоленск — значит перечеркнуть победы, достигнутые в начале войны. И был вынужден отдать распоряжение об усилении смоленского направления.
По прибытии в район сосредоточения батальон Мельниченко посетил начальник штаба дивизии подполковник Е. П. Латухов. Его интересовало, как бойцы обучены, как вооружены и обмундированы. Перед самым отъездом Латухов пригласил Губкина подойти к топографической карте, развернутой на ящике.
— Товарищ старший лейтенант, поручаю вам на этом участке дороги, от КП дивизии до КП корпуса, — подполковник провел по карте карандашом, — выставить на двух перекрестках регулировочные посты. Дорогу от передовой к штабу дивизии перекрыть шлагбаумом. Установить КПП и организовать тщательную проверку документов. В прифронтовой полосе участились случаи наглых действий вражеских разведчиков и диверсантов, переодетых в форму наших офицеров. Задерживать всех без исключения, не имеющих отметку «К» в правом уголке удостоверения личности. Кроме того, в километре правее и левее от этой дороги обеспечьте парное патрулирование. С собой возьмете один стрелковый взвод и отделение пулеметчиков. Люди должны быть экипированы во все новое и иметь опрятный вид. На этот счет штабу вашего полка даны распоряжения. Действуйте только по моему приказу. О полученной задаче никому не докладывать и ни с кем на эту тему разговоров не нести. Все должно быть в строжайшем секрете. Ясно?
— Ясно, товарищ подполковник! Когда начинается комендантская служба? — спросил Губкин.
— К выполнению боевой задачи приступить завтра, 5 августа, в пять ноль-ноль.
— Еще один вопрос, товарищ подполковник. Нам придется обезвреживать разведчиков и диверсантов противника, уже действующих в нашем тылу, или ожидается высадка вражеских парашютистов?
— Будьте готовы к тому и другому. От ваших людей на это время требуется постоянная боевая готовность.
Губкину казалось, что если меры предосторожности связаны с действиями противника, то комендантская служба должна быть усилена не в сторону тыла от штаба дивизии, а, наоборот, к переднему краю. Поэтому для него оставалось загадкой, почему противника надо было встречать при полном параде.
— Возможно, наша задача не только бороться с агентурой противника, но и встречать командующего фронтом? — осторожно высказал догадку Губкин.
— Пути начальства неисповедимы! — Латухов развел руками. — Не исключено, что сам Еременко проедет по вашему маршруту. К этому тоже надо быть готовым. Вашей команде предстоит выполнить боевую задачу особой важности, поэтому отнеситесь к ней с повышенной ответственностью! Вот все, что я могу пока сообщить…
Георгий был окончательно сбит с толку: с каких это пор комендантская служба в тылу стала боевой задачей особой важности?
На следующий день к пяти утра он со своей командой прибыл в указанное место на опушке густого ельника. Через несколько минут на мотоцикле с коляской подкатил Латухов, он уточнил задачу.
Устав после ночного перехода, бойцы Губкина дремали под деревьями. Пришлось поднимать взвод по тревоге. Георгий расставил солдат точно по схеме, которую ему вручили.
Движение войск в районе патрулирования было слабое. В течение часа задержали всего одну машину с офицером связи. У него в удостоверении отсутствовал шифр «К». Все остальные документы были в порядке. Пока разбирались с офицером, подъехал генерал. В его удостоверении тоже не было шифра. Губкин стал звонить в штаб дивизии. Латухов не отвечал на телефонные звонки, выяснение обстоятельств задерживалось. Генерал Зыгин в категорической форме настаивал, чтобы его немедленно пропустили, но старший лейтенант был неумолим. Наконец связь заработала, Латухов тотчас же разрешил Губкину пропустить командарма.
— Извините, товарищ генерал, — смущенный Губкин отдал честь генералу.
— Правильно поступили, старший лейтенант! Заставили командарма уважать им же подписанную директиву, — похвалил Зыгин. — Я не ошибся, ваша фамилия Губкин?
— Так точно.
— Запишите благодарность в приказе, — обернулся генерал к адъютанту.
Уже под вечер от Латухова прибыл майор.
— Своего командарма можно было бы и не задерживать, не так ли, товарищ старший лейтенант? — усмехнулся он.
— Я выполнял приказ! — возразил Губкин.
— Приказ-то приказ, но ведь голова дана не только для того, чтобы фуражку носить.
— Командарма Зыгина я увидел впервые, наша дивизия недавно прибыла в состав 39-й армии.
— Не завидую такой встрече! — Губы майора снова тронула усмешка. — Прошу для сопровождения задержанных выделить четырех автоматчиков, остальных людей верните в свои подразделения.
Команда Губкина получила приказ возвратиться в свою часть. Солдаты в кузове переговаривались, громко смеялись. Напряжение, в котором они находились с утра, в пути исчезло. Только старший лейтенант, сидевший в кабине, был задумчив. Зачем их все-таки одели в новое обмундирование? Почему приезжал сам начальник штаба дивизии?
5 августа в три часа утра, на два часа раньше команды старшего лейтенанта Губкина, в этом же направлении — в село Хорошево под Ржевом — выехал из штаба фронта генерал Еременко. На окраине Хорошево его встретил генерал-майор Зубарев, генерал по особым поручениям Верховного Главнокомандующего. По всем правилам субординации он представился и сообщил:
— Товарищ Сталин ждет вас.
Еременко знал, что Сталин не выезжал на фронт. Ставка своевременно получала исчерпывающую информацию и имела налаженную систему управления — до дивизий включительно. Приезд Верховного Главнокомандующего для Еременко явился в высшей степени неожиданным. Ему было известно, что главные события в стратегическом масштабе развертывались юго-западнее Калининского фронта, его же войска играли не основную роль, и он терялся в догадках, чем вызван приезд Верховного?
Вскоре они подъехали к небольшому домику в центре села, стоявшему в глубине двора. Миновав кухню, Еременко с Зубаревым вошли в горницу. Сталин, ожидая их, стоял посреди комнаты.
— Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска Калининского фронта ведут бои местного значения, — доложил Еременко.
Сталин подал руку, поинтересовался:
— Как вы спланировали предстоящую Духовщинско-Смоленскую операцию?
Еременко изложил план операции и попросил усилить фронт одной общевойсковой армией, кавалерийским корпусом и помочь авиацией, артиллерией и боеприпасами.
Верховный Главнокомандующий, внимательно выслушав доклад, произнес спокойно, но твердо:
— Вы, товарищ Еременко, сдали Смоленск врагу, вы и верните его назад.
— Есть, товарищ Сталин! Только Василий Теркин говорил, что города сдают солдаты, генералы их берут, — попробовал пошутить Еременко.
— Верно Теркин подметил, — довольно сухо сказал Сталин, давая понять командующему, что сейчас не до шуток. Помедлив, продолжил: — Противник прочно укрепился на Средне-Русской возвышенности и угрожает флангу наших войск, наступающих на юге, там, где мы готовим главный удар. Противник занимает здесь такие ключевые позиции, как Духовщина и Ярцево. Он закрыл нам не только смоленские ворота, но и основные пути в Белоруссию и Прибалтику. Думаю, вам не надо объяснять, насколько важен успех наших войск на этом направлении. — Сталин помолчал. — Но торопливость — всегда плохой помощник. В августе начнете подготовку к наступлению. Разрешаю до начала операции выбивать противника лишь с тех позиций, которые крайне необходимы для будущего наступления. В первой половине сентября начнете операцию «Духовщина». Что касается ваших просьб, они будут выполнены…
Еременко не ожидал, что потребности фронта будут полностью удовлетворены. Щедрость Верховного приятно поразила его. Но таким сумрачным Сталина он увидел впервые. Даже когда немцы подступали к Москве, Сталин выглядел бодрее. Тогда над столицей и страной нависла смертельная опасность. В середине октября 1941 года тяжело раненного командующего Брянским фронтом генерал-полковника Еременко привезли в главный госпиталь на Арбат, в Серебряный переулок. Через час ему уже оперировали ногу и грудную клетку. Осколок рядом с легким извлечь не удалось. Андрей Иванович был в тяжелом состоянии, но требовал установить связь со своим штабом и вызвать в главный госпиталь двух офицеров: оперативника и связиста. Врачи этим были озабочены, потому что жизнь Еременко пока еще продолжала оставаться в опасности. Нарушение покоя и малейшее расстройство раненому были противопоказаны. В эту же ночь его посетил Сталин.
— Что же, товарищ Еременко, не убереглись? — мягко спросил он.
— Все заживет, поправимся, товарищ Сталин!
— Солдату прежде всего нужно здоровье!
— Да, больному трудно одолеть врага, — согласился Еременко.
— Хорошо, что понимаете, нужно беречь себя! — Еременко попытался приподнять голову, но Верховный сделал предостерегающий знак и сказал: — Лежите, лежите.
Андрею Ивановичу было неудобно лежа разговаривать со Сталиным, и он попросил подложить под голову дополнительную подушку. Главный врач с полуслова понял и сам сделал это быстро, без суетливости.
Еременко, глубоко вздохнув, слабым голосом стал докладывать:
— Товарищ Сталин, я просил установить связь со штабом фронта… — Уловив неодобрительный взгляд Верховного, он начал как бы оправдываться: — Хотелось быть в курсе дела и отдавать крайне необходимые распоряжения.
В этот момент Андреем Ивановичем владели двойственные чувства: он был доволен разработанным им планом контрудара по врагу и надеялся на его успех, но и не исключал, впрочем, неудачи: враг на брянском направлении имел возможность сосредоточить дополнительные резервы, чтобы прорваться к Москве.
— Этого делить не нужно, — прервал его Сталин, — я сам буду информировать вас о событиях на Брянском фронте. Скорее поправляйтесь.
Прошло чуть больше недели. Здоровье Еременко шло на поправку. Однажды ночью позвонил Сталин. Он сообщил, что войска Брянского фронта вышли из окружения и заняли оборону под Тулой.
Еременко понял, что контрудар, которого он так хотел, не удался.
— Беспокою вас в этот поздний час, зная, что вы ждете известий с Брянского фронта, — заключил Верховный.
— Благодарю вас, товарищ Сталин, — сказал Еременко…
Не прошло и года с того времени, а Еременко показалось, что Верховный сильно сдал, видно, тяжелые заботы и возраст надломили его. Он заметно постарел, в разговоре не было прежней порывистой резкости.
Генерал Зубарев поведал Еременко о причине плохого настроения Сталина: перед самым отъездом на фронт по инициативе, предпринятой вермахтом, решался вопрос об обмене сына Сталина Якова на генерала Паулюса. Сталин не согласился, но сам тяжело переживал…
Проводив Верховного, Еременко долго думал, как бы он поступил на его месте. Пожалуй, иначе нельзя было поступить. Если бы Сталин вызволил только своего сына, тогда он не был бы тем, кем являлся для всего народа. Вера в него ни на минуту не пропадала даже в самые тяжелые дни сорок первого…
О приезде Сталина на фронт немецкая разведка на другой нее день донесла Гитлеру. Выезд Верховного Главнокомандующего в войска был расценен фюрером как факт, заслуживающий особого внимания. Фюрер сам после этого незамедлительно наведался в Смоленск и отдал приказ о дополнительном усилении войск группы армий «Центр». Немецко-фашистское командование, введенное в заблуждение приездом Сталина на фронт, срочно стало наращивать свои оперативные резервы под Смоленском. Только когда наши войска мощным ударом прорвали оборону на Левобережной Украине и стали продвигаться к Днепру, противник начал перебрасывать часть сил из состава группы армий «Центр» на юго-запад для закрытия образовавшейся бреши. Лишь тогда Ставка потребовала от Калининского фронта начать наступление.
184-я стрелковая дивизия из второго эшелона была выдвинута на исходные позиции. В войсках напряженно готовились к штурму вражеских укреплений.
До наступления оставалось трое суток. Губкин, вернувшись с переднего края в штабную землянку, застал капитана Мельниченко склоненным над картой. Поздоровавшись, комбат словно продолжил разговор:
— Нам надо отработать взаимодействие с соседями. Ты пойдешь на левый фланг, поможешь командиру четвертой роты, а я на правый, в пятую. Встретимся на стыке этих двух рот.
Губкин с лейтенантом Зайцевым недолго разыскивали командира седьмой стрелковой роты. Его наблюдательный пункт находился в небольшом ответвлении от первой траншеи в сторону тыла. Сосед сообщил разведданные о противнике, показал на местности огневые позиции двух вражеских пушек и трех пулеметов и высказал предположение, что, возможно, они занимают запасные позиции, а с началом нашего наступления перейдут на основные, нам неизвестные… Губкин убедился, что система огня противника раскрыта слабо, стыки между пехотными ротами не установлены.
Мельниченко, выслушав Губкина, обратился к командиру полка за разрешением провести ночной поиск силами батальона.
Майор Котляр заколебался, прежде чем дать свое согласие. Он считал, что в условиях заранее подготовленной обороны, когда враг со дня на день ждет нашего наступления, взять «языка» для батальонной разведки — сверхтрудная задача. Немцы зорко следили за своим передним краем, устраивали засады, охотились за нашими разведчиками. Комполка больше всего был озабочен тем, чтобы не оставить врагу своего «языка». Тем не менее неполная информация о противнике могла привести к неправильному принятию решения не только командиром батальона, но и командиром полка, а за это пришлось бы расплачиваться жизнью солдат.
…Как и ожидалось, первая попытка не принесла успеха. На следующий день разведчики повторили вылазку, но, наткнувшись на вражескую засаду, вынуждены были с боем отойти.
Мельниченко остро переживал как за исход поиска, так и за престиж батальона.
— Нехорошо получается, на весь полк нашумели, напросились со своей разведкой, и ни малейшего результата. Да к тому же двух бойцов потеряли. Видимо, где-то дали промашку… Как ты считаешь? — спросил он Губкина.
— Согласен, товарищ капитан. И место выбрали неудачное, и опыта не хватило, — вздохнул Георгий. — Надо было обойти опорный пункт. И все же я считаю — следует повторить поиск, должны мы взять «языка».
Провести поиск в ночь накануне наступления было рискованно даже для опытных разведчиков. Но Мельниченко и Губкин понимали, насколько важно получить дополнительные разведданные о противнике для достижения успеха в предстоящем наступлении.
Молодому начальнику штаба было у кого учиться. Ему не раз приходилось убеждаться, что, чем сложнее становилась обстановка, тем спокойнее вел себя капитан Мельниченко. И это впечатляло, вселяло уверенность в успех.
Мельниченко был призван в армию из запаса, но в военном деле не уступал кадровым офицерам. До войны он работал шахтером в Донбассе. Обладал богатырским телосложением и поистине олимпийским спокойствием в любых обстоятельствах. Офицеры его уважали, солдаты повиновались беспрекословно.
Перед решающим поиском комбат вызвал к себе начальника штаба и командира взвода разведки.
— Как подготовились? — жестко спросил он.
— Провели рекогносцировку, отработали действия разведгруппы в различных ситуациях, — за обоих ответил Губкин.
— Ну что ж, как говорят, цыплят по осени считают… В нашем распоряжении последняя ночь.
— Разрешите самому возглавить разведгруппу?
— Как прикажете вас понимать?
— Так и понимать. В исключительных случаях устав разрешает командиру вести в бой подразделение, непосредственно ему подчиненное, — настаивал Губкин.
— Начальник штаба обязан руководить не только разведкой. Его главная задача — обеспечить управление в целом. Предлагаете оставить батальон без начальника штаба?
— Как вы сами сказали, товарищ капитан, четвертой ночи в нашем распоряжении не будет. Не помню кто, но один из великих русских полководцев сказал: «Непознанная слабость противника становится силой, а познанная его сила — слабостью». Так что не о себе пекусь. Удачная разведка намного уменьшила бы наши потери.
Комбат молчал, понимая, что в данный момент важнее задачи, чем взятие «языка» и раскрытие системы огня противника, пожалуй, нет. К тому же спокойный и уверенный тон Губкина обнадеживал.
— Хорошо, пусть будет по-вашему, — наконец согласился Мельниченко.
Георгий вышел из блиндажа комбата и с облегчением вздохнул: сумел убедить. Теперь надо доказать делом. А дело — опасное, рискованное. Он неторопливо шел по опушке дубовой рощи. Осенний лес напомнил ему Семидомку, родные места, и неожиданно для себя он вполголоса запел:
Удастся ли выполнить трудное и опасное задание на этот раз? Надо выполнить. От этого зависит судьба боя, операции… Все ли разведчики вернутся из поиска?..
Придя к себе в землянку, Георгий написал письмо матери:
«Сегодня мы уходим в разведку за «языком». Будь уверена, мама, мы его возьмем, чтобы приблизить час победы над ненавистными захватчиками… Поцелуй за меня Юру и Женю!..»
О жене он не обмолвился ни словом. Перед тем как уходить в разведку, Георгий получил от Аси первое письмо за все время, что находился на фронте. Жена сообщала, что ушла к другому, просила не судить ее строго — так-де сложилась судьба. Неожиданная горькая весть ошеломила Георгия. Асин поступок показался ему предательским, а человек, который с ней живет, — мерзким. Он еще не знал, как поступить, в голову приходили разные мысли. Больше всего ругал себя: влюбился, как мальчишка, с первого взгляда и поспешил сделать предложение, не разобравшись в ее чувствах… Забылся лишь, когда пришел в землянку.
К ночному поиску шла напряженная подготовка. Бойцы тщательно приводили в порядок оружие, обматывали обувь тряпками, чтобы уменьшить шум при ходьбе. Хотя Губкин обычно придерживался твердого правила — без надобности не подменять младших командиров, на этот раз лично проверял оружие, снаряжение, дотошно вникал во все детали предстоящего поиска.
Разведгруппа ночью выдвинулась к заранее подготовленным проходам. Дул холодный встречный ветер, хлестал проливной дождь. Это было на руку разведчикам. Минуя боевое охранение, они вышли на нейтральную полосу.
Двигались гуськом, осторожно ступая след в след, остерегаясь наткнуться на вражеские секреты. По лощине не пошли, опасаясь, что немцы простреливают ее пулеметным огнем. Пошли по холмистому перелеску. Подстерегаемые опасностью, они брели сквозь заросли, озираясь по сторонам и прислушиваясь. Ветер шумел над вершинами деревьев. Губкин остановился. Необъяснимое предчувствие опасности заставило его взять навскидку автомат. «Неужели засада?» — мелькнула мысль, и мурашки пробежали по спине. Но это ветер раскачивал полуупавшую, подгнившую у комля березку, и она потрескивала.
Вскоре кончился и перелесок. Впереди лежала открытая местность. Они двигались, напряженные до предела. Беспрестанно всматривались в каждый бугорок, каждый кустик. И то и дело вздрагивали от малейшего постороннего шороха и стука. Команды Губкина передавались по цепочке шепотом. Одной ракеты достаточно, чтобы раскрыть разведгруппу… Губкин приказал лечь и продвигаться вперед по-пластунски. Одежда вмиг промокла насквозь, но на это никто не обращал внимания.
Сквозь шум дождя и ветра донеслась чужая речь. Разведчики подползли чуть ближе и затаились. Во мраке ночи с трудом рассмотрели орудия. Огневая позиция артиллерии. Губкин отполз в лощину и, укрывшись шинелью, включил карманный фонарик. На топографической карте с условным знаком станкового пулемета, засеченного днем, вывел карандашом еще одну длинную и две короткие черточки — артиллерийскую батарею.
Остановились на опушке рощи. По всему чувствовалось, что рядом нет ни души. Однако доверяться только чувству было опасно, и Губкин, пройдя немного вперед, припал к земле, прислушался. Когда убедился, что все спокойно, приказал расположиться в ельнике вблизи тропы, ведущей в глубь вражеских позиций. Дождь продолжал моросить. Холодные капли проникали за воротник. Поеживаясь, разведчики терпеливо ждали час, другой. Ночь уже была на исходе, а на тропе так никто и не появлялся. Ветер стих. Несмотря на промозглую сырость, страшно хотелось спать, веки слипались.
«Может, не то место выбрали для засады? — тревожился Губкин. — То или не то, а менять его уже поздно».
Прошло еще немного времени. Вдруг послышались шаги и приглушенные голоса. Разведчики замерли. По тропе прямо на засаду двигалось человек десять немцев.
«Что делать? Если начнем стрелять, раскроем себя, — лихорадочно размышлял Губкин. — Видимо, боевой расчет возвращается на огневую позицию».
В этой ситуации многое зависело от того, кто первый откроет огонь. Только опередив противника, Губкин мог рассчитывать на успех. Но к гитлеровцам может подойти подкрепление, и тогда не вырваться. А разведчикам надо во что бы то ни стало вернуться. Значит, надо ждать. И они, затаив дыхание, настороженно следили за действиями врага. Расстояние между ними и немцами сокращалось. Трезвый расчет и выдержка взяли верх. Гитлеровцы прошли мимо, не заметив разведчиков.
Рассвет приближался, а батальонная разведка не возвращалась, и вестей от нее не было никаких. Мельниченко всю ночь не сомкнул глаз, напряженно прислушивался к ночной тишине, и в душу его закрадывалась тревога. Хотя Губкин и опытный командир, но на войне бывает всякое. Факторы внезапности, невезения тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вспомнились слова комполка в последнем напутствии: «Без «языка» можете вернуться, но своего оставлять не имеете права!» Закрадывалось сомнение и в том, правильно ли он поступил, разрешая Губкину лично отправиться на разведку. Начальник штаба не рядовой боец, сведениями располагает такими, которые играют роль в большой операции. Но он тут же отогнал эти мысли: Губкин — надежный, преданный офицер, не подведет: отлично командовал ротой, на Курской дуге в сложнейшей ситуации не дрогнул, успешно справился с боевой задачей. Не случайно же он предпочел в начальники штаба Губкина, а не старшего лейтенанта Кудрявцева, тоже толкового офицера, но менее собранного, которого рекомендовал замполит…
Лишь когда небо заалело на востоке, наши наблюдатели заметили оживление в расположении противника и тотчас доложили об этом комбату.
— Наверное, Губкин со своими людьми приближается к нейтральной полосе, — предположил Мельниченко.
— А мне кажется, немецкая батарея собирается открыть огонь, — сказал Кудрявцев и подкрепил свой довод. — Они делают это регулярно, через каждые четыре часа.
Прошло еще несколько томительных минут. Как бы в подтверждение слов старшего лейтенанта невдалеке разорвался вражеский снаряд, затем еще несколько, и снова наступила подозрительная тишина…
Губкин был далеко от переднего края. С тревогой думая о приближающемся рассвете, до боли в глазах всматривался в темноту. Впереди вдруг мелькнула и пропала полоска света. Приглядевшись, Георгий догадался, что это открылась и закрылась дверца дзота противника. Опять блеснула полоска света, и Губкину удалось заметить в ходе сообщения часового в каске.
— Будем брать его! — решил Георгий. — Со мной пойдут трое: Образцов, Морозов, Кузнецов; остальные во главе с сержантом Закаблуком прикроют нас.
Как назло, из-за облаков выплыла луна. Заметно посветлело, но ждать больше было нельзя. Трое бойцов вслед за Губкиным неслышно сползли в траншею и стали осторожно приближаться к немецкому часовому. Когда их разделяло шагов двадцать, внезапно полоснул луч света — открылась дверь блиндажа. Разведчики прильнули к стенкам траншеи.
Вышедший из блиндажа немец, немного постояв, закрыл за собой дверь. Часовой повернулся спиной к блиндажу и стал медленно удаляться. Чуть отойдя, он оглянулся, к чему-то прислушиваясь. Снова двинулся вперед. Он шел прямо на разведчиков. Его гулкие размеренные шаги отдавались в их ушах.
Губкин отчетливо увидел перед собой темную фигуру и ствол вражеского автомата, направленный в его сторону. Тень от сосны, освещенной луной, падала на траншею и скрывала разведчиков. Когда часовой повернулся спиной, Губкин одним прыжком настиг его и схватил за горло. Почти одновременно на часового набросился Образцов и затолкнул ему в рот кляп.
Тащить пленного было непросто, таким он оказался тяжелым. Когда позади остался опасный участок, немца поставили на ноги и приказали ему идти. Однако случилось непредвиденное: каким-то образом гитлеровец вытолкал кляп изо рта и закричал.
Это произошло уже на нейтральной полосе. Немцы осветили поле ракетой и, обнаружив разведгруппу, открыли пулеметный огонь. Бойцы попадали в борозды, заполненные холодной водой. Немцы усилили обстрел, особенно мешал передвижению разведчиков фланкирующий огонь пулемета.
— Можно мне, товарищ старший лейтенант, уничтожить вражеский пулемет? Только вы отсюда меня на всякий случай прикройте, — сказал рядовой Кузнецов.
Кузнецову удалось проползти метров сто пятьдесят, до вражеского пулемета оставалось чуть более пятидесяти метров. Над его головой взвилась белая ракета, и он на глазах Губкина дернулся и замер. Старшему лейтенанту до слез стало обидно терять исполнительного солдата. Еще накануне он узнал, что отец Кузнецова погиб под Сталинградом, а мать, эвакуированная в Новосибирск, часто болеет, ей приходится особенно тяжело одной с двумя малыми детьми. Губкин тогда еще направил в Новосибирск военному комиссару письмо от имени командования полка с просьбой оказать помощь вдове и матери солдата.
Подавить вражеский фланкирующий пулемет и прикрыть отход разведгруппы напросился пулеметчик рядовой Морозов. Ему удалось надежно прикрыть огнем отход своих товарищей. Наконец разведгруппа достигла нашего переднего края и укрылась в лощине.
Морозов все еще не возвращался. Губкин послал за ним ефрейтора Штанько. Прижимаясь к земле, под огнем гитлеровцев, ефрейтору удалось добраться до Морозова. Тот лежал, раненный в ногу. Ефрейтор наложил ему жгут выше колена и, взвалив на себя, приполз к своим.
…Совсем рассвело, когда разведчики доставили пленного к командиру батальона. На допросе немец сообщил, какие части занимают впереди оборону, указал на карте, где располагаются основные и ложные артиллерийские позиции. Первую траншею, пояснил он, занимают только на ночь. Днем там оставляют лишь дежурных автоматчиков, а солдат отводят во вторую траншею.
Разведданные, доставленные Губкиным, и показания пленного помогли разгадать маневр врага, полагавшего, что русская артиллерия будет впустую бить по первой траншее, оставленной на рассвете, перед началом нашей артподготовки.
С утра 14 сентября ураган огня обрушился на противника. В воздух взмыли самолеты, по земле двинулись танки, загрохотала артиллерия сопровождения. Сплошной шквал огня и металла накрыл вражеские позиции. Со свистом летели один за другим реактивные снаряды, оставляя за собой яркие полосы в небе. Артиллерийский обстрел усиливался. Огневой вал сметал все на своем пути. Огромные деревья вырывало с корнями, они с легкостью пушинок взлетали в воздух и с треском, разбитые вдребезги, падали на почерневшую землю.
Под гром залпов эрэсов батальон капитана Мельниченко вместе с соседями атаковал противника. Над полями Смоленщины прокатилось: «Ур-ра! За Родину!» Будто предельно сжатая пружина внезапно распрямилась и выбросила наших солдат из окопов. Стрелковые роты батальона Мельниченко устремились на врага. Четвертая рота лейтенанта Зайцева настолько вырвалась вперед, что комбат приказал командиру артдивизиона перенести огневой вал на большую глубину.
Ненависть к фашистам за их злодеяния, накопившаяся в бойцах, жажда победы опрокинули вражескую оборону. Рота Акимова овладела первой траншеей, рота Зайцева порвалась во вторую. В числе первых атаковали третью траншею ефрейтор Штанько из Винницы, рядовой Перзаев из Казахстана. Бойцы сошлись врукопашную. И, ловко орудуя штыком и прикладом, вымещали на гитлеровцах весь свой гнев.
В результате четырехдневных упорных боев немцы были выбиты из Духовщины. За умение и доблесть, проявленные в наступательных боях, Верховный Главнокомандующий 19 сентября объявил всему личному составу 184-й стрелковой дивизии благодарность и присвоил ей почетное наименование «Духовщинская». В тот же день столица нашей Родины Москва салютовала войскам Калининского фронта из ста двадцати четырех орудий.
Наступление продолжалось. За три месяца было пройдено с боями более ста километров, десятки деревень спасены от уничтожения, тысячи людей освобождены из фашистского плена.
Во второй половине декабря 1943 года дивизия была передана в распоряжение командующего войсками 5-й армии Западного фронта. Полки оставались на своих участках.
После короткой передышки дивизия вновь перешла в наступление, продвигаясь к Белоруссии. До ее границы оставались считанные километры. Особенно тяжелые бои развернулись за станцию Шумшино. Батальону Мельниченко к концу первого дня наступления удалось закрепиться на восточной окраине. Майор Котляр получил приказ комдива полностью очистить Шумшино от противника. Эту задачу он поставил командирам первого и второго стрелковых батальонов, третий оставался во втором эшелоне. Однако враг опередил начало атаки — неожиданно ранним утром сам нанес удар. Действия гитлеровцев оказались настолько внезапными, что батальон Мельниченко был застигнут врасплох и отброшен от станции. В довершение всех бед в ходе отражения вражеской контратаки был ранен в грудь сам комбат.
Когда Губкин подбежал к Мельниченко, тому уже оказали первую помощь и он лежал на носилках, готовый к эвакуации в медсанбат.
— Прохлопали мы с тобой противника, Георгий, тяжело теперь будет их второй раз выбивать. — Мельниченко говорил, еле шевеля губами, и Губкин заметил, как трудно ему дышать.
— Не вовремя вас пуля зацепила, товарищ капитан, — Губкину хотелось подбодрить Мельниченко, — вы так нужны сейчас батальону.
— А ты не прибедняйся, Георгий, принимая командование, не хуже меня справишься. С Котляром насчет тебя я еще раньше согласовал. Главное, батальон береги, с ним еще шагать и шагать до Германии. — Капитан сделал знак стоявшим рядом санитарам, и они понесли его.
Не успел Губкин принять командование батальоном, как из штаба полка сообщили, что вместо раненого Котляра командиром полка назначен майор В. С. Гринченко. Вскоре и сам майор дал о себе знать — вызвал к телефону Губкина.
— Приказываю возобновить атаку и освободить Шумшино! — раздался в трубке его строгий голос.
Для Губкина такой приказ оказался неожиданным: на подготовку атаки требовалось время, да и сил не хватало. Но комбат знал и другое: приказ вышестоящего командира не обсуждается, а выполняется… И все-таки… если повести бойцов на штурм, достигнут они немногого: станция прикрыта мощным огнем минометов, пулеметов, пушек. Нет, рисковать жизнью бойцов при такой ситуации комбат не имеет права.
— Без подавления огневых точек противника поднимать людей в атаку бессмысленно, — сказал в трубку Губкин.
— Товарищ старший лейтенант, долг в первую очередь обязывает вас выполнить приказ! Вам ясно?
— Ясно, товарищ майор, но, чтобы возобновить атаку, имеющихся сил и средств у меня недостаточно.
Гринченко вызвал его на свой КНП.
И хотя предстояло возвращаться в тыл, днем сделать это было совсем непросто. Гитлеровские снайперы держали позиции под прицельным огнем. Губкину ничего другого не оставалось, как ползком преодолевать открытую местность.
Гринченко встретил его сурово:
— Товарищ старший лейтенант! За невыполнение приказа я вас должен отдать под трибунал!
— Воля ваша! — сдерживаясь ответил комбат. На лице его выступили красные пятна, но ни малейшего признака испуга в его голосе Гринченко не почувствовал.
— Значит, ваш батальон, товарищ старший лейтенант, не сможет взять станцию Шумшино? — Гринченко остановился перед Губкиным, глядя на него в упор.
— Сможет! — сдавленно проговорил Губкин. — Но для этого стрелковые роты необходимо усилить артиллерийским дивизионом и танковой ротой.
— Где, Губкин, взять столько танков и артиллерии? — более сдержанно сказал Гринченко. — Каждая пушка на счету…
— Гитлеровцы успели превратить населенный пункт в узел обороны. Полагаю, что из трех дивизионов полковой артиллерийской группы, имеющейся в вашем распоряжении, один дивизион можно передать моему батальону. А танковую роту временно изъять из состава соседнего батальона. Возьму Шумшино — верну обратно.
Доводы комбата были убедительными, и Гринченко на время переподчинил Губкину дивизион гаубиц, роту тридцатьчетверок и взвод саперов.
— Сколько времени нужно батальону, чтобы подготовиться к атаке? — совсем уже смягчился Гринченко.
— Прошу на организацию взаимодействия два часа.
— Значит, решили: в тринадцать тридцать атака. За пятнадцать минут до ее начала произведем артналет. Желаю успеха.
Вернувшись от Гринченко, Губкин задумался: приказ категоричен и слишком общ: командиру батальона предстоит самостоятельно продумать все до мелочей и принять конкретное решение. Надо определить задачи стрелковым ротам: пятую и шестую целесообразнее использовать в первом эшелоне, четвертую — для отражения возможных контратак противника; а с овладением западной окраиной Шумшина бросить ее в обход железнодорожной станции с юга…
В указанное время командиры рот второго батальона и приданных артиллерийских и танковых подразделений прибыли на организацию взаимодействия. Губкин по устремленным на него взглядам офицеров чувствовал, что от него ждут такого решения, которое позволило бы одержать победу над противником. И он впервые со всей ответственностью произнес это слово, имеющее столь важное значение в судьбе батальона:
— Решил главный удар нанести в направлении железнодорожного моста и западной окраины Шумшина!
В этих нескольких словах заключалась командирская воля, его приказ на жизнь и смерть, а значит, и его ответственность за судьбы тех, кого поведет он в бой.
Это был первый приказ его по батальону, и Губкин понимал: он в центре внимания не только командиров, но и солдат, и от того, каким окажется конечный результат, будет зависеть его авторитет — слава или бесславие. Удалось ли ему предугадать именно то слабое место в обороне противника, где будет обеспечен успех?
Губкин объявил решение и с облегчением вздохнул. Взгляд невольно задержался на командире приданного артиллерийского дивизиона. Высокий и широченный в плечах майор лет сорока смотрел на Георгия и всем своим видом выражал явное неодобрение.
— Может, у кого есть другие предложения? Товарищ майор, вы что-то хотите сказать? — обратился он к командиру дивизиона.
— На мой взгляд, станцию Шумшино брать лобовой атакой нецелесообразно. Для этого у нас недостаточно артиллерии, и мы не успеем за время артиллерийского налета подавить и уничтожить вражеские огневые точки, — высказал свои доводы майор. — Лучше, по-моему, ударить в обход опорного пункта противника. На авось, удар лобовой что об стену головой! — заключил он, криво усмехнувшись.
Губкин обратил внимание и на то, что многие офицеры были на стороне майора: его смелость, убедительность суждений импонировали им. Надо было защищать свою точку зрения.
— На этот счет я вам тоже отвечу солдатской поговоркой, — сказал комбат. — «Не бей наобум, и у противника ум!» Гитлеровцы тоже не дураки, подготовились отразить наши удары именно на своих флангах и ждут нас там. Кроме того, лощины, которые ведут в тыл противника, занесены снегом и пристреляны перекрестным огнем, вот почему я предпочел лобовую атаку.
— И все-таки надо бы ударить в обход, — стоял на своем майор. — Артиллерия не успеет подавить огневые точки противника.
— Товарищ старший лейтенант, — обратился комбат к командиру минометной роты Парскалу, — сколько потребуется времени, чтобы артиллерийскому дивизиону и минометной роте поставить дымовую завесу на фронте в тысячу метров?
— Минут пяти — десяти вполне достаточно!
— В таком случае будем атаковать Шумшино под дымовой завесой. Огневой налет приказываю закончить пятиминутным обстрелом дымовыми снарядами. Командирам стрелковых рот необходимо за это время со своими подразделениями ворваться в первую траншею немцев.
Отдав приказ на предстоящий бой, Губкин приступил к согласованию совместных действий пехоты с артиллерией и танками на главном направлении. Он уточнил на местности, кто с кем и с какой задачей будет наступать.
Неожиданно зазуммерил телефон.
— Товарищ комбат, вас просит начальник штаба старший лейтенант Кудрявцев, — сообщил телефонист.
— Слушаю! — взял трубку Губкин.
— Товарищ Шестьдесят первый, взвод Горбунова в трудном положении, — докладывал начальник штаба. — Если не предпринять экстренных мер, он погибнет. Бойцы отбивают четвертую атаку и окончательно выдохлись.
Губкин вновь почувствовал, что собравшиеся офицеры внимательно смотрят на него и напряженно ждут, что он скажет. Взгляд его остановился на командире минометной роты, который удобно устроился на пеньке. Да, да, именно он прикроет Горбунова своим огнем, и тот отведет взвод назад, оставит железнодорожную будку немцам. «Черт с ней», — подумал комбат, хотя знал, что эта злосчастная будка — основной ориентир на переднем крае и нанесена на карты штаба дивизии. Оставить ее без разрешения — за это можно сурово поплатиться, в особенности если не удастся взять станцию Шумшино.
Комбат вспомнил совсем молоденького веснушчатого младшего лейтенанта Горбунова, и ему стало жаль его. Горбунов перед самой войной закончил десятый класс и поступил в пехотное училище. После ускоренных шестимесячных курсов был направлен во второй стрелковый батальон. За три месяца пребывания на фронте заметно повзрослел, лицо его обветрилось и огрубело, волосы потемнели. Стал он не по возрасту молчаливым и задумчивым. Нет, не мог Губкин допустить гибели взвода, он всю полноту ответственности взял на себя и отдал приказ оставить железнодорожную будку.
Под прикрытием огня артиллерии и минометов взвод Горбунова оставил переезд, откатился на свои старые позиции. Пока производилась перегруппировка, восстанавливалось взаимодействие, солдаты на передовой мерзли в снегу. Некоторые грызли твердые заледеневшие сухари, кое-кто уминал мясные консервы из неприкосновенного запаса.
Наконец начался долгожданный артналет. Немцы открыли ответный огонь. Все вокруг загрохотало. Из штаба полка сообщили, что артналет заканчивается и огонь переносится в глубину обороны противника. По сигналу Губкина солдаты второго батальона, не отставая от артиллерийского огня, ринулись вперед. С КНП хорошо были видны боевые порядки стрелковых рот, они то тонули в дымовой завесе, то вновь появлялись. В ушах комбата все еще звучал приказ комполка: «Взять станцию Шумшино!»
До западной окраины Шумшино оставалось метров восемьсот, когда на боевые порядки батальона обрушилась лавина автоматно-пулеметного огня. Вдоль ротных цепей начали рваться вражеские мины. Но никто из бойцов Губкина не дрогнул. Командиры взводов и отделений умело управляли подразделениями. Перебежки стали более быстрыми и короткими.
Шестая рота овладела первой траншеей противника и залегла под пулеметным огнем с водокачки. Пятая рота захватила первые два домика на восточной окраине и тоже была прижата вражеским огнем к земле. Настал момент, когда батальон требовалось поднять для решающего броска.
Губкин вызвал командира артиллерийского дивизиона:
— Видишь, пехота залегла? Люди истекают кровью. Сколько минут потребуется для того, чтобы разрушить водокачку? Немцы ведут оттуда фланкирующий пулеметный огонь.
— Минут двадцать.
— Даю десять — и ни минуты больше!
После трех прямых попаданий водокачка была разрушена, но стрелковые роты продолжали лежать, измученные, обессиленные первыми бросками. Продолжали строчить вражеские пулеметы: артиллерии не удалось подавить полностью вражеские огневые точки. Фланговый обстрел вели ранее невыявленные пулеметы. Сигнал «Вперед, в атаку!» на бойцов не действовал. Поднялись лишь одиночные фигуры, их можно было пересчитать по пальцам. Комбат, глядя в бинокль, узнал среди них командиров рот, своих заместителей, командиров взводов. Наступление могло окончательно захлебнуться.
Молодой комбат понимал всю тяжесть и ответственность создавшегося положения. Нужно было срочно что-то предпринимать. И он решился: послал к командиру взвода противотанковых орудий Ветрову связного с приказанием выдвинуть сорокапятки как можно ближе к противнику и прямой наводкой подавить и уничтожить вновь выявленные огневые точки. Ротным командирам приказал подготовиться к атаке.
Отдав необходимые распоряжения, Губкин сам решил возглавить атакующие цепи. Пробиться к наступавшим было непросто: вражеские пулеметчики и снайперы обрушили на него огонь. Губкин вынужден был залечь. Полежал немного, оценивая обстановку, и снова бросился вперед. Ему удалось преодолеть метров сто, виртуозно перебегая с места на место; вражеские пули стали стегать по снегу совсем рядом, и пришлось снова залечь.
Прижатый огнем к земле, Губкин подумал о том, что его солдаты лежат ближе к противнику и снайперы беспрепятственно убивают их. И чем дольше они будут лежать, тем больше будет потерь. Надо быстрее поднимать их. Губкин сконцентрировался и, энергично работая локтями, двинулся по-пластунски вперед. Пот градом стекал по его лицу. Снег, попадая в рукава, за воротник, таял. Над ним поднимался пар, демаскируя его: вокруг визжали вражеские пули, вздымая снежную пыль.
Одна из них ударила в каску и сбила ее с головы. Ощущение было такое, что это не пуля, а приклад винтовки грохнул по металлу. Георгий добрым словом вспомнил тех, кто сделал эту каску, спасшую ему жизнь. Ему казалось, что слишком долго он добирается до своих, а до пятой стрелковой роты оставалась еще добрая половина пути.
«Тебя ждут около трехсот солдат и офицеров, — подбадривал себя Губкин. — Чего бы ни стоило, ты обязан добраться, вселить в них уверенность и храбрость, личным примером поднять их в стремительную атаку».
За Губкиным наблюдали не только гитлеровцы, и свои не спускали глаз и, как могли, помогали, ведя стрельбу по вражеским огневым точкам. Многие бойцы уже горели желанием броситься на врага, спасти своего командира.
Только когда Губкин подполз к обратным скатам холма, возвышавшегося на пути к пятой роте, артиллерия, как было обусловлено, начала огневой налет. Командир дивизиона, волнуясь за судьбу комбата, всем дивизионом дал залп дымовыми снарядами. Губкин воспользовался этим, поднялся и бросился вперед. Вскоре, запыхавшийся, он грохнулся рядом с командиром пятой роты. Чуть отдышался и приказал передать по цепи:
— Приготовиться к атаке!
По заснеженному полю прокатилось громовое эхо:
— За Родину! В атаку!
Губкин с автоматом в руках первым поднялся во весь рост. В этот миг он был поистине величествен. Глядя на своего комбата и воодушевляясь его порывом, все поднялись следом за ним.
Перед взором Губкина предстала впечатляющая картина: на фоне голубого неба лежала окраина Шумшина, запорошенные снегом дома, к которым устремились стрелковые роты его батальона. Он впервые видел такой стройный боевой порядок. Будто его солдаты наступали не по заснеженному полю под огнем врага, а по учебному полигону. По всему фронту гремело мощное «ура». Все, что он видел сейчас, не могло сравниться ни с какой другой атакой и ни с чем пережитым им на войне до этого.
Атакующие цепи в сопровождении артиллерии вырвались вперед. К пятнадцати часам батальон полностью освободил Шумшино от немцев и закрепился на его западной окраине.
Бой закончился, и на плечи комбата свалились новые заботы. В первую очередь надо было обогреть и накормить людей, а батальонная кухня куда-то запропастилась.
Командир хозяйственного взвода, еще накануне наступления отправившийся искать тылы полка, тоже где-то застрял.
Измученные, голодные бойцы не стеснялись выражать недовольство.
Пожилой солдат, разговаривая с товарищами, делал вид, что не замечает подошедшего к ним комбата.
— Плохо, когда командиры часто меняются. Новичку подай победу, а то, что подчиненные не завтракали и не обедали, его мало волнует…
Кровь ударила в лицо Губкину, было больно и обидно за столь несправедливое осуждение. Хотелось резко отчитать солдата, но он сдержался, понимая, что ничего этим не достигнет. Самый убедительный аргумент в данной ситуации — горячий обед. Надо накормить бойцов, пополнить их боезапас.
Губкин поспешил вернуться в блиндаж и приказал ординарцу:
— Во что бы то ни стало разыщите командира взвода и передайте ему мой приказ немедленно явиться сюда…
Минут через пятнадцать в блиндаж виновато протиснулся упитанный, одетый во все новенькое старшина Прозоров, командир хозяйственного взвода. Невнятно доложил о себе. И Губкин взорвался:
— Где кухня?
— Застряла где-то, — пожал плечами старшина.
— А где вы были?
— Да вот… искал…
— Даю вам два часа. Если за это время бойцы и командиры не будут накормлены, завтра пойдете с ними в атаку, а вопросами снабжения займется другой.
И подействовало: нашлись и кухня, и продовольствие, те, кто сумел быстро приготовить бойцам обед.
На КНП Георгия ждал сюрприз. Он оказался в числе немногих счастливчиков: батальонный почтальон принес и ему письмо. Он отошел в сторону и, развернув конверт, узнал знакомый почерк Музы. Для него ее письмо было неожиданностью. С тех пор как зарубцевались его сталинградские раны, прошло уже немало времени. Он просто потерял надежду получить ответ. И вот она, долгожданная весточка! Губкин с первых строк почувствовал, как мучительно и долго сочиняла Муза это послание.
Она сообщала, что служит в хозяйстве Крылова. Эту фамилию Губкин слышал не раз, значит, оно находится где-то поблизости. Но тот ли это Крылов? Взглянул на дату отправления: письмо дошло за неделю. Значит, военный госпиталь где-то недалеко. Губкин безмерно рад был этой небольшой весточке. Он почувствовал вдруг, что к нему возвращается нечто важное, казалось, навсегда утерянное. Воспоминания о Музе взволновали его. Георгий сразу же засел за ответ. Слова ложились на бумагу ласковые, задушевные, от которых он давно отвык на войне.
Своей радостью Георгий поделился с ординарцем, самым близким ему человеком на фронте. Несмотря на разницу в воинском звании, Образцов имел больше жизненного опыта, и Губкин прислушивался к нему. На предположение, что военный госпиталь, где они находились на излечении, перебросили из Саратова под Смоленск, ординарец возразил:
— Вряд ли стационарный госпиталь ввели в состав действующей армии.
Но на войне часто случалось непредвиденное. По окончании Сталинградской битвы на Западный фронт были переброшены не только военные госпитали, но и крупные соединения.
…Когда немцы вновь обрушили шквал огня на западную окраину Шумшина, еще не все солдаты второго батальона успели поесть. Враг не жалел снарядов. В центре огневого налета оказались позиции минометной роты. Немцы перешли в контратаку. Осколком вражеского снаряда был ранен командир приданного артиллерийского дивизиона. Губкин, определив, откуда бьет вражеская артиллерия, вызвал к себе начальника штаба дивизиона старшего лейтенанта Селезнева и приказал ему подавить батарею противника.
— Товарищ комбат, приказ командира полка: оставшийся боекомплект снарядов не расходовать, — возразил Селезнев. — Он предназначен для сопровождения вашего батальона в наступлении.
— Выполняйте мой приказ! — сорвался Губкин. — Если промедлите, через полчаса наступать уже будет некому. Идите! — И тут же вызвал командира взвода связи.
Тот оказался на линии, и вместо него прибыл помощник командира взвода связи сержант Петр Баранов.
— Товарищ сержант, почему нет связи с командиром минометной роты?
— Противник ведет огонь, связь выведена из строя. Линейный надсмотрщик убит, командир взвода сам на линии.
Сержанта перебил телефонист:
— Командир минометной роты у телефона.
— Старший лейтенант Парскал, вы меня слышите? — спросил Губкин.
— Так точно, товарищ Шестьдесят первый!
— Приказываю: огнем всей роты отразить контратаку немцев!
И все же на левом фланге батальона гитлеровцам удалось вырваться из-под минометного огня роты Парскала и выйти к самой окраине Шумшина.
Снова рвались вражеские мины и снаряды в боевых порядках рот второго стрелкового батальона, и снова наше наступление на этом участке захлебнулось. Губкин находился в боевых цепях пятой роты Акимова, когда позвонил комполка.
— Товарищ комбат, майор вызывает вас к телефону, — передал Губкину трубку телефонист.
— Что вы там опять замешкались? Почему не продвигаетесь вперед? — услышал Губкин хриплый голос Гринченко.
— Отражаю контратаку превосходящих сил противника, — немного помедлив, сказал он.
К вечеру боевые действия утихли. Губкин вызвал к себе в блиндаж, сооруженный еще немцами, командиров рот и других приданных подразделений, развернул перед ними на столе карту, испещренную синими и красными знаками.
— Тихо, товарищи! — призвал он к порядку разгомонившихся командиров. — Есть приказ: с рассветом снова наступаем! Завтра наш батальон должен вступить на белорусскую землю. Дожили мы с вами до радостных дней!
— Товарищ комбат! Какие там радости, когда наступать не с кем, — с досадой сказал командир пятой роты Акимов. — Людей мало… И боекомплект кончается. У станковых пулеметчиков — по ленте патронов. Во взводе противотанковых орудий всего десять снарядов. Немцы хотя и в обороне, но превосходят нас в силах.
— Товарищ старший лейтенант! Приказы не обсуждаются. Наше дело выполнять их…
— Начальству, конечно, виднее! — заметил Акимов, расстегивая когда-то белый, а теперь посеревший от времени полушубок. — Только что даст нам наступление при такой обстановке?
— Что же вы предлагаете? — резко оборвал его Губкин.
— Надо просить пополнения и времени, чтобы привести в порядок роты…
— Думаете, у командира полка стоят готовые резервы?
Губкин отчитывал подчиненного, хотя в душе понимал его: роты сильно поредели, решать задачу будет теперь труднее. Он еще раз подумал о том, как тяжело командовать батальоном. Губкин остро реагировал на просьбы подчиненных, переживал неудачи этого дня. А их было много: все еще оставалась невыполненной боевая задача. Майор Гринченко, только вступивший в командование полком, всю ответственность за неудачи в батальонах взял на себя. Ни в чем не упрекнул он и Губкина, но этим еще больше задел его самолюбие.
Губкин понимал и свои ошибки: недостаточно умело руководил артиллерией — и она отстала; не всегда был настойчив и строг с командирами рот и взводов — и некоторые этим пользовались, неоперативно выполняли его распоряжения. А ведь он не раз убеждался на личном опыте: чем взыскательнее и строже он относился к командирам, тем легче было солдатам выполнять задачу, поставленную батальону. В данном же случае командир пятой роты был прав. Надо что-то предпринять, хотя и неоткуда взять резервы. Подумав, комбат приказал Акимову передать в четвертую роту взвод станковых пулеметов, саперное отделение и взвод противотанковых орудий, приданные ему на усиление, а его третий стрелковый взвод вывести в свой батальонный резерв.
— Что же я буду делать с двумя стрелковыми взводами? — Акимов никак не ожидал такого поворота дела.
— Будете прикрывать правый фланг батальона, — строго сказал Губкин. Взгляд комбата задержался на усталом лице лейтенанта Зайцева. — Товарищ лейтенант! Успех батальона теперь зависит от вас. Но помните: десять снарядов сорокапяток использовать только для борьбы с вражескими танками…
Ночью в ротные пункты боепитания доставили патроны, гранаты. С утра, после короткого артналета, по сигналу комбата по цепи атакующих вновь прокатилось «ура». Солдаты Губкина поднялись в атаку. Но противник неожиданно открыл фланкирующий пулеметный огонь из невыявленного ранее дзота. Атакующие залегли. Губкин с досадой наблюдал, как его люди утопали в снежных сугробах. Он приказал взводу сорокапяток уничтожить дзот. Батальонная артиллерия ударила прямой наводкой, но тщетно. Требовалась более мощная артиллерия. Иначе подступиться к вражеской огневой точке было невозможно.
Солдаты, оказавшись в низине, несли тяжелые потери, раненые замерзали. Даже после третьего по счету артналета вражеский дзот не был подавлен и продолжал вести губительный огонь. Последовал четвертый артналет. И только он оказался роковым для гарнизона фашистского дзота. От мощного долговременного укрепления остались лишь обломки бревен да черная яма на белом поле. Батальон опрокинул немцев и к одиннадцати часам продвинулся вперед почти на километр. Однако здесь бойцов ждала новая пристрелянная врагом оборонительная полоса, массированный огонь минометов и пушек заставил наших солдат снова залечь.
Батальону Губкина предстояло повторить атаку. Приказ надо было выполнить во что бы то ни стало, хотя сил для наступления оставалось совсем мало. В то время комбат не знал конечной цели операции и того, что дивизия наступает с ограниченной задачей: отвлечь противника от основного стратегического направления. Все это держалось в строгом секрете.
Последние минуты перед атакой были для Губкина всегда особенными, он остро ощущал тот момент, когда сотни бойцов по его команде должны будут ринуться навстречу вражескому огню, навстречу смерти. Поднимать в атаку людей, залегших под сильным огнем противника, всегда считалось сверхтрудной задачей для любого командира. Тем более когда люди измотаны многодневными боями, стужей. Требовалось предельное сосредоточение всех физических и моральных сил.
Комбат знал, что трудности солдат переносит гораздо легче, когда ощущает постоянную заботу и внимание командира. И он старался сделать все, чтобы солдаты были сыты, хорошо обуты и одеты. Но это не всегда удавалось: хозвзвод батальона пока еще несвоевременно обеспечивал бойцов горячей пищей, неоперативно заменял вышедшее из строя зимнее обмундирование…
Командиры рот доложили наконец о своей готовности. Взглянув на часы, Губкин перехватил из рук ординарца ракетницу и выстрелил. Красная ракета взвилась ввысь. Стрелковые цепи устремились вслед за разрывами снарядов нашей артиллерии. По команде ротных и взводных батальон дружно поднялся в атаку. И в полный рост пошел вперед по снежному полю. Солдаты шли стиснув зубы, чувствуя, как тело наливается яростной силой. Вот уже преодолены первые сто метров. Губкин насчитал несколько огневых точек противника, которые не удалось подавить, сейчас они безнаказанно вели ответный огонь. Комбат остановился, чтобы уточнить задачи артиллерии.
До вражеских окопов оставалось менее трехсот метров, но преодолеть их было очень трудно. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, фланкирующим огнем прижимал к земле нашу пехоту. С воем на поле стали рваться снаряды и мины. Белый снег покрылся копотью. Командиры рот по телефону передавали координаты огневых точек, мешающих их продвижению. Губкин, оставаясь на открытой местности, уточнял задачи артиллерийскому дивизиону, минометной и пулеметной ротам.
Замполит капитан Щипан волновался, видя безрассудную храбрость комбата. Незадолго до этого на его глазах был тяжело ранен капитан Мельниченко, и теперь он переживал за Губкина.
— Георгий Никитович, лучше бы вам расположиться вон в той воронке. Хотя бы временно, пока отдаете распоряжения. — Щипан показал в сторону углубления, зияющего в снегу, запорошенном черной гарью.
— Не до укрытий, замполит, роты вперед пошли, и нам надо продвигаться за ними, — улыбнулся Губкин.
Воронку так никто и не занял. Роты продвинулись вперед, и комбат последовал за ними. Вместе с ним зашагал радист, у которого на спине висела радиостанция с длинной болтающейся антенной для связи с полком. Чуть позади шел связист с катушкой за спиной, разматывая телефонный провод. Все они двигались на виду у противника. Снаряды рвались впереди и позади, слева и справа. Один из них полыхнул совсем рядом, и Губкин упал: осколок угодил ему в бедро. Подбежавший санинструктор разрезал брюки, перебинтовал ногу. Комбат в горячке не сразу почувствовал, насколько тяжелой оказалась рана. Он подумал лишь о том, как много сил вложено в это наступление, и потерял сознание.
К матери солдата беда пришла не одна. За похоронкой на мужа вскоре последовала другая, на сына. Вдова Кузнецова еще не могла опомниться от страшных потрясений, и вот в это тяжелое для нее время она получила от командира письмо с подробностями геройской гибели сына. Строки, согретые теплом и заботой о матери солдата, доставили ей облегчение. Весточке из самой гущи войны и несчастья она была признательна. И опять взяла лежавшее на столе письмо, принялась перечитывать. И почему-то в голове ее пронеслись мысли, что командира, написавшего письмо, уже нет в живых или, может быть, он повел своих солдат на страшный бой и сам на краю гибели, раненный, истекает кровью. А где-то, наверное, в отчаянии рыдает его мать, думала она. И вот этот самый человек нашел все же время написать ей, матери солдата, искренние, теплые строчки.
…Санитары помогли Образцову положить раненого комбата на носилки, связанные поясными ремнями из двух жердей; тот застонал и чуть приоткрыл глаза. Ординарец впервые увидел искаженное болью и страданием лицо Губкина. Опасаясь за жизнь комбата, он заспешил в тыл к медпункту.
Губкин очнулся от грохота разорвавшегося снаряда. Ярость и отчаяние заклокотали в нем, переворачивая душу. Он еще никогда не чувствовал себя так плохо, как сейчас. Что-то сдавило голову, все закружилось и смешалось, и не столько от боли, сколько от тяжести долга и ответственности за судьбу батальона. И он настойчиво потребовал нести его обратно, в расположение роты Зайцева. Усталые бойцы, проваливаясь по колено в снегу, понесли носилки назад к линии фронта.
Навстречу им попались бойцы четвертой роты. Отступая, они наткнулись на носилки с Губкиным.
— Вы что же это удираете, паникеры? Приказываю занять оставленные позиции! — попытался скомандовать как можно громче Георгий, но боль перехватила дыхание.
Солдаты поняли все, что не досказал комбат, и повернули обратно. Санитары занесли носилки с Губкиным в воронку, развороченную взрывом снаряда тяжелой гаубицы, совсем близко от наблюдательного пункта командира роты Зайцева.
Одного связного Губкин тут же направил за начальником штаба батальона, другого за замполитом. Вскоре к нему подошли старший лейтенант Селезнев, исполнявший обязанности командира приданного артиллерийского дивизиона, начальник штаба старший лейтенант Кудрявцев и замполит капитан Щипан. Губкин, лежа на носилках, отдавал приказания через Кудрявцева. Только взгляда своего замполита Георгий старался избегать. Перед ним он чувствовал себя виноватым в том, что не прислушался к его предостережениям.
Вскоре перед фронтом батальона боевая обстановка стабилизировалась. И Губкина теперь уже беспокоили не столько раны, сколько судьба сына и дочурки. Последнее время они часто снились ему.
Семейное счастье его оказалось ложной мечтой. Скрывать свою душевную боль становилось невмоготу, и он решил поделиться своими неурядицами с замполитом.
Капитан Щипан и сам замечал, что Губкин больше страдает не от осколочной раны, а от чего-то другого, часто задумывается, вздыхает. И он сказал комбату:
— Ну-ка, выкладывай свою боль, Георгий Никитович, может, чем помогу.
— Чем ты можешь помочь, Илья Иванович? — грустно усмехнулся Губкин. — Беда, как говорят, не ходит одна. Ранили меня не только в ногу, но и в душу: моя жена недавно сообщила мне, что вышла замуж за другого.
— Да, это тяжелый удар, — согласился Щипан. — Но ты — командир, на тебя смотрит весь личный состав батальона, и вешать тебе голову не к лицу. Мало ли нынче женщин, которые не выдерживают испытание? А может, это и к лучшему. Какая семья без любви? Ты еще найдешь такую, которая тебя полюбит.
— Илья Иванович, жалко сына и дочь!
— Ты на меня не обижайся, мы с тобой прежде всего солдаты. Настоящий солдат должен жить не тоской о доме, а думами об Отечестве. Ты знаешь, кто это сказал?
— Не знаю.
— Суворов!
— Очень уж обидно…
— Верю. Но обида не должна заслонять главного — исполнения своего долга перед Родиной…
Разговор комбата с замполитом прервал телефонный звонок. Командир четвертой роты докладывал, что два вражеских танка T-III надвигаются на его левый фланг. Расстояние до них не превышает километра.
Губкин вызвал к себе командира взвода противотанковых орудий Ветрова.
Кудрявцев доложил комбату, что из штаба полка только что сообщили о присвоении Ветрову воинского звания «старший лейтенант». Губкин обрадовался — это по его представлению подчиненный повышен в звании.
Ветров, молодой коренастый блондин с артиллерийскими эмблемами на погонах, вскоре предстал перед ним.
— Товарищ старший лейтенант! Приказываю уничтожить вражеские танки, контратакующие четвертую роту. — Губкин заметил в глазах Ветрова некоторое смущение. Очевидно, его шокировало то, что он, командир взвода, догнал в звании своего комбата.
— Есть, уничтожить вражеские танки! — несколько запоздало повторил приказ Ветров, но уходить не торопился.
— Попробуйте не оправдать доверия! — Губкин улыбнулся через силу и добавил: — Поздравляю с присвоением очередного воинского звания «старший лейтенант»!
— Служу Советскому Союзу! — с радостью отчеканил Ветров.
— Смотри, чтобы не прошли вражеские танки.
— Не пройдут, товарищ комбат!
Обстановка становилась все более сложной. Губкин продолжал управлять боем, отдавая соответствующие распоряжения по телефону, а на душе у самого было тяжело. Сколько близких товарищей полегло на дорогах войны! Сам не раз чудом уходил от смерти, и сейчас его жизни снова угрожала опасность. А сколько еще боев впереди, сколько еще шагать до победы! И так хотелось дожить до нее.
Немцы, как видно, уже не сомневались, что им удастся уничтожить вырвавшийся вперед батальон русских. Командир полка майор Гринченко, разгадав намерения противника, решил бросить на чашу весов свой резерв, ввести в бой на этом участке третий батальон.
Произведя перегруппировку, полк майора Гринченко вновь перешел в наступление. Шестая рота опрокинула немцев. Комполка еще не знал о ранении Губкина, но, вызвав его к телефону, похвалил: «Молодец, товарищ комбат! Молодец!»
В тот момент Гринченко даже не подозревал, как это им было сказано вовремя и кстати. Губкин чувствовал себя все хуже, слабел буквально на глазах. Кудрявцев переживал за комбата, досадуя, что своевременно не настоял на его эвакуации.
Нигде так не проверяются высокие качества человека, как на войне. Только в бою можно получить ответ на вопрос, готов ли ты до последней капли крови сражаться во имя Родины. В бою недостаточно одних призывов, самым важным фактором в решающий момент становится личный пример. За смелым командиром воины шли в огонь и воду, если он был сердцем и мыслями с ними, если делил с ними до конца все трудности фронтовой жизни.
Солдаты конечный результат боя оценивали, исходя из количества потерь. Солдатская арифметика, как правило, позволяла понять, насколько умело продуман бой. И конечно, больше всего бойцы дорожили теми командирами, которые достигали победы с наименьшими потерями. А для этого надо было прежде всего уметь правильно анализировать обстановку и знать, какими силами располагает противник.
Когда рота Зайцева захватила раненого немецкого унтера, Губкин сразу потребовал, чтобы пленного доставили на КНП. Немец первым делом заявил, что он голоден и просит оказать медицинскую помощь.
— Накормите, дайте хлеба и сала! — приказал комбат, приподнявшись на носилках.
Впервые за все время Образцов возмутился, но промолчал, хотя кормить гитлеровца русским салом, которого сам не пробовал, а берег для раненого комбата, очень не хотел. В голове ординарца не укладывалось, как можно последнее отдавать немцу. Ведь комбат ненавидел немцев, с яростью громил их, а тут вдруг проникся к пленному жалостью…
Немец с жадностью набросился на еду, давясь поблагодарил:
— Данке!..
— Смотри, как у тещи на блинах. Видно, знает, как русские обращаются с пленными, — сказал находившийся рядом начальник штаба батальона.
— Узнайте номер его полка, — попросил Губкин Кудрявцева.
Тот перевел пленному. Немец ответил не сразу.
— Кто этот раненый на носилках? — поинтересовался он.
— Командир батальона, — ответил Кудрявцев.
— Переведите ему, что на этом участке обороняется 18-й пехотный полк…
Перед ними действовал все тот же противник, разведданные о подходе новых резервов не подтвердились. Комбат приказал оказать пленному первую медицинскую помощь и направить его в штаб дивизии.
На душе у Губкина отлегло, и он вспомнил о письме, которое сунул ему в карман почтальон перед самым началом атаки. Напрягая зрение в наступивших сумерках, быстро пробежал глазами строки, написанные знакомым почерком. Наконец-то Евдокия Тимофеевна не выдержала, решилась откровенно сообщить сыну обо всем, что произошло с Асей. Но Георгий уже знал, что жена ушла к другому.
Тяжело вздохнув, он сунул обратно в карман треугольник со штемпелем Благовещенска. Два полушубка и одеяло, которыми заботливо укрыли его солдаты, не грели. Никогда еще он не испытывал такого пронизывающего холода, как теперь. Нестерпимо ныло бедро. От потери крови Георгий обессилел, временами терял сознание.
— Товарищ старший лейтенант, вражеская контратака отбита, преследуем отходящего противника, — наклонившись к нему, доложил Кудрявцев.
— Разведку послали?
— Разведка действует.
— Дали команду на смену огневых позиций артиллерии?
— Артиллерия в пути.
— Задачи ротам уточнили?
— Пятая рота прикрывает левый фланг полка, четвертая и шестая роты наступают. Разрешите вас эвакуировать?
Последние слова Кудрявцева Губкин уже не расслышал; совсем обессиленный, он вновь впал в забытье. Словно начал погружаться в небытие, будто опускался в пустоту. Его клонило к сладкому сну, и будто наступал долгожданный покой, в котором ему уже не придется испытывать ужас смерти…
Где-то снова застучал пулемет. Несомненно немецкий — за выстрелами прослушивалось характерное металлическое лязганье МГ-72.
Сержант Александр Образцов с рядовым Николаем Чуевым бережно понесли комбата на самодельных носилках в полковой медпункт. Время от времени они опускали носилки на землю, чтобы немного отдохнуть, и снова брели по снегу. Им казалось, что они тащили своего комбата целую вечность. Это была долгая дорога к жизни! Не раз они оступались, попадая на выбоины, и каждое сотрясение носилок мучительной болью отдавалось в теле Губкина. Невероятно сильно мерзли ноги, от холода боль становилась еще острее.
Иногда до них долетали вражеские снаряды, и тогда Образцов и Чуев опускали носилки в воронку или первую попавшуюся лощинку, используя ее как укрытие. Едва обстрел затихал, они снова пускались в путь.
Наконец им удалось выбраться из зоны обстрела, и они решили передохнуть. Неподалеку раздался шум мотора, где-то рядом проходила дорога. Чуев бросился туда. Когда увидел санитарную машину, он уже был настолько обессилен, что не мог даже закричать, и только размахивал руками. У обочины дороги стояла санитарная машина. Шофер, худощавый молодой сержант небольшого роста, судя по всему, только что устранил поломку и уже захлопывал дверцу. Образцов уговорил его взять тяжелораненого старшего лейтенанта.
Сосновая роща, где расположился медсанбат, была забита повозками и машинами, беспрерывно подвозившими раненых. В первую очередь пропускали тяжелораненых. Губкина сразу отнесли в просторную палату с окнами и железной трубой над брезентовой крышей. Внутри палатки была своя очередь. На столах в ожидании операции уже лежали четверо раненых.
— Привезли комбата! Еле живой! — крикнул кто-то из санитаров.
— Давайте его сюда! — военврач Серафима Максимовна Чибиркова показала рукой на операционный стол.
Операция прошла быстро, хотя ранение Губкина оказалось сложным. Хирург предприняла все возможное, но не была уверена, что комбат выживет. В медицинской карточке написала: «Эвакуировать в госпиталь».
Медсестра стала готовить Губкина к эвакуации. Георгий, хотя и понимал тяжесть своего положения, все же надеялся после выздоровления вернуться в свою часть, поэтому попросил:
— Оставьте меня в медсанбате. Я поправлюсь здесь быстрее.
Сестра позвала хирурга.
— Вот что, молодой человек, — сурово заговорила врач, — шутить жизнью нельзя! Вам требуется стационарное лечение. В полевых условиях это невозможно. Мы наступаем, и медсанбат будет все время в движении. Так или иначе будем всех эвакуировать.
— Вот тогда со всеми эвакуируете и меня…
— Ну это мы уже сами решим, когда вас эвакуировать. Врачи лучше знают, как и где вас лечить. Не вы первый проситесь остаться в медсанбате, чтобы вернуться в свой батальон, в свой полк. Я вас отлично понимаю. Не волнуйтесь, поедете в армейский госпиталь, который в Гжатске. Оттуда вернетесь в свою дивизию.
…По письму Музы Георгий догадывался, что она находится в армейском госпитале. Возможность встречи с ней радовала его и ободряла. Ему очень хотелось увидеть ее. С тех пор как они расстались, прошло больше года, но Муза не выходила из головы, часто снилась во сне…
Губкина на санитарной машине эвакуировали в Гжатск в армейский госпиталь. Фронтовая дорога с ухабами оказалась томительной. Уже поздно ночью занесли его в госпитальную палату. Кто-то громко сказал: тяжелораненый. Тотчас же к нему подошел санитар в белом халате, поглядел на него и грустно вздохнул:
— Видать, плохи дела?
— Совсем плохи, — тихо проговорил Губкин.
Минут сорок он лежал на носилках в теплой палатке, и они показались ему вечностью. Наконец подошел главный хирург госпиталя майор Четверяков, о котором ходила молва, что он человек с добрым сердцем и золотыми руками, осмотрел рану Губкина и приказал:
— Немедленно на операционный стол!
С подобной раной Четверякову довелось иметь дело второй раз. Первый случай, под Москвой, оказался неудачным: солдат не выдержал. На этот раз майор надеялся на молодой и крепкий организм Губкина.
Многие в госпитале узнали о сложной операции, сделанной Губкину, но Муза Собкова только на другой день из доклада Четверякова на консилиуме услышала о безнадежном состоянии Георгия. На ходу вытирая слезы бросилась к нему в палату. Тихо-тихо, как умеют ходить лишь палатные медсестры, подошла к его изголовью:
— Товарищ старший лейтенант!
Губкин открыл глаза, плохо понимая, наяву или во сне он видит Музу.
— Встретились, — прошептал он.
Муза смотрела на его осунувшееся лицо, на котором резко обозначились скулы и лихорадочно блестели глаза.
Она присела на краешек кровати, взяла Георгия за руку и мягко проговорила:
— Вы только не волнуйтесь, все у вас хорошо, и вторая операция пройдет успешно…
Лишь от одного напоминания об операции Георгию стало не по себе. В памяти всплыл разговор врачей у операционного стола. Действие наркоза в конце операции ослабло, и он отчетливо услышал фразу: «Идеально очистить пластинки седалищной кости невозможно, да и ампутация ноги вряд ли ему поможет».
«Неужели умру?» — обожгла мысль. Он заметил, как Муза украдкой смахнула набежавшую на глаза слезу.
Осмотревшись, он увидел, что лежит в одиночной палате. Это подтверждало страшную догадку. Чувство полной безысходности овладело им.
— Пригласите, пожалуйста, главного хирурга, — стараясь казаться спокойным, попросил Георгий.
Муза тут же поспешила за майором.
Просьбы раненых здесь всегда выполнялись незамедлительно. Часто бывало, что они оказывались последними в их жизни.
Майор не заставил себя долго ждать.
— Слушаю вас, товарищ старший лейтенант, — склонился он над Губкиным, прощупывая его пульс.
— Товарищ майор, прошу вас, прооперируйте меня еще раз. Но только вы лично. И пожалуйста, не ампутируйте ногу.
Майор некоторое время молчал, считая пульс, затем проговорил:
— Хорошо, — и повернулся к сестре: — Готовьте.
Муза развязала бинты и, отрывая пинцетом марлю, прилипшую к ране, с состраданием следила за Георгием. Он молчал, стиснув зубы, чувствуя, как по лицу катится пот.
Когда Четверяков пришел в операционную, все уже было подготовлено. Холодным блеском отливали никелированные инструменты, резко пахло йодом. В сложных операциях главному хирургу всегда помогала Муза, ловкая, собранная и спокойная.
— Ассистировать будете вы, товарищ старшая хирургическая сестра, — обратился он к Музе.
Быстрыми и уверенными движениями Четверяков вскрыл рану и приступил к операции.
Несмотря на сильное волнение, Муза поначалу с полуслова, по взгляду понимала хирурга и подавала нужный инструмент, но, когда Четверяков начал долбить кость, ей стало плохо.
— Двадцатку, — потребовал хирург.
Муза протянула инструмент, но оказалось, что вместо долота она держала зажимы.
— Лейтенант Собкова, что с вами? Возьмите себя в руки! — Зажимы со звоном упали на столик. Муза совсем растерялась. Медлить было нельзя, и Четверяков повернулся к другой медсестре: — Ассистируйте вы, Лидия Петровна!
Муза пошатываясь вышла из операционной, ноги не держали ее. Минуты, которые она провела в приемной, показались ей вечностью…
Операция продолжалась. Даже сквозь наркоз Губкин ощущал удары молотка по долоту, ноющая, тупая, страшная боль растекалась по всему телу. Когда боль стала нестерпимой, он внезапно очнулся и его будто обожгло раскаленным железом. Он застонал. Слезы подступили к глазам, и Губкин, резко дернув головой, стряхнул их с ресниц и в отчаянии закричал…
— Потерпите, старший лейтенант! От нашей общей выдержки зависит ваша жизнь, — стараясь быть спокойным, сказал Четвериков.
Губкин что-то невнятно пробормотал и опять потерял сознание.
— Вот теперь будешь жить, — сказал Четверяков, снимая маску.
Когда Георгия принесли в палату, перед его глазами колыхалась легкая прозрачная дымка, и ему казалось, будто он дома, приехал за сыном. Пронзительный Асин голос стоял в ушах: «Не отдам тебе сына!» Юра бросился к нему с криком: «Папа, я с тобой!» Крепко обхватил его ручонками за раненую ногу, причиняя страшную боль, но Георгий терпел: так хотелось обнять и приласкать сына.
Сознание возвращалось к Губкину медленно. А когда он понял, что жив, то испугался: «Почему стало так легко и не ощущается раненая нога? Неужели ампутировали?» Он громко позвал:
— Сестра!
В палату вбежала встревоженная Муза:
— Что с вами?
— Со мной ничего… А вот что с моей ногой? Просил же не ампутировать! И мне обещали! Так жестоко обмануть! — На глаза Георгия навернулись слезы отчаяния.
Муза не поняла, в чем дело, наклонилась к нему.
— Георгий Никитович, о чем вы? — приподняв одеяло, она сказала успокаивающе: — Смотрите же, нога цела!
— Цела?! — не веря ей, воскликнул Губкин. Протянул руку, но не посмел притронуться к ноге.
— Сейчас вы сами убедитесь в этом! — Муза осторожно провела пинцетом по ступне Георгия.
— Довольно, довольно, сестричка! — радостно воскликнул Георгий. — Простите меня.
…На обед Губкину принесли мясной бульон, котлеты и компот. Но есть не хотелось. Только выпил компот, чтобы утолить жажду.
— Как самочувствие, больной? — спросил дежурный врач, совершая обход.
— Нормально, — ответил Губкин, — если не считать сильной слабости и того, что кошмарные сны меня одолевают.
— Надо будет сделать вам переливание крови, и кошмары исчезнут.
Георгий вздрогнул и, пересиливая себя, взглянул на висевшую рядом капельницу. До того он был измучен и так хотелось покоя!
— Товарищ доктор, может, без переливания крови обойдемся?
— Если жить хотите, не обойдемся. Только жаль, что у нас пока нет вашей группы крови.
Их разговор услышала вошедшая старшая медсестра Собкова.
— Как это нет? — возразила она. — У меня первая группа…
Донором Георгия стала Муза. Врачи делали все, чтобы спасти старшего лейтенанта. Время шло, а температура словно застыла на отметке «39». Четверяков, посоветовавшись с главным терапевтом, решил провести курс стрептоцидного лечения. Лекарство отрицательно повлияло на аппетит больного. Георгий заметно слабел, глаза его горели лихорадочным огнем. Температура продолжала держаться. Врачи долго ломали голову над диагнозом, но ничего определенного сказать не могли. Лишь на четвертые сутки, после того, как он начал принимать стрептоцид, ртутный столбик стал медленно спадать. Утром того долгожданного дня Георгий попросил воды. Сделал глоток и обессиленно закрыл глаза. А когда спустя полчаса измерили температуру, стало ясно, что наступил перелом: градусник показывал «38». Майор Четверяков, облегченно вздохнув, произнес: «Будет жить!»
Губкин в это время уже спал глубоким сном.
На следующий день на раненую ногу наложили гипс. Георгия словно заковали в панцирь. Открытыми остались лишь грудь, руки и ноги ниже колена. Целый месяц он не мог повернуться без чужой помощи. Рана, скрытая в гипсе, так зудела, что хотелось ее разодрать.
Однажды утром в госпитале поднялся переполох. По телефону позвонил командующий армией генерал Крылов. Он интересовался здоровьем комбата Губкина, сказал, что собирается приехать. Санитары тут же принялись все кругом драить, чистить.
Во второй половине дня в палату, где лежал Георгий, вошли командарм генерал Крылов, член Военного совета армии генерал Пономарев и несколько военных корреспондентов в сопровождении начальника госпиталя и главного хирурга.
Генерал Крылов, поздоровавшись, сел на стул рядом с койкой Губкина и крепко пожал ему руку.
— Ну-ка расскажи, товарищ комбат, как это ты носилки превратил в командный пункт? — сказал с улыбкой. — Значит, раненный, продолжал руководить боем? Молодец! И твои орлы наступали геройски!
Губкин смущенно молчал, не зная, что сказать командующему.
— Эвакуировать было невозможно, вот и стали носилки командным пунктом.
— Не скромничай, хорошо командовал, товарищ капитан!
— Извините, товарищ генерал, я старший лейтенант!
— Никакой ошибки тут нет, товарищ капитан! Приказ уже подписан. Конечно, такое событие следовало бы отметить. Да медицина, думаю, — генерал кивнул в сторону начальника госпиталя, — будет против. Но звездочку мы все же обмоем. Дайте спирту! — распорядился командарм.
В руках Крылова блеснули две золотистые звездочки. Он опустил их в стакан и подал Губкину:
— Вот, держи, чтоб не ржавели. А выпьем, когда на ноги встанешь. — Крылов обернулся к адъютанту, взял у него орден Красного Знамени, склонился над Губкиным и прикрепил награду прямо на рубашку. Губкин взглянул на пурпурное знамя, играющее переливами, как шелк на ветру, и ему невольно вспомнилось, как он бегал с ребятами в Дом Красной Армии, чтобы только посмотреть на буденновца — кавалера ордена Красного Знамени.
— Поздравляю, герой! — Крылов осторожно обнял капитана. — Мы с тобой еще повоюем. Попомнят нас фашисты!
Через день после этой встречи в армейской газете был опубликован портрет капитана Губкина и очерк о его подвиге.
Муза вбежала в палату разрумяненная, сияющая и, передавая Георгию газету, воскликнула:
— Тут о вас написали!
Георгий пробежал строчки глазами, посмотрел на счастливое лицо Музы и улыбнулся:
— Корреспондент так меня разукрасил, что сам себя не узнаю…
Радостными были минуты, когда сняли гипс. Губкину разрешили ходить. Он сам поднялся с койки, взял под мышки деревянные костыли и в сопровождении палатного санитара, пожилого коренастого солдата, сделал первые шаги. Голова у него закружилась, колени задрожали, и он упал бы, если бы санитар не поддержал его.
После обеда, не дождавшись санитара, Губкин снова встал на свои ходули и шаг за шагом стал упорно учиться ходить.
До дежурства Музы в понедельник оставалось еще два дня, а Георгий хотел удивить и преподнести сюрприз, встретив ее у входа в палату. Он представлял, как она обрадуется. Губкин теперь не мыслил себя без Музы. Может, оттого, что он обязан ей своим выздоровлением? Нет, совсем не от этого. В нем происходило нечто такое, что волновало и радовало, заставляло учащенно биться сердце.
…Наконец-то, отложив костыли, он стал передвигаться с помощью трости. Нелегко давался ему каждый шаг. Наступать всей ступней раненой ноги было нестерпимо больно. От резких движений перехватывало дыхание.
Несмотря на ограничения врачей, Губкин о каждым днем увеличивал расстояние для своих прогулок. Однажды на лесной поляне его вместе с Музой встретил Четверяков. Умудренный жизненным опытом, главный хирург сразу понял, что в скором времени ему, очевидно, придется расстаться с одной из опытнейших медсестер. Увезет ее Губкин с собой. И, досадуя на это, главный хирург в то же время радовался за них: «Они нашли друг друга и полюбили. И пусть будут счастливы… Сколько пришлось пережить этому молодому капитану! Жизнь его висела на волоске. И Муза… отдала ему свою кровь… Нет, я не вправе мешать их счастью, которое они выстрадали, заслужили».
Как ни подгонял Губкин время, выздоровление шло медленно. И тоска по боевым товарищам все чаще стала накатываться на него. А врачи предсказывали еще месяц лечения.
Муза как-то шутя спросила:
— Георгий Никитович, когда же вы пригласите меня на танцы?
— Какие там танцы, сестричка! Все еще хромаю.
— Ничего, скоро окрепнете, уедете в свою часть и забудете и о ране и о сестричке своей…
— Нет, забыть я вас теперь уже не смогу. — Георгий сказал это так проникновенно, что улыбка сразу сошла с лица Музы. — Вы же мне жизнь спасли!
Губкин всей душой рвался на фронт. После холодных и сырых траншей и блиндажей, где от каждого разрыва вражеского снаряда вздрагивала земля и во все щели сквозь накаты сыпался песок, госпиталь показался ему райским уголком. Он заново приучался держать в руках вилку, нож, удивлялся тишине в палатах, забытому вкусу белого хлеба. Но после того как пошел на поправку и собственная боль начала утихать, стала особенно заметна боль чужая. Страдальческие глаза, землистые лица и окровавленные повязки раненых угнетали его. Совсем случайно он встретил ефрейтора из своего батальона и обрадовался ему, как родному.
— Здравствуй, Штанько! Не узнаешь комбата? — дружески окликнул он ефрейтора, у которого рука была в гипсе.
— Что вы, товарищ капитан! Я, конечно, узнал вас, только моя фамилия Черненко. А Штанько тоже из нашей роты, но он погиб еще до вашего ранения, когда брали Шумшино. Штанько прошагал с вами аж с Курской дуги и в разведку ходил!
Комбат смутился, что перепутал фамилию. А ведь когда был ротным, знал всех подчиненных наперечет… Все меньше и меньше оставалось старых солдат в строю.
Встреча с ефрейтором взволновала Губкина, заставила вспомнить фронтовых товарищей из родного 2-го стрелкового батальона: Кудрявцева, Зайцева, Ветрова, Образцова. Где они теперь?
Когда Губкин вернулся в палату, как нарочно, по радио передавали его любимую песню:
Песня совсем разбередила Губкину душу. И так захотелось скорее попасть к однополчанам — на фронт!
Он делал все возможное, чтобы побыстрее вернуться в свою дивизию. Начальство госпиталя пошло ему навстречу, хотя полный курс лечения не был закончен.
Накануне выписки Губкин встретился с Музой в сосновой роще, где располагался штаб госпиталя. Последнее время Музе казалось, будто Георгий стал избегать ее, а она тянулась к нему всем сердцем. И вот он уезжает.
— Увидимся ли еще? — спросила она, крепко сжав руку Губкина.
— Непременно увидимся. И надеюсь, не в госпитале! — сказал Георгий.
Они медленно пошли по тропинке, потом свернули в глубь леса.
Георгию так было хорошо и приятно идти с ней рядом, что он действительно забыл о своей ране, хотя нога все еще побаливала. Хотелось вот так идти и идти вместе всю жизнь. Только Музе не давала покоя мысль о том, что Георгий женат. Порой, оправдывая его, пыталась оправдаться и перед собой. Не раз Муза слышала: «Война все спишет». Но легкомысленно флиртовать, хотя бы даже с симпатичным ей человеком, она не могла. Полюбила его, даже себе боялась в этом признаться.
И теперь, провожая Губкина на фронт, Муза больше всего на свете желала, чтобы он остался жив. Многое хотелось ей сказать ему, но не было сил решиться. Георгий понял душевное состояние Музы. Они остановились. Девушка доверчиво смотрела на него широко раскрытыми глазами, будто ждала чего-то очень важного для себя. Такой взгляд ее он помнил еще с Саратова. Тогда Георгий, не опомнившись от фронтового ада, тоже с немым восхищением всматривался в ее черты, поражаясь той чистоте и глубокой искренности, которые отражались в каждой черточке ее лица.
Георгий обнял ее и прижал к своей груди.
— Я люблю тебя. Ты должна это знать. С тобою теперь связаны все мои помыслы, все надежды. — Он говорил ей ласковые, идущие от самого сердца слова признания и очень хотел, чтобы она ответила тем же.
Муза была готова на все, лишь бы не расставаться с любимым…
— Возьми меня с собой на фронт! — вырвалось у нее.
Георгий в первый момент обрадовался, но тут же сник, вспомнив, как молоденькая санинструкторша, вынося раненого из-под огня, погибла на вокзальной площади в боях за станцию Шумшино.
— Что же ты молчишь? — взволнованно спросила девушка.
— Нет, дорогая, ты останешься в госпитале, я не вправе подвергать тебя смертельному риску! — Он ласково провел ладонью по ее щеке: — Пойми меня правильно. Если судьба будет к нам благосклонна, встретимся сразу после войны.
— Война может разбросать нас в разные стороны. Где мы будем искать друг друга?
Губкин подумал и ответил:
— Там, где жили до войны. Найдем через родных.
— Ты прав, — улыбнулась Муза. — Я дам тебе московский адрес. Куда бы ты ни ехал, Москвы не минуешь. А я буду ждать тебя!
— Только обязательно жди и верь в нашу встречу!
3
Капитан Губкин вернулся в свою дивизию. К тому времени Западный фронт был преобразован в 3-й Белорусский. Вместо генерала армии В. Д. Соколовского фронтом командовал Герой Советского Союза генерал-полковник И. Д. Черняховский. Дивизию возглавил генерал-майор Б. Б. Городовиков. Офицеров, прибывающих на пополнение, комдив принимал лично.
Губкину и прежде приходилось представляться по случаю назначения на должность, но генералу — впервые, и это волновало Георгия. Он слышал от сослуживцев, что Басан Бадьминович — строгий, требовательный человек, отличный знаток военного дела, особенно тактики, и от подчиненных требовал того же. От того, как ответит Губкин на вопросы генерала, будет зависеть его дальнейшая служба: ошибись он в чем-то, и снова может оказаться начальником штаба батальона, а этого Георгию не хотелось. Он любил действовать, проявлять свою волю, умел повелевать и обладал организаторскими способностями, а сидеть в штабе за картами, бумажками было не в его натуре.
Пока комбат шел на КНП дивизии, время было все переосмыслить, обдумать ответы на возможные вопросы. Дверь блиндажа командира дивизии он открыл без прежней робости. Городовиков приподнялся со стула и шагнул ему навстречу. Комдив показался Губкину властным и внушительным, и от его пронизывающего взгляда стало как-то не по себе.
Внешне генерал был подтянут, и генеральская форма красиво облегала его высокую стройную фигуру. Служба в кавалерии наложила на Городовикова свой отпечаток. Черные как смоль усы, ослепительно белые зубы на смуглом, словно отлитом из бронзы лице, волевой подбородок придавали ему солидность и особый лоск. Говорил он по-русски свободно, лаконично, с едва заметным акцентом. Губкин вспомнил, откуда ему знаком генерал: он был удивительно похож на своего дядю — героя гражданской войны, легендарного командарма 2-й Конной армии Оку Городовикова, портреты которого Георгий видел не раз.
— Как ваши раны, как самочувствие? — спросил генерал Губкина.
— Нормально, товарищ генерал, подлечили. Готов в строй и в бой.
— Думаю, спешить не надо. Время еще есть. Пока побудете в моем резерве, отдохнете, долечите раны. Давно воюете?
— С июля сорок второго, из-под Сталинграда!
— Опыта, значит, у вас достаточно. — Немного помедлив, Городовиков спросил: — Георгий Никитович, а как вы смотрите на боевые действия батальона в отрыве от главных сил? — и испытующе посмотрел в глаза Губкину. Георгия немало удивило, что генерал обратился к нему по имени и отчеству, держится так просто с ним. Это располагало к откровенному разговору.
— Немцы только и ждут удобного момента, чтобы контратаковать с фланга, поэтому соседи не должны отставать.
— За фланги не следует беспокоиться, постараемся их прикрыть и своевременно развить успех. На мой взгляд, батальон располагает силами и средствами, позволяющими ему действовать самостоятельно. По сути дела, именно в нем закладывается взаимодействие подразделений всех родов войск. У меня в кавалерийском полку было почти столько же эскадронов, сколько в батальоне стрелковых рот. Я лично отвожу батальону важнейшее место в боевом порядке дивизии. Поэтому, исходя из обстановки, иногда буду придавать для его усиления столько артиллерии и танков, сколько другой полк не получит. Ими, конечно, надо уметь управлять. Такой батальон, оставаясь мобильным, в хороших руках не уступит полку.
— Товарищ генерал, а не получится в этом случае подмена полка?
— Думаю, что этого не произойдет. Полк порой тяжеловат на подъем, батальон же более мобилен. Так что, товарищ комбат, обратите внимание на изучение возможностей артиллерии, танков и, разумеется, на организацию взаимодействия с ними.
Губкин, вернувшись от комдива, с радостью обнаружил письмо от бывшего сослуживца Ахметова. С нетерпением распечатал конверт.
«Дорогой Георгий Никитович! С письмом задержался, — писал Ахметов, — долго разыскивал вашу полевую почту. После ранения нахожусь в госпитале на излечении. Был бы рад снова служить под вашим началом… В конце августа немцы здорово навалились на нашу дивизию. Дальневосточники стояли насмерть, до последнего снаряда, до последнего патрона. Но силы были неравны. Командир и комиссар нашего полка погибли. Вырвавшиеся из окружения остатки дивизии в составе сводного полка заняли оборону на Мамаевом кургане, под Сталинградом, штаб дивизии вывели на переформирование. Меня направили в Ташкентское пехотное училище. Будучи уже командиром взвода, успел побывать в бою…»
Письмо взволновало Георгия, напомнило о фронтовом товариществе дальневосточников. И как будто вновь увидел перед глазами своих однополчан, тех, кто воюет теперь на разных фронтах, и тех, кого уже нет в живых.
Губкина приятно удивило, что сержант Ахметов так быстро стал офицером. Ему вспомнилась их первая встреча, когда он принял командование взводом. Смуглолицый крепыш среднего роста, в выгоревшей хлопчатобумажной гимнастерке и больших кирзовых сапогах выглядел тогда, надо сказать, не блестяще. Правда, не только у Ахметова, но и у многих бойцов его взвода был мешковатый вид. Еще с лета они готовились к зиме, поэтому обмундирование получали на размер больше, чтобы можно было в январские морозы поддеть теплое белье под гимнастерку и ватник под шинель, а сапоги брали даже на два размера больше.
Теперь бы посмотреть на офицерскую выправку своего питомца! «По всей вероятности, нелегко было ему в училище на первых порах», — подумал Георгий. У него в памяти еще свежа была напряженная подготовка будущих офицеров в сокращенные сроки обучения, девизом которых было: «Прежде, чем повелевать, научись повиноваться!»
Губкин, зная характер Ахметова, понимал, как трудно ему было в военном училище. Он его помнил еще сержантом, когда тот на все имел свое собственное мнение. А это, по убеждению Губкина, для командира любого ранга немаловажно. И сейчас он не сомневался, что Ахметов после окончания училища стал не просто лейтенантом, а командиром с боевым опытом, что особо высоко ценилось на фронте.
После госпиталя Георгию ко многому пришлось привыкать заново. Он подробно ознакомился с журналом боевого пути дивизии. Особенно заинтересовали его страницы, где рассказывалось о первых днях войны, о тяжелых боевых действиях однополчан на границе с Восточной Пруссией в сорок первом году.
Губкина удивило и обрадовало то, что дивизия Городовикова вела бои на тех же рубежах у государственной границы с фашистской Германией, где воевал его брат.
Мысли о судьбе брата не давали ему покоя. Что с ним? Где он — погиб или в плену? Пропал без вести — еще не значит, что убит…
В резерве Георгий с головой окунулся в уставы, инструкции, изучал сущность взаимодействия пехоты с танками и артиллерией при прорыве заранее подготовленной обороны. Но через неделю затосковал, захотелось вернуться в свой батальон. После того как его ранило, батальоном командовал бывший помощник начальника штаба полка капитан Щепетильников, и, судя по всему, неплохо командовал. Он встретил Губкина доброжелательно, рассказал о проделанной большой подготовительной работе к предстоящему наступлению. Из разговора Георгий понял, что Щепетильникову хочется остаться в должности комбата.
23 июня 1944 года началось наступление советских войск в Белоруссии. Дивизия генерал-майора Городовикова действовала во втором эшелоне 5-й армии. К концу первого же дня операция достигла наивысшего накала. Соединения первого эшелона штурмовали позиции противника, преодолевая яростное сопротивление гитлеровцев, стремившихся удержать белорусский выступ. Каждую траншею, дзот, позицию, инженерные заграждения приходилось брать в ожесточенных схватках. Тяжелые бои развернулись на флангах армии генерала Н. И. Крылова.
Несмотря на трудности наступления, командарм Крылов все еще не вводил в сражение второй эшелон. Батальоны и полки дивизии Городовикова имели приказ быть готовыми развить успех в ночь на вторые сутки наступления. Но ввод дивизии в сражение ночью не состоялся. Все решили, что наутро обязательно будут брошены в бой. Но и на следующий день дивизия продолжала двигаться за наступающими, совершая длительные переходы с отдыхом. Никто не знал, когда их введут в сражение и введут ли вообще. Первый эшелон все наступал и наступал, как будто собирался без остановки дойти до границы с фашистской Германией. И хотя успешное продвижение радовало солдат и командиров, но внезапный отрыв частей первого эшелона действовал на людей расслабляюще.
В результате успешного наступления наших войск в районе Витебска оказались в окружении крупные силы противника. Однако группировке в пять тысяч человек под командованием генерала Хиттера удалось вырваться из кольца и выйти на рубеж Ляпино, Песочное, юго-западнее Витебска. Только тогда по распоряжению командующего фронтом Черняховского на ликвидацию прорывавшихся частей противника командарм Крылов бросил дивизию Городовикова.
На третий день наступления Губкина вызвали в штаб дивизии.
— Комбат майор Стручин заболел, вам придется принять командование первым батальоном. — Городовиков вопросительно посмотрел на него.
— Есть, принять батальон Стручина! — бодро произнес Губкин, хотя в душе огорчился, что принимает не свой батальон. — Спасибо вам, что направляете в родной полк, — добавил он с улыбкой.
— Желаю успеха, товарищ капитан! — Комдив крепко пожал комбату руку. — Не мчитесь сломя голову. Вперед посылайте разведку…
Командира полка Гринченко Губкин не застал. Начальник штаба показал по карте со всеми подробностями маршрут, по которому майор Гринченко повел первый и третий батальоны прочесывать ближайший лес.
Губкин двинулся следом. По пути подвернулась батальонная походная кухня. Повар при виде капитана привстал и отдал честь.
— Куда, солдат, путь держишь со своей «пушкой»? — пошутил Георгий Никитович, глядя на кухонную трубу, из которой шел слабый дымок.
— Начальник штаба приказал догнать стрелковые роты на передовой. Говорит: «Поторопись! Если твоя кухня будет впереди, ни один солдат не отстанет», — ответил повар.
— На передовую так на передовую. Поехали! — Георгий подсел к повару.
— Ехать-то можно, товарищ капитан, только у вас вроде оружия нет. Как будете бить фашистов? Неровен час, встретить можем.
— Твоя правда, солдат! Пока доедем до хозвзвода батальона, можем и с гитлеровцами встретиться. Оплошал малость. Подожди-ка, я мигом. — И побежал обратно в штаб.
Однако там личное оружие ему выдать не смогли, так как склады отстали. Георгий вернулся к повару ни с чем. В лесу было прохладно. Утреннее солнце еще не успело пробиться сквозь листву кряжистых дубов и стройных березок. Мирно шелестели деревья.
Пока ехали, повар рассказал о своем командире батальона, о том, что недавно прибыл новый замполит, младший лейтенант, а до этого был капитан. Так неожиданно для себя Губкин узнал последние батальонные новости. И, когда солдат замолчал, спросил:
— Давно поваром служишь?
— Еще до войны был поваром ресторана парохода «Жан Жорес», плавал на линии Москва — Уфа.
— Интересный маршрут?
— Еще бы! Плывем по белой-белой реке, она так и называется — Белая, затем по Каме, Волге, Оке, Москве-реке. Швартуемся у причала столицы, гуляем по Москве. Как в сказке!
— А как твоя фамилия, товарищ боец?
— Рядовой Гугин.
— Так вот, товарищ Гугин, командир вашего батальона майор Стручин заболел, и я назначен вместо него.
— Надо же, только вчера кормил его ужином! — Гугин даже в лице переменился.
— Может быть, плохо накормил?
— Он ничего и не ел, лишь выпил кружку чая с галетами.
— Так что же, принимаешь меня на довольствие к себе в батальон?
— Почему же? Пожалуйста.
За разговором не заметили, как догнали своих. По проселочной дороге, заросшей травой, растянулись ротные колонны. Вскоре комбат увидел командира полка. Гринченко ехал верхом на гарцующем вороном коне во главе колонны первого батальона. Георгий поймал себя на мысли, что любуется красивой осанкой комполка.
— Очень кстати приехал, Георгий Никитович, — радостно встретил его майор Гринченко.
— Лучше бы, конечно, принять свой второй батальон, но, что поделаешь, начальству виднее.
Комполка промолчал и развернул карту. Он поставил Губкину задачу прочесать лес, где были немцы, отходившие из-под Витебска. Георгию трудно было сразу сориентироваться в обстановке. Сведения о противнике имелись крайне скудные. Раньше ему не доводилось вступать в командование в ходе боевых действий. Всякий раз, когда его назначали на новую должность, часть находилась еще в тылу или на формировании, что позволяло познакомиться с подчиненными командирами и постепенно освоиться с обстановкой. На этот же раз он не только не знал своих подчиненных, но и боевую задачу представлял себе не совсем четко.
Батальон Губкина прошел лесом уже несколько километров. И никто даже не обратил внимания на лесную тишину, запах смолы, свежую зелень, пение птиц. Как будто люди отучились ощущать природу, все до единого думали только об одном: как бы опередить противника в развертывании к бою, чтобы не попасть под огонь засад.
Для этого боевой порядок батальона был построен несколько необычно. Все три стрелковые роты, усиленные батальонными минометами, станковыми пулеметами, наступали в линию, имея в первом эшелоне по одному стрелковому взводу и по два стрелковых взвода уступом назад — во втором эшелоне. Роты, наступавшие вдоль проселочной дороги, дополнительно усиливались орудиями сорокапяток. В центре боевого порядка следовал командир батальона со своим штабом и резервом в составе взводов станковых пулеметов, автоматчиков и противотанковых ружей. За ними двигались взвод связи, хозяйственный в санитарный взводы.
Тыльный дозор составляло отделение автоматчиков, усиленное противотанковым ружьем и станковым пулеметом.
Из разведданных было известно, что в лесу скрылась довольно большая группа гитлеровцев. К тому же локтевая связь с соседями отсутствовала. Противник мог в любой момент нанести внезапный удар с флангов и тыла. В этих условиях такой боевой порядок батальона и стрелковых рог наилучшим образом соответствовал обстановке.
Стрелковые роты Губкина наступали на правом фланге полка, ближе к Витебску. Левее действовал третий батальон, которым командовал старший лейтенант Семиколенов. Губкин еще до своего ранения знал его как артиллериста, командира минометной роты; назначение Семиколенова командиром стрелкового батальона было Георгию непонятно. Опыта в управлении стрелковыми ротами у него не было. Что касается лесного боя, то это была хорошая проверка не только для Семиколенова, но и для других офицеров полка: до этого мало кому приходилось действовать в лесу.
Когда комбаты согласовали свои действия, Гринченко, заслушав их, спросил:
— Какие будут ко мне вопросы?
— Что делать с пленными? — поинтересовался Семиколенов.
— Брать, и как можно больше, по обстановке сами разберетесь. Еще вопросы?
Губкин и Семиколенов молчали.
— Если нет вопросов, желаю успеха. Капитан Губкин, выделите в мое распоряжение взвод автоматчиков. Я возвращаюсь на КП. — После небольшой паузы Гринченко, вопросительно взглянув на замполита майора Ануфриева, заменившего раненного под Курском майора Джамбаева, спросил: — Может, останетесь с комбатом один? Он только что из госпиталя.
— Мне тоже надо быть на КП, — возразил Ануфриев.
Замполит, еще в гражданскую войну заслуживший орден Красного Знамени, пользовался в полку большим уважением. Комполка не стал настаивать. Сопровождаемый взводом автоматчиков, вместе с замполитом и двумя радистами он двинулся в обратный путь.
Губкин развернул роты в цепь и начал продвигаться на восток. На ходу он старался поближе познакомиться с офицерами. Прежде всего побеседовал со своим замполитом младшим лейтенантом Костиным. Тот был старше комбата на шестнадцать лет. Внушительная разница в возрасте, большой жизненный опыт замполита несколько смутили Губкина.
— Ну вот и хорошо, что батальон в бою принимаете. Узнаете всех в деле, — доверительно улыбнулся Костин.
Комбату захотелось поподробнее узнать о человеке, с которым ему предстояло делить радости и тревоги боевой жизни.
— Федор Алексеевич, — спросил он у Костина, — а где вы работали до войны?
— Перед войной был секретарем парткома в одном из народных комиссариатов, в партии с 1927 года.
«Вот это биография!» — с восторгом и робостью подумал Губкин.
Костин, воспользовавшись невольной паузой, представил комбату парторга батальона капитана Коршунова — высокого, сухощавого офицера, тоже в годах, и комсорга батальона младшего лейтенанта Савичева — жизнерадостного, молодого блондина, с лица которого не сходила улыбка.
— А кто у нас заместитель по строевой части? — поинтересовался Георгий Никитович.
Костин окликнул идущего сзади старшего лейтенанта Угрюмова.
Комбат, осмотрев Угрюмова с головы до ног, остановил свой взгляд на золотой кокарде его фуражки с голубым околышем. «Слишком уж ярко и броско одет, — отметил он. Но начинать службу с замечаний показалось ему неудобным. — Видно, служил в десантных войсках, а интенданты не успели его переобмундировать».
— Как, товарищ старший лейтенант, командиры рот усвоили свои задачи? — спросил он Угрюмова.
— Задача им поставлена несложная. Лишь бы с маршрута не сбились, — довольно самоуверенно ответил тот.
— В таком случае вместе с начальником штаба подготовьте схемы движения направляющих и вручите командиру каждого подразделения.
В лесу было тихо, лишь на ветру со скрипом раскачивались сосны и глухо шумели листвой могучие дубы. Грунтовая дорожка, по которой они шли, была укатана до блеска. Комбат делился со своими заместителями замыслом предстоящего боя. Костин изредка вставлял короткие, весомые фразы. Держался он спокойно и с достоинством. Хотя они были знакомы всего какой-то час, Губкину показалось, будто он давно знает Костина.
Солнце уже было в зените, когда роты втянулись в глубь леса. Особенно трудно пробираться сквозь заросли малинника и орешника пришлось боевым расчетам станковых пулеметов и минометов. Низко свисавшие еловые ветки били по глазам. Батальон был построен в цепь. Губкин со своим штабом двигался в некотором отдалении от рот, имея в своем резерве всего лишь взвод автоматчиков.
В штаб батальона доставили первых троих пленных гитлеровцев, а через несколько минут еще четверых. Это заставило всех насторожиться, за каждым кустом стал чудиться враг с направленным на тебя дулом автомата. Разговоры стихли, бойцы осторожно продвигались вперед. Теперь уже все видели, что во многих местах трава полегла: кто-то прошел здесь совсем недавно.
Вскоре в кустарнике обнаружили еще семерых спрятавшихся гитлеровцев. Они покорно сдались в плен, понимая бесполезность сопротивления.
Обманчивая лесная тишина тревожила. Георгий, выросший в тайге, интуитивно чувствовал опасность. А тут еще раненая нога снова разболелась. Как он ни напрягал силы, боль сковывала движение. Идти становилось все труднее. Спотыкаясь о корневища, выбоины, Георгий кусал губы. Но виду не подавал, старался держаться бодро, не сбавлять шаг.
Полк не был подготовлен к ведению боя в лесу. Люди еще не осознавали, как огромен этот лес и как трудно им будет ориентироваться без проводников. Они также не предвидели, к чему может привести в этих условиях разобщенность подразделений.
Чем дальше углублялись в лес, тем больше попадалось гитлеровцев. Пленных насчитывалось уже около сотни. Резерв комбата был почти полностью выделен для их охраны. Прошли всего треть намеченного пути, а уже столько пленных! Что же будет дальше? Фашисты исподлобья с опаской смотрели на наших солдат. Комбат доложил обстановку начальнику штаба полка.
— Так сколько, вы говорите, взяли пленных? — переспросил тот.
— Сто двенадцать.
— Мало. Семиколенов взял больше двухсот.
Батальон продолжал продвигаться в глубину леса. Начались сплошные заросли. Идти становилось все труднее. Белорусская чащоба напомнила Георгию дальневосточную тайгу. Только зловещая тишина незнакомого леса действовала на него удручающе.
Стрелковые роты, прочесывая лес, вырвались вперед, их уже не было слышно. Комбат выслал к ним связных. Один из них вскоре вернулся и доложил, что к первой роте подойти нельзя: между боевыми порядками рот и батальонными резервами вклинились гитлеровцы. Впереди то и дело стали возникать перестрелки. Губкин, окинув тревожным взглядом толпу пленных, способных в любой момент броситься на его бойцов, приказал подать сигнал командирам рот обозначить свой передний край. Красная ракета с шипением взлетела в голубое небо. Губкин рисковал, ибо противник был ближе к нему, чем собственные роты, но иного выхода не было. Комбат не сводил с неба глаз. Наконец ввысь взметнулись две красные ракеты: одна — метрах в восьмистах и другая — примерно в полутора километрах. Сразу стало ясно, на каком рубеже ведут бои вырвавшиеся вперед подразделения.
Гитлеровцам удалось просочиться в тыл стрелковым ротам Губкина и создать угрозу штабу батальона. В этой ситуации от комбата требовалось принять немедленное решение: пробиваться на соединение со своими ротами через боевые порядки гитлеровцев или в обход заболоченного участка.
Губкин не знал, какими силами располагает противник. Он только мог догадываться, что командиры рот сделали все возможное для соединения со штабом и что лишь превосходство гитлеровцев могло им помешать. Поэтому посчитал целесообразным действовать в обход заболоченного участка.
Трудные испытания уже не раз выпадали на долю молодого комбата. В большинстве случаев он имел дело с превосходящими силами противника. Часто ему не хватало на усиление стрелковых рот артиллерии и танков, а порой и боеприпасов. Вот и сейчас он должен был принять решение, почти не имея данных о противнике.
Пока Губкин принимал решение, пленные почувствовали неладное, о чем-то заговорили между собой. Надо было срочно что-то делать. Губкину удалось наконец выйти на связь с начальником штаба полка. Но тот в свою очередь озадачил его, сообщив о том, что до сих пор не вернулся командир полка майор Гринченко. Разговор прервал гул моторов самолетов. Сверкая на солнце, пролетели над ними на запад краснозвездные бомбардировщики. Снова все стихло. Губкин постепенно осознавал, что в штабе свои трудности. Полк остался без командира, и штабу надо без него принимать решения.
Дальнейшие его размышления прервал одиночный выстрел, старший лейтенант Угрюмов словно споткнулся и упал: вражеская пуля угодила ему в сердце.
Стали двигаться еще медленнее и осторожнее. Ординарец Губкина Семенов заметил фашиста, засевшего на дереве. Видно, он-то и убил Угрюмова. Солдаты стащили фашиста с дерева и тут же расстреляли.
Сцена расправы с «кукушкой» подействовала на пленных, они притихли, затаились, выжидая удобного момента, чтобы вырваться из плена.
Впереди послышалась немецкая речь. Сколько немцев, определить было трудно. Комбат через пленного, знающего русский язык, скомандовал остальным: «Всем лечь лицом вниз. Тот, кто поднимет голову, будет расстрелян!»
Губкин подозвал переводчика и потребовал от него, чтобы тот сообщил гитлеровцам, двигающимся навстречу, что русские впереди, сзади — повсюду — и они, немцы, окружены. Если сделают хоть один выстрел, все будут уничтожены.
Переводчик что-то надрывно закричал, в ответ с противоположной стороны тоже раздались крики. Все с нетерпением ждали исхода переговоров, но оружие держали в готовности. Несколько напряженных минут комбату показались длительными. Он пристально всматривался в сомкнувшуюся перед ними чащу леса.
Наконец впереди показались гитлеровцы в мундирах мышиного цвета. Двигались они рывками, испуганно озираясь по сторонам. Замелькали лица, заросшие щетиной. Фашисты выглядели как затравленные звери. Когда подошли совсем близко, Губкин заметил, что они вовсе не похожи на людей, желающих сложить оружие. Карабины, автоматы держат наперевес, вот-вот готовы пустить их в ход. Худшее предположение комбата подтвердилось. Идущий вперед немец нажал на курок и наповал сразил бойца из расчета ПТР.
Тут же раздался ответный выстрел: напарник погибшего выстрелил в фашиста из противотанкового ружья. Тяжелая пуля, рассчитанная на поражение брони, отбросила гитлеровца, автомат его отлетел в одну сторону, каска — в другую и повисла на сучьях. Наши бойцы, не дожидаясь команды, открыли огонь.
Лес закипел от суматошной оглушительной стрельбы. Гитлеровцы не выдержали и отступили. Костин, заметив нервозность в действиях комбата, отозвал его в сторону:
— Обстановка сложная, капитан! Давай вместе обсудим ситуацию.
— Товарищ младший лейтенант! — Губкин сознательно сделал ударение на последнем слове, пытаясь поставить этим некий незримый водораздел между собой и замполитом.
Костин понял, что задел самолюбие комбата, и замолчал.
Немного поостыв, Губкин первым нарушил паузу:
— Чем недоволен, комиссар?
— Всем доволен. Только ты, брат, суетиться начал. Не надо этого делать. Твои роты ведут организованный бой. Сигнал зеленой ракетой не подают. Значит, в помощи не нуждаются.
— За совет тебе, замполит, спасибо! — спокойно сказал Губкин. — Но я считаю, что нам надо как можно скорее соединиться со своими ротами.
Разговор комбата с замполитом прервал начальник штаба. Он сообщил, что батальонные разведчики задержали старика, который назвался местным жителем.
«Если он на самом деле из этих мест, то выручит нас, выведет в обход немцев по заболоченным участкам, напрямик к Витебскому шоссе», — подумал комбат.
Но могло быть и иначе. Одинокие немецкие солдаты, случалось, тоже переодевались в гражданское, мог попасться и переодетый диверсант. Комбат потребовал, чтобы старика доставили к нему.
— Столько прошли и ни одного местного жителя, кроме вас, отец, не встретили.
— Все в партизанах, сынок!
— Так уж вся республика в партизанах?
— Вся, от малого до старого, за исключением тех, кого гитлеровцы в неволю угнали, и тех, кто уже никогда не вернется. Отсюда недалеко, в двух верстах, — махнул он рукой в сторону, — фашисты расстреляли несколько сот невинных детей, женщин и стариков. — Он смутился под пристальным взглядом капитана и добавил: — Я сам чудом спасся! Потом фашисты сложили трупы штабелями вперемежку с бревнами, но разжечь не успели, Советская Армия подошла. Если бы вам на сутки раньше! — тяжело вздохнул старик и смахнул слезу.
— Сочувствуем вам, отец, за все сполна отомстим фашистам! — Губкин уже не сомневался в правдивости его слов.
— Пришли бы пораньше, моя старушка и внук остались бы живы, а вот теперича никогда их не увижу.
— Значит, места эти знаете?
— Как не знать? Всю жизнь тут прожил. — Старик обиженно покачал головой.
— Сможете нас вывести по заболоченному участку на Витебское шоссе? Там мы дадим гитлеровцам прикурить! — Губкин посмотрел по карте, где примерно находятся его подразделения.
— Смогу, конечно!
И снова в душу Губкина закралось сомнение — уж больно молодо выглядел старик: ровные белые зубы, ни одной морщинки на лице. Если сбрить давно не стриженную рыжую бороду, окажется, что он ненамного старше Губкина…
— Служба есть служба, отец. Поэтому должен предупредить, что за малейшую попытку подвести или отклониться от заданного маршрута по закону военного времени расстреляю!
— Нас, белорусов, дюже много фашисты постреляли. А своих я не боюсь, — голос у старика задрожал.
— Ну коли так, то в путь!.. — Губкин пожал старику руку: — И зла не таи на меня.
Штаб батальона направился за проводником в обход немцев. Следом за ними двинулась колонна пленных, охраняемая стрелковым взводом. Лес пошел сырой, заболоченный. Неожиданно из зарослей показались мокрые и грязные командир третьего батальона и его ординарец. Увлекшись захватом пленных, Семиколенов потерял управление батальоном. Пленным удалось захватить штаб батальона, в их руки попали важные документы. Только командиру с ординарцем удалось спастись бегством.
Губкин понял, что немцы прорвались во фланг и тыл его батальона через стрелковые роты Семиколенова.
— Не отчаивайся, еще не все потеряно! — попытался успокоить его Георгий. — Попробуй разыскать хотя бы часть своего батальона или присоединяйся ко мне.
— Выдели мне двух автоматчиков! — взмолился Семиколенов.
— Двух выделить не могу. Но одного бравого дам. У меня самого каждый человек на счету.
Прошли еще около километра. Впереди лес вновь огласился короткой перестрелкой. Внезапно послышался треск сучьев и возглас впереди идущего дозорного: «Стой, кто идет?» Оказалось, что это командир взвода первой роты лейтенант Авдеев. Вместе с двумя автоматчиками он выходил на связь со штабом батальона.
Авдеев сообщил, что первая и вторая роты навязали бой наступающему противнику, а третья рота сдерживает натиск тыловых подразделений немцев, следующих на соединение со своими главными силами. Седьмая рота батальона Семиколенова приняла бой на нашем правом фланге.
Как выяснилось впоследствии, Семиколенов кружил всего лишь в километре от своих рот.
Складывалась непонятная обстановка: гитлеровцы вместо того, чтобы прорываться на запад, наступали на восток, намереваясь, видимо, соединиться со своими тылами. Губкин должен был очистить лес в полосе двух километров в направлении с запада на восток. Однако его роты и часть сил третьего батальона вынуждены были развернуться фронтом На запад и вести бой с подразделениями 206-й пехотной дивизии немцев.
Вражеские контратаки еще не были до конца отбиты, когда комбат получил дополнительное приказание предпринять розыски комполка. Никто не знал, где находится группа Гринченко. Губкин приказал командиру второй роты передать свой район действий командиру первой роты и прочесать лес вдоль дороги, ведущей к штабу полка.
Прошло еще около часа, и командир второй роты доложил, что отбил контратаку немцев и захватил поляну на перекрестке дорог, где сопровождавший комполка взвод Шапкина дал бой немцам.
Губкин помчался туда, позабыв о боли в ноге. Перед ним предстала картина недавнего и, судя по всему, последнего боя стрелкового взвода, сопровождавшего майора Гринченко. Шапкин лежал навзничь у ручного пулемета, расстреляв все патроны. Почти все солдаты взвода геройски погибли, прикрывая отход командира и замполита полка. Трупы замполита Ануфриева и одного из автоматчиков обнаружили в трехстах метрах. Георгий надеялся, что майору Гринченко удалось уйти. Однако на повороте дороги они наткнулись еще на двух убитых автоматчиков и разбитую полковую радиостанцию. Рядом валялась фуражка Гринченко, пробитая пулей.
Почтив память погибших товарищей молчанием, Губкин приказал захоронить их тела. Сам связался по радио со штабом полка.
— Где командир полка? — сразу спросил начальник штаба. — Какие меры приняты к розыску?
— Сопровождающие погибли, замполит Ануфриев тоже, самого Гринченко не нашли. Батальон ведет бой в полуокружении…
На этом связь прекратилась. Батареи батальонной рации сели. Губкин успел только принять распоряжение: «Продолжать выполнять поставленную задачу». Все попытки начальника штаба полка наладить обратную связь не увенчались успехом. Вместо первого батальона в эфир неожиданно вышел радист Семиколенова и сообщил, что батальон разгромлен. В трубке раздался треск, и связь тоже прервалась. Однако в штабе полка были уверены, что это сообщение передано из первого батальона, и Городовикову доложили о гибели батальона Губкина. Из штаба дивизии эту информацию донесли в штаб армии.
Генерал Крылов опирался на дивизию Городовикова как на свою гвардию, и донесение о потерях в полку Гринченко взволновало его. Он тут же по радио вызвал комдива.
— Басан Бадьминович! Примите срочные меры к розыску майора Гринченко. И впредь учтите, что успех наступления может вскружить голову командирам, тогда они начинают проявлять склонность к самоуспокоенности и беспечности.
— Полку Гринченко выпала трудная задача, — сдержанно возразил Городовиков. — На него навалилась дивизия генерала Хиттера. Двумя оставшимися полками я отрезал пути отхода частям Хиттера.
Не успел Городовиков переговорить с Крыловым, как ему стал докладывать командир артиллерийского полка дивизии о том, что ошибочно открыли огонь по выходящему из леса батальону капитана Губкина и что все обошлось без чрезвычайных происшествий, потерь нет.
Комдив, выслушав командира артполка, приказал уточнить, чей батальон вышел из леса, а сам тут же выехал на место происшествия. Через двадцать минут он с радостью увидел на опушке батальон, который считал погибшим. Генерал приказал шоферу ехать напрямик в расположение стрелковых рот.
Стояло солнечное июньское утро.
Воздух был наполнен смешанным запахом полевых цветов и пшеницы. Второй эшелон тем и отличался, что порой там совсем не чувствовалось войны. Губкин издали узнал своего комдива, ехавшего в открытой машине по пшеничному полю. Двойственные чувства владели Георгием: радовался встрече с генералом и до глубины души жалел помятую и посохшую пшеницу. Фашистские варвары, отступая, пустили по ней лошадей, запряженных в деревянные катки, и повалили всю пшеницу. Теперь она сохла на корню.
— Батальон! — прозвучала команда капитана Губкина. Бойцы торопливо задвигались в рядах. — Смирно!..
Строй застыл в напряженном ожидании. Комбат поспешил навстречу приближающемуся автомобилю.
Городовиков, не дослушав до конца рапорт, стиснул комбата в своих объятиях. Комдив заметил подавленный вид Губкина:
— Грустить, капитан, ни к чему. Будем бить захватчиков до полного их истребления. Готовься развивать наступление…
Генерал, поблагодарив солдат и офицеров за боевые успехи, распорядился представить отличившихся к правительственным наградам. Попрощался с комбатом и поехал в соседний полк. Строй тут же рассыпался, усталые люди стали располагаться на отдых на опушке рощи.
Губкин тоже почувствовал беспредельную усталость и, обессиленный, опустился на траву. Из головы у него не выходили мысли о судьбе командира полка и людей взвода, которых он выделил для его сопровождения. Раздумья Губкина прервал начальник штаба батальона, сообщив, что его ждут на КП с докладом.
Начальник штаба полка тепло встретил Губкина, он был рад, что батальон нашелся, но рапорт принимать не стал, кивком головы показал на человека, сидевшего спиной к ним. Тот обернулся, и сердце Губкина дрогнуло: это был Гринченко.
Командир полка привстал и, подойдя к Губкину, крепко пожал ему руку.
— Твои солдаты, что были со мной, до конца выполнили свой долг. Сражались геройски. Но что случилось с батальоном? Как это так получилось, что вы передали сообщение, что батальон разгромлен?
— Такого сообщения мы не передавали. Возможно, в штабе полка донесение Семиколенова приняли за наше.
— Говорят, что он увлекся захватом большого количества пленных?
— И поплатился за это, сам еле спасся, а штаб его действительно разгромлен. Впрочем, я тоже был близок к этому. Вот уж не думал влипнуть в такую ситуацию в тылу наших войск!
— Во втором эшелоне иногда бывает жарче, чем в первом. Получен новый боевой приказ. Быстрее приводи своих людей и технику в боевой порядок. Кстати, у меня для тебя есть сюрприз. На должность командира третьей роты назначен твой сослуживец.
— Кто же это такой?
— А вот увидишь! — Гринченко вызвал к себе Ахметова.
Губкин, едва тот доложил командиру полка о прибытии, бросился навстречу.
— Ахмеджан! Ты ли это?
— Письмо мое получили? — спросил Ахметов.
— Получил! — Георгий несколько смутился, он никак не ожидал, что Ахметова тут же назначат командиром роты. Со временем Губкин и сам бы выдвинул его, но сразу назначить командиром роты у него не хватило бы смелости. В его представлении он пока еще продолжал оставаться сержантом, командиром отделения.
Перекинувшись двумя-тремя фразами, сослуживцы поспешили в батальон. Времени на фронте всегда не хватало. Георгий Никитович на ходу поставил Ахметову задачу: «Будешь во втором эшелоне». Губкин хотел предоставить новому командиру роты побольше времени для знакомства с людьми, ибо по себе знал, как сложно принимать роту в ходе боя.
Сослуживцы не успели рассказать друг другу о своих последних фронтовых перипетиях, как были уже в расположении батальона.
— Об остальном после боя, вечером заглянешь на чашку чая. — Комбат рукой показал в сторону третьей роты, а сам зашагал к штабу батальона.
Новая боевая задача полка заключалась в уничтожении еще одной прорвавшейся из окружения вражеской группировки силой до пехотного полка в лесах севернее Витебска. Гринченко приказал сводной роте третьего стрелкового батальона наступать в обход лесного массива с правого фланга. Второму батальону он поставил задачу атаковать с фронта. Первый батальон оставался во втором эшелоне, наступал за вторым батальоном уступом влево.
Когда до леса осталось метров семьсот, комбат Щепетильников развернул ротные колонны во взводные. Пятая и шестая роты наступали в первом эшелоне, а четвертая — во втором. Лес подковой нависал над правым флангом второго батальона, полковая разведка все еще не вернулась, точных данных о противнике не имелось, и он особой активности не проявлял. Первый эшелон батальона Щепетильникова прошел через поляну, и вдруг гитлеровцы открыли фланкирующий пулеметный огонь. Комбат, сразу поняв гибельность ситуации для своих стрелковых рот первого эшелона, приказал им: «К бою! В цепь!»
Солдаты, пытаясь использовать малейшие укрытия, выполняли приказ. Но место, как назло, было ровным и открытым. Гитлеровцы, находясь в засаде, подпустили их близкой плотным огнем прижали к земле. Комбат, надеясь все же успеть прорваться в лес, попытался поднять батальон в атаку, но враг с фронта открыл огонь из всех видов стрелкового оружия. Щепетильников упал, раненный, его бойцы залегли, и атака захлебнулась.
Губкин, продвигаясь за вторым батальоном в каких-то четырехстах метрах, с болью в сердце видел, как гибли близкие ему люди, вместе с которыми он прошел по трудным дорогам войны. Неудача, постигшая второй батальон, потрясла Георгия. Он понимал, что еще полчаса — и от батальона Щепетильникова не останется ничего, если только командир полка не отведет его под завесой огня полковой артиллерии.
А майору Гринченко уже несколько раз звонили из штаба дивизии, интересовались ходом боевых действий. Командир полка понимал, что приказ Крылова надо выполнить и, не желая навлечь на себя гнев Городовикова, сообщил, что все идет нормально и через час он доложит о полном разгроме группировки противника. Начальник оперативного отделения штаба дивизии майор Владимиров позволил себе даже упрекнуть его: «Наши уже на подступах к Минску, а вы все еще здесь топчетесь».
Главные силы Крылова действительно вырвались далеко вперед, фронтовые подвижные группы дошли до Березины. Отдаленная артиллерийская канонада и шум боя напоминали морской прибой.
Гринченко хорошо знал, что Городовиков пользуется информацией как своей, так и армейской разведки и всегда в курсе замыслов командарма. Поэтому он внимательно прислушивался к распоряжениям комдива и его штаба. Что касается приказов, то их он привык выполнять беспрекословно. В этой связи комполка решил немедленно ввести в бой первый батальон и приказал Губкину развернуть свои роты из-за левого фланга батальона Щепетильникова.
Губкин был готов сделать все, чтобы спасти дорогих ему людей, но сразу бросить в бой без соответствующей подготовки первый батальон, которым теперь командовал, он ее мог. От одной мысли, что подобное может повториться и с его людьми, Георгий содрогнулся.
По-иному рассуждал Гринченко, на плечах которого лежала более высокая ответственность. Вооруженная до зубов тысячная группировка противника могла вырваться из окружения, соединиться со своими и вновь занять оборону на выгодных рубежах. И тогда потребовались бы уже не два батальона для ее уничтожения, а десять, а потери пришлось нести бы гораздо большие.
Губкин, хорошо зная непреклонный нрав комполка, не сомневался, что тот ни за что не отменит свой приказ, и попросил у него всего лишь десять минут на подавление артогнем вражеских огневых точек.
— Вы что, не видите? Второй батальон кровью истекает! О каком времени говорите? Атаковать с ходу! — закричал Гринченко.
В каких случаях командир прибегал к крику, Губкину не надо было объяснять. «Значит, нет у него других средств воздействия на ход боя», — с горечью подумал он.
Комполка был уверен, что у Щепетильникова не получилось броска, не хватило духа на последние сто, а то и меньше метров атаки, чтобы зацепиться за опушку леса. Эта уверенность настолько крепко жила в нем, что он решил сам возглавить наступление первого батальона.
На ходу Гринченко бросил Губкину: «Поднимай в атаку второй батальон!» — а сам красной ракетой поднял бойцов первого батальона. Бежал он в полный рост, не пригибаясь, и с таким азартом, что ничто уже не могло остановить его. Губкин, увлеченный смелостью майора Гринченко, даже не заметил, как сам оказался среди атакующих цепей второго батальона. Георгий понял, что жребий брошен и на карту поставлено все — или фашисты уничтожат их, или они фашистов.
Топот сапог заглушал хриплое дыхание бойцов, пули свистели над его головой, время от времени вырывая из боевой цепи солдат. Обстановка менялась с молниеносной быстротой. Через несколько секунд рота Зайцева ворвалась в расположение противника. Губкин вместе с ней устремился вперед и вдруг словно споткнулся: навстречу ему на носилках несли раненого Образцова. Солдат узнал своего бывшего комбата:
— Товарищ капитан, не успели меня перевести к вам… И вот не повезло, ранило.
— Саша, Саша, как же это тебя? — Губкин поцеловал Образцова в небритую щеку. — Как выздоровеешь, приезжай ко мне.
На глаза Образцова навернулись слезы. Он чувствовал, что в строй ему больше не вернуться.
— Ничего, ничего, все заживет. До встречи! — И комбат побежал догонять передовые цепи.
Фашисты отступали в глубь леса. Наши бойцы яростно преследовали их, когда вдруг кто-то крикнул: «Майора Гринченко убили!»
«Не может быть!» — обожгла Георгия мысль. Он не мог сразу поверить в это. Сколько раз судьба миловала майора, и вот смерть настигла его в жарком бою.
Гитлеровцы все еще вели огонь из леса, среди них были эсэсовцы и в плен поначалу не сдавались. Но вот наконец в тылу противника знакомой трелью залились станковые пулеметы, заработали минометы. Третий батальон по ранее отданному приказу майора Гринченко атаковал гитлеровцев с тыла. В расположении противника начали рваться снаряды полковой артиллерийской группы. Враг не выдержал, стал выбрасывать белые флаги и сдаваться в плен.
После сокрушающих залпов эрэсов остатки частей 206-й немецкой пехотной дивизии приняли наш ультиматум. В плен сдалось около трех тысяч солдат и офицеров во главе с генералом Хиттером.
Земля была перепахана снарядами, лишь кое-где виднелись клочки обгоревшей травы. На одном из этих клочков каким-то чудом сохранилась израненная березка. Вечером бойцы хоронили у этой березки своих товарищей-однополчан. Тела сорока одного солдата и четырех офицеров бывшего второго батальона лежали под хмурым небом перед братской могилой на опушке леса.
Комиссар — так по привычке называли бойцы вновь назначенного заместителя командира полка по политической части — распорядился установить гроб майора Гринченко под этой березкой, где уже лежали в ряд его солдаты. Глазами, полными слез, Губкин молча смотрел на скорбные лица столпившихся вокруг бойцов. Они клялись беспощадно мстить ненавистным фашистам за смерть погибших товарищей.
Замполит полка произнес у братской могилы краткую взволнованную речь:
— Дорогие товарищи, при освобождении белорусской земли погибли верные сыны Отечества. Поклонимся их светлой памяти. Вечная им слава!..
У израненной березки стояли на коленях в горестном молчании воины 297-го стрелкового полка. Легкий шелест ее листвы обдавал их запахом родной земли. А вдали нарастали яростные раскаты боя. Неудержимо вперед, на запад, шли овеянные славой войска Черняховского.
Губкин, бросая горсть земли в братскую могилу, еще раз взглянул на березку, стоявшую как символ вечной памяти погибшим за честь Родины. Раны ее были настолько тяжелы, что казалось: никогда уж ей не оправиться от них.
Остались позади белорусские леса с непроходимыми зарослями и болотами. Все меньше попадалось на пути сожженных сел и деревень. Под напором советских войск немцы не успевали осуществлять тактику выжженной земли.
О таком стремительном наступлении Губкин мечтал бессонными ночами в госпиталях Саратова и Гжатска. И вот сейчас мечты эти сбывались. Вновь он командовал своим вторым стрелковым батальоном. Многих солдат комбат знал по боям на подступах к Витебску, не раз водил их в атаку. И снова рядом были его боевые товарищи: Ветров, Парскал, Горбунов. Четвертой ротой теперь командовал лейтенант Зайцев, пятой — старший лейтенант Акимов, шестой — лейтенант Ахметов.
Незабываемым был тот момент, когда батальон достиг Березины, знаменитой, вошедшей в историю реки. Тем более приятно было в июньскую духоту ощутить ее прохладу после десятикилометрового марша.
Губкин на свой страх и риск сделал внеплановый привал и разрешил солдатам искупаться. Сам тоже быстро разделся, прыгнул в воду и легко заскользил по зеркалу реки. Бойцы впервые увидели на руке и на ногах комбата сизые шрамы. Для многих из них это оказалось неожиданностью. Все они понимали, что каждая из этих отметин приносила комбату неисчислимые страдания и боль.
Березина чем-то напоминала Губкину быстрый могучий Амур. По берегам ее росла такая же лоза, на зеленовато-голубой глади воды плавали яркие, нарядные кувшинки. Так же освежала тело речная прохлада. И все же никогда еще он не испытывал такого наслаждения от купания, как сейчас. Усталость как рукой сняло. Чистое голубое небо, зеркальная гладь реки, густой зеленый лес по ее берегам, тишина, спокойствие… Но бойцы почему-то чувствовали себя беззащитными в воде и нет-нет да и поглядывали на кусты: вдруг враг застрочит из пулемета! А те, кто стояли в дозоре, с завистью смотрели на купающихся.
Отдых солдат был нарушен гулом летевших самолетов. Губкин крикнул:
— Всем на берег!
Многие солдаты уже выскочили из воды, когда обнаружилось, что самолеты летят в западном направлении. Губкин все же поспешил к своей одежде. Его ординарец рядовой Семенов еще не вышел на берег. Георгий Никитович еле разыскал полотенце — такой беспорядок был в вещмешке Семенова. Как тут не вспомнить чуткого и заботливого Образцова! Когда Семенов наконец-то выбрался из воды, Губкин приказал ему навести порядок в вещмешке, лишнее сдать в обоз.
Справедливое замечание Губкина задело самолюбие Семенова. Он не очень-то любил свою должность и недоумевал, почему именно его из всей роты выбрали ординарцем комбата. Вроде ничем особо и не отличался. Правда, на первых порах он был доволен: на КНП батальона спокойнее, не долетают сюда вражеские автоматные очереди, осколки от мин и снарядов визжат тут меньше, кухня поближе. Хотя вскоре понял, что это не совсем так. Капитан Губкин обычно находился там, где было труднее всего.
Комбат медленно привыкал к своему новому ординарцу и, когда у того что-то не получалось, вспоминал Образцова, невольно сравнивал их. Образцов, несмотря на свой богатырский рост, был подвижным, рассудительным и собранным. Днем и ночью, когда бы Губкин его ни вызвал, всегда был готов выполнить любой приказ. Семенов же казался ему флегматичным. Как новый ординарец покажет себя в бою, комбат пока еще не знал.
— Что загрустил, Семенов? Думаешь, брать или не брать вещмешок? — полушутя, полусерьезно спросил Губкин, натягивая на ногу серый от дорожной пыли сапог.
— Нет, почему же? Вещмешок я, конечно, возьму, но мне бы, товарищ капитан, вернуться в свою роту.
— Так уж сразу и обиделся! В армии, брат, должности не выбирают. Где прикажут, там мы и обязаны служить.
— Не получится из меня ординарца.
— А это время покажет…
…Дивизия Городовикова, преследуя отходящие вдоль шоссейной магистрали Минск — Вильнюс части 3-й танковой армии немцев, начала освобождать территорию Советской Литвы. К концу дня 7 июля батальон Губкина вступил в бой за населенный пункт Ландворово, невдалеке от Вильнюса. Головной роте Акимова удалось зацепиться на его северо-восточной окраине. Зайцев со своей ротой закрепился южнее. И только рота Ахметова несколько отстала от них.
Командно-наблюдательный пункт Губкин расположил в кирпичном здании железнодорожной станции Ландворрво. В сумерки в двух-трех километрах от них прямо в лес с неба стали падать цветные парашюты. Это авиация противника сбрасывала боеприпасы и продовольствие своим окруженным войскам.
За немецкие склады с боеприпасами и продовольствием в районе Ландворова развернулись ожесточенные бои. Вскоре Ахметов доложил, что противник обходит его с фланга и третий взвод занял оборону фронтом на юго-восток. Связь штаба батальона с командирами стрелковых рот, за исключением роты лейтенанта Зайцева, на этом прервалась. Комбат со своим штабом был вынужден перейти в полуподвал и занять круговую оборону.
8 июля Губкину исполнилось двадцать пять лет, но он об этом даже не вспомнил. Положение батальона резко ухудшилось, а рассчитывать на помощь не приходилось, так как главные силы полка ушли вперед, сжимая кольцо окружения немцев в районе Вильнюса. Получился как бы слоеный пирог, в середине которого оказался батальон Губкина.
Ординарца комбата одолевали свои заботы: он-то не забыл о дне рождения Георгия Никитовича и для этого случая специально припрятал несколько бутылок трофейного рома. В тактической обстановке Семенов разбирался слабо, во всем привык полагаться на командира и вряд ли по-настоящему представлял всю сложность и опасность создавшейся ситуации. Но он искренне хотел в этот день сделать комбату приятное.
Капитан Губкин, невзирая на сложную обстановку, пригласил офицеров штаба отметить свой юбилей. На поставленную вверх дном бочку, застланную газетой, разложил недорогую снедь: консервы, нарезанную ломтиками колбасу, хлеб. Семенов разлил ром в эмалированные кружки. Замполит Костин первым произнес тост:
— Пожелаем Георгию Никитовичу счастья и боевых успехов! Прежде всего, конечно, отбить очередную атаку фашистской сволочи. — Ему не хотелось в эти минуты говорить об окружении.
Костин подошел к Губкину и обнял его. Затем все чокнулись и молча выпили.
— Товарищ капитан, разрешите поздравить вас и пожелать вам дослужиться до генерала, — нарушив тишину, сказал Семенов. Все улыбнулись.
— Если будем живы, Семенов, быть тебе адъютантом при генерале! — подмигнул ему Губкин.
— А заодно позвольте вручить вам небольшой сюрприз, — Семенов протянул Георгию Никитовичу письмо, полученное еще утром.
Все настороженно переглянулись: сюрприз ли? На фронт часто приходили горестные письма. Что ждет комбата в этом письме в день его рождения? Офицеры с волнением следили за выражением лица Губкина.
Он молча разорвал конверт. При слабом свете походной коптилки быстро пробежал глазами листок, вырванный из ученической тетради, и тяжело вздохнул. Семенов был обескуражен: весточка из дому — такая радость на войне, а комбат помрачнел.
«…Вчера побывала у Юры и Жени, — писала Георгию мать. — Юра умный мальчик, он тебя помнит, все спрашивал, когда приедет папа…»
Болью отозвались в душе последние строки письма:
«Георгий, дело не только в ней. Как быть с детьми? Им-то нужен отец…»
Письмо матери всколыхнуло притихшую обиду. Губкин вовсе не был суеверным, однако так получалось, что всякий раз в день его рождения происходили печальные события. И вот теперь, в июле 1944 года, в день своего двадцатипятилетия, он угодил в окружение.
Всех встревожила вдруг начавшаяся автоматная трескотня. Шум боя слышался в тылу батальона.
Губкин коротко проговорил:
— Спасибо, товарищи, за все! Ну а теперь — по местам!
…Ночной бой разгорелся с новой силой. Ахметов прислал донесение, что немцам удалось потеснить его правый фланг, и просил подкрепления.
Обстановка становилась настолько сложной, что Губкину было трудно ее правильно оценить. Пока он разбирался в ней, немцы обошли командно-наблюдательный пункт и комбат оказался отрезанным от своих подразделений. Командиры рот ждали его решения и выхода из создавшегося положения.
Губкину стало ясно, что гитлеровцам на этом участке удалось создать превосходство и они пытаются любой ценой обезопасить тыловые коммуникации группировки «Толендорф». А ему предстояло противодействовать этому.
Губкин обстоятельно взвешивал обстановку и свои возможности. Удерживая занимаемые позиции, надо было проявлять активность. Тем временем темнота сгущалась, мрак быстро окутывал землю со всех сторон. И все же он решил контратаковать противника и оседлать дорогу, ведущую в тыл третьему стрелковому батальону, и соединиться с ним.
Ночь стояла такая темная, что в нескольких шагах ничего не было видно. Ровно в два часа, соблюдая между солдатами допустимую дистанцию, четвертая рота ринулась в контратаку. Солдаты старшего лейтенанта Зайцева (накануне ему было присвоено очередное воинское звание) ворвались в расположение противника. В кромешной тьме, изредка озаряемой вспышками выстрелов, бойцы ловко орудовали штыками и прикладами. Бросать гранаты было опасно, того и гляди, попадешь в своих.
Комбат использовал трофейные ракеты. Нескольких ракет хватило, чтобы осветить расположение противника. И вот тогда в ход пошли гранаты, ударили автоматы. Немцы не выдержали натиска. Батальон прорвался из окружения и соединился с главными силами полка. В лесу его застал непроницаемый предрассветный туман. Людей своих комбат расположил на отдых, чтобы они хоть немного поспали в оставшуюся часть ночи.
Губкину лишь потом стало известно, что войска генерала Крылова полностью замкнули кольцо окружения и гитлеровцы, противостоящие его батальону, вынуждены были оставить занимаемые позиции и отступить.
Тем временем Губкину доставили новый боевой приказ: с утра втягиваться в бой за Вильнюс.
Город был известен Георгию только по историческим книгам и топографическим картам. Когда-то он был крепостью. Теперь от крепости сохранилась лишь возвышавшаяся над городом башня Гедиминаса, расположенная на высокой горе. Предстояло штурмовать толстостенные кирпичные здания, превращенные в долговременные огневые точки, а опыта боевых действий в городе у Губкина не было. Пришлось обучаться буквально на ходу. Для него открывалась новая страница войны.
В ночь перед штурмом Георгию почти не удалось поспать. Едва рассвело, он внимательно стал всматриваться через бинокль в скрытый серой пеленой Вильнюс. Еле заметно проступали контуры домов. Губкин чувствовал, что за кирпичными стенами, в полуподвалах и на чердаках притаился враг, что из окон-амбразур настороженно смотрят стволы вражеских пулеметов.
Условия уличного боя продиктовали и свою тактику. В ходе боя пришлось перестроиться. Успех атаки решили мелкие самостоятельные штурмовые группы, усиленные артиллерией, танками, саперами. Таких групп было создано несколько. Стремительной атакой, ведя огонь прямой наводкой и забрасывая немцев гранатами, бойцы врывались в дома и уничтожали противника.
К вечеру батальон захватил целый квартал на окраине Вильнюса. С наступлением темноты Губкину было приказано передать свою полосу наступления соседу слева и сосредоточиться, чтобы идти дальше. Опять все начиналось снова…
4
Дивизия Городовикова после разгрома вражеской группировки «Толендорф» получила приказ совершить бросок к Неману, с ходу форсировать его и захватить плацдарм на противоположном берегу. Неман, широкий, быстрый и глубокий, представлял собой трудную водную преграду. Но за ним открывались ворота в Восточную Пруссию. Генерал Городовиков собрал на совещание командиров полков и стрелковых батальонов.
Совещание началось непринужденно. Комдив, чиркнув зажигалкой, закурил, разрешил курить и остальным. Окинув присутствующих внимательным взглядом, он ознакомил их с содержанием полученного приказа. Затем сказал:
— Важность выполнения предстоящей боевой задачи, думаю, товарищи, всем ясна. Мне нужно назвать Военному совету армии фамилии командиров двух батальонов, которые будут форсировать Неман в передовом отряде дивизии.
Наступило молчание. Комбаты привыкли получать боевую задачу непосредственно от своих командиров полков и сейчас не знали, как себя вести, хотя все они, в том числе и Губкин, стремились как можно скорее достичь границы с фашистской Германией, тех рубежей, которые дивизия оставила в самом начале войны.
Чем ближе подходили к границе сорок первого года, тем сильнее охватывало Георгия волнение. Накануне он получил письмо от матери.
«Алевтина все еще не может прийти в себя, — писала Евдокия Тимофеевна, — убивается о муже, до сего времени нет о нем никаких вестей. Все на тебя надеется. Сыночек, может, что узнаешь о своем брате? Ей очень тяжело. Родители Гали не отыскались. За это время получили восемнадцать писем от матерей, разыскивающих своих дочерей, но место происшествия и другие приметы не сходятся. Ничего пока не известно и о судьбе Венеры…»
Георгия так и подмывало поднять руку первым. Он и не надеялся встретиться с братом, но ему хотелось разузнать что-нибудь о нем, когда дойдут до границы.
Какое-то мгновение колебался, чтобы не сочли выскочкой, и все же встал. Почти одновременно с ним поднял руку и командир батальона из соседнего полка капитан Юргин. Их взгляды встретились, и комбаты без слов поняли друг друга.
— Товарищ генерал! Разрешите нам с капитаном Юргиным первыми форсировать Неман, — сказал Губкин.
— Рад за вас, товарищи капитаны. Задача предстоит почетная, но отнюдь не легкая. Нужна тщательная и всесторонняя подготовка. Вы должны твердо усвоить, что от выполнения вашими батальонами поставленной задачи будет зависеть успех боевых действий частей дивизии и всего корпуса.
— Как быть с табельными переправочными средствами, товарищ генерал? — спросил Юргин.
— Будете действовать по обстановке. Как можно шире используйте подручные средства. Штатные получите по мере их подхода.
Среди присутствовавших были кадровые офицеры с большим опытом, служившие в армии еще до войны, иные из них посчитали порыв Губкина легкомысленным. Но Городовиков больше всего ценил инициативных офицеров и предоставлял им широкое поле деятельности.
…В полдень 18 июля батальон Губкина вышел к Неману севернее Бершан. Погода стояла жаркая, комбат настолько устал, что еле передвигал налившиеся свинцовой тяжестью ноги. Да и морально он тоже был подавлен — связь со штабом полка отсутствовала.
А в батальоне царило оживление, солдаты после пыльных фронтовых дорог не могли оторвать взгляда от искрящейся в лучах солнца реки. Над землей висел зной, истомленные жарой люди жаждали искупаться, смыть с себя пот и дорожную пыль. Велико было искушение, но обстановка не позволяла поддаваться такому соблазну. Требовалось соблюдение строжайшей маскировки, чтобы враг не смог обнаружить подхода наших частей к Неману.
С реки тянуло легким влажным ветерком. Губкин, покусывая травинку, смотрел на Неман. Ширина реки превышала двести метров. Местность на том берегу была полуоткрытая. Мысль о переправе с ходу и захвате плацдарма на правом берегу не оставляла комбата. Он решил переправить сначала разведчиков на двух рыбачьих лодках, а затем, в случае удачи, форсировать Неман главными силами батальона.
Восемь добровольцев стали пробираться по камышам к реке. Но едва они появились у кромки воды, как сразу были обстреляны с того берега. Бойцы залегли. Вскоре наблюдатель передал Губкину, что на том берегу, справа, по ржи скрытно выдвигается до взвода пехоты к прибрежной траншее.
Комбат, убедившись, что внезапность утрачена, отдал приказ разведке вернуться на исходные позиции.
Более всего Губкина беспокоило отсутствие связи со штабом полка. Дальность действия батальонной радиостанции не перекрывала расстояние, разделявшее их. Нужно было срочно доложить командиру полка обстановку и получить разрешение форсировать Неман с ходу, овладеть плацдармом, пока противник не успел подтянуть свои резервы.
В двух километрах от расположения батальона, на опушке рощицы, сержант Закаблук со своим отделением наткнулся на КП соседнего 294-го полка. Губкин тотчас же по их радиостанции связался со своим командиром полка и доложил о выходе к Неману. К этому времени генерал Городовиков уточнил задачу: второму стрелковому батальону в ночь на 19 июля совершить маневр, выдвинуться к населенному пункту Дорсунишкис, расположенному километрах в восьми к северу, и к утру форсировать Неман. На марше к месту переправы через Неман Губкин впервые встретился с подполковником Водовозовым, своим новым командиром полка. Сухо ответив на приветствие комбата, подполковник Водовозов потребовал направить в его распоряжение старшего лейтенанта Ветрова — командира батальонного взвода сорокапяток.
— Товарищ подполковник, он у меня главный артиллерист и правая рука, — возразил Губкин.
— Понимаю, но думаю, что в должности командира полковой артбатареи вы тоже хотели бы видеть достойного офицера. Кто знает, она может быть придана и вашему батальону.
— Может быть, разрешите прислать Ветрова после того, как закрепимся на плацдарме?
— Нет, присылайте немедленно!
По пути в район Дорсунишкиса комбат старался представить себе обстановку. Правее наступал соседний полк, левее, километрах в десяти, — части 70-й гвардейской стрелковой дивизии.
Когда Губкин прибыл в новый район дислокации, он еще не знал, что обстановка на левом крыле фронта, на алитусском плацдарме, резко усложнилась. Черняховский по ВЧ попросил Крылова ускорить форсирование Немана под Каунасом. Крылов тут же вызвал к телефону Городовикова:
— Басан Бадьминович! Хозяин просит ускорить форсирование. — Он так и сказал — просит. И почувствовал, что на Городовикова это слово подействовало сильнее, чем строжайший приказ. — К утру необходимо овладеть плацдармом для наступления на Каунас и быть готовыми к отражению контратак крупной танковой группировки противника.
— Немедленно сворачиваю КП и вместе со штабом выдвигаюсь к Неману.
— Лишитесь темпа. Советую, Басан Бадьминович, поторопиться! Даже не ждите штаба. Берите с собой оперативную группу и выдвигайтесь. Хозяин знает, что вам на плацдарме придется трудно. Но надо выстоять!
— Непременно выстоим!
Крылов хорошо понимал, как важно было расширить плацдарм на правом берегу Немана, чтобы лишить противника возможности закрепиться там и отбросить его к границе сорок первого года. Поэтому был так требователен к Городовикову. Он живо представил себе его, не генерала, а молодого майора, прибывшего на Дальний Восток после окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе. Через год на одном из учений он проскакал на гнедом белоногом красавце дончаке с одного фланга кавалерийской цепи на другой, лихо спрыгнул, вытянулся с приложенной к козырьку фуражки рукой и доложил: «Вверенный мне кавполк в соответствии с планом боевой тревоги занял исходное положение…»
Рослый, плечистый, стройный, он стоял перед полковником Крыловым жизнерадостный и бодрый, с нетерпением ожидая команды — атаковать! Это было весной сорок первого.
И вот спустя три года, перед началом Белорусской операции, в распоряжение командарма Крылова поступила 184-я стрелковая дивизия под командованием генерала Городовикова. Николай Иванович без труда узнал Басана Бадьминовича и в генеральской форме. Правда, тот несколько погрузнел, стал нетороплив в движениях. Сказывалась и усталость: дивизия за полмесяца прошла с боями полтысячи километров. Но на смуглом скуластом лице все та же готовность выполнить любой приказ. Из-под густых черных бровей так же смело глядят веселые глаза. Пышные усы Басан отпустил, видимо, для солидности: ему было всего тридцать четыре — возраст для генерала небольшой.
Сейчас, торопя комдива, Крылов знал, как устали его бойцы. Он знал и то, что Городовиков не подведет, сумеет мобилизовать все силы…
Когда Городовиков добрался до 262-го стрелкового полка, там все повально спали: свободные от боевого дежурства бойцы и командиры, штабные офицеры — спали все, кто имел на то право и время. Ведь трое суток без перерыва полк вел непрерывные бои, отражая отчаянные контратаки противника и прокладывая путь к последней крупной водной преграде на подступах к цитадели фашистской Германии — Восточной Пруссии.
Пока адъютант будил командира полка, Городовиков куда-то исчез и появился тогда, когда полковник, стряхнув сон, уже успел привести себя в порядок.
— Почему не форсируете реку? — не ожидая доклада, спросил комдив.
— Переправочные средства не прибыли.
— Приказано было форсировать с ходу, на подручных средствах.
— Немцы увели все лодки.
— Если вы не в состоянии сколотить плоты и вернуть с того берега лодки, я вам покажу, как это делается. Знаете, что говорят на этот счет в народе?
— Никак нет, товарищ генерал.
— Река не глубока, коль воля велика, а духом не дюжий утонет и в луже!
Командующий артиллерией и начальник связи дивизии, прибывшие с Городовиковым в составе оперативной группы, обратили внимание на возбужденность комдива. Солдаты тем временем уже потащили к берегу бревна, доски — все, что попадало под руку.
Городовиков, всматриваясь в противоположный берег, скомандовал:
— Начальнику связи вплавь подать провод вон на тот островок. Там будет мой КНП. Командующему артиллерией переправить сорокапятки вместе с передовым батальоном. С нашего берега поддержать переправляющиеся подразделения огнем всей артиллерии.
Не прошло и получаса, как все пришло в движение. Городовиков возглавил команду пловцов. Вместе с ним плыли адъютант Кулаковский и начальник связи Захаров. Городовиков вырос на Волге, отлично плавал, и сейчас это очень пригодилось. Он далеко вырвался вперед. Немцы открыли по нему пулеметный огонь. Но генерал уже был в мертвом пространстве. И вскоре смельчаки зацепились за остров.
Иначе сложилась обстановка на участке полка Водовозова. Особенно большая и напряженная подготовка к форсированию велась во втором батальоне.
Когда Губкин вернулся в дивизию из госпиталя после третьего ранения, его встретили с особой теплотой. Авторитет Губкина значительно возрос. Он правильно строил свои взаимоотношения со старшими и младшими по званию и возрасту, не давал волю своим эмоциям. И если иногда в повседневном общении с подчиненными проявлялась порывистость его характера, это не снижало его достоинств. Батальоном он командовал на совесть.
Костина Губкин подкупал своей храбростью. Комбат нравился ему тем, что не кланялся вражеским пулям и осколкам, не боялся личным примером поднимать залегшую пехоту в атаку. Это, впрочем, не означало, что Костин мирился с его недостатками. Лучше, чем другие, он знал и видел слабые стороны характера Георгия. Поначалу Губкин не любил выслушивать критические замечания по своему адресу. Однако замполит, являясь представителем партии в батальоне, по-прежнему выполняя многие функции комиссара, был причастен ко всей боевой деятельности и жизни солдат. Много делал он и для укрепления авторитета комбата, всякий раз стараясь тактично предостеречь его от ошибок в обращении с подчиненными.
Перед форсированием Немана в батальоне во всех ротах прошли партийные и комсомольские собрания. Коммунисты и комсомольцы присягали быть впереди и вести за собой остальных бойцов. Готовясь к форсированию, Костин более тщательно вникал во все вопросы боеготовности батальона.
В пулеметной роте он обнаружил два неисправных станковых пулемета, в стрелковых ротах — малую грузоподъемность плотиков. И это в то время, когда до начала форсирования оставалось совсем немного.
Доклад Костина комбат воспринял не только как информацию о недостатках в батальоне. Он знал, что это и содержание очередного политдонесения, которое замполит подолгу службы ежедневно направлял заместителю командира полка по политчасти. А тот, в свою очередь, представлял обобщенное донесение со своими выводами начальнику политотдела дивизии.
Всякое бывало. Начподив иногда особо важные сведения, содержащиеся в донесениях, тотчас докладывал Городовикову. И генерал остро реагировал на них.
Комбат, думая обо всем этом, сказал, еле сдерживая гнев:
— Вот что, комиссар, проверяющих и без тебя достаточно. Люди не успевают все сделать. Задыхаются. Так что не забудь в своем донесении указать, чем именно ты помог устранить эти недостатки. Мы должны не столько проверять, сколько помогать!
— Могу доложить. Станковые пулеметы отремонтированы. Дополнительные плотики связаны. Форсировать Неман я хотел бы на трудном участке и непосредственно выполнять боевую задачу, если доверите.
— А почему бы и нет? — несколько поостыв, смягчился комбат. — Я буду форсировать с главными силами батальона. А вы будете действовать в передовом отряде.
В передовой отряд выделялся взвод лейтенанта Горбунова, усиленный взводом противотанковых орудий и отделением станковых пулеметов. На него возлагалась самая трудная и ответственная задача — захватить плацдарм и обеспечить переправу главных сил батальона.
Неман тянулся темной лентой, только кое-где его волны чуть поблескивали серебром лунного света. Облака временами закрывали месяц. С наступлением темноты на землю лег туман, стало зябко и сыро. Подготовка ни на миг не прекращалась. Прямо по камышам бойцы волокли к воде плоты и рыбачьи лодки. Разведка определила пути подхода к реке. Казалось, все учтено и сделано, чтобы форсировать Неман. И все-таки Губкин глаз не сомкнул в эту ночь.
Еще раз глубоко задумался над планом переправы и боя по захвату плацдарма. Мысленно перебрал в памяти, что нужно сделать еще, чтобы победить врага с наименьшими потерями. Тревожил вопрос: как поведут себя те, кто будут переправляться первыми? То, что с ними Костин, — очень хорошо, но на войне бывают всякие неожиданности.
В установленное время ротные командиры доложили о готовности к форсированию. Комбат взглянул на светящийся циферблат часов: до начала форсирования оставалось пятьдесят минут. Было тихо. Противоположный молчаливый берег угрожающе притаился. Лишь изредка оттуда прорезали небо трассирующие пули. Что ждет бойцов второго батальона на том берегу, никто предсказать не мог. Кто-то останется в живых, освобождая литовскую землю, а кто-то и не увидит рассвета…
Губкин понимал — рано или поздно враг обнаружит переправу. Чтобы отвлечь внимание немцев от главного направления, решил форсировать Неман на ложном участке в полутора километрах ниже по течению. Трое отважных бойцов во главе с ефрейтором Примаком добровольно вызвались на это дело. Как и было условлено, за тридцать минут до начала действий передового отряда они незамеченными переправились на противоположный берег. Небо за лесом осветилось мерцанием отдаленной ракеты, и на месте ложной переправы началась усиленная перестрелка…
В голову Губкину лезли разные мысли, он боялся, что противник разгадает его замысел и успеет сосредоточить крупные силы в районе переправы главных сил батальона.
В предрассветной мгле противоположный берег казался далеким. В три часа ночи передовой отряд Губкина начал форсировать Неман на главном направлении. Через десять минут первые четыре десантные лодки достигли вражеского берега. Первыми выпрыгнули из них лейтенант Горбунов и замполит батальона Костин. Передовому отряду в упорной схватке удалось быстро выбить гитлеровцев из береговой траншеи. Красная ракета, прорезав черное небо, рассыпалась по зеркалу реки, роняя вокруг огненный бисер. Это был условный сигнал.
Значит, передовой отряд захватил плацдарм. Отлично! А теперь можно переправляться главным силам батальона. Не успел капитан Губкин доложить об этом командиру полка, как взвод Горбунова был контратакован гитлеровцами. На плацдарме усилилась перестрелка. Короткая, но напряженная схватка длилась недолго. Костину с Горбуновым удалось отразить вражескую контратаку и прикрыть переправу батальона.
К рассвету Неман заволокло густым туманом. Облака закрыли плотным покровом район сосредоточения полка. Тьма не хотела уступать свои права. К четырем часам утра ветер немного разогнал туман и местами обнажил гладь реки. Освещенный первыми лучами солнца, противоположный берег теперь уже казался сизо-зеленым. Вдоль реки все еще тянулись полоски голубой дымки. Самолеты врага искали наши переправы. То и дело с оглушительным ревом проносились в воздухе «юнкерсы». Пролетали они так низко, что можно было различить черно-желтые кресты на фюзеляжах.
После короткого артиллерийского налета комбат приказал ротам первого эшелона форсировать Неман. Впереди действовали солдаты Зайцева и Ахметова. Дно у берега оказалось илистым и вязким. Метрах в двадцати от уреза воды оно переходило в песчаное и резко обрывалось на большую глубину. Здесь река подхватывала солдат быстрым течением. По этому месту и пристрелялась вражеская артиллерия. Неман кипел от огня снарядов и мин. Одна за другой лодки выходили из строя, разлетались вдребезги плоты. Люди плыли, держась за бревна разбитых плотов, за перевернутые лодки. Взрывы бомб поднимали огромные фонтаны воды, рассыпавшиеся каскадами брызг и горячих осколков. Не успевал затихнуть грохот разрывов, как в круг становились другие вражеские самолеты и падали в пике.
Губкина оглушил невероятный свист. Один из «юнкерсов» спикировал прямо на баркас, в котором переправлялся комбат. Затем бомбардировщик взмыл ввысь, и сверху посыпались мелкие бомбы. Кто-то крикнул: «Фашисты удирают!» И действительно, гитлеровских стервятников настигли наши самолеты. Это были французские летчики из полка «Нормандия». Но Губкин тогда еще не знал, что это французы. Самолеты были советские.
Главные силы батальона достигли середины реки. Влажный туман окончательно рассеялся, словно кто-то приподнял завесу над правобережьем Немана. Гитлеровцы оказывали отчаянное сопротивление, стремясь сорвать переправу наших войск. От близких разрывов баркас, на котором переправлялось командование батальона, сильно качало, то и дело окатывая находившихся в нем людей холодной водой. Пулеметный огонь хлестнул над головой Губкина, и комбат невольно пригнулся. Мысль о том, что переправа может захлебнуться, ужаснула его. Он понимал, чем это может кончиться для его людей. Повернуть назад — значило погубить их. Оставалось одно — во что бы то ни стало сквозь кромешный ад разрывов снарядов и ливень пуль продвигаться вперед. Прямым попаданием снаряда в пятидесяти метрах впереди от баркаса разбило плотик. На поверхности реки остались отдельные бревна, за некоторые из них хватались оставшиеся в живых солдаты. Гитлеровцы вторым снарядом ударили по этому же месту. Теперь уже в туче белых брызг кувыркались обломки бревен и белые щепы от них.
Комбат продолжал управлять своими подразделениями по радио. Торопил артиллеристов, с тревогой оглядываясь на множество лодок, плотов и плотиков, невыносимо медленно, как ему казалось, двигавшихся среди пенных фонтанов воды. «Скорей! Чего копаетесь?» — хотелось крикнуть Губкину. И снова он видел вспышки на том берегу, по которым угадывал огневые точки противника. В штаб полка по радио летели их координаты.
Река оказалась коварной не только из-за быстрого течения: многочисленные ямы и впадины образовывали водовороты, грозившие затянуть усталых солдат. Даже опытным воинам пришлось тяжко. Мокрая одежда и обувь налились свинцовой тяжестью, плоты и лодки от перегрузки теряли плавучесть.
Губкин заметил рядом с баркасом торчащий из воды штык, то уходящий на глубину, то появляющийся вновь. Комбат поймал его и вместе с винтовкой вытащил солдата, изрядно наглотавшегося воды.
— Жубатырев, ты что, плавать не умеешь? — узнал комбат солдата.
— Умею… — еле слышно проговорил тот. И уже потом, отдышавшись, добавил: — Меня вдруг потащило вниз в подводную яму. Если бы не вы…
Вскоре Губкин рассмотрел сквозь прозрачные волны песчаное дно и прыгнул в воду. Пригибаясь, устремился к берегу. Впереди слышались глухие разрывы ручных гранат, автоматные очереди.
Жубатырев видел, как Губкин с биноклем на груди и с трофейным парабеллумом в руках первым достиг берега и исчез в дыму разрывов вражеских снарядов. И лишь когда четвертая рота развернулась в цепь для атаки и дым несколько поредел, фигура комбата показалась снова. В небольшой лощине Губкин отдавал приказания, выслушивал доклады.
Связной из передового отряда принес печальную весть: тяжело ранен Горбунов. Комбат передал приказ Костину — ускорить захват фольварка Погермань, а сам продолжал руководить переправой. Он заметил, что немцы поразительно точно бомбят наш плацдарм.
«В чем дело?» — недоумевал Губкин. Вскоре, правда, он понял «секрет» точности: на пути к фольварку наши солдаты заметили над пшеничным полем антенну вражеской радиостанции. Костин тут же приказал Закаблуку уничтожить корректировщиков. Пулеметчики открыли прицельный огонь. Не давая немцам поднять головы, наши воины с двух сторон приближались к ним. Сопротивляться было бесполезно. Немецкий офицер в страхе застрелился, а восемь солдат сдались в плен. Прицельная бомбежка переправы прекратилась.
Но бой на плацдарме не смолкал. Губкин, уточнив боевые задачи, отдал новый приказ: командиру шестой роты Ахметову совместно с четвертой ротой Зайцева развивать успех передового отряда; командиру пятой роты Акимову отражать контратаку противника с левого фланга и обеспечить продвижение роты Зайцева.
Только собрался он уточнить задачу артиллерии, как немцы бросили в контратаку свои резервы. До взвода немецких автоматчиков прорвалось через боевые порядки роты Акимова. Они уже выходили напрямик к командно-наблюдательному пункту батальона.
Губкина будто кто-то подтолкнул. Он оглянулся и увидел, что в него целится из пистолета немецкий офицер. Георгий сразу понял, что опередить врага не удастся, и почувствовал, как кровь отхлынула от лица. От сознания того, что он не успеет вскинуть свой автомат, его охватила противная слабость. Раньше он никогда не испытывал такого состояния, хотя бывал в переделках и почище. Человек ко всему привыкает, даже к войне. Только к одному привыкнуть не может — к смерти.
Губкин ощутил, как дуло вражеского пистолета направляется прямо в его грудь. Прищуренные глаза гитлеровца смотрели в прорезь прицела. Вот-вот он должен нажать на спусковой крючок, и тогда все.
«Неужели конец?» — мелькнула мысль.
Все остальное произошло молниеносно. Невесть каким образом появившийся из-за пригорка Семенов что есть силы ударил фашиста по голове прикладом автомата. Гитлеровец рухнул наземь.
— Вот и все, товарищ комбат! — Семенов, словно после тяжелой работы, вздохнул.
Губкин, переведя дыхание, с ненавистью взглянул на поверженного гитлеровского офицера. Из-под слипшихся светлых волос смотрели на него бесцветные глаза, в которых застыл ужас.
— Товарищ комбат! Вас вызывает командир полка, — доложил подбежавший радист.
И вновь Губкина закрутил ритм быстротечного боя.
— Двадцать третий у микрофона!
— Зацепились?
— Так точно! Расширяем плацдарм.
— Поздравляю. Надо ускорить продвижение.
Солдаты Губкина, сбив вражеское прикрытие, устремились вперед. Из штаба полка еще раз потребовали немедленно продвигаться в глубь обороны противника.
С момента начала переправы прошло более двенадцати часов. Вывести людей на обед не представлялось возможным. Кухня отстала, не знали даже, где ее искать. Если бы и нашли, то все равно не было бы толку: в жаркие дни обед в котле разрешалось держать не более шести часов. Для обеспечения боеспособности солдат надо было доставить сюда, к переднему краю, двести восемьдесят три сухих пайка. С такой просьбой Губкин и обратился к командиру полка.
Подполковник Водовозов, выслушав его, разрешил израсходовать ранее выданный НЗ. Комбат слишком хорошо знал своих солдат и был уверен, что ни один из них не оставил свой НЗ перед боем, съел его еще ночью. Ведь на голодный желудок станковый пулемет, орудие или миномет далеко не протащишь. Губкин откровенно признался в этом командиру полка, хотя в отношении НЗ имелись строгие распоряжения.
— Кто вам разрешил использовать НЗ прежде времени? — резко спросил Водовозов.
— Виноват, товарищ подполковник! — Губкин не хотел говорить, что солдаты израсходовали сухой паек самовольно.
— Впредь этого не допускать! НЗ вам будет выдан дополнительно…
А бой между тем ни на минуту не утихал. Мимо комбата на носилках пронесли офицера. Бледное заострившееся лицо, закрытые глаза… Губкин с трудом узнал Ветрова и склонился над ним.
— Держись, брат! — сказал он и от всей души добавил: — Возвращайся скорее в строй. Еще повоюем вместо!
Ветров приоткрыл глаза.
— Отвоевался я, товарищ капитан! — сдавленно проговорил он.
— Не верю, Ветров! Жить будешь и воевать будешь!..
Больше года они прослужили вместе, воевали под Духовщиной и Витебском, в снегах и болотах Белоруссии. Ветров пришел в батальон лейтенантом, потом стал старшим лейтенантом. Командуя полковой батареей, принял активное участие в подготовке к переправе через Неман. Губкин уже знал, что Ветров представлен к знанию капитана и к ордену Красного Знамени. Но вот судьба оказалась к нему суровой. Здесь, на этом берегу, он единственный из всех наступил на вражескую мину и, скорчившись от боли, упал на землю. Ему оторвало ступню левой ноги. Рана оказалась тяжелой, в ней виднелись осколки раздробленной кости и белые сухожилия. На его крик подбежали санитары, разрезали сапог и забинтовали ногу. Тотчас же на носилках Ветрова понесли в полковой медпункт.
Скверно было на душе у Губкина. И только сообщение Костина об освобождении фольварка Погермань немного отвлекло его от тяжелых раздумий. Война кончается, а люди гибнут. И какие люди!
Как и многие фольварки в Литве, Погермань тоже утопал в садах. Несколько добротных кирпичных построек, обнесенных каменным забором, напоминали небольшую крепость. Хозяин успел удрать с немцами. К удивлению бойцов, ворота им открыли наши женщины, угнанные из Белоруссии и с Украины. С криком «Родные!» женщины бросились к бойцам, принесшим им освобождение. С каким нетерпением все они ждали этого часа!
Смуглая красивая украинка повисла на шее Закаблука:
— Микола! Я ж так и думала, что ты придешь и вызволишь нас! Ты что, не узнаешь меня? Я ж Галя!
Смущенный сержант пытался объяснить, что она ошиблась. Но девушка не слушала его. Глаза Галины лихорадочно горели. Закаблука она приняла за своего суженого.
— Милый мой, как долго мы не виделись! Ты стал каким-то другим!
— Послушай, послушай! — Закаблук был смущен, хотел как-то объяснить это недоразумение.
Но Галя своим громким певучим голосом перебивала его и твердила свое:
— Нет, нет, не уходи от меня, ради бога! Неужто ты разлюбил меня? Я ждала тебя дни и ночи!
Кто-то вдруг закричал: «Немецкие танки!»
Взвод батальонных противотанковых орудий с ходу вступил в бой с двумя наползавшими T-IV. Появление их на окраине фольварка Погермань представляло немалую опасность.
Стрелки тоже приготовились принять бой с вражескими танками на открытой местности. К счастью, артиллеристам удалось отбить танковую контратаку противника, и солдаты Губкина продолжили продвижение вперед.
Со стороны Каунаса послышалось эхо артиллерийской канонады. Губкин выдвинул вперед разведгруппу. Главные силы батальона тем временем продолжали марш в походном порядке, имея боевое охранение. Справа и впереди было по-прежнему тихо. Шли проселочными дорогами, минуя полупустые фольварки, холмистые перелески. Городовиков и Водовозов не только не сдерживали наступательного порыва батальона Губкина, но, наоборот, всячески поощряли его продвижение дальше и дальше на Каунас. Соседи отстали, и комбат рассчитывал только на свои силы. Обстановка складывалась не совсем ясная. Батальонная разведка никаких сведений о противнике не имела, штаб полка тоже молчал. Когда пересекли рокадное шоссе, Губкин обратил внимание на многочисленные следы кованых сапог. Несомненно, тут прошли немцы.
Вернулись разведчики, проехавшие на велосипедах по рокадной дороге километров пять. Они ничего не заметили. Выслушав разведчиков, комбат задумался, куда же делся противник.
Достал пачку «Беломора» и угостил солдат папиросами. Все закурили. Молчание нарушил Жубатырев:
— Товарищ капитан! Мы тут встретили одного местного старика. Плетет какую-то несуразицу. Дескать, мы немцев пропустили к себе в тыл — много танков и пехоты прошло к Неману. Чепуха какая-то! Не могли же мы пропустить танковую дивизию и не заметить? Это же не иголка в стоге сена, и соседи справа вступили бы в бой…
На войне чаще, чем где-либо, возможно непредвиденное. Старик оказался прав: вражеские танки и мотопехота прорвались к Неману в полосе наступления соседней дивизии генерала Калинина. Враг пытался отрезать, окружить и уничтожить полки дивизии Городовикова. Но о замыслах противника знал только комдив, в полку данных об этом пока не имели.
Солнце уже поднялось к зениту, его горячие лучи обжигали солдат, двигавшихся по пыльной проселочной дороге. В три часа дня Губкин связался со штабом полка. Начальник штаба снова подтвердил приказ комполка Водовозова: «Срочно перерезать шоссе, ведущее на Каунас».
— Не останется ли враг в нашем тылу? — спросил Губкин.
— Продолжайте двигаться вперед! — последовал ответ.
Приказ есть приказ, надо было не только накормить уставших солдат, но и продолжать выполнять боевую задачу. Батальонная кухня отстала, а люди были без завтрака и без обеда.
Наконец появился батальонный повар, но без кухни. Ефрейтора Гугина трудно было узнать: бледный, взлохмаченный, без пилотки, он с трудом переводил дыхание.
— Братцы, еле выскочил из окружения, голодный как волк! — признался он.
— Это как же в тылу можно оказаться в окружении? Мы тут кухню ждем, люди голодные, а он явился ни с чем, — сказал кто-то сердито.
— Виноват, братцы. Разрешите, доложу все по порядку? Я уже подъезжал к вам, оставалось всего ничего. Жеребец резво тащил походную кухню, как вдруг налетел «мессер».
— Ты, конечно, коня бросил — и в кусты? — перебил его один из солдат.
— Зачем в кусты? Рядом оказалась траншея, я — туда.
— А жеребец?
— Он тоже не дурак, конечно, вырвался? — вмешался пожилой боец.
— Рванулся и оборвал уздечку.
— Оборвал, говоришь? Нет, мил-человек. Прежде чем уздечка оборвется, рука твоя вырвалась бы. Скажи лучше, что он тебя потащил по траншее, ты уздечку-то и отпустил.
— Ну и отпустил… Какая разница? Выскочил он с кухней на дорогу — и ну галопом в направлении населенного пункта, — повар махнул рукой в сторону поселка, что находился южнее, километрах в трех. — Я, конечно, за ним.
— Как же ты мог бежать, если немец бомбит?
— Коли не хочешь оставить людей без обеда, побежишь, да еще как!
— Послушай, спортсмен, где же все-таки обед? — спросил сержант Закаблук. — Нам, знаешь ли, не до шуток.
— Какие уж тут шутки! Не смог я догнать жеребца. Он в поселок, я ему наперерез через огороды. Только повернул, а навстречу литовец. Осмотрел меня с ног до головы и спрашивает: «Слушай, паренек, откуда ты взялся? Кругом ведь немцы. С неба упал, что ли?»
— Струхнул ты, Гугин. Небось напугал тебя литовец! — сказал кто-то.
— Да нет! Это я потом уже малость сдрейфил, когда сам разглядел их замаскированные танки и пушки.
— Хорош же ты повар! Накормил гитлеровцев нашими щами. Небось едят сейчас и гогочут над тобой.
— Если бы щи! — вздохнул повар. — Я бы не очень тужил, а то ведь отварные поросята были. Выменял их вчера у хозяина на мыло. Ах, какой это был обед! Чтоб они подавились этими поросятами, фашисты проклятые!
— Доктор, посмотрите, голова у него не горячая? — съязвил сержант Закаблук, обращаясь к военфельдшеру. — Заладил: «Поросята, поросята». Чтоб твоего гнедого волки съели!
— Гнедой здесь ни при чем. Я еще на том берегу поменял его на вороного жеребца. Гнедой устал и не тянул кухню, — оправдывался повар.
— Плачет по тебе штрафной батальон, — наседал сержант. — Теперь все ясно: ты коня Советской Армии поменял на немецкого жеребца. А он, как только почуял, что ты приготовил поросят, взял да и сбежал к своим.
— Где ж твоя бдительность, Юра? — спросил повара сержант под дружный хохот солдат.
Комбат, вернувшись в фольварк, поинтересовался, не прибыла ли кухня. Костин рассказал ему о происшествии с поваром. А во дворе в это время вовсю суетился новоиспеченный шеф-повар в белом переднике. Рядовой Чернобаев ловко жонглировал небольшим черпаком.
— А это что у вас такое? — удивленно спросил Губкин, показывая на кухню.
— Сейчас он нас накормит, — проговорил Костин. — В фольварке оказалось достаточно картошки и других продуктов.
Чернобаев на пробу первую миску жаркого принес комбату. Жаркое оказалось вкусным, и Губкин объявил благодарность новоиспеченному повару.
— Здорово у вас получилось! Да, брат, забота о победе, как говорит наш командующий Черняховский, начинается с заботы о солдатском желудке, — заключил комбат.
Не успели Губкин с Костиным опорожнить свои котелки, как прискакавший верхом на коне от командира полка офицер связи передал приказ — батальону срочно занять оборону.
— Непонятно. Только что требовали продвигаться вперед сломя голову, а теперь вдруг надо закрепляться. Что там произошло? — спросил капитан Губкин офицера связи.
— Авиаразведка донесла о выдвижении большого количества немецких танков и автомашин по Каунасскому шоссе по направлению к Неману, — проговорил тот.
Капитану Губкину ничего другого не оставалось, как приказать командирам рот выдвинуться на выгодные позиции и срочно окапываться, чтобы враг не застал его солдат на открытой местности.
Тем временем из боевого охранения прибежал связной. Он доложил комбату, что по дороге с тыла в направлении фольварка Кудиркос движется вражеский бронеавтомобиль.
Только теперь Губкин понял, что форсирование Немана и бой на его противоположном берегу представляли собой лишь прелюдию к тем событиям, которые ожидали батальон. Торопливо натянув сапоги, он побежал к позициям боевого охранения вместе с ординарцем Семеновым.
Поднявшись на холмик, они увидели, как вражеская бронемашина буквально перед носом нашего орудия развернулась и умчалась на большой скорости.
— Упустили разведку противника! — досадовал комбат.
— Непонятно… — в недоумении развел руками Семенов.
Приблизившись к пушке, услышали громкую брань:
— Разиня ты, Воиншин, а не командир орудия! А еще сержант! Тебе, наверное, и с бабой не управиться, не то что с пушкой. Прохлопали, как младенцы, ядрена бабушка! — ругал пожилой наводчик командира орудия.
— Разговорчики! Ты что, не видел — затвор заело?
— Надо было раньше проверить! Замок у него заело! И когда? В самый ответственный момент.
— Прекратить ругань! — оборвал их подошедший Губкин. — После драки кулаками не машут. Эх вы, герои! Теперь жди «тигров»!
Воиншин с раскаянием смотрел на комбата.
— В чем дело, сержант? Докладывайте!
— Виноват, товарищ комбат! Мы хотели подпустить бронемашину как можно ближе. Все время держали броневик на прицеле. Но фашисты, видимо, почуяли недоброе, повернули назад. Я тут же скомандовал: «Огонь!» Как назло, замок заело. Пока устраняли неисправность, броневик ушел.
— Судя по всему, — решил вслух комбат, — им удалось нас обнаружить в этом фольварке. А раз так, надо предупредить артиллеристов. Пусть усилят наблюдение за дорогой и местностью, прилегающей к ней. И пусть срочно приготовятся к отражению вражеской контратаки.
…Батальон оказался разделенным на две части. Кроме четвертой роты, все подразделения находились еще на пути к фольварку. Обстановка требовала децентрализации управления и передачи командования частью сил одному из заместителей комбата. Губкин, как никогда, почувствовал острую необходимость иметь хороших помощников. И они у него были, но заместитель по строевой капитан Поздеев находился в данный момент в медсанбате, а начальник штаба старший лейтенант Кудрявцев должен был организовать работу штаба. Это было особенно важно в создавшейся ситуации. Оставался замполит Костин, который сочетал в себе и умение воодушевить солдат словом, и большую личную волю, и командирскую решительность. Комбат без колебаний поручил своему замполиту организовать круговую оборону фольварка и прикрытие батальона, развертывающегося к бою.
С тех лор как Губкин встретился с Костиным, прошло всего около месяца, казалось бы, совсем немного. Но на фронте даже в дивизионных тылах месяц засчитывается за три. А они все это время пробыли в наступлении, и к тому же на переднем крае, в боевых порядках батальона. За это время в ротах вышла из строя половина личного состава — одни по ранению, другие — убиты. Но сколько было одержано побед, сколько пройдено километров и освобождено от немецко-фашистских захватчиков родной земли!
Костин, человек отваги и риска, всегда рвался туда, где опаснее. Коммунисты и комсомольцы шли за ним в огонь и воду. И что особенно ценно — мужество его было неотделимо от задушевности. Губкин постепенно проникался все большим уважением к своему замполиту и прислушивался к его советам. Костин отвечал взаимностью и стремился быть рядом с комбатом на самых трудных участках боя.
Поставив Костину боевую задачу, Губкин поспешил к главным силам батальона. Вдвоем с ординарцем они пробирались под прикрытием кустарника вдоль каменной ограды фольварка, но вражеские танкисты заметили их и открыли огонь.
Пулеметная очередь ударила чуть впереди. От стены отлетели осколки камня и кирпича. Губкин с Семеновым, пригнувшись, устремились вперед. Трассирующие пулеметные очереди из вражеского танка снова преградили путь. «Пригнись, пригнись, Саша!» — крикнул комбат бежавшему впереди ординарцу, но пулеметная трескотня заглушила его голос. Семенов упал. Когда пулемет заглох, Губкин затащил ординарца в кустарник. Расстегнув ему ремень, осторожно закатал гимнастерку. Нижняя рубашка была залита кровью. Вражеская пуля попала в живот Семенову, ранение было опасное. На перевязку не хватило и двух индивидуальных пакетов. Губкин пустил в ход свою белую рубашку, которую надел на рассвете, перед переправой через Неман. Пока он рвал ее на бинты, к ним приблизился вражеский танк. До него оставалось около двухсот метров. Комбат торопился. Скрежет гусениц отдавался во всем теле. На их счастье, вражеский танк вдруг остановился и окутался пламенем.
Губкин догадался, что это дело рук группы Костина. Только она могла подбить танк.
Комбат был доволен своим замполитом, радовался тому, что его солдаты становились другими, будто Костин знал какое-то магическое слово. Бойцы как бы преображались перед его щедрой и открытой душой. Порой им становилось стыдно за свою оплошность. Стараясь быть похожими на замполита, они пренебрегали опасностью.
Гарнизон фольварка под командованием замполита Костина не только отразил вражескую контратаку, что само по себе было очень важно в этой ситуации, но и выручил комбата: как только был подбит головной вражеский танк, стрельба внезапно прекратилась, наступило затишье.
Семенов громко стонал, когда Губкин, бинтуя, приподнимал его.
— Товарищ капитан, вам здесь задерживаться нельзя, — превозмогая боль, прошептал Семенов.
— Потерпи до медсанбата. Знаю, что мне делать.
Закончив бинтовать ординарца, Губкин взвалил его на себя и пополз туда, где залегли роты.
Лощину, которую предстояло пересечь, немцы держали под огнем. Комбат медленно передвигался с раненым на спине. По кустарнику полоснула очередь, крупнокалиберные пули срезали ветку над ним.
— Обнаружили, гады! — Комбат со злостью выплюнул попавший в рот песок. Передохнув немного, пополз дальше.
Навстречу им вышли двое связных, которых адъютант батальона направил в фольварк к Костину. Губкин приказал им вернуться и доставить Семенова в медпункт, а сам по лощине зашагал к ротам…
Военфельдшер лейтенант Трегубов обработал рану ординарца комбата, санинструктор Клава Павлова наложила на нее свежую повязку. Семенов и раньше стеснялся этой симпатичной девушки, избегая встречаться с ней даже взглядом. Сейчас он изо всех сил старался не выдать своей боли.
— Потерпи, милый, до госпиталя. Все будет хорошо, — успокаивала она.
Облизывая пересохшие губы, Семенов попросил:
— Сестричка, глоточек воды.
— Воды никак нельзя, — строго сказала она.
Боль становилась нестерпимой, жажда одолевала его. Он опять попросил воды. До ручья, который разделял нейтральную полосу, добраться было не просто: берег простреливался гитлеровцами, и валявшиеся поблизости солдатские котелки зияли отверстиями от пуль. Семенов даже не представлял, что несколько глотков живительной влаги могут стоить кому-то жизни.
В его голосе было столько мольбы, что Клава не выдержала, взяла котелок. Доползла до ручья и зачерпнула воду. Над головой просвистели вражеские пули, заставив девушку прижаться к земле. Выждав, пока стрельба утихнет, она поползла обратно.
Семенов прямо задрожал от нетерпения, услышав бульканье воды, льющейся из котелка в кружку. Ему дали лишь глоток. Приятная прохлада смочила раненому язык, но не утолила жажду. Пить захотелось еще больше. Семенов слабел на глазах. С горьким сожалением он думал о том, как мало пришлось пожить…
Командиры рот в тени деревьев ожидали комбата. Забрались под самое кудрявое дерево.
— Думаете, немцы не знают, что вы здесь прячетесь в тени от жары? Лучшего ориентира для пристрелки трудно найти, — строго упрекнул их Губкин и тут же отдал приказание: — Акимову занять оборону правее фольварка Кудиркос, Ахметову — левее фольварка.
После этого комбат заскочил в батальонный медпункт. На траве рядом с палаткой валялись окровавленные бинты, пахло йодом. Каждый пережитый фронтовой день ложился Губкину на душу тяжелым грузом, а ранение ординарца и вовсе вывело его из равновесия.
— Как там Саша? — спросил он военфельдшера, чуть откинув угол палатки.
— Необходима срочная операция. А медсанбат еще на том берегу.
— Сколько у вас раненых, которых надо эвакуировать?
— Человек восемь.
— Товарищ капитан, не оставляйте меня, — сиплым голосом обратился к Губкину раненный в ногу молодой солдат.
— Не оставим, не волнуйтесь, — пообещал Губкин и распорядился: — Подготовьте всех к эвакуации. Направим раненых в медсанбат на самоходке.
Семенов лежал в палатке, натянутой на танковую аппарель. Комбат наклонился над белым как мел, искаженным болью лицом ординарца, и к горлу подкатил комок, на глаза навернулись слезы: ведь Губкин, по существу, жизнью был обязан этому парню.
— Сашок, потерпи! Все будет в порядке!
Тот открыл глаза.
— Товарищ капитан, воды бы! — Семенов весь горел, Скорчившись, лежал на носилках, желая только одного: чтобы комбат разрешил ему напиться.
У Губкина сердце разрывалось от жалости, он потянулся было к котелку, но его остановила медсестра Павлова.
— Ни в коем случае! Вода для него смертельна! Он остался жив благодаря слепому случаю — завтрак не подвезли и его ранили на голодный желудок. До операции ему нельзя брать в рот ничего. Даже воды. Ни глотка!
«На то они и врачи, им лучше знать», — мысленно согласился Губкин.
— Сашок! Потерпи еще немного. Скоро эвакуирую тебя на самоходке. Военфельдшер говорит, что нужна срочная операция.
— Это зачем же, товарищ капитан? У противника столько танков, а вы еще самоходку в тыл направите, — через силу проговорил Семенов.
Немцы стремились во что бы то ни стало ликвидировать плацдарм, занятый дивизией Городовикова. В обращении гитлеровского командования к частям 6-й танковой дивизии говорилось:
«Германские солдаты! Перед вами дикая дивизия русских! — так немцы окрестили дивизию генерала Городовикова. — Вас ждет победа или смерть за фюрера, другого не дано!»
Особо тяжелое положение создалось на участке полка Водовозова. Его стиснутые с флангов батальоны отчаянно дрались с превосходящими силами врага. Коридор в сторону Немана на участке прорыва сузился до двух километров и насквозь простреливался пулеметным огнем. Противник имел четырехкратное превосходство и предпринимал отчаянные попытки замкнуть кольцо окружения.
Во второй половине дня напряжение боя на этом участке достигло своего апогея, двенадцать «пантер» в сопровождении автоматчиков вклинились в глубь нашей обороны на стыке рот Зайцева и Ахметова. Пехота была не в состоянии сдержать натиск танков. В засаде оставалось последнее длинноствольное пятидесятисемимиллиметровое противотанковое орудие сержанта Воиншина.
— Чего тянем? Пора открывать огонь! — крикнул наводчик.
— Гитлеровцы только и ждут, чтобы мы демаскировались. Стрелять только в упор! Всем быть начеку! — приказал сержант Воиншин.
Гул машин нервировал людей, а до танков оставалось еще метров пятьсот. Они двигались, водя из стороны в сторону пушками, как бы вынюхивая и высматривая все вокруг, подминая гусеницами все, что попадалось на их пути. До них оставалось уже метров двести, а Воиншин все медлил, выжидал наиболее благоприятного момента. Неожиданно танки открыли огонь. Желто-белые разрывы вспыхивали в самом центре расположения батальона Губкина. Все окуталось дымом и пылью. Солдаты Воиншина напряженно следили за стальными чудовищами. Отступать нельзя, надо выстоять, а если суждено принять смерть, то они встретят ее мужественно. Так думали все бойцы орудийного расчета. Наконец сержант взмахнул рукой: «Огонь!» Раздался выстрел.
Передний танк охватило пламя. С третьего выстрела задымил еще один. Солдаты по приказу сержанта уже катили орудие на запасную позицию. Боевой расчет проделал эту нелегкую работу в считанные секунды. Вновь прозвучала команда «Огонь». Загорелся третий танк. Идущая следом за ним машина застрочила из пулемета.
Упал, сраженный, наводчик. Воиншин занял его место, подбил четвертый танк. И в это время над вражескими танками повисли краснозвездные штурмовики. Фашисты не выдержали, стали разворачивать машины и под ликующие возгласы наших солдат поползли обратно.
Артиллеристы облегченно вздохнули. Но не успели «илы» оставить поле боя, как Воиншин увидел: с фланга на орудие надвигаются еще пять вражеских танков. Снова загрохотали выстрелы. Впереди на большой скорости мчалась «пантера». Она была уже совсем рядом, а пушка Воиншина молчала. Вот-вот бронированное чудовище подомнет ее под себя. Артиллеристы замерли. Воиншин сам кинулся к орудию и произвел точный выстрел. «Пантера» остановилась, задымила. Шедший за ней танк дал длинную пулеметную очередь.
Воиншин снова припал к прицелу.
Четыре «пантеры» продолжали ползти на позицию. Лишь метрах в ста две из них свернули на участок соседа справа, а две продолжали двигаться прямо на орудие Воиншина. Сноп искр отлетел от лобовой части танка, идущего впереди, — очередной снаряд угодил в башню и, срикошетировав, сделал «свечу».
— Товарищ сержант, последний снаряд! — тревожно крикнул заряжающий.
На этот раз Воиншин целился дольше, чем обычно.
— Скорее, скорее! — поторапливал заряжающий.
Танк сбавил ход и стал обходить глубокий котлован. Наконец прогремел выстрел. «Пантера» завертелась на месте. Но другой танк, обходя горящую машину, устремился вперед.
— Истребители танков — к бою! — скомандовал Воиншин.
На двоих истребителей осталось четыре противотанковые гранаты.
Ефрейтор Герасимчук пополз навстречу «пантере» по нескошенному лугу, плотно прижимаясь к земле. Его не было видно из окопа, лишь примятая трава да колышущиеся стебли выдавали движение Герасимчука. Но из танка трудно было это заметить. Вот ефрейтор перевел дыхание и пополз дальше.
Раздался взрыв. Экипаж стал выпрыгивать из горящей машины, но автоматные очереди Герасимчука уже поджидали фашистов.
Пехоту, наступающую за «пантерой», отсекли пулеметчики Зайцева и Ахметова. Последняя противотанковая граната решила исход этой схватки — вражеская контратака была отбита.
Обстановка продолжала оставаться сложной. Коридор, по которому батальоны Водовозова могли отойти назад к Неману, сузился до километра. Гитлеровцы уже предвкушали победу и через усилитель кричали: «Рус, сдавайся, пансыр кольцо, крышка! Неман — буль-буль!»
На истеричные крики гитлеровцев Губкин не обращал внимания, однако вместе со страшной усталостью в его душу вкрадывалась тревога, вызванная тем, что многие солдаты, еще несколько часов назад сами рвавшиеся в бой, теперь выполняли его приказ с какой-то медлительностью, без веры в успех.
Тревожные раздумья Губкина прервал чей-то умоляющий возглас:
— Артиллерийского огня, огня бы по противнику!
Просьбы о помощи огнем он слышал и раньше, но эта потрясла душу комбата. Боеприпасы кончились, оставался лишь неприкосновенный запас снарядов на случай отражения непосредственной атаки вражеских танков, и он, конечно, ничем не мог помочь.
Тем временем снова усилились вражеская артиллерийская канонада и шум танковых моторов. Губкин чувствовал, что противник близок к достижению цели. И поэтому остро переживал за судьбу людей батальона, с которыми он прошел такие трудные бои. Оказаться в окружении и быть разгромленным, когда так мало оставалось до победного конца войны, было обидно. Между тем обстановка складывалась почти сравнимая с той гибельной для батальона ситуацией, которая создалась в лесу под Витебском. Но если тогда противник был отрезан от баз снабжения и, по существу, находился сам в окружении, то сейчас он обладал большим преимуществом и превосходством в силах.
Городовиков понял, что настал критический момент, смертельный для его полков. Он приказал командующему артиллерией дивизии полковнику Захарову развернуть на фланге полка Водовозова противотанковый резерв и открыть огонь, подпустив вражеские танки как можно ближе. Дивизионной артиллерийской группе сосредоточить огонь по наступающей за танками пехоте противника.
Внезапно в расположении гитлеровцев заполыхали разрывы снарядов. По интенсивности огня Губкин определил, что по «пантерам» ведет стрельбу дивизион противотанковой артиллерии, а в артналете с закрытых огневых позиций участвуют по меньшей мере три артиллерийских дивизиона. Дальнейшая контратака противника была приостановлена.
Помощь командира дивизии оказалась своевременной. Губкин с благодарностью вспомнил обещание генерала. В эти трудные минуты прочно утвердился во мнении, что Городовиков — человек слова.
Клонившееся к закату солнце скрылось за лесом, и долину, в которой пролилось столько крови, окутала темень. Наступило долгожданное затишье. Комдив вызвал по радио подполковника Водовозова и приказал отвести полк за Неман.
— Как быть с плацдармом? — спросил Водовозов.
— Приказано оставить и сосредоточиваться на другом участке.
Под покровом темноты полк Водовозова двинулся обратно к Неману.
Наша авиационная разведка вовремя установила подход оперативных резервов противника. Немецко-фашистское командование намеревалось окружить и уничтожить дивизии Городовикова и Калинина и ликвидировать плацдарм. Но, как только оно заметило отвод наших войск, не дожидаясь подхода резервов, вновь перешло в контратаку. Главный удар враг наносил теперь уже на участке первого батальона. Всю ночь шли упорные бои. Солдаты батальона Губкина, частью сил отражая вражеские контратаки, медленно продолжали свой тяжелый и опасный путь. Над ними то и дело с пронзительным воем рассекали воздух вражеские мины и снаряды, взрывались тут и там, вздымая столбы земли и огня. От усталости люди чуть ли не валились с ног, но шли и шли, согнувшись под тяжестью вещмешков и оружия, спотыкаясь на распаханной взрывами и гусеницами танков земле. На бывшей огневой позиции противотанковой батареи их взору предстала потрясающая картина: все шесть орудий были раздавлены, а напротив метрах в трехстах чернели семь подбитых вражеских танков, валялись гильзы от снарядов и разбитые ящики из-под боеприпасов. На одном, неизвестно как уцелевшем ящике сидел и рыдал, весь в пороховой гари, старший лейтенант в разорванной гимнастерке. Недалеко лежали трупы его подчиненных и гитлеровцев.
Всем было ясно, что произошло с противотанковой батареей: билась она до последнего снаряда. А когда боеприпасы у артиллеристов кончились, вражеские танки раздавили орудия на позициях. Командир батареи случайно остался в живых и никак не мог прийти в себя.
Костин, увидев эту страшную картину гибели батареи, осознал, какой тяжелый удар на плацдарме принял на себя полк и его батальон. Противник был еще достаточно силен, и предстояли ожесточенные бои, которые требовали выдержки, больших усилий и умелого сосредоточения сил для неотвратимого удара.
Только на рассвете под прикрытием нашей авиации и артиллерии полк Водовозова начал переправляться на противоположный берег по понтонному мосту. Солдаты, измученные напряженными боями, ночным маршем и промокшие от утренней росы, с трудом передвигали ноги.
На левом берегу Немана стрелковые роты второго батальона расположились на отдых прямо на скошенном поле у копен сена, чтобы успеть замаскироваться в случае налета вражеских самолетов. Новый командир хозяйственного взвода лейтенант Турпитко доставил завтрак. Но людям было не до еды, многие тут же заснули.
Губкин, воспользовавшись паузой, нашел еще в себе силы написать письма родным и медсестре Собковой.
«Дорогая Муза! С фронтовым приветом к тебе Георгий! Ведем бои с переменным успехом, как передают в сводках Совинформбюро. Все у нас в батальоне живут одной мыслью — как можно скорее разгромить фашистских захватчиков и первыми выйти на государственную границу 1941 года! Завтра снова в бой, но я твердо верю в то, что мы с честью выполним историческую миссию и встретимся с тобой, отпразднуем великую Победу! А пока от меня не жди скорых писем, мы будем в большом наступлении…»
У Георгия впервые возникло такое ощущение, что все вокруг будто остановилось во времени и замерло в полусне. На голубом небосклоне не было ни малейшего облачка. С каким-то безразличием смотрел он на синее небо и на все, что происходило вокруг него. Он вдруг невыносимо остро почувствовал, до чего же противной и ненавистной стала ему эта война. Влажная, чуть колючая после сенокоса земля, на которой он лежал на спине, положив руки под голову, казалось, плыла куда-то вместе с ним. У него кружилась голова от невероятной усталости и перенапряжения сил.
— Немцы! — вдруг крикнул командир взвода связи старший сержант Баранов и отскочил от копны.
— У кого это нервишки не в порядке? — поинтересовался комбат, подходя к копне.
Однако Баранов, сунув руку в сено, ухватился за что-то и, потянув, вытащил за ноги немца. Оказалось, что в копне прятались немецкие солдаты.
— Откуда взялись в нашем тылу? — спросил комбат фельдфебеля.
— Витебск, Витебск! — дрожа, ответил тот.
Выяснилось, что семеро немцев отходили из-под самого Витебска. В копне ждали наступления ночи, чтобы переправиться через Неман к своим. Они прошли всю Белоруссию, Литву и, когда уже было рукой подать до своих, попали в плен. Губкин, глядя на оборванных и обросших гитлеровцев, не мог подавить в себе отвращения. Выделив двух конвоиров, он направил пленных в штаб полка.
Командарм Крылов требовал от командира 45-го стрелкового корпуса генерала Поплавского скорейшего выхода на линию Гарлява, Вейверяй. Достижение указанного рубежа обеспечивало разгром всей каунасской группировки противника. Поплавский решил своими 159-й и 338-й стрелковыми дивизиями удерживать занимаемые позиции, а дивизией Городовикова совершить маневр в район Дорсунишкиса и вновь переправиться через Неман на плацдарм, захваченный 371-й стрелковой дивизией.
Солдаты, не зная обстановки, ворчали, считая такие маневры излишними. На войне ничто так не изнуряет, как повторение пройденного пути. Снижается накал, а это влияет на настроение солдат и командиров, на дисциплину.
Но приказ не подлежал обсуждению, и батальон Губкина после короткой передышки приступил к переправе. Спустили на воду паромы, плоты, повозки. Кони, почуяв воду, всхрапывали, становились на дыбы. Пятая и шестая роты преодолевали водную преграду на паромах. Четвертая рота, батальонная и приданная артиллерия переправлялись по наплавному мосту, наводку которого саперы заканчивали под огнем противника.
Когда подразделения Губкина вступили на мост, впереди неожиданно создалась пробка. Виной всему оказался жеребец. Он встал на дыбы и развернул походную кухню поперек моста. Губкин, находившийся в голове колонны, приказал рубить постромки и столкнуть кухню в воду. Повар с ездовым не хотели подчиниться. Связные, сопровождавшие комбата, мигом опрокинули кухню. Содержимое вылилось в реку, образовав маслянистое пятно, двуколка с запрокинутыми колесами погрузилась в воду. Колонны, идущие навстречу друг другу, двинулись вперед.
«Юнкерсы» начали второй заход, но их атаковали истребители авиационного полка «Нормандия». Французские летчики стремительно кинулись на врага и вынудили фашистов спешно сбросить бомбы и повернуть обратно. По наплавному мосту вновь безостановочно двигались наши части.
На противоположном берегу Губкина подозвал к себе полковник. Комбат догадался, что кухня принадлежит его дивизии и назревает скандал. Он представился четко, почтительно, внутренне приготовившись к объяснению. Полковник сразу почувствовал по тону доклада, что имеет дело с кадровым офицером, который держится уверенно, будучи убежденным в своей правоте. Но ему, начальнику тыла дивизии, тоже придется отвечать за не накормленных своевременно бойцов, потому он властно спросил:
— Почему вы бесчинствуете, капитан?
— Не понимаю вопроса, — помрачнел Губкин.
— Кухню вы приказали сбросить в воду?
— Так точно, я, потому что не было другого выхода, товарищ полковник. Создалась пробка. В это время налетела вражеская авиация.
— Вы на авиацию не ссылайтесь. Наши истребители отогнали ее!
— Наши истребители появились позже.
— Все равно необходимости сбрасывать кухню в воду не было. Наши бойцы остались без пищи. Потому соизвольте вернуть нам свою батальонную кухню.
— У меня резервных кухонь нет, — резко и твердо ответил Губкин.
— В таком случае я передам на вас дело в военный трибунал, а пока вы арестованы. Сдайте оружие, капитан! — сурово приказал полковник.
— Не вы мне дали оружие, не вам оно будет сдано! — Губкин побледнел.
Костин, видя, что дело принимает серьезный оборот, попытался вступиться за своего комбата. Но начальник тыла не обратил внимания на слова младшего лейтенанта.
На их счастье, колонну нагнал генерал Городовиков. Увидев Губкина и полковника, стоявших друг против друга в позе дуэлянтов и окруженных бойцами, генерал вышел из машины и пробился к ним.
— В чем дело, товарищ капитан? — обратился он к Губкину.
— Товарищ генерал, кухня создала пробку на мосту, а немцы начали нас бомбить.
— Значит, другого выхода не было. С вами все, товарищ полковник, можете быть свободны. — И повернулся к Губкину: — Товарищ капитан, подчиняю вам вторую танковую роту, которая заканчивает переправу. Во взаимодействии с ней с ходу атакуйте Потомульше!
Губкин и Костин поспешили за своими ротами, которые уже вели огневой бой на подступах к Потомульше. Противник упорно отбивался. Тем временем главные силы армии Крылова развивали наступление на Каунас.
Начальник тыла соседней дивизии все же не успокоился и о происшествии с кухней доложил члену Военного совета армии. При этом упирал на то, что люди не ели целые сутки и это отрицательно повлияло на выполнение боевой задачи. Полковник просил наказать Губкина и дать распоряжение о немедленном выделении для дивизии одной походной кухни. Член Военного совета армии отнесся к этому со всей серьезностью. Он вызвал Городовикова к телефону:
— Басан Бадьминович, прошу вас разобраться в происшествии и строго наказать виновного.
— Товарищ генерал, мне кажется, несправедливо наказывать офицера за правильно принятое им решение, спасшее жизни солдат.
— Не хотелось бы отрывать вас от дел по этому вопросу и вызывать на Военный совет.
— Вызывайте, но на капитана Губкина я взыскание накладывать не буду!
— Это хорошо, что вы горой стоите за своего комбата. Но если Губкин виноват, а вы ему покровительствуете, это может оказаться медвежьей услугой. Он человек молодой. Ему надо помочь признать свои ошибки, а не покрывать его.
— Какие могут быть ошибки, если мы сами от него требуем инициативы!
— Значит, вы твердо уверены, что он не виноват? — смягчился член Военного совета. — Тогда обязываю вас возместить соседу походную кухню, после этого инцидент будем считать исчерпанным.
— Благодарю вас, товарищ член Военного совета…
Часть третья
ВОЗМЕЗДИЕ
1
Войска 3-го Белорусского фронта, громя оперативные резервы противника, 1 августа освободили Каунас. Немецко-фашистские войска вынуждены были отходить на промежуточные оборонительные позиции.
Воюющие стороны теперь поменялись ролями, изменилась и их тактика. Враг, отступая под напором наших войск, стремился измотать их на заранее подготовленных позициях.
Командующий фронтом И. Д. Черняховский, сообразуясь с обстановкой, потребовал от командармов и командиров соединений вводить в сражение ограниченные силы, а затем на направлениях успеха наращивать удары.
Боевой порядок полков при этом надо было строить несколько необычно — в первом эшелоне вместо двух батальонов иметь один передовой батальон. Его действия отличались от действий обычных передовых батальонов, которые в начале наступления выделялись для разведки боем. Такому батальону, по существу, ставилась боевая задача в пределах разграничительных линий полка, и его значительно пополняли живой силой и огневыми средствами.
Одним из таких батальонов командовал капитан Губкин. Сложность предстоящего наступательного боя и столь высокая ответственность целиком и полностью поглотили Георгия Никитовича.
Война неумолимо катилась туда, откуда пришла. Но чем ближе подходили наши части к границам 1941 года, тем сильнее возрастало сопротивление немцев, тем ожесточеннее становились бои. Фашисты страшились возмездия за горе и злодеяния, причиненные народам Советского Союза, чувствуя реальную опасность вступления Советской Армии в Германию. В войсках Черняховского наступательный порыв в эти дни достиг наивысшего предела.
Кто из солдат, офицеров и генералов за эти долгие годы войны не мечтал о скорейшем изгнании с нашей земли фашистских захватчиков! Все до единого были охвачены неукротимым стремлением быстрее выйти к границе Советского Союза с фашистской Германией. Но не всем это удалось. Наиболее успешно продвигались в направлении на Шталлупенен соединения левого крыла 3-го Белорусского фронта. В начале августа им оставалось преодолеть всего восемнадцать километров, но немцы мощными контрударами приостановили их продвижение.
Командующий фронтом Черняховский перебросил свои резервы на усиление армии генерал-полковника Крылова, однако противник вскоре разгадал наш маневр, предпринял контрмеры, и наступление на этом направлении тоже замедлилось. Лишь 184-й Краснознаменной дивизии генерал-майора Городовикова удалось вырваться вперед.
До границы оставались считанные километры, но какими они были, эти километры! Танкам предстояло преодолевать минные поля и противотанковые рвы, пехоте — по три ряда колючей проволоки и по четыре линии траншей на каждой позиции. По законам войны для прорыва такой обороны требовалось тройное превосходство в силах и время на подготовку. Но ни того, ни другого недоставало.
Батальон Губкина наступал, компенсируя недостачу в танках трех-четырехкратным превосходством в артиллерии. Комбат научился умело маневрировать огнем даже тогда, когда артиллерия находилась в подчинении командира полка или даже командира дивизии: огонь она открывала по его заявке. Пушки прокладывали путь пехоте, доставая противника снарядами на расстоянии. Вслед за массированным огнем воины батальона Губкина стремительно вклинивались в глубину вражеской обороны.
Политработники на ходу успевали выпускать в дивизионных походных типографиях боевые листки и листовки, посвященные героям, с их фотопортретами. Такие листовки были особенно дороги солдатскому сердцу, бойцы с гордостью отправляли их домой, родным и близким.
Наступление продолжалось днем и ночью. Бойцы не знали передышки, думали только об одном: сколько километров осталось до границы. Их охватило беспредельное ликование, когда ротный агитатор комсомолец Примак развернул красочный транспарант:
«До логова врага пятнадцать километров!»
Случилось это утром 14 августа. Офицеры сверили карты с местностью: действительно, до границы осталось всего пятнадцать километров. А в штабах дивизии и армии офицеры давно уже в сантиметрах измеряли на своих картах расстояние, которое осталось пройти до границы.
На пути батальона Губкина, в окрестностях Жвиргаждайчяя, действовал литовский партизанский отряд «Море». Для связи с нашими частями партизаны послали шестнадцатилетнего Костаса Гликаса. Пройдя несколько километров, паренек решил передохнуть у своей приемной матери Анны Мильчаускас. Не успел он расположиться в сарае, как неожиданно во дворе дома появились немцы. Не оставалось ничего другого, как ждать их ухода. Он заночевал в сарае.
У Ионаса Мильчаускаса и его жены Анны своих детей не было, но еще в тридцатые годы они удочерили девочку Агуше. А когда началась война, приютили и тринадцатилетнего Костаса Гликаса, у которого в первые же дни войны фашисты расстреляли в Науместисе отца, мать и старшего брата.
Год назад Ионас Мильчаускас перед смертью позвал к себе Костаса.
— Я умираю, мальчик… — с трудом произнес он.
Костас не удержался, и слезы выступили на его глазах.
— Плакать не надо, — промолвил Ионас, — смело смотри на жизнь. Борись за свободу и побеждай… — Ионас почувствовал, как сильно кольнуло сердце. Собрав последние силы, он вытащил из-под подушки пистолет и прошептал: — Вот, возьми…
И сейчас Костас сжимал в руке тот самый пистолет. С каким удовольствием он разрядил бы всю обойму в ненавистных убийц! Но обнаружить себя он не имел права, ибо непременно должен был добраться до своих. А в полдень Костас наблюдал за тем, как фашисты стали сгонять стариков, женщин и детей в большой амбар, где раньше хранилось зерно.
Ночью, выбрав удачный момент, Костас вышел из сарая и поспешил к нейтральной полосе, чтобы сообщить советским войскам о готовящемся злодействе. Казалось, опасность осталась позади, но, перебираясь через канаву, Костас нечаянно зацепился за протянутый телефонный провод.
— Хальт! — раздался чуть в стороне резкий окрик.
Костас бросился бежать. Немцы открыли по нему огонь из автоматов. Пули свистели над головой, время от времени взлетавшие ракеты освещали все вокруг. Обессилев от бега, Костас припал к земле, несколько минут лежал неподвижно, потом осторожно пополз вперед. Вдруг на него набросились какие-то люди. Не успел он опомниться, как во рту у него оказался кляп. К счастью, это были наши разведчики. Командир группы старшина Калмыков проводил разведывательную операцию, но неожиданно им подвернулся вот этот подозрительный парень, да еще с пистолетом. Они оттащили Костаса в лощинку. Юноша так убедительно рассказал о том, кто он и какие сведения должен передать командованию Советской Армии, что разведчики поверили ему.
На рассвете Костаса привели в штаб батальона. Капитану Губкину было известно о действиях литовского партизанского отряда «Море».
— Вижу, ты храбрый партизан! Возьми свое оружие. — Комбат вернул Костасу пистолет. Глаза юноши радостно блеснули. — Ну а теперь докладывай, что знаешь о противнике.
— В районе Тупикая и западнее его фашисты заставили местных жителей рыть траншеи. Здесь же у них минные поля и проволочные заграждения. Дня три назад они привезли сюда и расставили бронеколпаки.
— Проходы в минных полях имеются?
— Да, на восточной окраине Тупикая.
— Молодец! — комбат похлопал парнишку по плечу. — Ты, видать, отменный разведчик.
— На восточной окраине Тупикая, на ничейной полосе, фашисты загнали в сарай стариков, женщин, детей, — сказал он. — Наверное, хотят их расстрелять.
— Откуда тебе это известно?
— Я сам видел!
— Сумеешь ночью провести туда отряд?
— Сумею, эти места я хорошо знаю.
— В таком случае подождем до вечера. А сейчас перекуси, ты, наверное, здорово проголодался.
Комбат распорядился, чтобы парня накормили, а сам отправился к командиру полка. Но Водовозов и слушать не захотел о ночном рейде в нейтральную полосу.
— Может, надумаешь еще выслать десант в Кенигсберг? Вам поставлена конкретная задача.
— Задача ясна, и задержки не будет. Освободим наших людей и вернемся на исходные позиции. Одновременно проведем разведку, а с утра, как запланировано, будем наступать.
— Ставить под угрозу срыва выполнение боевой задачи полка я не имею права, — закончил разговор Водовозов.
Губкин вернулся к себе в батальон в подавленном настроении. Мысль как-то помочь обреченным на гибель людям не оставляла его. Костин, понимая стремление комбата сделать все как можно лучше, предложил послать на задание одного из командиров взводов, а именно лейтенанта Авдеева.
— А если не справится? — спросил комбат.
— Он опытный командир.
— И все-таки лучше поведу я сам…
Уходя в нейтральную полосу, комбат рисковал, конечно, многим. Случись с ним что-либо непредвиденное, батальон останется обезглавленным. Да и узнай об этом командование, и с него, и с замполита взыщут строго.
Однако идея освобождения от гибели советских граждан настолько завладела Губкиным и Костиным, что они приняли решение послать группу солдат в расположение противника. Выбор пал на отделение сержанта Закаблука, усиленное расчетами двух станковых пулеметов.
Ночью группа во главе с Губкиным двинулась в путь. Ей удалось бесшумно пересечь передний край, а когда бойцы стали подходить к сараю, увидели, что два фашистских солдата собираются поджечь его. Губкин очередью из автомата уложил обоих и приказал сержанту Закаблуку с четырьмя бойцами прикрыть его огнем, а сам с остальными побежал к воротам сарая. Оттуда доносились крики людей. Быстро взломали ворота. Увидев советского офицера, узники бросились к нему, стали горячо благодарить за освобождение.
Вдали послышался лай собак. Губкин крикнул:
— Всем уходить в лес и пробираться на юго-восток! Сержант, прикрой отход.
Взвод немцев, развернувшись в цепь, приближался к сараю.
Георгий догнал отставшую женщину с двумя девочками. Поднял одну из них на руки. Она крепко обхватила его ручонками за шею. Георгий невольно вспомнил о своих детях. Он попытался заговорить с девочкой, спросил, как ее зовут. И не сразу догадался, что та не понимает по-русски. Но она вдруг проговорила:
— Сауле, Сауле!
— Тебя зовут Сауле? — переспросил он.
Над головой засвистели пули. Сауле со страхом прижалась к Губкину, и он заслонил ее собой от вражеских пуль. Тем временем сержант Закаблук длинными очередями строчил по фашистам, прикрывая своих. Гитлеровцы, заметив, что стреляет единственный пулемет, стали обходить Закаблука. Но тут заработал пулемет Примака, прорезая темноту трассирующими пулями.
Ночная операция удалась на славу. Было спасено более двухсот советских граждан, и к тому же произведена разведка боем: выявлены первая траншея вражеской обороны, огневые точки и расположение бронеколпаков…
Восемнадцать молодых литовцев из числа освобожденных попросили зачислить их в ряды Советской Армии и дать возможность отомстить фашистам. По настоянию комбата Водовозов в порядке исключения дал разрешение.
Со своими земляками к Губкину подошел и связной партизанского отряда Костас.
— Товарищ капитан! Пожалуйста, меня тоже оставьте в батальоне, — смущенно попросил он.
— По возрасту ты пока не подходишь в солдаты! — Увидев, как юноша сник, комбат добавил: — Не горюй, Костас! Будешь проводником и связным. Разведчики помогут тебе перейти линию фронта к партизанам.
Шел пятнадцатый день непрерывного наступления. И снова бои, атаки, снова люди не знали ни покоя, ни передышки. Муза писем от Георгия давно уже не получала. Она почему-то не думала, что с ним могло что-либо случиться. Но грустные мысли все же одолевали ее, когда она перечитывала последнее письмо Георгия, в котором он писал: «…Не жди скорых писем!..»
Батальон Губкина шаг за шагом приближался к исторической границе СССР 1941 года, к реке Шешупе, за которой лежала Восточная Пруссия. Позади остались Барздай, Пильвишкяй.
Соседи слева отстали, ведя напряженные бои в направлении Кибартая.
На подступах к Тупикаю стрелковые роты Губкина наткнулись на сильный оборонительный узел, где закрепился пехотный батальон, поддерживаемый танками и артиллерией. Обстановка резко ухудшилась. Губкин приказал ротным командирам закрепиться на захваченном рубеже. Противотанковый резерв он выдвинул в боевые порядки пехоты.
Отдав необходимые распоряжения, Губкин обосновал штаб батальона в железобетонном убежище. Построенное еще в сорок первом для отпора врагу, оно тогда осталось неиспользованным, зато пригодилось сейчас, во время наступления. Убежище утопало в молодом березняке. Впереди, как на ладони, лежала дорога Жвиргждайчяй — Науместис.
Едва Губкин присел отдохнуть, как веки отяжелели, глаза стали слипаться, смертельно захотелось спать, дремота мигом сковала тело. Сказалось напряжение последних боев.
Но долго спать не пришлось, зазуммерил полевой телефон. Губкин взял трубку.
— Докладывает Зайцев! — услышал он. — Передо мною «тигры» и «пантеры»!
Оттого, что еще по-настоящему не проснулся, Губкин сначала никак не мог понять, при чем тут тигры и зайцы. Тряхнув головой, чтобы сбросить остатки сна, он наконец сообразил: это командир четвертой стрелковой роты Зайцев сообщает, что его атаковали немецкие танки.
— Сколько «тигров»? — спросил комбат и машинально подумал, как не соответствует фамилия старшего лейтенанта его внешнему облику. Зайцев был широкоплечим, сильным человеком. До войны он служил в пограничных войсках. Ему неведомо было чувство страха, и пули, казалось, его не брали. За героизм в боях он был награжден орденом Отечественной войны.
— Больше десяти! — ответил комроты.
— Держись до подхода противотанкового резерва!
Оценив обстановку, Губкин решил, что немцы хотят отрезать вырвавшийся вперед батальон. Он приказал командиру взвода противотанковых орудий встретить танки врага огнем прямой наводки.
Гитлеровцам все же удалось вклиниться в боевые порядки батальона. Под гусеницами фашистского танка хрустнуло одно противотанковое орудие. Но танк тут же вспыхнул. Это сержант Иван Шевченко врубил ему в борт снаряд пятидесятисемимиллиметровки. На противотанковую пушку сержанта надвигались девять вражеских машин, но у Шевченко нервы оказались железные. Мастерство и выдержка, сознание долга решили судьбу не только роты Зайцева, но и всего батальона. Шевченко подбил из своего орудия четыре «пантеры». Гитлеровцы были в замешательстве. Батальон вновь перешел в наступление. Двумя стрелковыми ротами, усиленными танками и батареей самоходных установок, подошедшими из резерва командира полка, он стремительно ринулся вперед к реке Шешупе.
Утром 15 августа наступление к границе продолжалось. Далеко вперед пробились со своими отделениями старший сержант Анатолий Мяловицский, младший сержант Владимир Еремин. Сколько было радости! Когда до Шешупы оставались считанные километры, Еремина подкосила вражеская пуля, он упал. Санитары доставили его в медсанбат с ранением в ногу, а ночью Еремин сбежал на передовую — в эти решающие дни, когда батальон выполнял свою историческую миссию, он не мог оставаться безучастным.
Начальник штаба батальона встретил младшего сержанта сердито:
— Кому ты нужен с раненой ногой? На машине прикажешь тебя возить?
— Зачем на машине? Я своим ходом дойду до нашей границы, а потом и до Берлина. Поймите, товарищ капитан, не могу я в такое время валяться на койке.
— Ладно, — смягчился начальник штаба. — Хоть ты и без документов, на первый раз прощаю, поставлю на довольствие, но чтобы это было в последний раз…
Генерал Городовиков сидел за столиком, на котором лежала освещенная тусклым светом двух свечей карта с нанесенной обстановкой. Было далеко за полночь, а он все не ложился.
Вблизи от КП разорвался тяжелый снаряд. Свечи вздрогнули в своих деревянных подставках, пламя тревожно заметалось. Городовиков поднял голову, прислушался. В укрытие он не пошел. Всяко приходилось комдиву, воевал он с первого дня войны и многое повидал. Довелось испытать и горечь отступления, и радость побед. Но такое яростное сопротивление врага, как здесь, у границы, встретил впервые. Утром предстояло совершить бросок и освободить последние километры советской земли. Важность задачи еще раз заставила его проверить свой выбор: из шести оставшихся в строю стрелковых батальонов он должен был отобрать один — головной. Городовиков представил себе своего лучшего комбата Губкина, его худощавое, волевое лицо, светло-карие глаза, выражавшие неукротимость духа. Комдив задумался. Не слишком ли часто он посылает Губкина в самое пекло? Его батальон устал от длительных и тяжелых наступательных боев.
«Да и чем он, в сущности, отличается от других?» — на миг усомнился он. В дивизии даже ходят слухи, что в батальон Губкина специально подбирают солдат и офицеров, как в гвардию, — сильных, крепких, выносливых. Кто-кто, а комдив-то хорошо знал, что подобного подбора не существует. Успехи батальона во многом объяснялись умением Губкина совершать маневры, быстро ориентироваться в обстановке, предугадывать вероятные действия противника, предвосхищать развитие событий и форсировать их успешную развязку.
В эту ночь Басану Бадьминовичу надо было окончательно решить: кому, Губкину или Юргину, придать на усиление минометный дивизион Михайлова, танковую роту Турчака и истребительно-противотанковый дивизион Щербакова.
Городовиков вызвал подполковника Владимирова, начальника оперативного отделения дивизии.
— На кого будем ставку делать, товарищ подполковник? Сколько активных штыков у Юргина?
— Двести двадцать.
— А у Губкина?
— Двести восемьдесят.
— Да, арифметика!
Хотя, впрочем, дело не только в ней. Воевать с наименьшими потерями — это искусство, которое требует огромного мастерства. Нет солдат — нет батальона! Губкин это понимает и не желает оказаться в положении генерала без войск. Настоящий командир бережно относится к солдату.
Владимиров будто прочитал мысли генерала и тоже высказался за Губкина.
— Что ж, так и порешим, — согласился генерал.
Городовиков не слепо доверял Губкину, поручая ему наиболее ответственные и опасные задания: он был уверен, что этот энергичный худощавый капитан не пошлет своих бойцов в лобовую на доты противника, если будет хоть малейшая возможность маневра, и не отступит без приказа ни перед «пантерами», ни перед «тиграми». Боевой опыт комбата-два не раз помогал ему с честью выходить из самых трудных положений.
Городовиков поставил в известность командира полка, что сам будет ставить боевую задачу Губкину, и тут же позвонил на КНП батальона. У телефона оказался Костин.
— Где комбат?
— С солдатами на передовой.
— Что же не дадите ему отдохнуть? Он у вас завтра на ходу заснет!
— Такой уж он человек! Перед наступлением сам людей готовит до последней минуты, товарищ Одиннадцатый!
— Это хорошо, — одобрил генерал. — Как солдаты?
— Рвутся в бой!
— Найдите Губкина. Передайте, чтобы срочно прибыл ко мне на КНП!
Однако искать комбата не пришлось, он появился сам. Костин передал ему приказ Городовикова.
— Как думаешь, зачем вызывает? — спросил Губкин.
— Думаю, не для того, чтобы чай пить, — улыбнулся замполит. — Видно, есть у начальства подходящая тема для разговора, коль позвал в такой поздний час.
Комбат раскрыл полевую сумку. Там все было на месте: карта, компас, карандаши для нанесения обстановки и записей боевых распоряжений.
Губкин направился к Городовикову, а Костин быстро прошел к батальонной кухне.
— Что у вас на завтрак, товарищ Гугин? — поинтересовался он.
— Котлеты пожарские, товарищ замполит! — весело ответил повар.
— Сколько человек на котловом довольствии?
— Триста восемь!
— Триста восемь было два дня тому назад, — грустно заметил Костин и тяжело вздохнул. — Значит, писарь самовольно решил перед наступлением увеличить рацион и в строевой записке не исключил тех, кто погиб или эвакуирован в медсанбат.
В другой раз писарю досталось бы от замполита, но перед наступлением Костин не стал портить настроение ни ему, ни себе. Лишь сделал пометку в блокноте: поговорить после боя с начальником штаба батальона, чтобы тот впредь не подписывал не глядя строевую записку о постановке личного состава на котловое довольствие.
Городовиков поставил Губкину боевую задачу и стал объяснять, как ее лучше выполнить. Комбат внимательно слушал своего комдива. Он понимал — будет очень нелегко, но в душе радовался, что его батальону предстоит первым восстановить границу Союза Советских Социалистических Республик и начать громить фашистского зверя в его же логове.
Комдив, закончив инструктаж, задержал свой взгляд на комбате и подумал: «Увидимся ли мы после боя?» Поднялся со стула, крепко обнял капитана за плечи и поцеловал его.
— Надеюсь, Георгий Никитович, на тебя, как на себя, — проникновенно проговорил он, не выпуская его из своих объятий.
Губкин был намного моложе Городовикова, и отцовская теплота растрогала его. Он как сын прильнул к груди комдива. Но тут же распрямился, принял стойку «смирно».
— Товарищ генерал, приказ будет выполнен!
— Ни пуха ни пера…
Губкин вернулся в батальон от комдива поздно.
— С какими вестями, Георгий Никитович? — нетерпеливо спросил его Костин.
— Как всегда, с добрыми! — улыбнулся комбат, разворачивая карту. — Вот, погляди. Небольшая высотка, ничем не примечательная вроде, верно? А три года назад здесь стоял наш пограничный столб. Теперь нам доверено восстановить его. Комдив дополнительно усилил нас минометным дивизионом и танковой ротой.
— До самых счастливых дней дожили, Георгий Никитович! Надо довести столь почетную боевую задачу до партийного и комсомольского актива батальона. Пусть поработают с людьми.
— Главное, не забудь флаг подготовить, чтобы водрузить на границе!
…Августовское ночное небо молнией прорезали ракеты, освещая все вокруг холодным светом. Когда ракеты гасли, в глубоком, заросшем кустарником овраге, в двух километрах от реки Шешупа, становилось еще темнее. Здесь замполит Костин собрал коммунистов перед боем на партийное собрание: во всем боевом, с автоматами за спиной, гранатами на ремнях. Вначале он подвел итог прошедшим боевым действиям, затем разъяснил важность задачи, которую они должны были выполнить. Его сообщение о том, что их батальону доверено первому водрузить флаг Родины на границе, было встречено всеобщим ликованием.
С волнением в батальоне ожидали утра 16 августа. Было о чем подумать и сержанту Закаблуку, и лежавшему рядом с ним рядовому Герасимчуку. Оба они, солдат и командир, томились в обороне от бездействия, время для них как бы остановилось. И наоборот, в наступлении настроение у них поднималось, они чувствовали себя бодрее, собраннее.
Герасимчук еще никогда не брал столько гранат, как в этот раз. Наконец-то сбывалась его мечта: отплатить фашистам за все зверства, за муки советских людей, их горе и страдания, за расстрелянных жену и детей, за разрушенный родной дом. Закаблук вспомнил сестру Марию, расстрелянную гитлеровцами, и почувствовал, как сердце закипело яростью.
Губкин долго не мог заснуть, в который раз повторяя про себя глубоко запавшие в душу слова приказа Верховного Главнокомандующего: «…восстановить государственную границу Советского Союза по всей линии — от Черного до Баренцева моря…» И приснилось ему в эту ночь, будто он с победой приехал домой. Мать плачет и обнимает его, а он ей передает горсть земли, взятую с могилы брата Василия…
Где-то рядом ухнул взрыв, и Губкин проснулся. Уже наяву подумал: как было бы хорошо, если бы мать узнала, что ее младший первым из всей Советской Армии вывел свой батальон на границу, туда, где погиб ее средний сын! А впрочем, война есть война. Впереди еще тяжелые бои, и счастливая звезда, светившая ему до сих пор, может мгновенно померкнуть.
Забрезжил рассвет. Торжественно прозвучали слова боевого приказа: «…первыми проложить путь к границе с фашистской Германией».
Солдаты и офицеры батальона понимали, что находятся на острие главного удара дивизии и армии, ответственность их почетна и велика, а тяжесть испытаний неизмерима…
Одновременно загрохотали сотни орудий. Наступление началось. Гитлеровцы пытались любой ценой отбросить батальон Губкина от подступов к Науместису, неоднократно переходили в контратаку.
Одна из атак пришлась на шестую роту. Лейтенант Ахметов докладывал:
— Около двадцати вражеских танков обходят нас с фланга.
— Держись! — успел крикнуть Губкин, хотя было ясно, что роте не под силу остановить натиск такого количества танков.
Раздался оглушительный взрыв. Сверху посыпались щебень и песок, командно-наблюдательный пункт батальона заволокло дымом. С перелетом метров на пятьдесят разорвалось еще несколько снарядов. Губкин, обсыпанный землей, выскочил из хода сообщения и поспешил в боевые порядки. Вместе с радистом и связными он успел пробежать метров сто, когда сзади опять загремели разрывы, противник повторил артналет. На этот раз вражеский снаряд угодил в командно-наблюдательный пункт. Было видно, как вздыбилась развороченная земля.
Когда комбат добрался до роты Акимова, вражеские танки уже заходили в тыл роте Ахметова. Два из них горели, подбитые артиллеристами. Сквозь гул канонады Губкин уловил ружейно-пулеметную трескотню, доносившуюся с участка роты Ахметова.
«Дружно работают», — подумал он о пулеметчиках шестой роты. Быстро оценил обстановку. Приказал приданному артдивизиону подавить фашистские минометы на восточной окраине Науместиса. Сам же с ротой Акимова контратаковал с фланга немецкую пехоту, бежавшую за танками. Гитлеровцы, попав под внезапный кинжальный огонь, залегли. Танки их, боясь оторваться от своей пехоты, остановились и продолжали вести огонь.
О контратаке немецких танков и мотопехоты Губкин успел доложить по команде. Городовиков попросил у Крылова штурмовую авиацию. Подмога подоспела вовремя. С неба по вражеским танкам ударили наши «илы» и подожгли несколько машин. Гитлеровцы не выдержали сосредоточенного удара с воздуха и, нарушив боевой порядок, стали отходить.
К вечеру стрелковые роты так и не смогли достичь границы. Гул боя затих. Уставшие солдаты засыпали кто где мог. Догорал закат. Георгий Никитович, взобравшись на высокий тополь, увидел вдалеке черепичные крыши домов и островерхие кирки. Это был немецкий город Ширвиндт. Чуть левее виднелся Науместис. В центре его возвышался белый костел, освещенный багрянцем заката. Чуть поблескивала вдали лента реки Шешупы. Там проходила государственная граница.
Во второй батальон, к Науместису, с трудом пробирался корреспондент «Правды» подполковник Мартын Мержанов. Ему было поручено провести репортаж о выходе наших войск на границу 1941 года.
— Какой вы части? — спросил он солдат, попавшихся ему навстречу.
Солдаты остановились, небрежно отдали честь, и один из них настороженно ответил:
— Товарищ подполковник, какой мы части, это военная тайна!
Чисто выбритое, смугловатое, выхоленное лицо подполковника в аккуратно подогнанном обмундировании не внушало доверия солдатам. Немало бывало случаев, когда в прифронтовой полосе орудовали переодетые вражеские разведчики. Солдаты в личности Мержанова усомнились.
По своему внешнему виду он не был похож на офицера действующих войск. Поэтому они отвечали на его вопросы без энтузиазма. Мержанов заметил это, по всем правилам представился и, раскрыв пачку «Казбека», стал угощать их.
Солдаты черными от пороховой гари пальцами потянулись за папиросами.
— Расскажите, как там наши границу достигли? — спросил корреспондент, держа в руках открытый блокнот.
— А вы туда сами прогуляйтесь, товарищ подполковник, так оно будет точнее, — сказал пожилой солдат.
Подполковник озадаченно посмотрел на него.
— Зря, солдат, сомневаешься в корреспондентах, я там непременно буду. — Улыбнувшись, он продолжал: — В тылу ваши родные хотят точно знать, что происходит на переднем крае.
— У меня некому хотеть! — раздраженно произнес пожилой солдат.
— Это почему же некому?
Солдат помолчал, потом сказал:
— Мою семью гитлеровцы расстреляли!
Корреспондент смутился и уважительно спросил:
— Как твоя фамилия?
— Герасимчук, товарищ подполковник. А если вы хотите что-либо узнать от нас, предъявите удостоверение личности.
Мержанов развернул свой мандат правдиста и показал Герасимчуку. Объяснились, может быть, не очень вежливо, но зато ни у кого не осталось сомнений, что это свой. И солдаты охотно проводили корреспондента до самого НП командира батальона.
— Вот вы какой, комбат-два! — Мержанов с интересом смотрел на Губкина. Обернувшись, он показал на зарево: — Что за пожары?
— Дивизион тяжелой артиллерии подавил батарею противника в Науместисе. Там что-то горит.
— А что за запахи? Вблизи химический завод? — спросил Мержанов.
— Нет, товарищ подполковник. Это хваленая фашистская армия испускает дух, — улыбнулся Губкин. — На этом участке наша артиллерия уничтожила до батальона мотопехоты и подбила четырнадцать танков дивизии «Великая Германия». Немцы не успели подобрать трупы своих солдат. Ночью надо их закопать.
— Посмотреть на эту «Великую Германию» нельзя?
— Только в противогазах.
— В противогазах так в противогазах! — повеселел Мержанов.
— Из-за вашего журналистского любопытства первый раз за всю войну надену противогаз.
Мержанов с Губкиным в разговоре не заметили, как дошли до левого фланга батальона. Отсюда на фоне неба были четко видны дома на окраине Науместиса.
— Товарищ капитан! Давайте подойдем поближе к «Великой Германии»! — нетерпеливо просил Мержанов.
Надев противогазы, подошли к подбитым немецким танкам. Корреспондент, казалось, забыл об осторожности. Открывал люки и заглядывал внутрь. Губкин не сдерживал, но сам был начеку: в подбитых танках могли остаться раненые с оружием, а то и снайперы. Мержанов посветил фонариком внутрь танка, затем направил луч на заводской номер и дату выпуска «тигра». Указал на нее комбату:
— Смотрите, «тигр» выпущен в августе сорок четвертого, и сразу на фронт. А главное — уже подбит!
— Времена изменились. Выдыхается фашист!
Сняв противогазы, они направились дальше. Губкин сосредоточенно рассматривал попадавшиеся бугорки и холмики. Его не покидала мысль, что где-то здесь может находиться могила брата. Мержанов, уловив перемену в настроении комбата, поинтересовался, в чем дело.
— Брат мой, старший лейтенант, пограничник, принял в этих местах первый бой с фашистами и погиб в первые часы войны. Кто знает, может, где-то здесь и похоронен, — вздохнул Губкин.
— Вечная слава таким, как ваш брат, — задумчиво проговорил Мержанов.
Они подошли к батальонному КНП и остановились.
— Ну что же, Георгий, спасибо за все, — сказал Мержанов. — Завтра, значит, в бой?
— Почему завтра? — Губкин взглянул на часы. — Сегодня — уже половина первого.
— Надо отдохнуть…
— Успеем! Много ли человеку надо? Начиная от Вильнюса больше трех часов в сутки не сплю. А сейчас мне, товарищ подполковник, не уснуть без наркомовских! Может быть, составите компанию?
— Ну раз так, с удовольствием! — улыбнулся Мержанов.
Ординарец комбата быстро разложил на столе еду, поставил кружки. Налил водки из фляги в брезентовом чехле.
— За встречу в Москве! — Губкин поднял кружку.
— Непременно, Георгий, встретимся! — подхватил подполковник. — А зовут меня Мартын! Мартын Мержанов!
Едва начало всходить солнце, как стрелковые роты уже были на ногах. Солдаты знали, что до границы осталось меньше двух километров, и ничто теперь не могло сдержать их на пути к заветному рубежу.
…А на той стороне накануне фашистским солдатам был зачитан приказ:
«Кто оставит правый берег реки Шешупы и отойдет в Восточную Пруссию, будет расстрелян».
Губкин, естественно, не знал о таком приказе. Он зорко смотрел на утопающий в зелени первый немецкий город Ширвиндт. Сколько таких вот советских городов фашисты сожгли, стерли с лица земли!
По сигналу командира полка комбат приказал командиру минометной роты дать залп по городу. Старший лейтенант Парскал тут же произвел долгожданный залп из четырех минометов.
Немцы открыли ответный минометный огонь. Заговорили дивизионные гаубицы. Ширвиндт окутало дымом пожарищ. Минометы врага умолкли. Наша артиллерия перенесла огонь в глубь обороны противника. Учащенная дробь пулеметов и автоматов, крики «ура» смешались с шумом моторов наших штурмовиков. Батальон Губкина стремительно пошел на врага.
С командиром батальона неотступно следовал капитан Михайлов, командир приданного минометного дивизиона. Когда отдельные уцелевшие после нашего артналета огневые точки оживали и пулеметные очереди с той стороны прижимали наступающих к земле, Михайлов быстро засекал их и накрывал огнем из минометов. Путь батальону прокладывали танки капитана Турчака, противотанковые батареи капитана Щербакова. Четыре капитана, четыре молодых и отважных офицера-единомышленника, днем и ночью вели тяжелые, напряженные наступательные бои, взаимодействуя между собой, выручая друг друга. И наградой им должна была стать лишь одна-единственная победа, но какими усилиями и какой дорогой ценой она доставалась!
Радость успеха атаки вскоре была омрачена следами страшных злодеяний гитлеровцев на подступах к Михнайце. Фашисты, захватив в плен четырех раненых бойцов из головного дозора, убили их в придорожной посадке. Трое лежали навзничь, со штыковыми ранами на лицах с запекшейся кровью. У четвертого был размозжен череп.
Стиснув зубы, солдаты молча прошли мимо ужасного места. Сердца их переполнялись лютой ненавистью. И с новой силой они устремились в наступление. Там, где нельзя было пробежать, ползли по-пластунски, затем снова вскакивали и бегом устремлялись вперед.
Батальону капитана Губкина, составлявшему передовой отряд дивизии, удалось вклиниться во вражескую оборону в направлении на Науместис. Севернее, уступом, на смежном фланге с ротой старшего лейтенанта Зайцева успешно наступала рота Владимира Евдокимова из батальона капитана Юргина.
Никаких пограничных знаков все еще не было видно. Об условной пограничной линии знали лишь командиры. На их топокартах линия эта была проведена красным карандашом. Впереди в перелесках виднелись фольварки с большими зданиями из красного кирпича. Пахло горелой резиной, с поля несло зловонием: повсюду валялись убитые гитлеровцы, которых не успели захоронить.
Дни и бессонные ночи напряженных маршей, чередовавшиеся с ожесточенными боями, окончательно измотали Губкина. Солдатам удавалось хоть немного поспать в промежутках между боями, а комбату в это время приходилось разгадывать замыслы противника и принимать решение на очередной бой. Хлопот доставалось, а тут еще тыловики не успевали доставлять боеприпасы. Все еще чего-то не хватало для выполнения поставленной командованием задачи.
На окраине Михнайце батальон был встречен сильным пулеметно-автоматным огнем. Солдаты залегли. Замполит Костин первым поднялся под огнем противника с криком: «До логова фашистского зверя рукой подать! Солдаты! Вперед, за Родину!» — и бросился в атаку, увлекая за собой роту Зайцева. Стоголосое «ура» волной прокатилось по полю боя. Чаще застучали наши пулеметы и автоматы, но и вражеские пули и осколки мин разили наших бойцов. Левее дороги на Науместис бежала в атаку группа бойцов во главе с комсоргом батальона Константином Савичевым. Упал один из них, второй, но третий успел бросить лимонку.
— Вот она, Германия, ребята! Ура! — ликующе закричал Константин Савичев, увидев долгожданный берег пограничной реки Шешупы. Однако радоваться было рано — плотность вражеского огня здесь настолько возросла, что бойцы вынуждены были залечь и тут же начать окапываться.
И на остальных участках батальона напряжение боя не спадало. Когда тяжело ранило Демьяна Вареного, его место у пулемета занял Алексей Пучков. Не покинул своих товарищей, остался в строю и раненый капитан Коршунов, парторг батальона. Истекая кровью, продолжал бить врага из пушки младший сержант Чепурной.
Губкин не поверил своим глазам, когда перед его взором впереди батальона раскинулось море полевых цветов. Как будто кто-то специально застелил путь к границе цветочным ковром. Лишь зияющие черные ямы на клеверном лугу от разрывов снарядов и мин напоминали о поле боя.
Выход к государственной границе с фашистской Германией усиленного стрелкового батальона стал событием дня. Символичным явилось то, что 184-я дивизия, которая в начале войны, приняв на себя удар фашистских захватчиков, откатилась до Сталинграда, через три года, набрав опыт и силу, снова вышла на свои рубежи, оставленные в сорок первом году.
Командиру передового батальона капитану Губкину пришлось пройти через всю страну от берегов Амура до Восточной Пруссии. Теперь вся Россия, из края в край, лежала за его спиной. Он ощущал каждой частицей своего сердца необъятный простор могучей Родины, раскинувшейся от Дальнего Востока до Прибалтики. Вот уж кому поистине хотелось во что бы то ни стало выполнить историческую миссию! Но прежде чем заслужить такую честь, он немало пролил своей крови, освобождая родную землю.
До Шешупы оставалось всего лишь несколько сот метров. На пути наступающих повсюду — в поле, на дорогах, в лесу — валялись опрокинутые пушки и машины, трупы гитлеровцев, каски, автоматы, разбитое и разбросанное снаряжение. Наша артиллерия и авиация хорошо поработали здесь. Вслед за солдатами Губкина приближались к границе и стрелковые роты Юргина. Слева тянулись перелески и высокие холмики, на их склонах пестрели пшеничные поля, местами изрытые взрывами снарядов.
На смежном с ротой Евдокимова фланге впереди оказалось отделение Закаблука. Его солдаты по-пластунски просачивались в оборону противника. Наступать становилось трудно. Единственным желанием всех было разузнать, сколько же еще метров осталось до границы, до этой не видимой им пока что реки Шешупы.
Наступило утро, туман рассеялся, все было видно как на ладони. Жестокий бой продолжался с переменным успехом, сопротивление врага нарастало. Наступление должно было вот-вот захлебнуться. Но случилось чудо — солдаты отделения сержанта Закаблука неожиданно наткнулись на лощину, ведущую к реке. Гитлеровцы не могли простреливать ее на большое расстояние. По этой балке и вырвались вперед Чернобаев, Чуев и Жубатырев, а за ними — сержант Закаблук. Сержант чуть не заплакал от радости, когда вдали наконец показалась гладь Шешупы. Хорошо стали видны траншеи немцев, блестевшие на солнце ненавистные каски гитлеровцев. Закаблук не выдержал, выхватил винтовку у снайпера, прицелился…
Около них оказался и замполит Костин, он прорвался сюда с отделением старшего сержанта Мяловицского. Он первым заметил спины фашистов, уходивших на резиновых лодках на ту сторону пограничной реки. Костин сам возглавил атаку, которая длилась всего несколько минут!
«Наконец-то граница на этом участке восстановлена! Семь часов тридцать минут! Запомним это время! Поистине исторические минуты!»
— Приказ выполнен! Флаг! Флаг сюда, хлопцы! — восторженно закричал он, совсем как ребенок ликуя от нахлынувшего счастья.
Сержант Закаблук протянул ему красное полотнище на древке. И Костин со всей силой вогнал древко в землю на советском берегу Шешупы. Никогда не видели солдаты своего замполита таким счастливым, как в эти минуты. И странно: никто не стрелял в это время — ни наши, ни противник. Должно быть, и немцы были ошеломлены захватывающим зрелищем. Но вскоре гитлеровцы, придя в себя, открыли огонь. Его быстро подавила наша артиллерия.
И снова наступила тишина…
Ровно в семь часов тридцать минут 17 августа первой достигла государственной границы Советского Союза рота Зайцева. Впереди всех оказалось отделение Закаблука. Чуть позже выдвинулась рота Евдокимова батальона капитала Юргина. Сюда в сопровождении связных подошел комбат Губкин. Он увидел, как солдаты и офицеры со слезами радости обнимали и поздравляли друг друга. Даже не верилось, что вот он, заветный рубеж…
Комбат раскрыл топографическую карту с нанесенной обстановкой, посмотрел в бинокль. Холмистые просторы с перелесками терялись в туманной мгле. Лицо Георгия Никитовича сияло улыбкой.
— Дорогие мои, свершилось! — воскликнул он. — Поздравляю вас с выходом на государственную границу! — И троекратно поцеловал сержанта Закаблука, стоявшего рядом, заключил в объятия Костина…
Командир взвода связи Баранов сам тянул к ним телефонный провод, разматывая катушку, висевшую на шее. Не обращая ни на кого внимания, Баранов громко отрапортовал:
— Товарищ капитан! Телефонная связь со штабом полка установлена!
— Соедини с Хозяином! — Приказал Губкин.
— Хозяин у телефона! — тотчас же крикнул Баранов.
— Товарищ Тринадцатый! (Это был позывной командира полка подполковника Водовозова.) Докладываю! Боевая задача выполнена, граница Союза Советских Социалистических Республик 1941 года на моем участке восстановлена. Флягу с шешупской водой направляю вместе с донесением!
…К полудню в батальон передали приказ Верховного Главнокомандующего, в котором он поздравлял войска, первыми вышедшие на границу Советского Союза с фашистской Германией.
После напряженного боя наступило затишье. Положив планшет на бруствер окопа, Губкин писал:
«Товарищ Верховный Главнокомандующий Сталин! Трудно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые переполняли мою душу в момент выхода на государственную границу Советского Союза с фашистской Германией… Может быть, признание будет нескромным, но я все же скажу, что в этот момент я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете…»
Победа, однако, досталась дорогой ценой. На подступах к границе батальон Губкина потерял девятнадцать человек убитыми. Девять партийных и восемь комсомольских билетов, залитых кровью, вытащил из нагрудных карманов замполит Костин, когда хоронили павших бойцов.
Дальнейшее продвижение стрелковых рот Губкина было приостановлено огнем из двух фланкирующих железобетонных огневых точек на левом берегу Шешупы. Их надо было заставить замолчать. Однако снаряды не только полковой, но и дивизионной артиллерии их не брали.
Северо-восточнее возвышался опорный пункт в городе Ширвиндт. А северо-западнее над батальоном нависал подготовленный к обороне Науместис на излучине рек Шешупы и Шервинта. Два этих небольших города, составлявших мощный узел обороны, были связаны между собой железобетонными долговременными огневыми точками, расположенными через каждые пятьсот метров по фронту, и единой системой огня. Артиллерия наша растянулась, стрелковые роты понесли чувствительные потери и нуждались в пополнении. В такой ситуации у Губкина не было иного выхода, кроме как отдать приказ: закрепиться на достигнутом рубеже.
Но батальонные минометы все еще яростно били по Ширвиндту. В городе не было видно жителей. На его улицах рвались мины и снаряды, сотрясая стекла в домах.
…На командном пункте полка зазвонил телефон. Водовозов ждал сигнала от комдива — продолжать наступление. А условия для этого были крайне неблагоприятны: батальоны нуждались в пополнении людьми и боеприпасами.
Он нервно поднял трубку. Городовиков приказал ему выделить взвод солдат.
— Есть, выделить взвод! — обрадовался комполка.
— Взвод должен возглавить толковый офицер. Ему предстоит отыскать и доставить ко мне спрятанное на юго-восточной опушке леса Котовщизна Знамя отдельного противотанкового артдивизиона.
Водовозов не сразу понял, в чем дело. Комдив уловил недоумение в его голосе. Он объяснил, что Знамя в снарядной гильзе было зарыто в первый день войны, когда дивизия отходила от границы с тяжелыми, кровопролитными боями, и что командир этого артдивизиона сейчас командует артиллерией корпуса в соседней армии. Приехать сам он не имеет возможности.
Водовозов поручил отыскать Знамя Губкину, роты которого находились ближе других к обозначенному месту. Необычное задание взволновало комбата. Ведь где-то здесь воевала и погранзастава Василия.
Губкин приказал лейтенанту Турпитко: Знамя и документы доставить ему лично.
Ориентир — березку, прижатую к одинокой сосне, — Турпитко нашел быстро. Шрамы сорок первого года давно затянулись на ее белом стволе и покрылись черными буграми. Копать пришлось недолго: снарядная гильза находилась на глубине полметра. Она лишь потемнела от времени, Знамя в ней сохранилось как новенькое. Развернув его, солдаты с волнением смотрели на заалевшую под лучами солнца святыню воинской доблести.
Батальон Губкина между тем начал закрепляться на достигнутом рубеже. Георгия не оставляло ощущение, что где-то здесь, под одним из этих холмиков, похоронен Василий. Отдавая приказ командирам рот, он распорядился докладывать ему об обнаружении во время окопных работ останков наших воинов.
Отделение сержанта Закаблука окапывалось на самом правом фланге. Каждому солдату досталось рыть по десять метров траншей. Рядовому Жубатыреву Закаблук отмерил двадцать метров.
— Товарищ сержант, всем по десять, а Жубатыреву двадцать метров. За что такая «привилегия»?
— Это за то, что ты спешил раньше всех выйти на границу. К тому же на твоем участке проходит старая траншея. Чем еще недоволен?
— Почему недоволен? Будем бить фашистов в их берлоге! Скоро из Берлина письмо пошлю домой, в Алма-Ату.
— Что касается Берлина, не знаю, а из Кенигсберга пошлешь непременно, если посильнее будешь нажимать на лопату, — пошутил Закаблук.
— Товарищ сержант, от Сталинграда до границы мы столько отрыли, что, если такими темпами и дальше будем рыть, траншеями весь земной шар опояшем…
Сержанту Закаблуку надоело постоянно пригибаться, прячась от вражеских снайперов, и он, расправив плечи, пошел на свой правый фланг по старой траншее, которая вилась по пшеничному полю. На душе у него было и радостно, и грустно. Радовался он тому, что получил письмо от отца, тоже солдата, который писал, что уже освобождает Румынию. А грустно оттого, что им пока не удалось овладеть Науместисом.
Дышалось легко и свободно, будто вокруг не было никакой войны. Стрельба прекратилась с обеих сторон. Ярко светило солнце, в небе звонкими трелями заливались жаворонки. Закаблук думал о доме, о том, что войне приходит конец. Скоро он вернется в родной Киев, к дорогой жене Вере Павловне, и заживут они так же хорошо, как и до войны…
Корреспондент «Правды» подполковник Мержанов не успел отослать в Москву материал о подвиге губкинцев, о старшем лейтенанте Зайцеве, сержанте Закаблуке, замполите Костине, о рядовых Жубатыреве, Примаке, Чернобаеве и других, как короткое фронтовое затишье было нарушено внезапной контратакой противника со стороны Науместиса. Все силы батальона были брошены на то, чтобы удержать занимаемые позиции. Мержанову тоже пришлось сменить перо на автомат.
Вновь разгорелся бой. Капитан Губкин обрушил огонь минометов и артиллерии на гитлеровцев, контратаковавших его стрелковые роты на правом берегу реки Шешупы. Вслед за мощным огневым налетом рота старшего лейтенанта Ахметова ударила немцам во фланг и восстановила положение.
Когда вражеская контратака была отбита и комбат возвращался на свой КНП, у станкового пулемета, где лежала куча отстрелянных гильз, он увидел рядом с носилками, прикрытыми плащ-палаткой, Жубатырева и еще трех бойцов из нового пополнения. Заметив комбата, они молча встали. Губкин наклонился к носилкам, приоткрыл край плащ-палатки и оцепенел: это был сержант Закаблук. Комбат осторожно вытащил из нагрудного кармана сержанта Закаблука комсомольский билет, залитый кровью. Кандидатскую карточку Закаблук так и не успел получить: непрерывно находился в бою. Комбат достал из планшета сержанта бумаги, и среди них неотправленное письмо к отцу. Фашистский снайпер, спрятавшийся в развалинах дома на окраине Науместиса, убил Закаблука. Виктор часто писал письма отцу и домой жене. И вот теперь его уже нет, а письма еще в пути к адресатам. Отец солдата с радостным волнением прочтет очередное письмо от сына в надежде на скорую встречу с ним. А жена после похоронной получит от него запоздалое письмо и ни за что не поверит зловещей, обжигающей руку бумаге, и долго еще будет ждать мужа.
Теплой августовской ночью со всеми воинскими почестями проводили товарищи в последний путь своего боевого друга. Губкин с Костиным направили представление на присвоение звания Героя Советского Союза сержанту Виктору Михайловичу Закаблуку посмертно.
А через несколько дней в «Правде» был опубликован очерк подполковника Мержанова «Граница» с фотоиллюстрацией о подвиге советских воинов на реке Шешупе. Солдаты Губкина гордились тем, что об их ратных делах узнала вся страна.
«Правду» с этим очерком в далеком Благовещенске получила жена брата Георгия Губкина Алевтина, только что вернувшаяся с ночной смены. Фотография нечеткая, под Ней подпись: «Граница Советского Союза 1941 года восстановлена!» Она развернула газету и замерла: с газетной страницы на нее смотрел муж. Перед глазами замелькали слова: «Науместис», «Губкин», «граница». Алевтина вскрикнула:
— Васенька, ты жив?! — Газета выпала из ее рук, и женщина бессильно опустилась на кровать. Уткнувшись в подушку, она зарыдала.
— Мамочка, что с тобой? — испуганно бросилась к ней прибежавшая на крик приемная дочь Галя.
Алевтина привстала, погладила девочку по голове, успокаивая ее, потом подняла с пола газету и вновь стала вглядываться в знакомые черты, зачарованно рассматривая фотографию.
— Это же наш Георгий! — прошептала она.
Алевтина решила тотчас же отнести газету Асе. Преодолевая слабость, добралась до окраины города, где жила семья Георгия. Едва Ася открыла дверь, Алевтина проговорила, задыхаясь от душивших ее слез:
— Георгий дошел до Германии!..
В эти дни в листовках, разбрасываемых с самолетов, немцы писали:
«Советские войска не пройдут дальше рек Шешупа и Шервинта, и русская нога никогда не ступит на землю Германии».
Генерал Городовиков, проверяя оборону своих полков, посетил и КНП Губкина.
— Ваше мнение, комбат, что будем делать дальше? — спросил он.
— Товарищ генерал! Коли поднатужимся, то овладеем Кенигсбергом!
— Горячее сердце — это хорошо! Но все не так-то просто! Спешить рановато… Ваш батальон в составе полка вывожу, капитан, во второй эшелон. Отдохнете, пополните свои роты и поучитесь прорывать глубоко эшелонированный укрепрайон. Командующий фронтом товарищ Черняховский приказал нам закрепиться на достигнутом!
В штабах тем временем оформляли наградные листы и представления на присвоение очередных воинских званий. Командарм Крылов, получив распоряжение командующего фронтом представить кандидатов на присвоение звания Героя Советского Союза за выход на государственную границу, отдал соответствующие указания командирам соединений.
В штабе Городовикова долго обсуждались кандидатуры. Было намечено написать реляции на командира батальона капитана Губкина и командира стрелковой роты старшего лейтенанта Зайцева.
Когда Губкин узнал, ему стало обидно за Костина. Он, как никто другой, хорошо знал, какой героизм проявил замполит при выходе на границу, когда первым бросился под вражеский огонь, увлекая за собой роту Зайцева.
Комбат застал своего замполита, когда тот писал очередное политдонесение:
«…солдаты и офицеры батальона совершили беспримерный подвиг при выходе на границу Советского Союза с фашистской Германией».
Губкин вспомнил первую встречу с Костиным. За плечами замполита уже был немалый опыт войны. Первые два года он воевал рядовым снайпером, имел на своем счету двадцать семь убитых фашистов. Дважды его ранило, но каждый раз он возвращался в строй. В конце 1943 года Костина направили на курсы политработников. Лишь за несколько дней до возвращения Губкина он получил назначение на должность заместителя командира стрелкового батальона по политической части.
Комбату давно хотелось поговорить по душам со своим замполитом. Как могло получиться, что он пошел на фронт рядовым ополченцем?
— Тогда на повестке дня стоял один вопрос: быть или не быть. О жизни и смерти нашего государства, — задумчиво ответил Костин. — О каких чинах думать было? Я в то время работал секретарем парткома Наркомата легкой промышленности. Вступил в одну из формируемых дивизий народного ополчения. Мы с вами коммунисты и воюем не ради наград и званий!
— Звания и награды — это тоже не мелочи жизни. От них в какой-то степени зависит успех дела, которому мы служим… А если говорить откровенно, то ерунда получилась. Окончил курсы политработников, направили на майорскую должность, а присвоили звание младшего лейтенанта.
— Звания людьми даются, а люди могут ошибаться, — усмехнулся замполит.
Костин никогда не рассказывал Губкину о своей прежней службе. Ничего он не сказал ему и на этот раз. Но комбату кое-что было известно. В штабе дивизии ходили слухи: «во втором стрелковом батальоне замполит бывший комбриг». И в этом была известная доля правды. Федор Алексеевич Костин до того, как стать секретарем парткома, служил в Народном комиссариате внутренних дел. Он носил на петлицах один ромб, что соответствовало званию комбрига. Знаки различия в те годы определялись в соответствии со штатной должностью. В 1938 году Костин был уволен из НКВД по состоянию здоровья. Почтенный возраст, осанка, манеры Костина и его опрятность подтверждали слухи, ходившие о нем в дивизии. Умудренный большим жизненным опытом, обладавший выдержкой и хладнокровием, он хорошо дополнял горячего, молодого комбата. После двух ранений, полученных на фронте, врачи не раз предлагали ему демобилизоваться, но коммунист Костин не собирался отсиживаться в тылу, пока идет война.
Комбат смотрел на своего замполита, слушал его мудрые слова и все больше убеждался в том, что младший лейтенант Костин заслуживает большего. И в представление на присвоение звания Героя Советского Союза он вписал фамилии Зайцева и Костина.
Подготовка к наступлению на Восточную Пруссию подходила к завершению. Сознавая, с какими трудностями предстоит столкнуться при прорыве укрепленного района, Губкин постоянно обращался к боевому уставу. Внимательно штудировал раздел «Прорыв укрепленного района». Ломал голову в поиске наиболее целесообразных тактических решений, готовил к новым боям своих солдат, офицеров и технику.
Стояла осень, в траншеях было сыро и зябко. Губкин неожиданно получил от комполка распоряжение отозвать представление на присвоение младшему лейтенанту Костину внеочередного воинского звания «старший лейтенант». Комбат пригласил Костина к себе и открыто сказал:
— Видимо, кадровики подвели какую-то подоплеку под это дело.
— Георгий Никитович, вы тоже сомневаетесь? — В голосе Костина нетрудно было уловить обиду.
— Ты мне, замполит, не начинай «выкать». Мы с тобой не один термос каши съели, не один день воюем вместе, более шестисот километров прошли с боями. У командования дел хватает, а кадровики, видно, посчитали, что ты слишком быстро растешь: за три месяца из младшего лейтенанта сразу в старшие производишься. Забыли, какие должности ты занимал до войны и что значит для замполита несоответствие воинского звания его положению! Если бы не справлялся со своими обязанностями — тогда другой вопрос. А так должен иметь то, что тебе по штату положено.
— Не на все положенное можно претендовать. Тем более заместителю командира по политической части.
— Во всяком случае, я отзывать представление не стану.
— Смотри, чтобы шишек не получить…
— Ничего, дальше фронта не пошлют!
— Так-то, конечно, так. В бой бы скорее, Георгий Никитович!
2
Наступление на цитадель германского милитаризма — Восточную Пруссию — готовилось командованием 3-го Белорусского фронта в обстановке строжайшей секретности. Но слухи о нем быстро распространялись по «солдатскому радио». Говорили о подходе подкрепления из гвардейских танковых корпусов прорыва, укомплектованных мощными тяжелыми танками «Иосиф Сталин», о стрелковых дивизиях нового формирования, о том, что наземные части будут поддерживаться штурмовиками и что войска, участвовавшие в предыдущих боях, составят второй эшелон.
Солдаты выдавали желаемое за действительное. У командования были свои планы. Вторжение предстояло осуществить тем же войскам, которые вышли на границу Советского Союза с фашистской Германией. Для этого велась большая подготовительная работа.
В конце сентября батальон Губкина занял исходные позиции для наступления. Наблюдатели принялись засекать вражеские доты, другие инженерные сооружения, передавать их координаты в штаб батальона.
Начальник штаба капитан Кудрявцев наносил обстановку на карту комбата, обозначая кружками долговременные железобетонные огневые точки, синими стрелами — пулеметы и орудия, установленные в амбразурах, зигзагами — проволочные заграждения и жирными синими точками — минные поля. Контуры укреплений врага стали теперь проявляться во всех подробностях.
В повседневных делах и заботах незаметно пролетела первая половина октября. Похолодало. Северный промозглый ветер до костей пронизывал бойцов, укрывшихся на дне траншей в ожидании начала наступления.
Батальону капитана Губкина предстояло выполнить сложную боевую задачу — овладеть плацдармом на реке Шешупе и в течение семи часов удерживать его до перехода в наступление главных сил.
Губкин почему-то был абсолютно уверен в успехе. Верил своим офицерам. За долгие месяцы боев он хорошо изучил каждого из них, знал, кто на что способен, и старался учитывать их возможности. Всматриваясь в их лица, он ловил себя на мысли, что ему труднее становится отдавать им боевой приказ на наступление. Любая атака, а тем болеем бой на плацдарме в отрыве от главных сил будет стоить многих жизней близких ему людей. И это когда война приближалась к концу и когда каждый надеялся остаться живым. Губкин понимал, что кому-то посчастливится вернуться домой с победой, а кому-то и нет. И не в его силах было вернуть всех солдат и офицеров матерям, женам и невестам живыми и невредимыми. На войне кто-то неизменно должен был пасть на поле боя, быть может, даже и он сам. Об этом Губкин старался не думать. Во имя победы он должен был вести свой батальон только вперед, через новые подвиги и потери.
К себе в блиндаж Губкин вернулся в первом часу ночи, весь продрогший, рассчитывая отдохнуть хотя бы часика два. Не раздеваясь, чуть ослабив поясной ремень, он прилег, но через несколько минут загудел телефонный зуммер. Комбата вызывал новый командир полка подполковник Басеров. Водовозова отозвали в штаб армии. Басеров сообщил, что в расположение батальона прибудет генерал армии Черняховский.
Оперативная группа командующего фронтом до полуночи задержалась в штабе генерала Крылова. Иван Данилович разбирался в армейском плане наступления, вносил коррективы, отдавал необходимые указания о прорыве укрепленного района. Но особенно командующего интересовало, как доводится его решение до солдат переднего края. В этом он видел залог победы.
В первом часу ночи Черняховский ненадолго остановился в штабе дивизии, где заслушал доклад командующего артиллерией и ознакомился с планом артиллерийского наступления, после чего вместе с генералом Городовиковым направился на командно-наблюдательный пункт батальона Губкина.
На переднем крае солдаты толпились в траншеях, подняв от холодного ветра воротники шинелей. Узнав, что приехал Черняховский, каждый занял свое место. Капитан Губкин по ходу сообщения спешил навстречу генералу армии.
Командиры дежурных боевых расчетов четвертой стрелковой роты встретили командующего в полной боевой готовности.
— Ваша фамилия? — спросил Иван Данилович у первого номера расчета ручного пулемета.
— Ефрейтор Примак.
— Откуда родом?
— Из Тульчина.
— Выходит, земляк мой! — Голос командующего потеплел. — Письма получаете?
— Никак нет. Из дома вестей не имею. Вот скоро кончится война, поеду и все разузнаю.
— Да, скоро, друзья мои, войне конец, — согласился Черняховский. — Но предстоят еще тяжелые бои… Ну а как вы, товарищ Примак, поняли свою боевую задачу?
— По сигналу «В атаку» подавляю огневые точки противника в секторе от сосны до дота включительно. В первую очередь подавляю огонь указанного дота. Как только соседний расчет станкового пулемета займет новые огневые позиции, я должен буду переместиться, догнать взвод и обеспечить его дальнейшее наступление, — четко ответил ефрейтор.
— Молодец, Примак! — похвалил командующий.
В это время подошел Губкин и четко доложил:
— Товарищ генерал армии, вверенный мне батальон готов к вторжению в логово врага! Капитан Губкин.
— Здравствуйте, товарищ капитан! — Черняховский крепко пожал Губкину руку. — Исходные позиции для наступления у вас превосходные. Если враг опередит контрартиллерийской подготовкой, есть где укрыться.
— Всего отрыто до полного профиля пять с половиной километров траншей.
— Как уяснили задачу полка? И какова роль вашего батальона?
— Роль батальона выходит за рамки задачи полка. Мои подразделения составляют передовой батальон дивизии и начинают вторжение первыми. На семь часов тридцать минут раньше наступления главных сил полка и дивизии совместно со средствами усиления ночью бесшумно форсируем реку Шешупу, закрепляемся на плацдарме, уточняем свой передний край и ждем начала артиллерийской подготовки, которая будет длиться два часа. Затем фланкирующим огнем способствуем форсированию водной преграды и продвижению главных сил дивизии. В дальнейшем во взаимодействии с батальоном 262-го полка осуществляем наступление на территорию Восточной Пруссии и овладеваем первым немецким городом Ширвиндт!
— На какое время назначено наступление?
— На четыре часа утра.
— Ну что ж, будем надеяться, что проложите путь дивизии в любом случае, проведете разведку боем и артиллерийская подготовка не пройдет по пустому месту. Какая помощь вам требуется?
Губкин на секунду замялся:
— Вот если бы помочь нам с воздуха штурмовой авиацией.
— Вас будут сопровождать штурмовики. Зелеными ракетами обозначите цели, которые надо подавить.
…Командующий фронтом не успел еще уехать, как немцы вновь начали обстрел: то ли они заметили оживление в траншеях, то ли у них был предусмотрен методический артогонь на изнурение. Вражеские снаряды стали рваться недалеко от командно-наблюдательного пункта. Налет продолжался точно так же, как и раньше, ровно пять минут. Генерала армии Черняховского благополучно проводили до стоянки штабных автомашин.
После посещения батальона Черняховским Губкин еще больше почувствовал всю меру ответственности. Он еще раз проверил готовность стрелковых рот к наступлению. Солдаты приободрились, видя рядом с собой комбата, загорались его энтузиазмом, в них крепла вера в победу.
С особой признательностью смотрели на Губкина бойцы из нового пополнения. Накануне они с прохладцей выполняли его приказ, с неохотой копали траншеи на исходных позициях для наступления, зная, что так или иначе их придется оставлять. Но противник нанес опережающий массированный артиллерийский удар, и солдаты поняли цену своего труда — благодаря хорошим сооружениям вражеские мины и снаряды не достигли их. Теперь солдаты вырыли траншеи по всем правилам военного искусства.
По мере приближения времени «Ч» — часа атаки — капитан Губкин все больше тревожился за подготовку батальона к штурму. Особенное опасение вызывал приданный саперный взвод, которым командовал лейтенант Воробьев. Взводу отводилась немаловажная роль — к четырем часам утра навести два штурмовых мостика через реку Шешупу, и успех наступления во многом зависел от того, будут ли они проложены в срок.
Мостики состояли из бревенчатых ячеек, приспособленных для быстрого соединения между собой. На них, как на поплавках, укладывались две-три широкие доски настила. Один конец мостика закреплялся на нашем берегу, другой — на стороне противника.
В два часа тридцать минут Губкин потребовал от своего начальника штаба доклада о ходе работ.
— Штурмовые мостики не готовы, и вряд ли саперы управятся с ними, — доложил капитан Кудрявцев.
Губкин нахмурился:
— Разберитесь, в чем дело, а лейтенанта Воробьева — ко мне.
В три часа ночи в блиндаж комбата вбежал лейтенант Воробьев, шинель его была вся в грязи. Он сбивчиво доложил, что с мостиками ничего не получается, несколько раз пытались навести, но их срывает и уносит течением. В голосе молодого лейтенанта слышался испуг. Губкин помолчал, давая возможность Воробьеву успокоиться, но тот окончательно расстроился и заплакал.
Воробьев всего неделю назад окончил ускоренные курсы военного училища. Губкин его хорошо понимал — не так давно сам был таким же. Комбату захотелось помочь Воробьеву достойно принять боевое крещение, преодолеть первый страх. Но для этого не было времени. А если мостики не будут наведены, выполнение задачи окажется под угрозой.
В этот миг комбату почему-то вспомнился капитан Шакун, который был для него образцом выполнения воинского долга. Как бы поступил Шакун тогда, в критической обстановке, на высоте под Аксаем, если бы он, Губкин, проявил трусость? Перед его глазами возникли образы солдат, однополчан-дальневосточников, погибших в боях под Аксаем. Неожиданно для самого себя Губкин строго потребовал:
— Либо вы наведете мостики к четырем часам утра, либо будете расстреляны за невыполнение боевого приказа!
Лейтенант замер. Потом, опомнившись, быстро сдернул с себя шинель и бросил ее в угол.
— Мостики будут наведены любой ценой! — он и скрылся в ночной мгле.
«Это уже другое дело! Но все-таки жестоко так пос выпалил тупать с молодым лейтенантом, — подумал Губкин. Это угнетало его, расстраивало. — Надо обязательно сходить к переправе, успокоить Воробьева. Но прежде надо проверить огневые позиции».
Губкин вышел из блиндажа. Влажным холодом тянуло от реки, поверхность ее сверкала отблесками ракет. За Шешупой — немцы… Вражеские трассирующие пули огненными струями тянулись над водой. К ногам комбата упала ветка, срезанная пулей. Стоило подать команду, и его артиллеристы сровняли бы с землей огневые точки противника, но преждевременно раскрывать их он не имел права. Губкин по ходу сообщения четвертой роты вышел на позицию приданной противотанковой батареи. Восьмидесятипятимиллиметровые пушки выдвинулись на прямую наводку, грозно нацелив свои стволы на противоположный берег.
Проверив артиллеристов, Губкин направился в роту Акимова, и здесь его нагнал лейтенант Воробьев. Прерывающимся от быстрой ходьбы голосом он доложил, что задание выполнено: штурмовые мостики наведены. Вскоре комбат убедился, что это действительно так, Воробьев справился с поставленной ему задачей и преодолел свой первый страх на войне.
Все было готово к броску.
Под утро от реки еще сильнее повеяло холодом, люди продрогли. Губкин подозвал командира взвода из батальонного резерва лейтенанта Краснова.
— Знаешь, где пункт боепитания? Там два бидона с водкой. Быстро доставить их на противоположный берег! Одна нога здесь, другая — там!
— На той стороне фашисты засели близко от берега и стреляют в упор. Не о себе пекусь, товарищ комбат! Они же могут пробить бидоны, добро пропадет…
Комбат, отдавая распоряжение о бидонах с водкой, понимал, насколько важно будет промокшим и продрогшим солдатам согреться наркомовскими ста граммами.
Наконец красная ракета прорезала черное небо. По левому мостику устремился на противоположный берег лейтенант Краснов. За ним бежали его автоматчики чуть ли не по колено в холодной воде. Достигнув берега, они закрепились и прикрыли огнем переправу главных сил батальона.
— За мной, в логово врага! — крикнул Губкин и бросился по мостику. Следом бежали солдаты старшего лейтенанта Ахметова. Когда Губкин достиг середины реки, рядом рванула мина. Его окатило водой, над головами бегущих засвистели осколки. Люди замешкались. Штурмовой мостик закачался, кто-то вскрикнул и упал в воду.
Как не остановиться, когда твой товарищ ранен и ледяная вода уносит его быстрым течением?! Бойцы начали толпиться, но это было смерти подобно — противник пристрелял мост.
— Вперед! Гранаты к бою! — крикнул комбат, и люди устремились за ним.
Рядом с мостиком вновь полыхнул разрыв. Сильный удар в плечо чуть не сбросил комбата в реку, но чьи-то крепкие руки удержали его. Губкин узнал ефрейтора Примака. Стараясь не привлекать к себе внимания, комбат, скрипя зубами от боли, добежал до противоположного берега. Здесь он разыскал организованный на скорую руку батальонный медпункт. К счастью, все обошлось благополучно: два мелких осколка лишь задели плечо. Рану перевязали, и комбат остался в строю…
В девять часов тридцать минут началась двухчасовая артиллерийская подготовка. Губкин сразу уловил знакомую музыку «катюш». Саперы выдвинулись вперед, проделывая проходы в минных заграждениях. В воздухе появились наши самолеты.
Уже час гремела артиллерия, и еще столько же оставалось ей поработать, расчищая путь пехоте и танкам. Пружина атаки была сжата до предела. И скоро она должна была распрямиться. Бойцы с нетерпением ждали сигнала, держа автоматы на изготовку, и, когда артиллерия перенесла огонь в глубь обороны врага, Губкин во всю силу своих легких скомандовал:
— В атаку! Вперед!
В небо взвилась зеленая ракета. Комбат не успел поднести бинокль к глазам, как поднялись штурмовые группы от правого до левого фланга батальона. Впереди огненной стеной рвались наши мины и снаряды, все там было окутано дымом и пламенем, видимость не превышала ста — ста пятидесяти метров. Противник вел ответный артиллерийский огонь, но вражеские снаряды рвались позади боевых порядков наступающих рот.
— Связисты, за мной! Баранов, передай в штаб полка, что переходим на новое КНП, свертывай проводную связь, — приказал капитан Губкин начальнику связи батальона.
Заглушая грохот боя, по всему фронту росло и ширилось мощное «ура!». В небе пролетели пикирующие бомбардировщики под прикрытием истребителей — удар наносился по резервам противника, готовившимся к контратаке. Вслед за ними, на несколько сот метров ниже, воздушное пространство заполнили наши штурмовики, атаковавшие вторую траншею. Вражеская оборона покрылась дымом и пылью, багрово-черными всполохами.
Батальон Губкина, поддерживаемый артиллерией, хлынул вперед по проходам, проделанным саперами. Справа и слева наступали соседи, и вся эта лавина ринулась на врага. Будто гигантская волна катилась на передний край немцев, через минные поля, проволочные и лесные заграждения. Впереди атакующих перекатывался огневой вал, уничтожая и сметая все на своем пути.
Солдатам четвертой стрелковой роты путь преградила река, не значившаяся на картах. Губкин быстро сообразил, что это старое русло реки Шешупы. Те солдаты, которые первыми бросились в воду, не доставали дна — старое русло, заросшее камышами, оказалось глубоким. По команде комбата бойцы побежали за лодками и стали искать брод. Начальник штаба батальона подтянул четыре резиновые лодки, и рота Зайцева начала переправляться на другой берег. Солдаты старшего лейтенанта Ахметова нашли брод невдалеке от места переправы.
На противоположном берегу батальон был встречен шквальным огнем из долговременной железобетонной огневой точки. Четвертая и шестая роты залегли. Комбат ввел в бой в обход дота пятую роту Акимова с правого фланга, но и она была прижата к земле. Орудия, выставленные для стрельбы прямой наводкой, ничего поделать с дотом не могли, только снимали с него маскировочный дерн. Командир четвертой роты направил по лощине, выводящей к доту с тыла, блокировочную группу в составе трех бойцов. Но все они погибли.
Капитан Губкин мучительно переживал, что наступление батальона захлебывается. Поэтому он сам пополз к переднему краю, к штурмовым группам, чтобы лучше разглядеть подступы к вражеской железобетонной огневой точке, которая из своих трех амбразур изрыгала яростный огонь. Гитлеровцы били по флангам и по фронту батальона Губкина, не давали солдатам возможности поднять голову. Минуты промедления стоили человеческих жизней. В полукилометре правее и левее от центрального стреляли еще два дота. Надо было во что бы то ни стало обезвредить центральный дот на пути батальона. О каких-либо обходных маневрах не могло быть и речи. Комбат знал, что приказ никто не отменит, поставленную задачу надо выполнить. А сзади батальон подпирал второй эшелон полка, за ним развертывался второй эшелон дивизии. Все складывалось так, что из-за нерешительных действий его стрелковых рот могло сорваться наступление дивизии. Нужно было принять срочные меры, чтобы выполнить приказ и в то же время сохранить батальон. Сколько головоломок Губкину уже приходилось решать, и всякий раз это случалось в наступлении: впервые вести бой в лесу, штурмовать городские строения, форсировать широкую и глубокую реку Неман. А вот теперь штурмовать укрепленный район, который немцы готовили к обороне десятилетиями. Губкин был готов сам вести солдат на штурм, но ответственность за батальон не позволяла ему так поступить. Здесь, на территории врага, он впервые узнал, что из себя представляет крепость с современным вооружением против солдата, наступающего на открытой местности.
Вывод напрашивался единственный — просить командира полка, а может, и самого генерала Городовикова, чтобы срочно усилили батальон тяжелыми пушками. Но в данной ситуации, если даже пушки и нашлись бы, времени подтянуть их к переднему краю не оставалось.
Порывистый по характеру, капитан Губкин нервничал. Он никак не мог допустить, чтобы какая-то горсточка гитлеровцев, укрывшихся в доте, перебила солдат его батальона.
Костин, наблюдая за Губкиным, боялся, как бы тот из-за своей горячности не подставил себя под вражеский огонь и в самый ответственный момент не оставил батальон без управления.
К тому времени обстановка достигла наивысшего напряжения, из штаба полка торопили, требовали выполнения приказа любой ценой.
Время неумолимо увеличивало напрасные потери, требовались срочные меры, отвечающие создавшейся обстановке. Губкин все надежды возложил на бойцов-смельчаков, которые должны были забросать амбразуры вражеского дота противотанковыми гранатами. И только после этого поднимать батальон на штурм.
Ближе к центральному вражескому доту находились четвертая и шестая стрелковые роты. Наблюдая за боевыми действиями блокировочной группы старшего лейтенанта Зайцева, комбат досадовал и огорчался тем, что солдаты недостаточно плотно прижимались к земле и были плохо прикрыты, огонь по вражеским амбразурам велся неприцельно. Глубоко чувствуя всю полноту ответственности за судьбу солдат батальона, лежавших под огнем противника, Губкин понимал и другое: от него с нетерпением ждут активных действий комполка и комдив, готовые развить успех второго стрелкового батальона.
Взгляд Губкина упал на ефрейтора Примака. После удачной десантной операции при форсировании Немана он стал всеобщим любимцем в батальоне и сейчас находился в личном распоряжении комбата для выполнения особо важных заданий. Награждение орденом Красного Знамени вселило в него еще большую отвагу.
Примак хотел помочь комбату и с замиранием сердца ждал приказа. Раз другие не смогли, значит, его черед выполнять особо важное задание, рассуждал он.
— Товарищ капитан, разрешите мне!
— Не разрешаю, надо немного выждать!
— Время не терпит. Сколько раз вы сами рисковали, четырежды были ранены…
— Подожди, одному тебе не справиться, за тобой пойдет блокировочная группа с подрывниками.
— Сначала все же попытаюсь бросить противотанковую гранату. Не получится — тогда пусть подрывники взорвут!
— А может, действительно прорвешься! — Губкин посмотрел на него без командирской строгости, по-отечески. — Попытайся! Об огневом прикрытии сам позабочусь!..
Примак быстро полз, плотно прижимаясь к земле, ловко работая руками. За его продвижением с волнением следили десятки глаз. Высокая пожелтевшая трава чуть колыхалась там, где он передвигался.
Смельчака отделяло от вражеского дота меньше ста метров. Еще немного — и там, за кудрявым кустиком, начиналось мертвое пространство. Но гитлеровцы успели заметить Примака, и дуло пулемета через стальной щит амбразуры повернулось в его сторону.
Пули стали косить засохшую траву прямо перед ним. Но и наши станковые пулеметы в ответ открыли массированный огонь по амбразурам противника.
Вражеский дот был уже рядом — на бросок гранаты. Примак чувствовал, с какой надеждой следят за ним комбат и солдаты. И он замер, всем телом прижавшись к земле. Малейшая оплошность могла погубить смельчака. Сознавая это, он на миг представил все, что было для него дорогим и близким. Перед его взором возникла стройная чернобровая смуглянка — его любимая Наташа, мать, родные и односельчане. Как в калейдоскопе, сменялись кадр за кадром… Первая его учительница Мария Кузьминична, панорама школы, где он учился. Мать и Наташа благословляли его на подвиг… И он не мог обмануть надежды близких ему людей. Примак с еще большей силой прижался к земле, готовясь выполнить священный долг, а если потребуется, отдать и жизнь!
Не успел гитлеровец отвести дуло пулемета в сторону, как Примак вскочил в полный рост и бросил противотанковую гранату в огнедышащий дот. Раздался взрыв, и из амбразуры полыхнул огромный оранжево-черный клуб пламени. Вражеский пулемет замолчал.
Рота Ахметова первой поднялась в атаку и заняла высотку.
— Поздравляю, Ахмеджан, — от души похвалил комбат по телефону своего сослуживца. С тех пор как Ахметов прибыл в батальон, Губкин первый раз так назвал его.
— С чем это вы меня поздравляете, товарищ капитан? — спросил Ахметов.
— Как с чем? — прервал молчание комбат. — С уничтожением первого дота противника в его логове!
— Дот взорвали люди Зайцева, а мои солдаты прошли по этому участку.
— Все равно молодец, Ахмеджан! Молодец! Слышишь?
— За что же это я молодец?
— За честность и мужество, на чужую славу не польстился!
Тем временем гитлеровцы снова открыли пулеметно-артиллерийский огонь. Вокруг рвались мины. Противник преграждал батальону Губкина путь к лесу. Росло число раненых и убитых. Но ни смерть товарищей, ни стоны раненых не могли остановить солдат Губкина. Четвертая рота старшего лейтенанта Зайцева вырвалась вперед, с ходу преодолела промежуточную позицию противника и вышла к опушке леса. Здесь все было заминировано.
Рота, построившись во взводные колонны, продолжала наступление.
— След в след наступать впереди идущим! — оглянувшись, скомандовал старший лейтенант Зайцев.
В это мгновение землю под ним тряхнуло сильным взрывом. Когда дым рассеялся, все увидели, что Зайцев лежит на пожелтевшей траве в луже крови.
— Ротный подорвался на мине! Санинструктора сюда! — крикнул ефрейтор Примак.
Мимо Зайцева пробежали вперед саперы Воробьева со щупами и миноискателями, откуда-то появились санитары с носилками, а за ними батальонный военфельдшер. Он торопливо стал бинтовать Зайцева.
В четвертой роте не осталось ни одного офицера, произошла заминка, бойцы растерялись, и наступление на миг приостановилось.
— Слушай мою команду! — прокричал ефрейтор Примак, принимая на себя командование ротой. — За мной, вперед! — Он попытался обойти минное поле, но наткнулся на проволочное заграждение.
Сильный пулеметный огонь прижал роту к земле. Прибежавший сюда Губкин застал Зайцева на носилках без сознания.
— Жить будет? — спросил он военфельдшера.
— Будет! Только нужно срочно эвакуировать!
Никто из них еще не знал, что у Зайцева ранение смертельное. Чтобы сохранить жизнь подчиненных, он отдал свою.
Проводив Зайцева, Губкин принял командование ротой. Тотчас же заработали станковые пулеметы. Солдаты, набрасывая на колючую проволоку шинели, преодолевали препятствие.
Под прикрытием огня минометной роты Парскала поднялись в атаку роты Акимова и Ахметова. Эхо наступления катилось в глубь леса. В атакующей цепи бежал и комбат. К пятнадцати часам батальону удалось продвинуться вперед на четыре километра.
К капитану Губкину привели грязного, дрожащего от страха пленного. По обросшему, изможденному лицу ему можно было дать лет сорок. Солдат-конвоир сказал со злостью:
— Таких расстрелять мало. До чего додумались, изверги: выставили для устрашения трупы наших растерзанных солдат, а рядом растянули белую простыню и черной краской написали: «Всех русских, кто перешагнет границу Восточной Пруссии, ждет такая участь».
По узким серебристым погонам немца комбат определил, что перед ним офицер.
— Документы! — перевел переводчик властное требование комбата.
Фашист быстро вытащил из кармана офицерскую книжечку. Заглянув в нее, Губкин понял, что перед ним командир взвода и зовут его Фриц. На вопрос, где его взвод, немец замотал головой и тихо ответил:
— Капут.
— Где находится ваша рота? — продолжал допрашивать Губкин.
— В роте оставалось семнадцать солдат и вот этот офицер, — перевел переводчик, указывая на пленного. — Из семнадцати двенадцать погибли сегодня на рубеже боевого охранения, а пять солдат отошли без приказа.
— Какие подразделения обороняются в глубине?
— Он говорит, что за рекой Шервинта нас встретят батальоны из крепости; в каждой долговременной железобетонной огневой точке пулеметы и боевые расчеты. Между ними занимают позиции остатки 912-го пехотного полка.
— Укомплектованность полка людьми и техникой?
— В ротах не более пятидесяти человек, имеется артиллерия и минометы.
— Пленного отправить в штаб полка! — приказал комбат Кудрявцеву.
Батальон Губкина, взаимодействуя с ротами Поздеева, через лес Котовщизна вышел к реке Шервинта. Левее снова стал виден Науместис. Георгий с волнением смотрел в бинокль на возвышающийся в центре города белый костел. Соседнему полку удалось закрепиться на восточной окраине города. Для связи с ним комбат послал одного из своих лучших солдат — Чернобаева.
— И еще узнайте в штабе, не известно ли им что-либо о судьбе командира погранзаставы старшего лейтенанта Губкина? — попросил Георгий связного.
— Товарищ капитан, это ваш брат? — осторожно спросил Чернобаев.
— Да.
Некоторое время Губкин наблюдал в бинокль, как Чернобаев пробирался по лощине, но вскоре его внимание отвлекли танки на левом фланге батальона. Они двигались двумя колоннами, в каждой по десять машин. Комбат плохо различал их силуэты и поэтому колебался, открыть по ним огонь или нет. Колонна танков двигалась прямо на его батальон. Вдруг танки остановились, открылись их верхние люки. Только теперь Георгий Никитович разглядел на башнях красные звезды и с облегчением вздохнул.
Командир батальона тяжелых танков ИС, немолодой майор, подъехал к Губкину и сообщил, что ему приказано поддержать правофланговую дивизию армии генерала Галицкого при наступлении на Восточную Пруссию. Он не нашел пехоту и просил помочь ему. Губкин знал, что части Галицкого отстали, но его вдруг осенила мысль: «Вот бы мне этот танковый батальон на часок».
— Решается судьба операции, а вы по тылам блуждаете, вместо того чтобы вести за собой пехоту, — резко сказал он. — Видать, тепло у вас в танке, в одной гимнастерке выскочили. А я, грешным делом, чуть не открыл огонь из пушек. Было бы совсем жарко. На ваше счастье, решился подпустить поближе.
— За то, что разобрались, спасибо. Кстати, это входит в ваши обязанности. А в отношении того, как нам поступать, мы сами как-нибудь решим. Вы нам только укажите, где найти пехоту Галицкого.
— Товарищ майор, пехота Галицкого отстала, пока она подойдет, вы могли бы оказать нам большую помощь.
— Послушайте, капитан, поймите, нас лимитируют моточасы и боеприпасы. Если мы израсходуем их с вами, то с чем вернемся к своим?
— А мы для вас чужие, что ли? Победа одна на всех. И если ваша пехота войдет в готовый прорыв, хуже ей не будет.
— Капитан, вы шутите! Когда же это такое количество тяжелых танков поддерживало стрелковый батальон? Мы направлены на усиление целой дивизии!
Доводы майора охладили Губкина. Но он все еще не отказался от мысли воспользоваться помощью танкистов.
— Товарищ майор, у нас с вами одна общая задача: как можно скорее разгромить врага. Мой батальон, к вашему сведению, составляет передовой отряд дивизии генерала Городовикова!
Майор заколебался. Автоматчики, оказавшиеся рядом, с надеждой поглядывали на него, как бы спрашивая: неужели пошлете нас на штурм железобетона без прикрытия танков?
Соблазн ворваться в Восточную Пруссию одними из первых был так велик, что майор не устоял перед ним. Поколебавшись еще немного, он махнул рукой и дал команду: «Заводи моторы!»
Губкин по телефону доложил командиру полка подполковнику Басерову о том, что подошли танки сопровождения пехоты армии генерала Галицкого, а самой пехоты нет, она отстала. И что он просит согласовать с командованием, чтобы на время вторжения эти танки переподчинили ему. Но связь внезапно прервалась. Тогда комбат на свой страх и риск поставил задачу командиру танкового батальона…
Четвертая и шестая стрелковые роты за тяжелыми танками ИС ударили в обход Науместиса с юга, перерезав шоссе Науместис — Кибартай. Танки, пройдя проволочные заграждения, стали утюжить вражеские траншеи. Поспевать за танками было невозможно, они вырвались вперед. Четвертая рота с ходу форсировала вброд реку Шервинту и заняла высотку на противоположном берегу. Солдаты пристально вглядывались в холмистую равнину, открывшуюся перед ними. Правее возвышались кирки первого городка фашистской Германии — Ширвиндта. Настал долгожданный час. Вот она, Восточная Пруссия! Кто из бойцов и офицеров не мечтал дожить до этого радостного дня!
Однако им предстояли жестокие бои, и час от часу становилось труднее. Взаимодействие с танковым батальоном закончилось. Его командир получил новый приказ. Мощные танки двинулись влево и вскоре скрылись за горизонтом.
Радист передал Губкину переговорную трубку. Комполка поздравил его с вторжением в Восточную Пруссию. Между тем гитлеровцы опомнились и открыли по батальону сильный огонь. Застучали пулеметы, завыли мины, хлестануло раскаленными осколками металла, враг перешел в контратаку. Вновь вспыхнула ожесточенная схватка. Судьбу ее решил приданный батальону артиллерийско-противотанковый дивизион. Враг не выдержал пушечного огня с прямой наводки, и бойцы Губкина, отразив контратаку, снова перешли в наступление.
— Первый взвод ворвался в бараки на южной окраине Ширвиндта, — доложил по телефону командир шестой роты старший лейтенант Ахметов.
— Развивайте успех в направлении северной окраины Ширвиндта! — приказал комбат.
— Товарищ Сорок первый, в подвалах бараков наши пленные солдаты.
— Когда же они успели попасть в плен?
— Они здесь с сорок первого года, использовались в рабочей команде для возведения укреплений на границе.
У Губкина сжалось сердце.
— Узнайте, нет ли среди них Василия Губкина?
Напряженные бои продолжались с переменным успехом до наступления сумерек. Батальон стал закрепляться на достигнутом рубеже.
Поздно вечером старший лейтенант Ахметов позвонил комбату:
— Среди освобожденных из немецкого плена Василия Губкина не оказалось. Есть, правда, один, его все называют начальником, но он то ли контужен, то ли немцы отбили ему память. Добиться от него чего-либо путного не удалось.
— Какой он из себя?
— Роста выше среднего, худой, широкий в плечах, волосы русые.
Губкин затаил дыхание:
— Спросите, как фамилия.
— Не говорит.
— Нет ли у него родинки на правой щеке?
— Есть, небольшая.
У Губкина сжало горло.
— Направьте его ко мне в сопровождении автоматчика, — сдавленно проговорил он.
Георгий не помнил, сколько прошло времени, пока наконец в блиндаж вошли двое. Рядом с молодым автоматчиком стоял высокий худой мужчина в рваной и грязной солдатской шинели. В слабом свете коптилки Губкину показалось, что перед ним брат. Он шагнул навстречу, хотел обнять его, но вдруг остановился:
— Василий, ты ли это?
Но тот молчал, никак не реагируя на происходящее. Губкин дрожащей рукой поднес коптилку к его заросшему бородой лицу. Взгляды их встретились. И тут Георгий ясно понял, что это не Василий. От жалости к этому истощенному до крайности человеку слезы навернулись на глаза.
Неожиданно тот заволновался и, заикаясь, попытался что-то сказать, но не смог.
— Товарищ капитан, с нами еще один, может, с ним поговорите? — Автоматчик сделал шаг в сторону, и комбат увидел такого же истощенного, обросшего, как и первый, человека, только ростом пониже, в такой же грязной солдатской шинели.
— Когда попали в плен? — спросил Губкин.
— В начале войны. И все время в этих бараках. Здесь мы строили доты и возводили укрепления.
— Почему не бежали из плена?
— Пытались бежать многие, но мало кому удалось.
— О командире погранзаставы Губкине что-нибудь слышали?
— Когда нас привезли в эти бараки, там уже находилось восемь пограничников и с ними один раненый командир. Он нам рассказывал, как они бились за Науместис, ожидая подхода регулярных войск. Вот только фамилии его я не запомнил.
— Что с ним случилось? — глухо спросил Губкин.
— Среди нас оказался провокатор, он многих коммунистов выдал гитлеровцам. Их всех расстреляли, в том числе и этого лейтенанта-пограничника.
— Какой он был из себя?
— Среднего роста, черноволосый.
— И больше с вами офицеров-пограничников не было?
— Нет, офицеров не было. Солдаты были, а офицеров нет.
Проводив вызволенных из плена людей, Губкин почувствовал неимоверную усталость и забылся в тревожном сне. Временами на мгновение просыпался, разбуженный грохотом взрывов и треском пулеметов, и тут же снова проваливался в темноту.
На восточно-прусской земле лежал молодой комбат, он пришел сюда с боями из-под самого Сталинграда. Лежал усталый, с обветренным, смуглым лицом и спал счастливым сном, совершив то, чего никто еще не совершал в Великой Отечественной войне: вместе со своим батальоном он первым вышел на границу Советского Союза с фашистской Германией и тем самым приблизил час победы над врагом. Велика его душа и благородно дело. Он, русский офицер, исполняя свой солдатский долг, совершил подвиг. И теперь ему предстояло штурмовать первый город фашистской Германии.
Может быть, чувство ответственности или какая-то другая непостижимая сила заставила его проснуться. Он взглянул на часы: спал всего около двух часов.
— Товарищ капитан, у аппарата генерал Городовиков, — доложил начальник связи батальона младший лейтенант Баранов.
Губкин взял трубку.
— В восемь часов начало артподготовки! Обозначь свой передний край, — услышал он бодрый голос комдива. — По Ширвиндту нанесут удар пикирующие бомбардировщики, дивизионная артиллерийская группа с рассветом подавит огневые точки и артиллерию врага. Атаку твоего батальона будет сопровождать дивизион «катюш» и эскадрилья штурмовиков. Задача остается прежней: отрезать город обходом с юго-запада…
Перед штурмом первого города фашистской Германии замполит Костин вместе с парторгом Коршуном и комсоргом Савичевым прямо на переднем крае провели митинг с коммунистами и комсомольцами — делегатами от всех подразделений батальона, посвященный этому историческому событию. Выступавшие клялись добить фашистов в их логове. Возвратившись в свои подразделения, делегаты довели задачу до каждого солдата.
С утра наша артиллерия и авиация обрушились на Ширвиндт и укрепления на его окраине — доты и бронеколпаки, связанные между собой подземными ходами сообщения, на каменные здания, превращенные в опорные пункты, опоясанные проволочными заграждениями и минными полями. В расположении гитлеровцев стоял такой грохот, будто там извергался вулкан; ввысь взметались пламя, дым и пыль. Земля, казалось, плавилась от огня.
Остались какие-то минуты до начала штурма, артиллерия перенесла огонь в глубину обороны противника. Губкин взглянул на часы, поднес к глазам бинокль: дым еще не рассеялся и вздыбленная земля не улеглась. Надо было спешить, и он поднял свой батальон в атаку на юго-западную окраину Ширвиндта. Дружно бросились солдаты на врага. Впереди всех действовали саперы лейтенанта Воробьева, размечая флажками проходы на минных заграждениях. Губкин мысленно похвалил лейтенанта.
Атака развивалась медленно. Впереди горел Ширвиндт. Бойцы Акимова и Ахметова продвинулись всего лишь метров на триста и достигли лощины, лежащей вдоль фронта. Они скатились в нее, стали дозаряжать автоматные, пулеметные диски, набирать силы для следующего броска. Но не успели вновь подняться в атаку, как одновременно ожили два железобетонных дота противника с вращающимися стальными колпаками. Батальон залег под сплошным перекрестным огнем.
После осенних проливных дождей со снегом земля отдавала леденящим холодом. Пронизывающий ветер постепенно разогнал облака, в голубых прогалинах появилось солнце, но ненадолго. В воздухе снова повисла серая мгла, начал накрапывать дождь. Расчет на ослабление вражеского огня в плохую погоду не оправдался. По всему переднему краю гитлеровцы продолжали поливать свинцом наши позиции, не давая поднять головы. Особую опасность представлял фланкирующий пулеметный огонь из двух дотов, расположенных на окраине Ширвиндта. Без подавления и уничтожения их не могло быть и речи о продвижении вперед. Губкин это понимал.
Солдаты лежали на мокрой земле. Промозглый северный ветер пронизывал их насквозь. Оставаться на этом рубеже было нельзя.
Открытая местность не позволяла Губкину совершить обход. Надо было по раскисшему полю подтянуть как можно ближе на прямую наводку пушки приданной батареи. Он распорядился выделить в помощь артиллеристам по стрелковому отделению на каждое орудие.
Погибшего сержанта Закаблука заменил командир отделения ефрейтор Примак. На пути к позициям батареи его солдат настиг ливень. Дождь лил как из ведра: струи холодной воды попадали за воротник, проникали под одежду. Жубатырев, Чернобаев, Чуев и другие дрожали от холода. Ветер, как назло, переменился, и остервенелый дождь хлестал им в лицо. Пока добрались до батареи, продрогли настолько, что были не в силах отогреться.
Примак, вытирая лицо пилоткой, обратился к своим солдатам:
— А ну, ребятушки, дружнее!
Они ухватились за пушку, принялись толкать ее, но долго не могли даже сдвинуть с места. Да и сдвинув, не так-то просто было катить эту громадину по дороге, покрытой жидкой грязью. Солдаты напрягали все свои силы. Несмотря на холод и дождь, они обливались потом.
Восьмидесятипятимиллиметровая пушка, которую тянули Чернобаев и другие, застряла на подъеме рядом с позицией четвертой роты. Колеса почти полностью увязли в земляной жиже, вытащить их оттуда, казалось, не было никакой возможности.
— Братцы, ну-ка взялись как следует! Даешь Ширвиндт! — закричал подбежавший Жубатырев.
— Ну, милая, заждались тебя, ей-богу! — причитал Чернобаев, упираясь руками в правое колесо.
Кто-то крикнул во всю мощь своих легких: «Э-эй ухнем!»
Когда пушка чуть сдвинулась с места, солдаты совсем ласково заговорили с ней, будто уговаривая: «Пошла, пошла, родная! Сама пошла!» И она, словно послушавшись их, медленно подалась и вылезла из глубокой выбоины.
— Стой, сапог потерял! — растерянно воскликнул Жубатырев. Все громко захохотали. Этот смех будто прибавил сил. И бойцы наконец-то закатили орудие в кустарник на огневую позицию.
Тут же последовала команда: «К бою!» Быстро заработал расчет. Прозвучал выстрел, за ним второй, третий. Но сколько-нибудь значительного вреда дотам они не принесли. Бойцы четвертой роты, особенно те, кто тащил восьмидесятипятимиллиметровую пушку на руках, с досадой смотрели то на вражеские доты, то в сторону огневой позиции артиллерии.
Медлить было нельзя. Губкин, воспользовавшись затишьем на своем правом фланге, распорядился перебросить в расположение четвертой роты батарею самоходных артиллерийских установок. Они были менее уязвимы от огня противника. Самоходки выдвинулись в боевые порядки стрелковых взводов и открыли огонь.
Но вражеские доты не умолкали. Фашисты успевали заменить вышедших из строя пулеметчиков и артиллеристов резервом из крепостного батальона.
Губкин приказал командиру батареи пустить в ход зажигательные снаряды. Через несколько минут амбразуры вражеских дотов заволокло дымом. Батальон вновь поднялся в атаку и пробил брешь в обороне противника.
Штурмовые группы, овладев долговременными огневыми точками врага, стремительно рванулись к городу, но вновь были прижаты огнем дотов, расположенных в районе железнодорожной станции.
Шестой роте все же удалось добраться по-пластунски до окраины и закрепиться в полуразрушенных домах. Губкин бросил туда и пятую роту.
В городе полыхало пламя пожаров. Кровавые отсветы выхватывали из темноты улочки, переулки; бойцы поодиночке и мелкими группами продвигались вперед. Расчеты станковых пулеметов прикрывали их огнем с места, затем быстро меняли позиции. Из окон домов были видны вспышки выстрелов гитлеровцев. По ним били орудия батальона. От прямых попаданий снарядов обваливались каменные стены строений, накрывая вражеские огневые точки.
На первый взгляд казалось, что боевые действия в городе развиваются планомерно и очень уж спокойно, как батальные сцены в театре, руководимые невидимым режиссером. Но это только казалось. В действительности же шел жестокий бой, гитлеровцы продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. По атакующим стреляли не только из укрепленных полуподвалов, но и со вторых, третьих этажей домов и даже с чердаков. Расчет Губкина на использование штурмовыми группами мертвых зон не оправдался — их, по существу, не было, кругом бушевал многоярусный огонь. Отдельные орудия и пулеметы врага меняли позиции, и артиллеристы не успевали их засекать. За подвижными огневыми точками шла настоящая охота. Комбату, однако, удалось на какое-то время перехитрить врага, поставив дымовую завесу. Бойцы стремительным броском ворвались в одно из ближайших строений. Вместе с ними под вражеским огнем наступал и комбат. Новый ординарец Губкина не отставал от него ни на шаг. Он немедленно открывал огонь, как только появлялась цель.
В одном из переулков Губкин, выскочив из-за угла дома, чуть не столкнулся с немцем. В руках у того был карабин с примкнутым штыком. Губкин в упор выстрелил из пистолета. Фашист покачнулся, но все же сделал шаг навстречу. «Что за чудо? Неужели в панцире?!» — мелькнуло в голове у комбата. Немец сделал еще шаг, но Георгий, перехватив штык, резко рванул карабин в сторону. Смертельно раненный гитлеровец рухнул…
К вечеру Ширвиндт был взят штурмом батальонами 297-го стрелкового полка дивизии генерала Городовикова и 852-го стрелкового полка дивизии генерала Гладышева. Гарнизон Ширвиндта прекратил сопротивление и сдался.
Правее дивизии Городовикова дальнейшее продвижение соседей было приостановлено, а левее Науместиса дивизия, наступавшая на Кибартай, отстала. Батальон Губкина вырвался вперед. Для развития успеха генерал Городовиков ввел в бой свой второй эшелон.
За действиями батальона Губкина внимательно следил командарм Крылов. Дважды интересовался им и командующий фронтом генерал армии Черняховский.
На совещании командиров соединений 5-й армии незадолго до наступления было объявлено, что командир батальона, первый совершивший прорыв на территорию врага, будет представлен к званию Героя Советского Союза. Этим комбатом оказался капитан Губкин, но на него уже было послано представление к этому высокому званию за выход к государственной границе…
Накануне генерал Крылов получил запрос из штаба фронта о представлении особо отличившегося офицера к награждению орденом «Крест за храбрость». Читая шифрограмму, Крылов не сразу понял, что речь идет об американском ордене. Советские офицеры и генералы награждались президентом Рузвельтом за взятие первых городов фашистской Германии. И первую такую высокую награду получил капитан Губкин.
На третий день наступления дивизия была выведена в резерв. К этому времени фронт настолько ушел вперед от Ширвиндта, что в городе слышались лишь глухие раскаты артиллерийской канонады.
Первый начальник гарнизона Ширвиндта генерал Городовиков выстроил свои полки на городской площади. Это был первый парад советских войск на территории фашистской Германии. Полки стояли с развернутыми знаменами, медь оркестра в лучах солнца отливала золотом.
Под звуки Государственного гимна Советского Союза застыли солдаты и офицеры прославленного соединения. Генерал Городовиков, приняв рапорт, стал обходить строй. Останавливаясь перед каждым батальоном, он здоровался и поздравлял солдат и офицеров с одержанной победой. Подойдя ко второму батальону, генерал троекратно расцеловал Губкина…
На пятый день наступления 184-ю дивизию вновь ввели в сражение. 297-й стрелковый полк из района Гутвайтшена, пользуясь предутренней темнотой и дождем, выдвинулся на исходный рубеж. После тридцатиминутной артиллерийской подготовки батальон Губкина во взаимодействии с первым батальоном атаковал населенный пункт Тарпупенен. Огненным смерчем накрывали гитлеровцев гвардейские минометы «катюши». За огневым валом, почти вплотную к нему, штурмовали вражеские позиции тридцатьчетверки, следом наступали стрелки. В небе волна за волной проносились бронированные «илы»… Все было в дыму и пожарищах, рушился бетон, плавился металл, горела земля. Немцы предпринимали отчаянные контратаки, стремясь закрыть бреши, пытаясь сдержать наступление наших войск. Но все их усилия были напрасны.
Вдоль дорог по обочинам валялись разбитые повозки, трупы лошадей, людей. В самом Тарпупенене на месте домов торчали печные трубы, улицы были усыпаны битым кирпичом и стеклом, кругом не было видно ни одной живой души.
Стрелковые роты Губкина, выбравшись на рокадную дорогу, натыкались на богатые фольварки, где ни разу не падали бомбы, снаряды и мины. Во дворах бродили телята, в хлевах визжали голодные поросята, под ногами путалась домашняя птица. Батальонный повар ефрейтор Гугин готовил обеды теперь только из поросят и индеек. Было и чем запивать еду: погреба ломились от консервированных соков, вин, которые запасливые бюргеры наготовили, а с собой захватить не смогли.
Но расслабляться было нельзя. Солдаты Губкина покидали уютные теплые дома и продолжали наступление. Предстояло брать новые и новые населенные пункты, которые в Восточной Пруссии располагались особенно часто и в которых каждый дом представлял своего рода крепость. Чем дальше продвигались наши воины, тем труднее становилось вести боевые действия. Враг был еще силен. Многие немцы верили лживым призывам геббельсовской пропаганды:
«Немецкий солдат, защити свою жену. Фюрер даст в твои руки новое оружие, и мы снова погоним врага до Москвы…»
Утром батальон Губкина захватил населенный пункт Жиллен. Но дальнейший успех вопреки надеждам развить не удалось. Гитлеровцы, подтянув свежие резервы, в сопровождении своих мощных самоходных орудий «фердинанд» перешли в контратаку. «Фердинанды» били из посадок, тянувшихся вдоль дорог. Им удавалось незаметно менять позиции между деревьями и наносить внезапные огневые удары. От разрывов тяжелых вражеских снарядов вздымалась не только земля, но и асфальт на шоссе, осыпая градом камней наших солдат. Трудно было определить, откуда бьют неуязвимые немецкие самоходки.
Батальон Губкина, встретив упорное сопротивление, приостановил наступление. Чтобы возобновить атаку, стрелковые роты нуждались в подкреплении, уточнении позиций противника и восстановлении нарушенного взаимодействия. Солдаты принялись окапываться.
Капитан Губкин вывел командиров своих рот и приданных подразделений на рекогносцировку и организацию взаимодействия. Начальник штаба капитан Кудрявцев пояснил обстановку:
— Наступление батальона приостановлено противником, занимающим оборону на позициях Жилленского укрепленного района…
— Ваше предложение? — перебил его комбат.
— Предлагаю главный удар нанести левым флангом.
— Доводы?
— На этом участке у противника стык между двумя пехотными батальонами. Оборона немцев тут слабее. И местность благоприятствует применению танков и артиллерии.
Обоснование капитана Кудрявцева было веским. Но Губкин решил еще выслушать артиллеристов и танкистов. И когда те поддержали Кудрявцева, комбат неожиданно не согласился с ними.
— Товарищи офицеры! — сухо произнес он. — Главный удар придется наносить не левым, а правым флангом. Там сосредоточить все наши усилия.
Наступило гробовое молчание, офицеры не понимали своего комбата. Губкин почувствовал это и пояснил:
— В данной ситуации решающую роль в выборе направления главного удара играют соседи, которые наступают правее нас. Они составляют основную ударную силу. На них работают дивизионная и армейская артиллерия и авиация. Мы обязаны помочь им. Поэтому главный удар будем наносить на смежном фланге с соседом справа, там, где больше шансов на успех…
Губкин приступил к организации взаимодействия, сознавая, что задача будет успешно выполнена в том случае, если удастся обеспечить согласованные действия артиллерии, саперов и танкистов с пехотой. Этой работе комбат придавал особо важное значение.
Выбранная начальником штаба для организации взаимодействия и отработки совместных действий высотка с несколькими соснами не понравилась комбату. Она хорошо просматривалась противником. Но светлого времени для наступления оставалось крайне мало, и надо было спешить, поэтому Губкин не высказал возражений.
Сначала он уточнил замысел предстоящего боя и задачи стрелковых рот. Командиру шестой роты Ахметову приказал наступать на главном направлении, на смежном фланге с соседом справа.
— Будь готов, братец, — сказал он ему, — с захватом второй траншеи противника обеспечить ввод в бой роты Акимова для развития успеха!..
Затем комбат уточнил задачу командиру приданной на усиление батареи тяжелых самоходно-артиллерийских установок.
— На стыке между нами и подразделениями 157-й стрелковой дивизии, — сказал он, — патрулируют два «фердинанда».
— Не видели мы никаких «фердинандов», — возразил командир батареи.
— Идемте! — Губкин первым устремился на гребень ближней высотки. — Вон в посадках мелькают, видите? — показал рукой комбат, и тут же вражеская самоходка ударила осколочным. Снаряд разорвался совсем рядом.
Первое, что увидел Губкин, — падающие на землю офицеры, которые его сопровождали. Потом ощутил острую боль в животе; горизонт и реденькие сосны на высотке качнулись, подернулись дымкой, и вдруг все завертелось, рухнуло в бездну.
Кроме Губкина было ранено еще два офицера, один убит.
К комбату подбежал старший лейтенант Костин и, подхватив капитана на руки, понес его в низину, стараясь быстрее выбраться из зоны огня.
Сзади разорвался еще один снаряд. Костин, еле удерживая на слабеющих руках тяжелую ношу, собрал последние силы и ускорил шаг. Так, не останавливаясь, и нес комбата до подвала школы, где развернулся батальонный медпункт.
Капитан Кудрявцев временно принял на себя командование батальоном и доложил о случившемся командиру полка, а тот — Городовикову.
Печальное известие расстроило генерала. Командир передового батальона дивизии вышел из строя в самый ответственный момент. Батальону были подчинены три артдивизиона и рота танков — основные силы, предназначенные для усиления полка; Губкин успешно наступал и был близок к выполнению поставленной задачи. Оставалось менее пяти километров до шоссе Кибартай — Кенигсберг, перерезав которое, Губкин должен был воспрепятствовать противнику совершать маневры.
Кудрявцев доложил, что эвакуировать Губкина в медсанбат обычным транспортом невозможно: дороги развезло — два дня подряд шел дождь со снегом. Городовиков разрешил взять боевую машину из батареи САУ. Всех раненых разместили в самоходно-артиллерийской установке, предварительно выгрузив из нее боеприпасы.
Дорога была исключительно тяжелая: в пути раненых кидало из стороны в сторону, каждый толчок стоил им неимоверных усилий, чтобы сдерживать боль. Самоходка, двигаясь напрямик, с трудом добралась наконец до медсанбата. Командира саперного взвода, тоже раненного в живот, до места довезти не удалось — и пути он скончался. Губкина в медсанбате срочно оперировали. «На этот раз, кажется, не выкарабкаться», — с тоской подумал он, ощущая нестерпимую боль в животе.
На третий день после операции Губкин почувствовал облегчение. Его навестил Костин: дивизию вывели во второй эшелон…
Боевые друзья встретились, как родные братья, давно не видевшие друг друга.
— Мы с тобой прошли через такой кромешный ад, даже не верится, что остались живы, — сказал с грустью в голосе Губкин. — А скольких товарищей мы недосчитываемся.
Костин промолчал, чувствуя неловкость: он должен был находиться на высотке вместе с рекогносцировочной группой. И неизвестно, что было бы с ним, если бы в самый последний момент комбат не направил его осмотреть находившуюся неподалеку немецкую школу.
— Не переживай! Лучше расскажи, что ты там в той школе увидел? — спросил Губкин.
Замполит усмехнулся:
— Все то же: на стенах портреты Гитлера, Фридриха Второго и еще какой-то сволочи. Значит, вся учеба у них основана на военной подготовке с малых лет. — Костин помолчал и сокрушенно покачал головой. — Надо же было вам на ту высотку забираться?! Она ведь со всех сторон как на ладони. — Он вздохнул. — Когда поправишься, поедешь в академию, там ума наберешься.
— До академии надо войну закончить. Хорошо, что я полушубок поясным ремнем подпоясал: осколок в него угодил, а то бы насквозь меня пропорол. Так что скоро снова в строй. Жаль только, с тобой служить больше вместе не придется.
— Это почему же? — удивился Костин.
— Комдив метит тебя на повышение — парторгом полка.
— Честно признаться, ты меня этим известием не обрадовал. С батальоном нас обоих многое связывает. Столько пережито вместе…
Губкин задумался. Да, Костин стал ему как брат родной, хотя характерами они очень разные и возрастом замполит намного старше. А вот сблизились. Да так, что друг без друга жить не могут. Бывало, пройдет всего несколько часов, как нет Федора Алексеевича, а ему, Губкину, уже не хватает замполита. Вот и теперь встретились они в тиши медсанбата, поговорили по душам, и обоим стало легче на сердце.
Прощаясь с другом, Губкин с любовью смотрел на его усталое лицо. Костин, стараясь не показать своей грусти, быстро проговорил: «Ну, я пошел», — и торопливо вышел.
Ранение Губкина на самом деле оказалось на редкость удачным — осколок не задел брюшину. Поэтому дело быстро шло на поправку.
До медсанбата новости доходили быстро, быстрее, чем до передовой. Георгий уже знал о готовившемся большом январском наступлении на Кенигсберг. Теперь он мечтал в числе первых со своим батальоном ворваться в столицу Восточной Пруссии.
3
Губкин выписался из медсанбата в конце декабря. Новый, 1945 год он встречал в родном батальоне. Это был особенный новогодний вечер. Все чувствовали близость завершения войны, и каждый офицер, каждый солдат, поднимая новогодний тост за победу, готов был сделать все от него зависящее, чтобы приблизить этот желанный день.
Перед самым Новым годом генерал-полковник Крылов получил директиву генерала армии Черняховского, в которой войскам 5-й армии предписывалось наступать на направлении главного удара фронта и прорвать вражескую оборону на участке Шаарен, Кишен, а затем развивать успех в направлении на Пилькален и далее в обход Тильзита. Армии Крылова во взаимодействии с армиями генералов Людникова и Белобородова предстояло уничтожить тильзитскую группировку противника.
Перегруппировка войск в тактическом звене началась в первых числах и закончилась 11 января. Дивизия Городовикова должна была наступать в центре оперативного построения армии.
Незаметно опустилась последняя ночь перед новым наступлением. Нервы Губкина были так напряжены в тревожном ожидании часа атаки, что заснуть он, конечно, опять не мог. Не спали в эту ночь многие. О наступлении никто не говорил, о нем и так слишком много было сказано. Накануне штурма гораздо приятнее было вспоминать такую далекую от них мирную жизнь, родных и близких.
С утра 13 января погода выдалась пасмурная, туманная; эффективность артиллерийского огня снизилась, авиация не смогла подняться в воздух. Только саперы, невзирая на трудности, продолжали прокладывать путь пехоте и танкам.
Иван Латов, минер из приданного второму батальону саперного взвода, уже второй час лежал на промерзшей земле. Обезвредил одиннадцать мин. Оставалось извлечь последнюю мину, иначе танки не могли пройти по этому проходу. Но она была установлена не так, как все остальные.
Минер с тревогой посматривал на часы: время, отпущенное на выполнение задания, подходило к концу. Скоро должна начаться наша артиллерийская подготовка, которая могла захватить участок нейтральной полосы, где работали саперы. В распоряжении Латова оставалось не более двадцати минут. Надо спешить! То и дело согревая руки дыханием, Иван осторожно разгребал мерзлую землю вокруг мины. В чем же секрет? Наконец пальцы нащупали взрыватель. Он был без предохранительной чеки. Это означало, что при малейшей неточности произойдет взрыв. Еще несколько секунд прошли в поисках секрета взрывателя. От сильного напряжения сердце колотилось в груди. Но мысль работала четко, ясно. Надо что-то вставить взамен чеки. Латов вспомнил, что у него в кармане гвоздь. Повернувшись на спину, Иван достал гвоздь и осторожно нащупал взрыватель. Вот и отверстие… Но гвоздь не входит в него. Снова загадка, как быть?.. Кроме перочинного ножа, ничего нет. Начал скоблить им гвоздь. Пальцы почти потеряли чувствительность, глаза застилал пот. Капли его стекали по лицу. Сердце продолжало биться так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Наконец гвоздь вошел в отверстие…
И тут будто гром грянул над землей! Страшный гул от разрывов снарядов придавил все вокруг. У Латова уже не было сил подняться и бежать куда-нибудь от этого огненного смерча. И он остался на месте, лежал и смотрел в холодное небо, которое разрывали на куски огненные стрелы «катюш». Было девять часов утра.
Обстрел окончился. Латов внимательно осмотрел мину: все в порядке, гвоздь на месте, — и потихоньку начал поворачивать головку взрывателя. Красная точка остановилась против белой полоски, где было написано «Зихер», то есть «Безопасно». Только теперь минер наконец-то вздохнул с облегчением…
Губкин вызвал начальника штаба и осведомился о готовности подразделений. Поинтересовался, проделаны ли проходы в минных заграждениях противника.
— Нет сведений о готовности двух проходов для танков, — доложил Кудрявцев.
— Все саперы вернулись?
— Ефрейтор Латов, которому эта работа была поручена, еще не вернулся.
— Я здесь, товарищ капитан, — вдруг раздался за спиной Губкина голос Латова. — Все сделано!
— Молодец, ефрейтор! Теперь поступайте в распоряжение командира танковой роты капитана Турчака. Вместе со своими солдатами будете обеспечивать проходы для тридцатьчетверок.
Губкин посмотрел на часы: стрелки показывали десять часов пятьдесят минут. Вот-вот снова начнется артиллерийская подготовка. Только он подумал, как полыхнули залпы эрэсов, дублируя сигнал «Начало штурма». Комбат приказал приготовиться к атаке.
Ровно в одиннадцать часов по передовой прокатился клич комбата: «За Родину, в атаку, вперед!» Через проходы, подготовленные саперами, ринулись танки, за ними, за валом огня артиллерии, двинулась на штурм пехота.
Первую траншею врага взяли с ходу, во второй завязалась рукопашная. А танки, не задерживаясь, устремились дальше. Перед третьей траншеей на мине замедленного действия подорвалась тридцатьчетверка с тралом. Капитан Турчак решил выдвинуть вперед саперов, следовавших за его танком на волокуше.
Латов вскоре просигналил, что проход готов. Танки вновь рванулись вперед, а батальон Губкина, очистив от немцев вторую траншею, ворвался в третью. Однако для дальнейшего развития успеха сил не хватило: слишком много их было отдано в начале атаки. Немцы огнем из фланкирующих дотов остановили продвижение батальона.
Вражеская оборона с железобетонными укреплениями на большую глубину позволяла гитлеровцам отражать мощные атаки. Городовиков не смог выполнить обещание, данное Крылову: рубеж, который его дивизия должна была взять и на котором на следующий день вводился в сражение второй эшелон армии, пока находился в руках противника. Под угрозу было поставлено выполнение армейской операции.
И тогда Городовиков вплотную приблизил пункты управления к переднему краю. В сопровождении начальника оперативного отделения подполковника Владимирова, начальника связи майора Захарова и своего адъютанта старшего лейтенанта Кулаковского он для принятия решительных мер перешел на КНП 262-го полка, который размещался в полуразрушенном каменном доме на окраине фольварка. Командир полка переместился на КНП командира первого батальона, а тот занял НП второй роты. Вместе с общевойсковыми командирами к переднему краю продвинулись пункты управления приданной артиллерии. Отсюда, с нового места, комдив направил в полки офицеров связи, чтобы уточнить на месте и затем доставить ему информацию о том, как готовятся части к предстоящему с утра наступлению. К двадцати четырем часам все они, за исключением офицера связи 262-го полка, вернулись и доложили обстановку.
Городовиков, выслушав доклады, вызвал к аппарату командира 262-го стрелкового полка:
— Поднимешь в атаку свой первый батальон, а я — второй. Во что бы то ни стало надо прорвать первую позицию противника и расширить прорыв в глубину! Левее штурмует второй батальон 297-го полка…
— Капитана Губкина к телефону! — попросил комдив.
— Слушаю вас, товарищ Сто первый! — отозвался в трубке приглушенный расстоянием голос комбата.
— Нахожусь у твоего соседа справа. Действуешь одновременно со мной в соответствии с приказом!
— Есть, подготовить батальон для совместных действий, — ответил Губкин, а самого будто огнем обожгло: «Генерал в атакующей цепи!»
К часу ночи все распоряжения были отданы. Войска заканчивали подготовку к штурму, ждали рассвета. Бодрствовали лишь дежурные смены у наблюдательных постов, у станковых пулеметов и у орудий, выдвинутых на прямую наводку. Остальные отдыхали. Ординарец Долин уговорил наконец своего генерала спуститься в полуподвальное помещение, где было подготовлено место для отдыха. Приказав Кулаковскому и Долину тоже ложиться, Городовиков быстро заснул. Но не прошло и получаса, как все вокруг заходило ходуном: немцы начали обстрел КНП дивизии. Один из снарядов угодил в домик. Все потонуло в грохоте разрыва. Обрушились деревянные перекрытия. Дым, смешанный с пылью, застилал глаза. Долин окликнул Городовикова:
— Товарищ генерал, вы ранены?
— Кулаковский ранен, помоги ему, — сдавленно проронил комдив.
Долин кинулся к Кулаковскому.
Внезапно стало тихо, стрельба прекратилась. Долин стал бинтовать адъютанта комдива и вдруг услышал стон в той стороне, где находился Городовиков. Оказалось, что и генерал тоже ранен. Вскоре их эвакуировали в медсанбат.
На рассвете 184-я перешла в наступление. Дивизией стал командовать генерал-майор Р. Г. Максутов.
К полудню Городовикову сообщили, что его адъютант скончался на операционном столе. И хотя главный врач медсанбата запретил тревожить генерала — у него было кризисное состояние, держалась высокая температура, — среди санитаров попался бывший солдат комендантского взвода штаба дивизии, который и сообщил комдиву эту печальную весть. Смерть Кулаковского потрясла Басана Бадьминовича. Он попросил, чтобы в последний путь адъютанта пронесли мимо его окон.
Кулаковский лежал на своей черной кавалерийской бурке, полы которой свисали с санитарных носилок и были похожи на перебитые орлиные крылья. Когда процессия поравнялась с окнами палаты Басана Бадьминовича и остановилась, раненый комдив попытался приподняться, но не смог. Лишь глухо застонал от скорби и бессилия. Адъютант как живой стоял перед его взором.
Год назад Кулаковский молодцевато докладывал командиру 8-й кавдивизии Петру Алексеевичу Хрусталеву: «Товарищ генерал! По вашему приказанию прибыл!»
8-я кавдивизия вводилась в прорыв на соседнем участке. Городовиков хорошо знал Хрусталева по совместной службе, когда оба они командовали полками в 8-й кавдивизии. Басан Бадьминович приехал в район сосредоточения оперативных резервов, нашел Хрусталева. Встретились они тепло, разговорились, вспомнили молодость. Им тогда и тридцати-то не было…
И сейчас Городовиков до мельчайших подробностей вспомнил свой разговор с Хрусталевым.
— Ты, должно быть, помнишь моего бывшего адъютанта сержанта Гришу Кулаковского? — спросил Городовиков.
— Как не помнить такого наездника? Сейчас он уже офицер, в звании лейтенанта.
— Слушай, отдай мне его снова в адъютанты.
— Как это «отдай»? Он все же командир взвода! — возразил Хрусталев.
— И все же прошу, вызови его сюда…
Кулаковского разыскали быстро, и он предстал перед генералами. На голове щеголевато сидела кубанка, голубые петлицы красовались на гимнастерке, лицо дышало молодостью и здоровьем. Басан Бадьминович уже менее уверенно пригласил его к себе в дивизию. Он хорошо знал, как трудно из кавалерии заманить офицера в пехоту. Кулаковский был смущен столь неожиданным приглашением. Да и нелегко было ему, кавалеристу, расставаться с конницей, с Галочкой — так звали его любимую серую кобылицу. Городовиков, как будто читая его мысли, продекламировал:
— И знаешь, почему Теркин так сказал? — Городовиков проникновенно посмотрел в глаза продолжавшего молчать Кулаковского. — Потому что суть дела, дорогой товарищ, в пехоте! Она начинает и завершает бой. Ей первые трофеи. Что там твои танки пройдут или самолеты отбомбят! Пока не пройдут стрелки и не вытащат за шкирку фашистов, победы нет. Вот что такое царица полей — матушка-пехота!
— Товарищ генерал, не знаю, что и ответить вам, — пожал плечами Кулаковский.
— Гриша, — продолжал соблазнять Городовиков, — дам я тебе коня, выберешь лучшего во всей дивизии.
— Как командир дивизии прикажет, так и будет, — окончательно растерялся Кулаковский.
— Хорошо, товарищ лейтенант, если вы согласны, мы переведем вас, — вздохнул Хрусталев.
Вот так и получилось, что Кулаковский приехал в дивизию Городовикова с предписанием.
Теперь Басан Бадьминович с горечью думал, что, если бы он не взял к себе Кулаковского, тот, может быть, и остался бы жив. Хотя, с другой стороны, на войне никто не знает, где он может погибнуть. Иного в тылу настигнет вражеская бомба, а другой и на переднем крае останется невредимым.
Тем временем 184-я дивизия развивала наступление. Батальон Губкина после тяжелых боев 15 января овладел населенным пунктом Кампен. Отбив несколько контратак, он понес большие потери, но закрепился на достигнутом рубеже.
На пути к Кенигсбергу Губкин терял боевых товарищей, все меньше оставалось рядом с ним верных соратников, закаленных в боях. Война имеет свои жестокие законы. До сих пор ничего не было известно и о судьбе без вести пропавшего брата Василия. И если раньше Георгий питал какие-то надежды разузнать что-либо о нем, то теперь понял, что до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена восточно-прусская группировка противника, такая возможность вряд ли представится.
Порой на душе становилось особенно тяжко. И в такие минуты Георгий почему-то думал о приемной дочери жены брата Алевтины. Ему очень хотелось, чтобы нашлись родители девочки, хотя по переписке знал, что для Алевтины это было бы еще одним ударом. Она полюбила девочку, Галя напоминала ей родную дочь. Девочка тоже привязалась к Алевтине и уже не представляла себе, что у нее может быть другая мама.
В штабе дивизии были серьезно озабочены отсутствием данных о группировке противника. Дивизионная разведка провела несколько операций, но захватить «языка» не удалось — немцы занимали заранее подготовленную оборону, за исключением труднопроходимых прогалин, которые простреливались пулеметно-минометным огнем.
Неудачные действия разведки вызвали раздражение нового командира дивизии генерала Максутова. Подавленное настроение комдива мог понять каждый, кто хоть немного знал историю первой мировой войны. Полки дивизии 3-го Белорусского фронта вышли к инстербургским лесам, к тем самым местам, где в 1914 году из-за слабой организации разведки погибла 2-я русская армия генерала Самсонова.
Спустя тридцать лет обстановка складывалась еще более сложная, чем тогда. Если самсоновская армия наступала в Северо-Восточной Пруссии в августе, то армия Крылова вела боевые действия в январские морозы. Инстербургские леса и снежные заносы были серьезным препятствием. На дорогах гитлеровцы часто устраивали лесные завалы, минировали их. Свернув с дороги, солдаты тоже натыкались на различного рода «сюрпризы».
Губкину и в голову не приходило, что здесь, в Восточной Пруссии, могут быть такие дремучие леса с вековыми дубами и мачтовыми соснами, а снежные сугробы — почти в рост человека… Все это не позволяло просмотреть глубину обороны противника. К тому же враг искусно маскировался, невероятно трудно было обнаружить его огневые точки.
И все же, несмотря на это, батальону Губкина удалось занять более выгодные позиции. Неожиданно к нему на командно-наблюдательный пункт приехал командир полка подполковник Басеров. Он сообщил, что дивизионная разведка не справилась со своей задачей и что комдив теперь надеется на его батальон.
— Георгий Никитович, как никогда, нужен «язык»! На твоем участке создались наиболее благоприятные условия.
— Товарищ подполковник, сделаем все возможное! — заверил его комбат.
Губкин, проводив комполка, решил направить для захвата «языка» взвод автоматчиков. Одновременно он поставил командиру взвода задачу: одному отделению во главе с помкомвзвода переправить пленного, самому же с двумя другими отделениями остаться в тылу врага, чтобы с началом нашего наступления открыть автоматно-пулеметный огонь и создать панику в рядах противника.
На своем правом фланге Губкин артиллерийским огнем отвлек внимание немцев. А в это время на левом фланге взвод автоматчиков проник через нейтральную зону и углубился в лес, в расположение противника. Сорок минут — время, назначенное для выхода на связь по радио, — прошли незаметно. Взвод должен был уже добраться до места. Но пока никто на связь не выходил. Губкин уже стал тревожиться за судьбу автоматчиков. Немцы могли намеренно пропустить их к себе в тыл, а затем захлопнуть всех, как в мышеловке, окружить и уничтожить.
Невеселые раздумья Губкина нарушил телефонный звонок. Комбата вызвал к аппарату Басеров.
— Есть ли какие-нибудь результаты разведки? — нетерпеливо спросил он.
— Ждем, — коротко ответил комбат.
— Информируйте немедленно! Командарм интересовался разведданными.
Взять «языка» при сплошном фронте на заранее подготовленной обороне было делом чрезвычайно сложным. Начальник разведки дивизии заранее посчитал поиск силами батальона напрасной затеей.
Не успел комбат переговорить с подполковником Басеровым, как в снежную траншею ввалился разгоряченный капитан Лакизо. Губкин, расставшись с капитаном Поздеевым, с трудом привыкал к новому заместителю по строевой части. В свои тридцать пять лет Лакизо был тучен и медлителен. Губкин пока еще не знал, что под заурядной внешностью капитана скрывается сильный характер смелого и мужественного человека.
— Товарищ капитан! Немецкий офицер вышел к нейтральной полосе и вызывает вас, — сообщил Лакизо.
— Так прямо по фамилии и вызывает?
— Именно так. Прошлой ночью немцы посвятили целую радиопередачу нашему батальону. Знают, черти, что мы раньше других вышли к границе сорок первого года. Батальон наш называют пластунским и расписывают всякие небылицы о пластунах. Им даже известно, что вы награждены Рузвельтом орденом «Крест за храбрость». Неплохо у них работает разведка? Немецкий офицер вызывает вас на рыцарский поединок.
— И что же вы предлагаете?
— Прежде всего получить разрешение командира полка.
— Рассчитываете, что удастся гитлеровца захватить в плен?
— Да. У нас нет другого выхода, семь бед — один ответ. Только вместо вас я пойду!
— Гитлеровцы, видимо, обрисовали меня так, что номер не пройдет. К тому же вы медлительны, а все будут решать мгновения. И стреляю я лучше.
— Тем не менее следует доложить подполковнику Басерову, — настаивал на своем Лакизо.
— А вот в этом не вижу необходимости. Нам поставлена задача взять пленного, что же касается сил и средств выполнения этой задачи, то это уж дело хозяйское. Да и время не терпит.
— Как бы то ни было, капитану корабля не положено первым оставлять корабль, — продолжал возражать Лакизо. Замкомбата самому хотелось отличиться в поединке.
— Но у нас с вами не корабль, а батальон на поле боя. Если не возьмем «языка», то нас бросят в разведку боем. Вот тогда-то в лобовой атаке можно недосчитаться не только командира батальона, но и многих офицеров и солдат. Победа, брат, такая штука, приходится рисковать!
После недолгого раздумья Губкин вместе с Лакизо отправились на передний край. Вскоре они вышли к нейтральной полосе.
— Ну где же твой немец? — спросил комбат.
— Вон там, где высокая сосна у дороги, — показал рукой Лакизо.
Гитлеровец находился в каких-то двухстах метрах от них.
Губкин в бинокль стал рассматривать его.
— Что он кричит? — спросил комбат, не отрываясь от бинокля.
— Кричит: «Капитан Губкин, если ты такой храбрый, то выходи мне навстречу!» — перевел Лакизо. — Говорит, что он король воздуха, ас люфтваффе, сбил шестнадцать советских самолетов, а сейчас сражается на земле, чтобы защитить свой дом, свою родину — Восточную Пруссию.
Появление летчика на поле боя не очень удивило Губкина. Гитлер снимал солдат и офицеров, уроженцев Восточной Пруссии, с подводных лодок, кораблей, отзывал из авиации и направлял сражаться сюда в составе группы армий «Север». Накануне капитану рассказали, какие напряженные бои шли на участке соседнего полка с женским батальоном противника, который составили жены погибших на Восточном фронте. Фашистская Германия готова была на все, чтобы удержать Восточную Пруссию.
После некоторых колебаний Губкин медленно пошел навстречу немецкому офицеру, знаками подзывая его к себе. Он прошел уже метров пятьдесят, напряженно следя за каждым движением гитлеровца, стремясь уловить тот самый момент, который может оказаться для него роковым, если фашист сумеет опередить его и выстрелит первым. Гитлеровец на фоне ослепительно белого снега выглядел эффектно: приближался смело, твердо и уверенно. Расстояние между противниками неотвратимо сокращалось. Комбат уже слышал, как скрипит снег под сапогами фашиста, видел, что расстегнутая кобура с парабеллумом на ремне чуть сдвинута набок и мерно покачивается в такт его шагам. Другого оружия у немца Губкин не заметил.
Вот уже только узкая полоска заснеженной земли разделяет непримиримых врагов. Эта черта должна стать для одного из них роковой. Губкин уловил нервозность в движениях немца: он то пытался прикоснуться к парабеллуму, то судорожно отдергивал руку. Наконец оба замедлили шаг, не спуская друг с друга глаз, и рука фашиста скользнула в кобуру. Губкин первым выхватил из-за пазухи свой второй пистолет ТТ и выстрелил. Гитлеровский офицер опоздал на доли секунды. Рука его беспомощно опустилась, и пистолет выпал из нее. Раненый рухнул в снег… Под прикрытием огня группа захвата оттащила обер-лейтенанта в расположение батальона.
Пленному оказали медицинскую помощь, попытались его допросить, но тот наотрез отказался давать какие-либо показания. Губкин приказал капитану Кудрявцеву привести пленного к нему. Хотя гитлеровский ас был нетрезв, он сразу узнал командира пластунского батальона — так тот был представлен ему немецкой разведкой — и вытянулся по стойке «смирно», придерживая раненую руку. Хмель сразу вышибло.
Губкин вплотную подошел к нему.
— Кудрявцев, переведите: если он сейчас же все не расскажет, то будет расстрелян. — Губкин уставился жестким взглядом на пленного. Тот не выдержал и неожиданно заговорил на ломаном русском языке:
— Нумерация противостоящих частей и их укомплектованность — это мелочь. Против русских солдат Гитлер приготовил секретное оружие!
— Нет у вас никакого секретного оружия! Все это геббельсовская брехня, — не сдержавшись, грубо оборвал его Губкин.
— Есть. И ваша доблесть поблекнет перед этим оружием. Вы своими глазами увидите эту страшную силу. И очень скоро.
— Что же это за оружие? Сверхсильная бомба?
— Сильнее бомбы! Ваши войска в мгновение ока будут повержены. Они придут в себя, когда мы уже будем в Москве!
— Обер-лейтенант, вы изрядно хлебнули шнапса…
— Если нас пропустят через линию фронта, капитан, вы сами убедитесь в этом. Такое оружие изобрел мой брат!
— Мы вас расстреляем, если не расскажете, какие реальные силы и средства противостоят на нашем участке.
— Все это чепуха против того секрета. Он известен мне одному. Перед вашим батальоном и его соседями действует всего-навсего полк фольксштурма. Но вы, капитан, очень скоро убедитесь, что я не болтун.
Окончив допрос, Губкин направил пленного в штаб дивизии.
Получив «добро» Басерова, он немедленно атаковал противостоящего противника. На помощь трем артиллерийским дивизионам, приданным батальону, пришли полковая и дивизионная артиллерийские группы. Под гром артиллерийской канонады четвертая и пятая стрелковые роты ворвались в первую траншею. Несколько десятков человек в гражданской одежде, вооруженные автоматами, сразу сдались в плен. Некоторые пытались бежать, но очереди наших пулеметчиков настигали их. Затем бойцы с ходу овладели второй траншеей. В это время взвод автоматчиков, который был послан ранее в разведку и находился в тылу врага, прорвался к штабу немецкого полка. Это вызвало панику, гитлеровцы стали сдаваться в плен целыми подразделениями.
К одиннадцати часам Губкин доложил командиру полка, что в плен взято семьсот немцев, среди них и старшие офицеры. Полк фольксштурма, сформированный в Кенигсберге, был разгромлен батальоном за несколько часов и перестал существовать как боевая единица. Лишь нескольким офицерам штаба удалось бежать.
Подполковник Басеров, поздравив комбата с победой, полушутя сказал:
— О твоей «дуэли» узнал сам Черняховский! Думали, всем достанется по первое число, но пронесло…
В направлении Кенигсберга шли ожесточенные бои. Серьезным препятствием явился город Инстербург с его внутренним и внешним обводами, с укрепленными районами. Гитлеровцы, потеряв надежду устоять под ударами наших войск, стали действовать особенно изощренно.
Командир пятой роты Акимов доложил Губкину:
— Товарищ Шестьдесят первый (это был новый позывной комбата), впереди бурлит река!
— Не может быть, до реки еще шагать и шагать. Если даже она есть, то давно подо льдом.
Комбат недоумевал, в чем дело. Но тут его попросил к телефону командир четвертой роты и сообщил то же самое.
Вскоре Губкин и сам увидел, что невесть откуда появившаяся вода накатывается на его батальон. Солдатские цепи стали прижиматься к единственной возвышенности на этом участке — насыпи шоссейной дороги, ведущей на Инстербург.
Губкин вытащил свою топокарту. Взгляд его упал на условные знаки плотин на реках Инстера и Ангерапп. Только теперь он сообразил, что немцы, взорвав плотины, затопили поймы рек.
Уровень воды неумолимо поднимался, и было жутко видеть бурлящую водную стихию. Батальон сомкнулся почти в колонну. Четвертая рота двигалась по правой стороне дороги, пятая — по левой, шестая шла за ними. Вот-вот наступит рассвет, и люди на шоссе окажутся как на ладони.
Враг пока не стрелял, но вода при температуре воздуха минус двенадцать становилась опаснее огня противника. Губкин собирался уже отдать приказ об отходе, но не успел. Его вызвал к телефону Басеров и запретил это делать — во что бы то ни стало надо зацепиться за окраину Инстербурга. Губкин пытался возражать, говорил, что все вокруг затоплено, но Басеров и слушать не хотел.
Внезапно раздались взрывы огромной силы: это немцы взорвали еще одну плотину. Вскоре вода забурлила уже по шоссе. Комбат все же вынужден был отдать приказ об отводе артиллерии и станковых пулеметов.
— Шестьдесят первый, почему у тебя артиллерия отходит? — загремел по телефону комполка.
— Огневые позиции затопило. Вести стрельбу невозможно.
— Думаешь, повторить штурм будет легче? Меняй направление атаки, бери вправо, там местность выше и не залита водой.
— Боевые порядки рот смешаются с подразделениями соседа.
— Черт с ними! Атакуйте противника, там разберемся!
Солдаты батальона Губкина, выйдя на рубеж соседей справа, обнаружили и здесь разлившуюся на метр поверх льда реку.
Наступал туманный рассвет. Уровень воды начал спадать, но крайне медленно. Вражеские пулеметы трассирующими пулями прижимали солдат Губкина к воде, батальон нес потери. Назад возвращаться было нельзя, слева фланкировал пулемет. Пришлось идти вперед по колено в ледяной воде. Брюки и полы шинелей солдат заледеневали. По цепи передали, что до противоположного берега менее двухсот шагов. Все встрепенулись, понимая, что тот, кто успеет преодолеть эти двести шагов, останется жив: того берега пулеметные очереди врага уже не достигали. Но солдаты промерзли до костей. В холодной воде ноги сводила судорога. Даже двойная доза спирта не согревала людей. А враг продолжал поливать свинцом, и падали бойцы Губкина, сраженные, в ледяную воду. Те же, кому удалось достичь берега, не чувствуя уже ни холода, ни страха, ни усталости, устремились на вражеские позиции.
В ночь на 22 января батальон Губкина с боем вошел в горящий Инстербург. На окраине города валялись покореженные пушки, у самой дороги с дубовыми посадками торчали сгоревшие немецкие танки и остовы автомашин. Батальон Губкина наступал плечом к плечу с бойцами соседней дивизии генерал-майора А. А. Казаряна.
К шести часам утра войска Черняховского полностью овладели Инстербургом.
В тот же день в приказе Верховного Главнокомандующего было отмечено, что город являлся «важным узлом коммуникаций и мощным укрепленным районом обороны немцев на пути к Кенигсбергу».
Надо было продвигаться дальше, но наступавших ожидал Хайльсбергский укрепленный район, хорошо подготовленный к обороне, с долговременными огневыми точками.
Прорыв такой обороны с фронта мог принести большие потери. Генерал Крылов обратился к Черняховскому с просьбой разрешить ему нанести удар в обход с севера. С этой целью он направил 184-ю дивизию на Цедяу-Брух. Батальон Губкина в составе передового отряда, усиленный танками, в сильный мороз совершил стремительный двадцатикилометровый марш и вышел к реке Фришинг. Затем двинулся на юг, в направлении на Прейсиш-Эйлау.
Немецко-фашистское командование требовало от своих войск держаться до последнего солдата. Слабодушных, трусов и паникеров расстреливали на месте. Сдавшихся в плен заочно приговаривали к смерти, а их семьи отправляли в концлагеря. Солдат всячески запугивали русским пленом, чтобы каждый из них сражался до конца. Фашисты ни с чем не считались ради того, чтобы не пропустить наши войска к заливу Фришес-Хафф и избежать окончательного окружения своей кенигсбергской группировки. На рубеже Немриттен, Клаусситен боевые действия затянулись на целую неделю. Немриттен и Клаусситен несколько раз переходили из рук в руки.
Несмотря на неимоверные трудности, во второй половине февраля Кенигсберг был полностью окружен войсками генералов Людникова, Галицкого, Крылова. Среди солдат ходили слухи, что в день Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии Черняховский будет принимать парад войск в Кенигсберге.
Но 18 февраля случилось непоправимое — погиб Черняховский. Никто не хотел этому верить, невыносимо тяжело было даже подумать о происшедшем. Многие только вчера видели Черняховского на переднем крае — и вдруг его не стало. Самый молодой командующий фронтом, один из талантливейших полководцев Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский пал, как солдат, на поле боя от осколка вражеского снаряда.
Весть о гибели Черняховского молнией облетела войска 3-го Белорусского фронта. Всех охватила ярость и гнев. Полки рвались в бой. Еще продолжали выполняться приказы Черняховского, все теснее сжималось стальное кольцо вокруг Кенигсберга. К фронту подходили свежие оперативные резервы советских войск.
Губкин во главе сводной роты, представлявшей дивизию, утром 19 февраля прибыл в Вильнюс проводить в последний путь любимого командующего. 20 февраля состоялись похороны Черняховского. Рота вместе с другими воинскими частями дала прощальный салют. А на следующий день Губкин опять уже находился на боевом рубеже, готовя батальон к штурму цитадели прусского милитаризма. Он знал, что лучшим памятником Черняховскому будут новые победы над врагом.
Осматривая огневые позиции артиллерийского дивизиона, поддерживающего его батальон, Губкин увидел, как заряжающий одного из орудий мелом писал на снарядах: «Смерть Гитлеру! За Черняховского!»
— Как фамилия? Откуда родом? — спросил комбат.
— Карпухин, из Горького, — ответил солдат.
— Уверен, что твой подарок будет доставлен адресату?
— Уверен, товарищ комбат! Эти снаряды достанут фашистов, будь они хоть под землей. Таково наше солдатское слово!
Губкина вызвал к телефону Городовиков, только что вернувшийся из госпиталя.
— Батальон готов отомстить за гибель генерала армии Черняховского?
— Готов!
— Проверьте и согласуйте свои действия с соседями!
Ночью Губкин не сомкнул глаз. Мысли его все время возвращались к Черняховскому. Сердце сжималось от боли…
Наутро он повел в наступление свои роты, усиленные девятью тридцатьчетверками и тремя артиллерийскими дивизионами. Это был тот случай, когда батальон по своей мобильности и маневренности равнялся полку.
Гитлеровские войска на этом направлении, по существу, отступали, за ними уходило население. Вереницами тянулись беженцы с узлами, чемоданами, дороги были забиты.
Параллельно асфальту, по грунтовой дороге, худые лошади тянули старинные фаэтоны, двуколки с массивными колесами, нагруженные домашним скарбом. Севернее все сильнее грохотала артиллерийская канонада, воздух сотрясали частые взрывы. Толпы беженцев, словно подталкиваемые взрывной волной от разрывов своих же снарядов, инстинктивно жались к колонне батальона Губкина. Шагавшие во главе колонны старший сержант Примак, рядовые Чернобаев, Чуев и Герасименко с жалостью глядели на обездоленных детей, стариков и женщин.
После почти четырех лет войны фронт придвинулся к ним. Немцы уже хорошо понимали, что война проиграна Гитлером, и проклинали его, но от этого им не было легче. Они сознавали, что никто и ничто не сможет возместить утрат и облегчить их участь.
Дорога упиралась в фольварк, на подступах к которому гитлеровцы заняли оборону. Снова бой. Беженцы остановились, смешались, но после того, как среди них стали рваться немецкие снаряды, бросились в кюветы, наполненные ледяной водой.
Танки и артиллерия по приказу Губкина открыли ответный огонь по позициям противника. К двенадцати дня солдаты второго батальона ворвались на окраину одного из населенных пунктов, расположенных на южных подступах к Кенигсбергу.
Засевшие в каменных домах фашисты все еще продолжали огрызаться. Рвались мины и снаряды, строчили вражеские пулеметы.
Комбат остановился, чтобы сориентироваться на местности. И солдаты его вырвались вперед. Вокруг было пустынно. Только над сожженным домиком вился одинокий аист. Покружил, покружил и улетел куда-то на запад, где не рвались снаряды. Георгий не ведал, что аиста, оказывается, спугнул вражеский снайпер, засевший в развалинах дома на противоположной стороне улицы и уже взявший его на прицел.
Прозвучал выстрел. Георгию показалось, будто его топором ударили по кисти руки. От неожиданной и резкой боли он упал. В этот момент недалеко разорвался снаряд, каленым железом обожгло ему грудь. Комбат сгоряча попытался встать, но не смог. Голова закружилась, подступила тошнота и слабость. Губкин ощупал рану, слипшимися пальцами хотел достать индивидуальный пакет, но силы оставили его. Надо позвать санитара, он напрягся, но вместо крика вырвался хрип. «Значит, судьба погибнуть!» — пронеслось в голове.
Что было потом, он не помнил. Колокольный звон наполнил голову, закрутилась стоявшая рядом сосна, в небе поплыли розовые облака. Откуда-то издалека вдруг донесся стон. Губкин попытался встать, но не смог.
Он очнулся от пронизывающего холода, попробовал приподняться, но кто-то держал его. Он осмотрелся — полушубок его примерз к земле. Он напрягся, ему все же удалось чуть приподняться. Георгий увидел, что рядом с ним весь в крови лежит командир минометной роты капитан Парскал. «Кто примет командование батальоном?..»
А бой все удалялся на запад. Санитаров поблизости не оказалось, они ушли за атакующими цепями. Губкин стал звать на помощь, но, обессилев, вновь впал в забытье.
Жизнь и смерть передавали его из рук в руки. Вот он снова очнулся и по редким выстрелам и отдаленной стрельбе из автоматов и пулеметов понял, что бой отдалился, но не разобрал, в какую сторону. На чьей земле лежит он? Если наши отошли, то ему грозит неминуемая смерть. Сил не хватит, чтобы оказать гитлеровцам сопротивление. И все-таки он не терял надежды, что выживет, что находится он если не на своей территории, то хотя бы на нейтральной полосе.
В бреду он с кем-то разговаривал.
Проходивший мимо солдат-артиллерист накрыл его плащ-палаткой, а сам поспешил за своим орудием. Артиллеристу было невдомек, что этим он оказал Губкину медвежью услугу: солдаты из второго эшелона батальона пробежали мимо своего раненого комбата, не заметив его.
Спустя полчаса Губкин снова очнулся и услышал, что рядом кто-то остановился. Очевидно, люди были не из его батальона, потому что, приоткрыв плащ-палатку, не узнали его. Они что-то говорили, но слова их доносились откуда-то издалека. Лица он тоже не различал, они расплывались перед глазами. Губкин никак не мог выбраться из непроницаемой пелены тумана. И вдруг до него донесся знакомый голос начальника оперативного отделения дивизии Владимирова:
— Это же командир второго батальона! Неужели убит?
От неимоверной слабости Губкиным овладело полное безразличие ко всему. Но, осознав, что он может оказаться заживо погребенным, Георгий собрал свои последние силы и шевельнул рукой. Ощутив в ней тягучую боль, застонал.
На крик Владимирова прибежали санитары. На носилках они отнесли Губкина и Парскала в дом, где располагался батальонный медпункт.
В печке догорали дрова, положенные туда еще немцами. Было тепло. Губкин почувствовал себя получше, хотя по-прежнему болела рука и жгло грудь. Бомбежка теперь была нестрашна. От осколков раненых надежно укрывали толстые кирпичные стены. Некоторые в тепле сразу задремали. И вдруг невдалеке началась стрельба. По звуку можно было определить, что строчат немецкие пулеметы.
Один из солдат, сидевший на окне, пронзительно закричал:
— Немцы!
Неожиданное появление врага застало раненых врасплох. У многих не было оружия. Только бывалые солдаты сохранили автоматы и даже гранаты.
Немцы были совсем близко, и рассчитывать на какую-либо помощь не приходилось. В доме, где располагался батальонный медпункт, все пришло в движение. С пола, устланного матрацами, поднялись легкораненые. Они метались от окна к дверям, не зная, что делать. Жалко было смотреть на тех, кто был неподвижен, не мог даже ползком пробиться к выходу. Было до крайности обидно, что смертельная опасность подстерегла их вдали от переднего края.
Губкин понимал, как важно вовремя пресечь панику, и, превозмогая боль, скомандовал:
— Слушай приказ! Всем, кто может держать оружие, быстро занять оборону вокруг дома! Тяжелораненым оставаться на местах, пока не отобьем атаку!
Все, кто могли, тут же выбрались на улицу и заняли круговую оборону.
Оказалось, что около роты немцев прорвалось в тыл батальона. Раненые солдаты открыли огонь по врагу. Гитлеровцы залегли и стали отползать в лощину. Они и не догадывались, что их обстреляла горсточка раненых…
Когда опасность миновала, Губкина, Парскала и с ними еще нескольких раненых на санитарной машине эвакуировали в медсанбат, располагавшийся в пяти километрах от батальонного медпункта. В палате, в которую поместили Губкина, стонал человек с ампутированной ногой, рядом с ним лежал раненый со сплошь забинтованной головой. Он был без сознания. В палате стоял спертый, тяжелый воздух, пахло йодом и кровью. Георгий Никитович с душевным состраданием смотрел на раненых однополчан. Чужая боль ему казалась больнее своей, хотя он и сам был тяжело ранен.
Врачи тут же распорядились положить Губкина на операционный стол.
— Доктор, не торопитесь! — попросил он. — Это мое пятое ранение. Так что опыт кое-какой по этой части имею. Я чертовски устал и хочу уснуть.
— Так можно все проспать, — заметил молодой врач.
— Не проспим! Сделайте только противостолбнячный укол. А как проснусь, сразу на операционный стол или прямым ходом в армейский госпиталь, в Каунас.
Там, в госпитале, он мог встретиться с Музой. В глубине души Георгий надеялся на это…
Однако Губкина оставили в медсанбате. На рассвете женщина-военврач разбудила его. Все было готово к операции. Под местным наркозом она вытащила пулю из руки Губкина, очистила рану, а грудную клетку в условиях медсанбата вскрывать не решилась.
После операции Георгий снова уснул. Во сне ему привиделось, будто мать поит его настоем из красных ягод и зерен лимонника. Этот домашний эликсир не раз во время болезни возвращал ему силу и бодрость. Он попытался было заговорить с матерью, но не услышал своего голоса и испугался. Потом вдруг перед глазами раскинулся широкий Амур, затопивший их домик в Семидомке. Георгий оказался по пояс в воде, которая крутила его, тянула на дно. Он хотел броситься вплавь, но руки не слушались. И внезапно все исчезло.
Яркие лучи солнца били через окно прямо в глаза. Губкин проснулся. Вспомнил сон, и опять всколыхнулось в памяти прошлое: словно в тумане, возникли перед ним лица сына, матери… Постарался представить свою дочурку, которую ни разу еще не видел. Горечь обиды и ненависти нахлынула на него при мысли о жене. Он мог бы простить ей все, но измену никогда.
…После обеда Губкина и Парскала вместе со всеми тяжелоранеными эвакуировали в Каунас. Санитарная машина вскоре выехала с проселочной дороги на шоссе. Глубокой ночью прибыли в армейский госпиталь. Разместили их в общей палате.
В этом госпитале Георгий был уже не в первый раз, знал многих врачей и сестер. Когда его положили на операционный стол, он спросил:
— Кто будет оперировать?
— Подполковник медицинской службы Четверяков, — ответила медсестра Лида Аникина: — Здравствуйте, товарищ капитан. А я вас сразу узнала.
— Вот как? — удивился Губкин. И не вытерпел, спросил: — Скажите, а Муза Собкова здесь?
— Отдыхает после ночного дежурства. Позвать ее? Хотите, чтобы она ассистировала?
— Нет, ни в коем случае! — В эти минуты ему не хотелось встречаться с Музой, как бы она ни была дорога и близка ему. Она спасла его, дала свою кровь. Казалось, не год, а вечность прошла с тех пор, как они расстались (тогда госпиталь располагался в Гжатске), но Георгий помнил каждую минуту их встречи. Разговор Губкина с медсестрой прервал вошедший главный хирург.
Дали наркоз, началась операция. Четверяков, насколько мог, глубоко вскрыл грудную клетку, но осколка не обнаружил…
Когда Губкин на другой день пришел в себя, то первое, что он увидел, было заботливое лицо склонившегося над ним хирурга. Четверяков, видно, узнал своего старого пациента.
— Что же это вы, батенька, так часто подставляете себя под вражеские пули и осколки? — спросил он, бросив мимолетный взгляд на забинтованную грудь капитана.
— Чему быть — того не миновать! — тихо проговорил Губкин. — Доктор, покажите, пожалуйста, осколок, — попросил он.
— Осколок где-то глубоко застрял в мягких тканях. — Четверяков отвел глаза. — Достать его, к сожалению, не удалось, но рану очистили и обработали надежно.
Губкину все остальное уже было неинтересно, его бросило в холодный пот. Сообщение хирурга для него было полной неожиданностью.
— Доктор, что же теперь будем делать? — слабым голосом спросил он.
— Надо ждать, пока заживет рана. А за это время посмотрим, как себя поведет осколок. Хирургическое вмешательство допустимо только в самом крайнем случае.
Только в двенадцатом часу ночи Муза узнала от своей подруги, что Георгий в госпитале. Та рассказала ей, как прошла операция. Муза кинулась было к нему, но что-то удержало ее.
Она долго не могла заснуть. Что связывает их с Георгием? Вновь и вновь задавала она себе этот вопрос. Любовь? А если не любовь, то что?
Наутро не выдержала, на цыпочках подошла к его изголовью. Губкин не спал. И она, поддавшись внезапному порыву, нагнулась и поцеловала его в колючую щеку.
Лицо Георгия осветила улыбка. Сколько раз в минуты затишья между боями он вспоминал девушку! Ему показалось, что она похудела и осунулась.
— Все грудь подставляешь фашистам? — мягко укорила его Муза.
— Главное, видишь, живой!
— Живой-то живой, а рана опять тяжелая.
— Если б на сантиметр левее, — сказал Губкин, — то, возможно, никогда больше и не встретились бы.
— Что же треугольнички мне редко посылал?
— Не до этого было!
— Знаю, читала в «Правде». Многое узнала от офицеров вашей дивизии. Все в один голос твердили: «Отличился при выходе на границу, бедовый, не сносить ему головы!» Разве так можно?
— Война, что поделаешь, сестричка! Я тоже спрашивал раненых после излечения. Отзываются о тебе с благодарностью.
— Все-таки вспоминал свою Музу?
— Как же иначе, жизнью обязан!
— Только поэтому?
— Не только. Без Музы жизнь плохая…
— Какой ты горячий! — Муза невольно потянулась рукой ко лбу Георгия. — Температура все-таки держится! — Она нежно погладила его по щеке. — Тебе что-нибудь принести?
— Спасибо, родная, не надо ничего. Разве что сибирских пельменей, — он улыбнулся.
— Пока нельзя. Потерпи немного.
Ей хотелось сделать для Георгия что-нибудь приятное. И через несколько дней с разрешения палатного врача она взялась за приготовление пельменей. Все у нее получилось, жаль только, что не хватало черного перца. Его нигде не могли достать. Госпитальный шеф-повар сказал, что во всем Каунасе сейчас не найти перца, и посоветовал положить побольше луку.
К вечеру Муза торжественно внесла в палату любимое кушанье Георгия. Аромат сибирских пельменей заполнил комнату. Губкин благодарно смотрел на девушку…
На двенадцатые сутки он пошел на поправку. Осколок в груди пока не беспокоил, а рука в гипсе быстро заживала. Пальцы обрели подвижность. Это радовало Георгия. Капитан Парскал часто навещал его. Они подолгу разговаривали, обсуждая ход военных действий в Восточной Пруссии.
В один из солнечных дней в конце марта Губкина вызвал к себе заместитель начальника госпиталя по политической части.
— Как думаешь, зачем я мог ему понадобиться? — спросил Губкин Парскала.
— Трудно сказать…
— У меня осколок в груди сидит. Видимо, будет агитировать за нестроевую службу.
— Один, без комиссии, он не будет этим заниматься, — возразил Парскал.
Когда Губкин вошел в кабинет замполита, тот, улыбаясь, встал ему навстречу:
— Товарищ майор, читайте, — и протянул ему «Правду».
Строчки поплыли перед глазами. Указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года звание Героя Советского Союза присваивалось генерал-полковнику Крылову, генерал-майору Городовикову, капитану Губкину, старшему лейтенанту Костину и старшему лейтенанту Зайцеву (посмертно).
— Разрешите мне сердечно поздравить вас с высокой наградой! — подполковник пожал ему руку. — Командование госпиталя по этому случаю решило устроить торжественный ужин. Кого бы вы хотели пригласить? С нашей стороны будут главный врач, главный хирург — известный вам подполковник Четверяков, парторг госпиталя и я.
— Спасибо. Вам и без того забот хватает, — растерялся Губкин.
— Что вы, что вы! — замахал руками подполковник. — Больному нашего госпиталя присвоено звание Героя Советского Союза! Это большая честь для нас.
— В таком случае, еще раз огромное спасибо за внимание и заботу. Вместе со мной на излечении находится командир минометной роты моего батальона капитан Парскал. Хотелось бы, чтобы он был приглашен. — Губкин помолчал и тихо добавил: — Ну и медсестра Собкова.
Вечером состоялся торжественный ужин. В кабинете главного врача сдвинули на середину столы, накрыли их белыми простынями. Откуда-то появились цветы. Пригласили баяниста.
Заместитель начальника госпиталя по политической части зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР. Баянист заиграл туш. Все зааплодировали. Главный врач госпиталя поздравил Губкина и пригласил всех к столу.
Начались тосты. Провозгласив здравицу в честь героя, начальник госпиталя подполковник Журавлев прослезился. Недавно он потерял сына: командир артиллерийского дивизиона капитан Журавлев неделю назад умер на операционном столе в другом госпитале. Потом поднялся Губкин.
— За здоровье славных тружеников в белых халатах! И в лице подполковника Четверякова — за хирургов, за ваши золотые руки, — сказал он. — Низкий поклон вам!
В этот вечер в адрес Георгия было сказано столько хороших теплых слов, что ему стало даже неловко. Он с облегчением вздохнул, когда кто-то предложил спеть песню. Все дружно подхватили:
Затем баянист заиграл вальс. Георгий и Муза медленно закружились, молча глядя в глаза друг другу. Все любовались красивой парой…
За окнами госпиталя безмятежно засыпал Каунас. Главный проспект города лежал в лучах лунного света. Воздух был голубым и прозрачным, а небо темно-синим. Георгий с Музой оказались в городском парке. Счастье переполняло их. Муза чувствовала в себе необыкновенную легкость, ей было хорошо идти рядом с Георгием, опираясь на его руку. Вот так бы и шагала с ним всю жизнь. С волнением она слушала его, не отводя влюбленных глаз с немного усталого и радостного лица Георгия.
— Дорогой мой… счастье мое! — шепотом проговорила Муза, ласково прижимаясь к нему. Георгий, охваченный ликованием, нежно поцеловал ее и подхватил на руки.
— Нет, нет, Георгий! — запротестовала она. — Пожалуйста, не надо!
— Милая моя, — сказал он, продолжая целовать ее.
— Георгий, не надо! — в ее голосе прозвучала неуверенная мольба. — Это невозможно!
— Муза, дорогая моя, — голос его зазвучал серьезно и взволнованно. — Я не могу без тебя.
Она молча и доверчиво посмотрела ему в глаза, и в ее взгляде было столько нежности и любви, что все прежние сомнения рассыпались в прах.
В эту ночь они поняли, что их связывает нечто большее, чем дружба. Надолго запомнился им этот парк, и теплые слова, которые они говорили друг другу, и та счастливая звезда, которая им светила!
Часть четвертая.
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ
1
Молодость брала свое. Здоровье Губкина шло на поправку. Осколок, оставшийся в груди, будто затаился и пока не беспокоил.
В госпитале время тянулось медленно, дни походили один на другой. В конце апреля установилась теплая солнечная погода. Однажды Губкин проснулся на рассвете, выглянул в окно. Над Неманом поднимался туман. Сквозь толщу тумана пробивались паровозные гудки, доносился стук колес. Эти звуки тревожили Георгия, вызывая смутное беспокойство.
После завтрака, по праву ходячих больных, Губкин вместе с Парскалом вышли из госпиталя и направились на станцию, глубоко вдыхая чистый, пахнущий весной воздух. Мимо них прогрохотал состав с пушками и автомашинами на платформах. Через полчаса у перрона остановился новый состав. На открытых платформах громоздились повозки, тюки сена. В товарных вагонах сидели солдаты. По всему чувствовалось, что едут бывалые фронтовики. У многих на груди сверкали ордена и медали. Губкину и Парскалу странной показалась переброска боевых частей с фронта в тыл. Попытались разузнать, куда следует эшелон, но никто толком ничего не сказал. Они уже собрались уходить, как вдруг чья-то тяжелая рука опустилась Губкину сзади на плечо. Вздрогнув от неожиданности, он резко повернулся. Перед ним стоял подполковник Владимиров, начальник оперативного отделения дивизии. Обрадованный встречей, тот потащил Георгия к стоявшему рядом пульмановскому вагону.
— Это же наша дивизия подошла! Не узнал? — возбужденно говорил Владимиров. — После тебя пополнение прибыло. Много новых солдат и офицеров.
Через открытую дверь пульмановского вагона Губкин увидел сидящего за столом Городовикова. Басан Бадьминович тоже увидел их. Не дожидаясь, пока опустят стремянку, он подошел к двери и спрыгнул на землю. В одно мгновение комбат оказался в железных объятиях комдива.
— Вот что, товарищ подполковник, — обратился генерал к Владимирову, когда улеглось волнение встречи, — мы отправляемся через двадцать минут, надо подумать насчет обеда и вызвать Костина. Они с Губкиным поедут со мной.
— Товарищ генерал, надо выписаться из госпиталя, иначе признают дезертиром, — растерянно проговорил Георгий Никитович.
— Капитан Парскал передаст от меня записку начальнику госпиталя.
Городовиков придирчиво осмотрел Губкина. Пуговицы у того были нечищены, китель и брюки порядком изношены. Басан Бадьминович сам всегда выглядел безукоризненно и от подчиненных требовал предельной опрятности и подтянутости. В пути он особенно следил за дисциплиной, требовал во всем поддерживать образцовый воинский порядок.
— Обмундирование получишь новое, — заключил Городовиков, — оденем тебя с иголочки. И никаких возражений. Комдив знает, что к чему! Позади штабных вагонов едет 294-й стрелковый полк, командование которым ты примешь на месте. А насчет здоровья не беспокойся: дорога дальняя, в пути долечим.
— Я солдат, товарищ генерал! — тихо сказал Губкин без особого энтузиазма. Настолько неожиданным было для него сообщение Городовикова, что даже не произвело на него особого впечатления. Но, спохватившись, он добавил: — Благодарю вас, товарищ генерал, за доверие.
— Мы должны были это сделать раньше, ты заслужил право командовать полком, так что меня не благодари и вообще никого не благодари.
К вагону торопливо подошел Костин.
— Товарищ генерал, по вашему приказанию… — начал было он, но Городовиков перебил:
— Посмотри, кто у нас в гостях! Твой новый комполка.
Костин крепко обнял Губкина.
— Товарищ капитан, пожалейте майора, он еще не вылечился! — Городовиков с улыбкой смотрел на старых фронтовых друзей.
Он пригласил обоих в вагон. На столе лежала развернутая карта Дальнего Востока.
— По всей вероятности, едем воевать с Японией, — озабоченно сказал он. — Пока все держится в строжайшей тайне, но надо ознакомиться с новым театром военных действий.
Через сутки подъехали к Москве. Эшелон остановился на Северном вокзале. Владимиров сообщил, что получена шифрограмма:
«Городовикову, Губкину и Костину задержаться в Москве, прибыть в Главное управление кадров для получения правительственных наград».
Комдива на перроне встречали жена, две дочери и дядя, генерал-полковник Ока Иванович Городовиков. Басан Бадьминович представил ему майора Губкина.
Георгий Никитович застенчиво протянул руку. Перед ним стоял легендарный герой гражданской войны. Губкин окончательно растерялся, когда Ока Иванович пригласил его к себе в гости, и, смущенный, стал ссылаться на то, что должен зайти к родственникам, хотя на самом деле родственников у него в Москве не было. Он только собирался навестить мать Музы.
Костин уговорил Губкина остановиться у него. Он жил в центре города, на Софийской набережной. Когда подошли к дому, Федор Алексеевич попросил Георгия подняться в двадцать четвертую квартиру, а сам побежал в магазин.
Дверь Губкину открыла миловидная женщина.
— Здравствуйте, Валентина Аркадьевна, — поклонился ей Георгий. — Моя фамилия Губкин.
— Вы, товарищ комбат?! — воскликнула она. — Муж писал о вас. — И тревожно-выжидательно взглянула на него, как бы спрашивая: «Не случилось ли чего с Федей?» — Что же мы стоим? Проходите, пожалуйста. Я сейчас что-нибудь приготовлю, накормлю вас с дороги.
— Ничего, не беспокойтесь.
— А у Федора Алексеевича все в порядке? — не выдержав, спросила Валентина Аркадьевна.
В это время снова раздался звонок, она распахнула дверь: на пороге стоял ее муж.
— А ну вас с такими шутками! — взмахнула она руками. — У меня прямо сердце схватило.
— Что ты, милая! — Костин обнял жену, осыпал ее лицо поцелуями.
После обеда Георгий Никитович поехал к матери Музы. Она встретила его как родного сына. Вечером, когда Губкин вернулся к Костину, Федор Алексеевич сообщил ему, что звонил Городовиков: завтра их приглашают в Кремль.
Утро 30 апреля выдалось по-весеннему солнечным, предпраздничным. Будущие кавалеры Золотой Звезды собрались в Георгиевском зале Кремля.
Горкин зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР, затем стал приглашать воинов к столу для вручения наград.
Когда Губкин услышал свою фамилию, сердце его заколотилось. Сдерживая волнение, он подошел к Михаилу Ивановичу Калинину. Председатель Президиума Верховного Совета вручил ему орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза и сказал:
— Поздравляю вас, товарищ Губкин, и желаю дальнейших успехов!
— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Губкин и крепко пожал руку Калинина, позабыв о том, что был предупрежден: сильно не жать.
Золотую Звезду Героя получили также генерал-полковник Крылов, генерал-майор Городовиков и капитан Костин.
После вручения наград, распрощавшись с генералом Крыловым, Городовиков, Губкин и Костин вышли на набережную Москвы-реки. Трое военных, на груди которых сияли Золотые Звезды, медленно шли вдоль гранитного берега. Прохожие провожали их восхищенными взглядами.
Наутро колонны демонстрантов заполнили улицы и площади столицы. Всех, кто накануне был в Кремле, пригласили на трибуны Красной площади. Крылов, Городовиков, Губкин и Костин стояли по правую сторону от Мавзолея. На Красную площадь вступили участники первомайской демонстрации, заколыхалось море цветов…
А через день Губкин и Костин держали путь на Дальний Восток. Георгий возвращался туда, где начиналась его боевая юность и где ждали его новые бои…
В первый раз Губкин летел на самолете. В Новосибирск они прибыли на четыре часа раньше своего эшелона. До утра отдохнули. А потом Городовиков — «Неспокойное хозяйство», так они любя называли его, — пригласил их в свой мягкий вагон. Опять стали штудировать полевой устав, изучать особенности боевых действий в горно-лесистой местности. Усталости Георгий не чувствовал. Осколок в груди пока что не давал о себе знать.
С каждым днем поезд все ближе и ближе подходил к Благовещенску, родному городу Георгия Никитовича. Проницательный Городовиков заметил, что Губкин замкнулся, стал неразговорчивым.
Когда они остались после ужина вдвоем, Басан Бадьминович спросил:
— Ну как, самураи не снятся, Георгий Никитович?
— Пока нет, товарищ генерал. Да и не так уж страшен черт, как его малюют. — Губкин улыбнулся, но улыбка вышла невеселой.
— В последние дни, как я погляжу, тебе что-то плохо спится. Рассказал бы, что беспокоит, может, помогу.
Губкин и не думал скрывать свою беду. Ему самому давно хотелось посоветоваться с Городовиковым как со старшим товарищем и другом.
— Плохи мои дела, Басан Бадьминович!
— Если уж у тебя дела плохи, так у кого же они хороши? В двадцать пять лет Герой Советского Союза, принимаешь целый полк!
— Не служебные, семейные дела.
— Перемелется, все станет на свои места.
— Нет, мои дела уже не поправятся. Вот только сына и дочь жаль.
— Трудно что-либо советовать. Смотри, не наговорили бы понапрасну.
— Жена сама написала, что ушла к другому.
— Тогда, конечно, надо решиться. Чем скорее разрубишь узел, тем будет лучше для тебя и детей. А вообще-то решай сам. Тут никакие советчики не помогут. Если нужно, денька на два разрешу задержаться в Благовещенске…
Прошло почти четыре года, как Георгий оставил родные края. Сколько пережито за эти годы! Скольких боевых товарищей пришлось потерять! Вроде бы и научился владеть своими чувствами, но сейчас, подъезжая к дому, ничего не мог с собой поделать. Сердце разрывалось от горечи и обиды, нанесенной женой, от любви и жалости к детям…
Дома его не ждали. Правда, Асей владело какое-то неясное предчувствие. Утром она доставала из шкафа шляпу, и к ее ногам упала старая газета с портретом Георгия, которую когда-то ей принесла Алевтина. Газета расстроила ее, напомнив о муже. Она и раньше не раз думала, что война с немцами близится к концу и Георгий может вот-вот приехать. Только она боялась этой встречи и ловила себя на мысли, что Георгий не простит ей измену, что возврата к прошлому не будет. Это пугало и вызывало смятение. Вновь и вновь рассматривая фотографию Георгия на газетной полосе, она сознавала, что не имеет морального права гордиться геройством своего мужа. Она вчетверо свернула эту старую пожелтевшую газету, но в голове снова пронеслись мрачные мысли, перед которыми она была беззащитна. Никогда ей еще не приходилось так страдать… И безысходное отчаяние еще больше угнетало ее.
В этот вечер Ася, как обычно, накормила детей и уложила их спать. Сама посидела еще немного, штопая сыну штанишки. Муж был в отъезде, и за день Ася изрядно намаялась. Закончив со штопкой, она тоже легла спать. Только задремала, как услышала: в двери поворачивается ключ. А когда увидела, что кто-то вошел в комнату, окаменела от ужаса.
— Ну, здравствуй. Как дети? — услышала она знакомый голос и задрожала. Опомнившись, кинулась зажигать свет. Прижалась к стене.
— Дети спят, — ответила чуть слышно.
— Это вот детям, — Георгий положил на стол сверток.
В комнате все было разбросано; на вешалке, где раньше висела и его одежда, он разглядел шинель с погонами старшины интендантской службы. Мебель была расставлена по-новому. Лишь детские кроватки стояли на том же месте, где и раньше. На стене, над спящими детьми, он заметил незнакомую фотографию. Сверху вниз на Георгия смотрел с довольной улыбкой старшина, он будто говорил с ним взглядом, и в этом взгляде Губкин находил что-то неприятное. Вдруг неожиданно скрипнула половица, и Губкин сделал шаг назад. Тут взгляд его упал на тумбочку, и он увидел свою небольшую фотографию: он в гимнастерке с лейтенантскими знаками различия на петлицах. От времени она потускнела. Рядом, с другой пожелтевшей фотографии, на него лукаво смотрела Ася. И Губкину показалось, что она смотрит из другого мира, с которым его ничто уже не связывает.
Георгий в эти минуты, как никогда раньше, осознал, что у них с Асей ничего общего, кроме детей, нет. Но как быть с сынишкой и дочуркой? Принимать решение на самый трудный бой, казалось ему, было намного легче, чем ответить на этот, теперь уже главный в его жизни вопрос.
Притихшая Ася уловила его взгляд на фотографию, висевшую на стене, но ничего не сказала. Молчание прервал Георгий:
— Это он?
— Да, — тихо сказала Ася. Георгий впервые слышал такую робость в ее голосе.
Правда, вскоре растерянность ее исчезла. Она тревожно оглядела Георгия. В отсвете лампы на груди у Губкина блеснули Звезда Героя Советского Союза и множество орденов. У Аси на миг перехватило дыхание. И сам он показался ей каким-то другим: вроде стал выше, стройнее, мужественнее. «Променяла ястреба на кукушку», — обожгла ее горькая мысль. Ася бросилась к мужу и со слезами запричитала:
— Георгий, милый, прости, прости меня ради детей!
— О чем же ты думала раньше?
— Похоронная все подпутала. Лошадь на четырех ногах и то спотыкается! Ошиблась!..
— Ошибка ошибке рознь. Ты проявила жестокость к человеку, находившемуся рядом со смертью ради тебя и наших детей!
— Что делать, совершила необдуманный шаг.
— Думала, погиб? — Лицо Губкина скривилось от боли. — А я вот всем смертям назло выжил! — ожесточившись, произнес он. Отстранил ее и, плачущую, обессиленную, усадил на диван, а сам подошел к детям. Они безмятежно спали. Дочурка улыбалась во сне. У Георгия защемило сердце. Поцеловав спящих детей, молча взглянул на заплаканную Асю и вышел на улицу. Остановил первую попавшуюся машину, поехал к старшему брату. Встретили Георгия жена брата Анна Марковна, племянницы Вера и Зина; самого Михаила не было, он служил в Амурской военной флотилии. Проговорили до рассвета. Утром все отправились к жене брата Василия. Открыв дверь, Алевтина побледнела: настолько Георгий в военной форме был похож на Василия. Слезы невыплаканного до сих пор горя безудержно полились по ее щекам. Георгий подробно рассказал, как со своим батальоном ворвался в район Науместиса, как безуспешно искал могилу брата.
Галя во все глаза смотрела на дядю и внимательно слушала его. Она заметно подросла и ко всему окружающему относилась не по возрасту серьезно. Ей было очень жаль убитую горем приемную мать. Она привыкла к ласке и сердечности Алевтины. И даже казалось, что роднее ее нет никого на свете. Временами Галя боялась представить, как она поступит, если найдется мать…
В этот же день Георгий Никитович поехал в родное село Семидомку. Дорога ему была знакома, он знал каждый крутой поворот. Ехали около полутора часов. Впереди между деревьями замелькали строения Семидомки. Домов было много, что никак не соответствовало названию. В середине села в листве трех развесистых берез утопал домик Губкиных. Эмка круто повернула и остановилась у самых ворот. Мать во дворе доила корову. Увидев легковую машину у ворот, она приподнялась и стала всматриваться в человека, выходившего из машины. Не может быть! Ведь это ее Георгий… Ведро выпало из рук, молоко разлилось. Евдокия Тимофеевна стала медленно оседать на землю. Подбежавший Георгий успел подхватить мать, бережно прижал ее к себе.
— Ох, сынок, отец не дожил до счастливых дней, вот бы порадовался!
Материнские слезы всколыхнули память Георгия. Все вокруг было таким знакомым, родным. Из трех березок, посаженных отцом под окном, самая большая наполовину засохла. «Видать, доживает свой короткий век», — подумал он. Отца Георгий любил, знал, что у него была язва желудка, а какое питание в пору военного лихолетья? Получив тогда письмо из дому, извещавшее о смерти отца, Губкин среди сотни смертей однополчан не так остро пережил утрату родного человека, но сейчас почувствовал безысходное горе. Он знал, как много трудился отец, не щадя своего здоровья. Работал от зари до зари. Большую семью и раньше нелегко было прокормить, а в годы войны это было не каждому под силу.
Грустные раздумья сына прервала мать:
— Сыночек, царство ему небесное… Ну а ты как? Какими судьбами?
— Милая мама, все дороги ведут к своему началу.
— Вижу: жив, здоров — и слава богу, а жена твоя… — не договорив, горько вздохнула: — Что теперь делать-то будешь? Дети у тебя хорошие, жалко их. А все война проклятая! Чтоб сдох Гитлер, изверг этот!
— Мама, его уже нет!
— Чтоб он в гробу перевернулся! Да что ж это мы не идем в дом? — спохватилась мать. — Пошли, пошли!
С крыльца навстречу им сбежали младшие сестры Георгия Варя, Катя и Алевтина. Вскоре в дом Губкиных потянулись родные и соседи. Народу набралось полная изба, все с любопытством рассматривали Георгия. Женщины быстро накрыли стол.
Георгий не успевал отвечать на вопросы земляков. Засиделись допоздна.
Весть об окончании войны с фашистской Германией застала его утром в постели. Услышал он на улице ликующие возгласы: «Война кончилась! Ура-а-а!» Все восторженно радовались долгожданной победе. Одна Алевтина стояла безразличная ко всему. Слишком велико было ее горе, слишком тяжелы утраты.
В сознании Губкина все еще не укладывалось, что гигантская военная машина фашистской Германии, которой не так давно не было равной в мире, окончательно разбита, что войне действительно конец. Пока он умывался и приводил себя в порядок, подъехала голубая эмка. Водитель по-военному доложил, что секретарь горкома партии приглашает товарища майора на митинг Победы.
Евдокия Тимофеевна тоже поехала вместе с сыном в Благовещенск. Через час с небольшим они уже были на городской площади, заполненной народом, украшенной праздничными транспарантами, портретами членов правительства, руководителей партии и прославленных полководцев. На трибуне стояли ответственные работники партийных и советских учреждений города, старшие офицеры гарнизона. Секретарь горкома партии с улыбкой пожал руку поднявшемуся на трибуну Губкину. Оркестр заиграл Гимн Советского Союза. Все еще не верилось, что кончилась война, что он, Губкин, вернулся домой… С трибуной поравнялись учащиеся школы, где он учился, а потом работал. Они горячо приветствовали своего прославленного земляка-героя. Георгий впервые в жизни почувствовал гордость за себя, за мать, за своих земляков.
Оставалось менее двух часов до отхода поезда. Губкин непременно должен был повидаться с детьми. Не дожидаясь конца митинга, он поспешил к ним.
Аси дома не было. Юра повис на шее отца и долго не отпускал его, рассматривая широко раскрытыми глазами ордена и золотые погоны. Все для него было необычным. Женя тоже тянулась к отцу на руки. Опустив Юру на пол, он бережно поднял Женю. Тонкие ручонки обхватили его за шею, хрупкое тельце приникло к груди. Она таращила на него свои глазенки. «До чего же они смышленые!» — подумал Георгий, покачивая на руках дочь, а она в ответ улыбалась. Сердце его сразу наполнилось чувством внутреннего недовольства собой и сдавило ему грудь. От одной мысли, что Женя будет расти без отца, на глаза его навернулись слезы. Сына он хотел взять с собой, а что ждет дочурку? Ему вдруг показалось, будто она прочитала его мысли и печаль упала на ее личико.
Снова перед ним встал вопрос, как поступить с детьми. Весь переполненный нежностью и едва сдерживая слезы, он опустил Женю, стал выкладывать из чемоданчика конфеты и другие подарки. Дети сразу занялись ими, а он, передав Евдокии Тимофеевне деньги, попросил ее купить для ребят все необходимое из одежды, обуви.
— Война кончилась, куда же ты, сынок, опять спешишь? — с грустью спросила Евдокия Тимофеевна.
— Война кончилась, дорогая мама, но мир, если говорить откровенно, еще не наступил.
— Сынок, да разве нам, Губкиным, больше всех надо?
— Надо, мама!
Евдокия Тимофеевна обняла сына.
— Раз надо — так надо! — сквозь слезы вымолвила она. — Только не забудь, сынок, что ты нужен и детям своим, и матери.
Скорый поезд остановился на станции Лесозаводская. Майор Губкин вышел из вагона. Его ждал дежурный по штабу дивизии. Через час Губкин уже докладывал комдиву о своем прибытии. Городовиков встретил его тепло, по-отцовски. От внимательных глаз Басана Бадьминовича не ускользнуло, что Губкин все еще задумчив, грустен.
— Принимай свой 294-й Краснознаменный стрелковый полк, — сказал он ему, — тебя там заждались. Работы невпроворот. И не переживай, все образуется.
В тот же вечер полковой писарь занес в формуляр, что командование 294-м Краснознаменным стрелковым полком принял майор Губкин. Партийную организацию части возглавил капитан Костин.
Молодому командиру полка все надо было начинать заново. Ординарцем он взял к себе ефрейтора Сорокина, родом тоже из-под Благовещенска. Хозяйство у них пополнилось только что подаренным Городовиковым трофейным автомобилем «опель-капитан».
На этой машине майор Губкин вместе с парторгом полка капитаном Костиным поехали на совещание в штаб армии.
Генерал-полковник Крылов ознакомил командиров частей и соединений с планом наступательной операции, поставил им предварительные боевые задачи. После официальной части состоялся банкет.
Крылов был в хорошем настроении. Увидев майора Губкина, он подошел к нему и сказал с улыбкой:
— Георгий Никитович, тогда в гжатском госпитале нам врачи не разрешили обмыть вашу капитанскую звездочку, теперь разрешите поднять тост за майорскую и поздравить вас с Золотой Звездой Героя Советского Союза. Пусть она озарит вам путь и в сопках Маньчжурии!
— Товарищ генерал, разрешите вас тоже поздравить с присвоением звания Героя Советского Союза и пожелать здоровья и успехов в разгроме Квантунской армии!
Командарм пожелал также боевых успехов и офицерам, сидевшим за одним столом с Губкиным, и как бы между прочим сказал:
— Что-то не слышно наших боевых песен.
Георгий Никитович вспомнил учебу в Хабаровском военном училище и запел:
Все дружно подхватили песню…
Утром из разговора с начальником отдела кадров Губкин узнал, что генерала Городовикова переводят в другую дивизию, которая наступает в первом эшелоне на главном направлении, а 184-ю стрелковую дивизию принимает генерал Макаров.
Для Губкина это было огорчительной неожиданностью. Он привык к Басану Бадьминовичу, они хорошо сработались, и вдруг приходится расставаться с ним в такой момент, когда ему так нужна помощь и поддержка!
Стальная пружина войны была еще сжата, даже победа над фашистской Германией не сразу ослабила ее. Для того чтобы на земле наступил полный мир, предстояло как можно скорее разгромить милитаристскую Японию.
На курсах, которые офицеры и генералы называли «академией Максимова» — по псевдониму командующего 1-м Дальневосточным фронтом маршала Мерецкова, — занимались по двенадцати часов; Губкин многое узнал о Дальневосточном театре военных действий, об особенностях японской армии.
Войска, прибывшие из состава 3-го Белорусского и других фронтов, передавали боевой опыт дальневосточникам. На совместных учениях дальневосточники овладевали важнейшими вопросами организации взаимодействия и управления войсками. Все это было направлено на достижение победы над врагом с наименьшими потерями.
В конце июля генерал Крылов получил боевой приказ на наступление. В первой неделе августа происходило сосредоточение войск. Дивизия, которой стал командовать Городовиков, расположилась против Волынского укрепленного района японцев. Басан Бадьминович еще плохо знал своих офицеров. Ему предстояло подобрать опытного командира полка для действий в авангарде. Он сразу подумал о Губкине и решил просить Крылова перевести Георгия Никитовича к нему. Крылов дал согласие.
На новом месте Георгию Никитовичу времени на подготовку оставалось маловато. Но если в Восточной Пруссии он не знал местности, то здесь окружающие сопки, покрытые лесом и кустарником, напоминали окрестности Благовещенска. Сложность заключалась в другом: мало было известно о глубине обороны противника, о его инженерных сооружениях.
Вскоре из штаба армии была получена шифрограмма:
«Полк майора Губкина довести до штатного состава и подготовить для действий в передовом отряде — вести разведку боем и давать информацию о противнике в интересах армии; захватывать важнейшие объекты, коммуникации в тылу врага и удерживать их до подхода главных сил…»
…По ту сторону линии фронта, в войсках Квантунской армии, насчитывавшей к тому времени более миллиона человек, около двух тысяч самолетов, более тысячи танков, пяти тысяч орудий и минометов, тоже велась большая подготовительная работа. От тактики наступления японцы перешли к отработке стратегии обороны и контрударов. В штабах обобщались разведданные и поступающая информация. Первоочередное внимание уделялось известиям о прибытии новых дивизий русских с запада. Начальник оперативного отдела генерал-майор Мацумура Томокацу, докладывая начальнику штаба генерал-лейтенанту Хикосабуро Хата и командующему Квантунской армией и губернатору Маньчжурии генералу армии Отоязо Ямада, особо подчеркивал тот факт, что прибывающие русские дивизии участвовали в разгроме немецкой армии и, таким образом, имеют богатейший боевой опыт.
— Кто такой генерал-полковник Максимов? — поинтересовался Отоязо Ямада.
— Не могу знать. В составе высшего командования русских такой фамилии не значится, — ответил Мацумура Томокацу.
С генералом Максимовым дело доходило до курьезов. Не только японцы были введены в заблуждение, но и свои порой путались.
Однажды у самого Мерецкова прибывший комдив спросил: «Все говорили, что еду к маршалу Мерецкову, где же он, куда его переместили?» Маршал был вынужден сказать, что никакого Мерецкова здесь нет, что он, Максимов, командует фронтом, и для убедительности показал полковнику удостоверение личности, подписанное самим Сталиным.
В подготовке и проведении Маньчжурской стратегической операции особое значение придавалось достижению внезапности и стремительности. Большая работа была проведена по дезинформации противника. В целях скорейшего разгрома Квантунской армии советские войска наносили рассекающие удары из юго-восточного района Монголии войсками Забайкальского фронта маршала Малиновского в направлении на Чанчунь. Одновременно из района Ворошилова-Уссурийского к центру Маньчжурии, на Чанчунь, по сходящимся направлениям должны были нанести удар войска 1-го Дальневосточного фронта маршала Мерецкова.
Соединения 5-й армии в составе главной группировки маршала Мерецкова прорывали вражеские укрепрайоны во взаимодействии с 1-й Краснознаменной Дальневосточной армией с востока на запад в направлении на Мулин, Гирин, Чанчунь. Навстречу им с запада наступали соединения 39-й армии во взаимодействии с 6-й танковой армией Забайкальского фронта. На левом фланге армии Крылова, на второстепенном направлении, наступала 25-я армия генерал-полковника Чистякова.
Дивизия генерала Городовикова действовала на направлении главного удара армии Крылова. Полку Губкина предстояло прорвать укрепленный район севернее населенного пункта Пограничный, представлявшего ансамбль из двух-трехэтажных оборонительных сооружений, связанных между собой густо разветвленной сетью подземных ходов сообщения и обеспеченных подземными складами и электростанциями. Японские укрепления, в отличие от укреплений в Восточной Пруссии, обладали такими преимуществами, как ярусное расположение на склонах сопок, обращенных к нам. Не так-то просто было штурмовать нижний ярус долговременных огневых точек, прикрытый огнем с верхнего яруса, а с фронта — проволочными заграждениями и противотанковыми рвами и надолбами!
Конечно, прорыв готовился с учетом особенностей укрепленного района, и не случайно командующий артиллерией фронта генерал-полковник Дегтярев на совещании с командирами соединений предложил отвести сутки на снятие маскировки с дотов и двое суток на их разрушение. Эти сроки намного превышали даже время артподготовки при проведении Восточно-Прусской и Берлинской операций. Генерал-полковник Крылов возразил против такого напряженного графика артнаступления, и его поддержали командиры дивизий Казарян и Городовиков. Они порекомендовали осуществить прорыв первой линии обороны противника внезапным ударом и без артподготовки. Предлагая свой вариант артнаступления, Крылов исходил из того, что японцы знают методы прорыва укрепрайонов соединениями Советской Армии и, разумеется, нацелены на нашу длительную артподготовку.
Предложение Крылова было направлено к достижению внезапности, чтобы застать противника врасплох. Предполагалось начать атаку ночью без артподготовки, огонь же открывать только с началом наступления пехоты и танков.
Маршал Мерецков разрешил генералу Крылову действовать самостоятельно.
В ночь на 9 августа разразилась гроза с ослепительными вспышками молний, с оглушительными раскатами грома. Губкин знал, что ливень в этих местах может продолжаться сутки, а то и больше. Значит, завтра артиллерия не сумеет поддержать пехоту, не говоря уже об авиации. Он решил немедленно связаться с Городовиковым.
Генерал оказался на месте. Комполка попросил разрешения подъехать к нему. Расстояние в два километра на машине он преодолел за полчаса — так развезло дороги.
Городовиков поднялся навстречу вошедшему Губкину.
— Что будем делать? Главное командование сроки наступления уже не перенесет, навстречу друг другу наступают два фронта, все жестко спланировано. Конечно, трудно будет наступать без общей артиллерийской подготовки, но внезапная атака на полусонного противника должна принести успех.
— Значит, все-таки без артподготовки?
— Да. В час ноль-ноль атака! Из своей дивизионной артиллерийской группы переподчиняю вам артиллерийский полк тяжелых гаубиц в составе двух артдивизионов, третий его дивизион придан вашему полку раньше. Соответственно, командование полковой артиллерийской группой примет командир артполка полковник Петров.
«Не мой ли земляк Петров?» — мелькнула мысль у Георгия Никитовича.
Городовиков приказал адъютанту вызвать к нему полковника.
— Вот это встреча! Какими судьбами? — воскликнул Петров, как только увидел Губкина.
— Дальневосточников тянет в родные края, — улыбнулся майор.
— Да… Вот только Светланы уже нет с нами. — Полковник сник: встреча с Губкиным напомнила ему о гибели жены. — В боях под Харьковом, вскоре после встречи с тобой, ее смертельно ранило. Скончалась на моих руках, до госпиталя довезти не смог.
— Проклятая война, каких людей вырывает! — тяжело вздохнул Губкин. — Учительствовать бы ей, растить детей!
— Вы, значит, старые знакомые, — вмешался в разговор Городовиков. — Тем лучше, дружнее будете громить противника.
Петров только теперь догадался, что Губкин — командир той самой части, которой придаются его тяжелые гаубицы.
— Вот это сюрприз, товарищ генерал! — воскликнул он, но особой радости в его голосе не почувствовалось.
— А ты, полковник, не считай зазорным быть в подчинении у молодого майора, — сказал Городовиков, уловив перемену в настроении Петрова. — Он у нас один из храбрейших командиров. Так что, полковник, прошу любить и жаловать. Кстати, мы уже направили на него представление на присвоение очередного воинского звания. Итак, желаю вам обоим успеха!
В штабе 1-го фронта Квантунской армии, несмотря на проливной дождь, телефонная связь с войсками работала бесперебойно. Дежурный офицер уточнял обстановку на границе, аккуратно записывая сведения в толстый журнал в кожаном переплете. На границе все было спокойно, без происшествий. В окно стучал дождь. В углу большого зала, прислушиваясь к шуму дождя, сидел офицер связи рейдового отряда (так называли батальон смертников) поручик Куросава.
После окончания военного училища минеров, год назад, поручика Куросаву зачислили в отряд смертников его императорского величества, которым командовал полковник Кобаяси. Куросава рассудил так: в этой чудовищной войне, где ни служи, все равно убьют, уж лучше воспользоваться преимуществами, полагающимися смертникам. Ему было присвоено внеочередное воинское звание и предоставлен отпуск. У себя дома, в глухом рыбацком поселке вблизи Отару, он был принят как желанный гость. Хозяин местного рыбного завода, на котором работал отец, встретил его со всеми почестями. В этот же день им домой завезли мешок риса, в семье был праздник. За два года его отсутствия все было без каких-либо изменений. Только домик показался ему совсем маленькой лачугой, видимо, Куросава сам вырос и все измерял уже другими категориями.
Мать, обрадованная приездом сына, суетилась около жаровни и лишь иногда вопросительно посматривала на него. Он еще не знал, что родители решили женить его на дочери механика рыболовного баркаса Тани. Куросава, когда узнал, что для него приготовлена невеста, не стал перечить давно сложившимся обычаям. И дед, и отец тоже женились по воле своих родителей. В доме всегда царили мир и согласие. И его воспитывали в таком же духе. Он часто слышал: «Старшие лучше знают, кто с кем может быть счастлив!»
Приготовления к свадьбе, назначенной на завтра, шли полным ходом. Только Куросава еще не видел свою невесту и мучился, думая, какая же она. Так уж было заведено — до свадьбы невесту жениху не показывали.
Сутки тянулись длиннее месяца. На другой день закончились все приготовления, хозяин рыбного завода позаботился раздобыть для молодоженов постель и цветы. Наконец наступил день свадьбы…
Поручик Куросава никогда не думал о смерти. Где-то в глубине души его теплилась надежда, что война обойдет стороной Квантунскую армию, а вкусить земные блага Куросава очень хотел. «Камикадзе» — говорили о нем. И он радовался этому — ведь так называли японских летчиков-смертников, семеро из них совсем недавно таранили американские линкоры. Про них сложено множество песен, их имена золотыми буквами выбиты на стене великого храма Ясукини, их знает вся Япония.
Всему есть начало, и всему приходит конец. Перед окончанием отпуска поручика Куросаву уже терзала мысль о предстоящей разлуке с Тани. В ней все нравилось ему, но долг офицера императорских войск повелевал ему возвращаться на службу. На другой день он распрощался с родителями и женой.
…Не прошло и года, как Куросава получил письмо от любимой Тани, в котором она поздравила его с рождением сына. После такой вести поручик рвался домой, и полковник Кобаяси не возражал дать ему десять дней отпуска, но только в первой половине августа, как только начнутся осенние ливневые дожди. В это время дороги размывало, маленькие речушки выходили из берегов, а вероятность проведения военных действий значительно уменьшалась.
Поэтому сейчас, в ночь на 9 августа, поручик Куросава с радостью прислушивался к стуку в окно крупных капель дождя, предвкушая скорое свидание со своим маленьким наследником. Настенные часы монотонно отбивали время. Ни штабные офицеры, ни поручик не предполагали, что заявление Советского правительства: «С завтрашнего дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией» — уже передано послу Японии.
На муданьцзянском аэродроме японские летчики были застигнуты врасплох. Они со всех ног кинулись к своим самолетам, но русские уже были над ними, и на летное поле падали бомбы. В канонирах горели самолеты, взорвался склад авиабомб, над хранилищем горючего взвилось пламя. За каких-то полчаса авиационная часть под Муданьцзяном была разгромлена.
Командующий 3-й японской армией генерал-лейтенант Суроками не мог связаться не только с командующим фронтом, но и со своими дивизиями. Звено советских бомбардировщиков разбомбило штаб и армейский узел связи. В ушах генерала стоял оглушительный шум от разрывов бомб, словно земля под его ногами разваливалась на части. Генерал приказал своему шоферу ехать на запасной КП в районе Яньцзы, чтобы оттуда управлять дивизиями.
Солнце уже высоко поднялось над гребнями сопок, когда Суроками обосновался на запасном КП. Взглянув на часы, он не поверил своим глазам — только двенадцать часов, а кажется, прошла вечность.
Проводная связь вышла из строя, по радио генерал получал лишь отрывочные сведения. Его планы нанесения контрудара не имели теперь никакого смысла. Командиры дивизий так же, как и он, были подавлены случившимся. Потери в частях первого эшелона составили более тридцати процентов.
Генерал Суроками вызвал к себе командиров дивизий, обороняющих направление на Ванцин, и отдал им запоздалые распоряжения. Командиру 128-й пехотной дивизии поставил задачу во что бы то ни стало удержать Дуннин и строго-настрого предупредил, что его карьера плохо кончится, если город будет оставлен.
Под покровом ночи штурмовым группам майора Губкина удалось незамеченными просочиться между дотами. Ливень позволил ворваться в первую линию Волынского укрепленного района и застать японцев врасплох.
В восемь часов тридцать минут в бой были введены главные силы дивизии. К тому времени, когда дождь прекратился, батальоны Губкина штурмовали уже вторую линию вражеской обороны. Подтвердился прогноз генерала Крылова: на первой линии, кроме вражеских наблюдателей и дежурных смен на отдельных огневых точках, никого не оказалось.
Чтобы подавить сопротивление мощных железобетонных огневых точек на второй линии обороны, Губкин приказал выдвинуть на помощь пластунам четыре тридцатьчетверки со взрывчаткой.
Танки, набирая скорость, двинулись к двум вражеским дотам. Но внезапно перед ними возникли четыре японца. Совершая перебежки в зарослях густого гаоляна, они устремились наперерез тридцатьчетверкам. Троих из них танкистам удалось уложить из своих пулеметов, но четвертый успел броситься под наш головной танк. Грохнул взрыв, и тридцатьчетверку охватило пламя. Все поняли, что перед ними «живые мины» — смертники, обвязанные сумками с толом и ручными гранатами.
В боевые порядки тридцатьчетверок тут же были выдвинуты автоматчики, усиленные пулеметами. Теперь пехота прикрывала танки.
Губкин выпустил зеленую ракету в сторону вражеских дотов, показывая направление атаки «илам», появившимся в воздухе над его батальонами, затем приказал командирам стрелковых батальонов под прикрытием штурмовиков обходить японские доты и продолжать просачиваться между ними.
Батальоны Губкина во взаимодействии со штурмовиками и танками двинулись вперед и к исходу суток форсировали реку Шитоухэ.
Не отставала от пехоты и артиллерия. Вскоре командир полковой артиллерийской группы полковник Петров доложил, что артдивизионы заняли новые огневые позиции на противоположном берегу Шитоухэ.
Из штаба армии передали в штаб дивизии, что в направлении на Муданьцзян отход частей Квантунской армии прикрывает рейдовый отряд смертников полковника Кобаяси. Комдив приказал в целях безопасности прочесать пулеметным огнем местность вдоль дорог и принять все необходимые меры предосторожности.
Нападения смертников можно было ожидать днем и ночью, с тыла и с флангов. Эти фанатики были тщательно подготовлены и отлично владели оружием. Особой опасности подвергались одиночные машины и малочисленные группы военнослужащих.
10 августа первый и третий батальоны Губкина ворвались в населенный пункт на подступах к городу Мулин. И когда он уже был занят, неожиданно в тылу, около командного пункта полка, противник открыл стрельбу из пулемета. На секунду люди опешили, но затем быстро укрылись за домами. Двое солдат из комендантского взвода были ранены. Японец засел на четвертом этаже кирпичного дома. Когда дом окружили, он стал на подоконник и, на виду у всех полоснув себя ножом по животу, упал на землю.
Самурай в поясе был обмотан белым шелковым полотном с ярко-красным кругом в центре, изображающим солнце.
В обход города Мулин генерал Городовиков ввел свои главные силы. Батальоны Губкина во взаимодействии с частями 26-го стрелкового корпуса разгромили части 124-й пехотной дивизии противника и 11 августа вошли в Мулин. В этот же день Городовиков поздравил Губкина с присвоением ему очередного воинского звания «подполковник».
Благодаря стремительным маневрам и натиску наши войска перерезали коммуникации противника прежде, чем командование Квантунской армии смогло воспользоваться оперативными резервами для нанесения контрударов или организации обороны в глубине на заранее подготовленных рубежах. Войска маршала Василевского ошеломили врага массированным применением артиллерии, авиации и танков. В результате наши передовые части вклинились между соединениями 5-й и 3-й армий японцев и разобщили их боевые порядки.
На следующее утро жители города Мулин высыпали на улицу. У многих были красные бантики на груди. Люди радостно встречали наших солдат, освободивших их от японского ига. Губкин забежал на полковую радиостанцию. Оказавшийся здесь переводчик доложил ему:
— Товарищ подполковник, застрелился премьер-министр Тодзио![4]
— Туда ему и дорога! Гитлер отравился, Муссолини повесили, Тодзио застрелился. Колесо истории назад не крутится. Такова участь поджигателей второй мировой войны! — вслух проговорил Губкин.
На рассвете следующего дня полк совместно с частями 25-й армии вновь перешел в наступление, на сопки, расположенные на дальних подступах к Муданьцзяну. Японцы укрепили перевалы, окопались на господствующих высотах. Бойцы под прикрытием огня артиллерии и танков с трудом взбирались на возвышения, устало тащились через овраги. Вот уже багровые сполохи вечерней зари подернулись голубоватой дымкой. Быстро сгущались сумерки, на сопки опускался плотный туман. Низко нависшие тучи придавили землю, стало душно. Однако полк Губкина продолжал успешно продвигаться вперед.
Ночью сопки показались Георгию Никитовичу мрачными, неприветливыми. Впереди горизонт скрывала какая-то пелена, сквозь которую ничего не было видно. Лишь неожиданно из темноты на него стала наползать гряда новых огромных сопок с таинственной грунтовой дорожкой, бегущей по долине. Молодому командиру полка показалось, будто он оторван от окружающего мира. Проводная связь с батальонами отсутствовала, ее попросту не успевали наводить, радиосвязь же вышла из строя.
Губкин вызвал к себе начальника связи полка капитана Изюмова и потребовал от него наладить бесперебойную радиосвязь. Тот начал ссылаться на непроходимость радиоволн через сопки и наличие атмосферных помех.
— Тогда почему не обеспечили телефонную связь? — строго спросил комполка.
— Скорость продвижения больше пяти километров в час, телефонисты не успевают. К тому же батальоны растянулись.
— Без связи мы потеряем управление! — гневно произнес Губкин. — Вы соображаете, к чему это может принести?
Изюмов побледнел. Ему не довелось участвовать в войне с немцами, он не привык к такому тону разговора. Несколько помедлив, Изюмов твердо сказал:
— Я солдат. Как прикажете… Только не в моих силах изменить тактико-технические данные радиостанций.
Спокойный, уверенный ответ капитана Изюмова заставил Губкина задуматься: вправе ли он требовать невозможного от начальника связи полка?
— Передайте начальнику штаба, — успокаиваясь, сказал он, — впредь штабы батальонов располагать на таком расстоянии, которое не превышало бы дальности действия радиостанций, чтобы не было их отрыва от КНП полка.
Случилось то, чего больше всею опасался Губкин: Городовиков потребовал доложить обстановку. Комдив, получив в помощь авиацию, решил поддержать Губкина с воздуха. Для этого было крайне необходимо уточнить передний край, чтобы не ударить по своим. Губкин попросил тридцать минут для уточнения обстановки.
Командир полка впервые так остро почувствовал важность бесперебойной связи. Он выделил в распоряжение капитана Изюмова боевую машину-самоходку на гусеничном ходу для установления радиосвязи со вторым и третьим стрелковыми батальонами.
Дорога оказалась нелегкой. Самоходка шла вдоль глубокой расщелины, рискуя каждую минуту свалиться в пропасть. Луна сквозь туман слабо освещала вершину сопки, на которую предстояло подняться. До вершины оставалось метров сто, когда тропа уперлась в крутой горный склон, Машина остановилась, на сидевших в ней людей навалилась тишина. Ночь еще властвовала над сопками, заслонившими горизонт. Изюмов растерялся: дальность радиостанции намного уменьшилась. Что делать? Пытаться подняться на скалу бесполезно. Тридцать минут, отпущенные ему, истекали, он приказал механику-водителю возвращаться на КП полка. Самоходка, затарахтев, подалась назад, и вдруг радист закричал: «Есть связь!»
Капитан Изюмов, получив короткую информацию от комбатов, тут же доложил комполка координаты второго и третьего батальонов, Губкин немедленно сообщил обстановку комдиву. Полк продолжал выполнять поставленную задачу.
Квантунская армия ночью отходила на рубеж Муданьцзян, Фусун. Командующий 1-м фронтом генерал-лейтенант С. Кита, чтобы задержать подход главных сил неприятеля и нарушить коммуникации его войск, приказал командиру рейдового батальона полковнику Кобаяси, после того как отойдут свои войска, взорвать мост через реку Муданьцзян. Кобаяси возложил выполнение этой задачи на поручика Куросаву с тринадцатью солдатами. Выстроив всех, он призвал их совершить подвиг во имя спасения Японской империи и самого императора. Далее сказал, что нужно подготовиться к выполнению священного долга и сосредоточить все силы самурайского духа, в этом им покровительствует бог войны. И он молит богов об их успехах! В ответ на призывы полковника разноголосо прозвучало «банзай».
На рассвете рейдовая группа поручика Куросавы расположилась на склоне сопки, метрах в ста пятидесяти от моста. Смертники с тревогой смотрели на дорогу, ведущую в Муданьцзян, по которой отступали их соотечественники. Во главе колонны поручик Куросава увидел автомобиль командующего генерал-лейтенанта Киты. Он проехал в сопровождении нескольких легковых машин. Вскоре шоссе заполнили толпы беженцев вперемежку с воинскими колоннами. Вконец измотанные солдаты еле волочили ноги. К двенадцати часам смешанный людской поток иссяк, лишь разрозненные группы солдат еще брели по дороге. Потом все ближе и ближе стал слышен рокот моторов, и в облаке пыли показался первый русский танк, за ним хлынула стальная лавина, заполнив все вокруг оглушающим лязгом и грохотом.
Куросава лежал в густом орешнике, остро переживая свое бессилие перед русскими танкистами. Только теперь он понял, почему столь поспешно отошла императорская гвардия — так называли Квантунскую армию. И сам генерал Кита впереди своих войск!
Колонна советских танков и самоходок неумолимо приближалась к мосту. Впереди по дороге брели разрозненные группы японских солдат.
Смертники отсчитывали последние минуты жизни. Поручик Куросава с безразличием посмотрел на окружающие сопки, поросшие дубняком и орешником. Пропуская последнюю колонну соотечественников, он скомандовал: «За мной, по местам!» За считанные секунды четырнадцать смертников, как муравьи, облепили бетонированные опоры моста. По сигналу поручика взрывы раздались почти одновременно. Сам Куросава в последнюю секунду не успел нажать на свой детонатор. Взрывная волна отбросила его далеко в сторону…
Машина командарма Крылова остановилась у самого въезда на мост, окутанная сплошным дымом. Пока разбирались в случившемся, автоматчики из бронетранспортера охраны привели поручика Куросаву. Из ушей его лилась кровь, с рукавов мундира стекала вода. Он шел, еле передвигая ноги. Увидев русского генерала, остановился, пригладил слипшиеся волосы.
— Поручик императорской армии уклонился от спасения своей империи и исполнения своего самурайского долга, не так ли? — спросил его Крылов через переводчика.
— Не совсем так… — Куросава ничего не слышал, но понял смысл вопроса. — Генерал Кита отошел через этот мост впереди императорской гвардии. Кита не только не остановил русских, но и не собирался отдавать свою жизнь на поле сражения во имя его императорского величества. Я же просто чудом остался жив…
Полк Губкина, сбивая вражеские арьергарды, к 15 августа вырвался к подножию хребта Лаоэмин. Здесь, в долине, его батальоны пленили японский кавалерийский полк.
Звуки боя затихли. Губкин стоял на самой высокой точке Лаоэмина. Позади высились голубые сопки. Впереди до самого горизонта раскинулась бескрайняя степь, покрытая побуревшей от зноя травой.
Сопротивление противника на этом направлении было сломлено.
Но командующему 3-й японской армией генералу Суроками все еще не верилось, что его дивизии разгромлены. Он надеялся на подход оперативных резервов генерала Ямады. В ушах его звучали хвастливые слова Ямады на последних учениях: «Победные знамена императорской армии поднимем над русскими городами!»
17 августа соединения 25-й армии взяли город а важный узел обороны Ванцин, прикрывавший дороги на гиринское и харбинское направления с юга. Во второй половине дня генерал-полковник Чистяков получил радиограмму от командира 72-й танковой бригады о взятии города Яньцзи, где, по данным разведки, находился штаб 3-й японской армии. Туг же с группой офицеров Чистяков вылетел в Яньцзи. Но на аэродроме вместо наших танкистов его встретили… японские солдаты.
Генерал Чистяков не растерялся. Властно разъяснил через переводчика, что прилетел в соответствии с договоренностью советского командования с императором Японии для заключения перемирия. Японский офицер сразу сник и убрал пистолет в кобуру. Чистяков потребовал, чтобы его проводили к командующему.
Громкий стук в дверь прервал раздумья генерала Суроками. На пороге стоял советский генерал. Суроками был настолько ошарашен, что вскочил и испуганно спросил по-русски:
— Кто вы и откуда?
— Я командующий 25-й армией! — уверенно сказал Чистяков и сел в кресло за письменным столом. — Садитесь, мне с вами надо поговорить.
— Вы не удивлены, что я говорю по-русски? — машинально спросил Суроками.
— Нет. Я знаю, что вы несколько лет были военным атташе в Москве, поэтому думаю, что мы с вами не допустим напрасного кровопролития. — На лице советского генерала не было и тени волнения, только страшная усталость от бессонных ночей. — Вы должны понять, если еще не поняли, всю бесперспективность вашего сопротивления.
— Войну мы проиграли, — медленно выдавил генерал Суроками…
К вечеру следующего дня из штаба дивизии подполковнику Губкину передали, что пал кабинет правительства Судзуки, а в войсках Квантунской армии получен приказ генерального штаба: «Знамена, портреты императора, императорские указы и важные секретные документы немедленно сжечь». Противник, однако, продолжал оказывать сопротивление. Ко всему, дожди размыли дороги, и наступать приходилось в крайне трудных условиях.
В ночь на 19 августа Губкин вызвал к себе в штаб командира артиллерийской группы, начальника разведки полка и командиров стрелковых батальонов.
Начальник штаба доложил о противнике и о боеготовности наших войск.
— В Гирине сосредоточены 138-я пехотная дивизия и 2-я пехотная бригада. Население составляет более двухсот тысяч человек. Нашему полку приказано с подходом частей армии генерала Чистякова и во взаимодействии с ними атаковать северо-восточную окраину города вдоль шоссейной дороги.
— Есть ли надобность ждать подхода стрелковых частей армии Чистякова? — спросил командир полковой артиллерийской группы полковник Петров.
— Противник не только укрепляется в городе, но и превосходит нас в силах. Без взаимодействия с подходящими частями армии Чистякова наступление полка немыслимо, — ответил начальник штаба.
— Если больше нет вопросов к начальнику штаба, заслушаем командира полковой артиллерийской группы, — сказал Губкин.
— Мне представляется, что нет смысла ждать подхода частей генерала Чистякова. Этим мы дадим возможность противнику подготовить город к обороне. По огневой мощи мы превосходим врага, артиллерия и минометы обеспечены полуторным боекомплектом снарядов и мин, — сообщил полковник Петров. — К утру должны подвезти еще один боекомплект.
— Хорошо. Как предлагаете использовать артиллерийские дивизионы? — спросил Губкин.
— В вашем распоряжении, товарищ подполковник, предлагаю оставить два дивизиона гаубиц, дивизион «катюш», батарею противотанковой артиллерии для борьбы с танками. Все остальное отдать батальонам для создания штурмовых групп и усиления стрелковых рот.
— Есть ли у вас дополнительные данные о противнике? — обратился командир полка к начальнику разведки.
— На окраине города действует наша разведгруппа, ждем «языка». В Гирине кроме пехотных соединений имеется около пятидесяти танков. Сколько их окажется на нашем участке, сказать затрудняюсь.
Обстановка, таким образом, складывалась противоречивая. Однако Губкин решил, не дожидаясь подхода соседей, во взаимодействии с вырвавшейся вперед танковой бригадой нанести удар вдоль шоссейной дороги по северо-восточной окраине Гирина. Второму батальону вместе с приданными ему минометным, пушечным и гаубичным дивизионами и одной танковой ротой он приказал перерезать железную дорогу на Чанчунь; первому батальону вместе с приданными ему пушечными и минометными дивизионами, танковой ротой и батареей САУ оседлать шоссейную дорогу Гирин — Чанчунь. Третий батальон Губкин оставил во втором эшелоне, приказав ему следовать за первым батальоном в готовности развить успех.
В голосе Губкина чувствовалась уверенность опытного командира. Офицеры, прибывшие на пополнение из частей Дальневосточного фронта, поглядывали на молодого комполка с любопытством. На его груди внушительно поблескивали Золотая Звезда Героя Советского Союза, ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Александра Невского, медали и американский «Крест за храбрость».
…На рассвете 19 августа жители Гирина были разбужены грохотом артиллерийской канонады и гулом танков. С юго-востока в город входили танки передового отряда генерала Чистякова. С северо-запада первый батальон Губкина перерезал дорогу Гирин — Чанчунь и создал японцам угрозу окружения.
Генерал Городовиков для развития успеха ввел в бой второй эшелон дивизии, однако дальнейшее продвижение его было приостановлено. Враг любой ценой стремился удержать занимаемые позиции. Японские солдаты с криками «банзай» фанатично бросались в контратаку; безымянная высота, через которую проходила дорога Чанчунь — Мукден, переходила из рук в руки.
Наступил решающий момент. Третий стрелковый батальон на подмогу первому Губкин повел сам. Командир полка наступал в цепи своих солдат, воодушевляя их личным примером, и вместе с ним незримо продолжали шагать те, кого уже не было в живых. Он чувствовал их рядом с собой, помнил голоса, лица и обретал новые силы.
Когда овладели первой линией вражеской обороны, Георгий Никитович оказался в кругу своих солдат. Глядя на них, он видел, как устали они, как напряжены их лица, мускулы. Надо было как-то снять это напряжение, взбодрить их.
— Ну что, братья-славяне, до Токио духу хватит добраться? — спросил он.
— Хватит, товарищ подполковник, — ответил за всех молодой солдат, — если десантом на самолете подбросят.
— А кроме десантных средств, всего у вас хватает? — допытывался комполка.
— Вместо табака выдали папиросы, вот только они раскисли. Дождь одолевает, промокли до нитки!
— Это ничего, я говорил со штабом генерала Максимова. Товарищи заверили, что дождь скоро прекратится.
Солдаты дружно рассмеялись, и не только потому, что штаб фронта не мог иметь связи с «небесной канцелярией», но и потому, что знали, кто был настоящий «Максимов»…
Полки генерала Городовикова совместно с частями генерала Чистякова к полудню полностью заняли город Гирин. Комдив сообщил, что в соседней дивизии на юго-восточной окраине Гирина успешно действует батальон под командованием бывшего их сослуживца капитана Ахметова. Георгий Никитович, обрадованный неожиданным известием, отдал необходимые распоряжения об организации охраны и отдыха полка и незамедлительно отправился на розыски Ахметова.
Но, к большому огорчению, в штабе соседней дивизии ему сообщили, что в последнем бою комбата тяжело ранило и что два часа назад он эвакуирован в медсанбат. Губкин тут, же погнал свой «опель» к медсанбату.
Узнав, где разместили капитана Ахметова, направился к нему в палату. Женщина-врач, встретившая Губкина у входа, сказала ему усталым голосом:
— Ахметов в операционной.
— Может, позволите мне взглянуть на него? Хотя бы на минутку, — стал просить Губкин.
— Кто же вам разрешит, если он на операционном столе?
Губкин скинул с плеч запылившуюся плащ-палатку. Врач, увидев подполковника со Звездой Героя Советского Союза, сразу изменила к нему отношение и пригласила следовать за ней. Подойдя к операционной, попросила подождать, а сама, осторожно приоткрыв дверь, вошла туда.
Минуты ожидания показались Георгию часами. Ему вспомнилось, как Ахметов начал службу рядовым на Дальнем Востоке и уже лейтенантом прибыл после ранения в его батальон в начале Белорусской операции. В первых же боях показал себя храбрым офицером. В том лесном бою летом сорок четвертого он просто чудом уцелел. Судьба пощадила его и в тяжелейших боях на подступах к границам Восточной Пруссии. А вот в последние дни войны он тяжело ранен.
Губкин потерял счет времени, так долго пришлось ждать. Наконец дверь операционной открылась, и оттуда вышел мужчина в белом халате. Георгий интуитивно почувствовал, что это хирург, оперировавший Ахметова. Врач остановился, снял очки, за ним замерла женщина. Губкин ждал, что она представит его хирургу и тот разрешит ему свидание с Ахметовым. Но хирург сам нарушил тягостное молчание.
— Нет больше Ахметова, — сказал он хрипло.
— Как нет? — вырвалось у Губкина. — Не может быть!
Собственный голос оглушил Губкина, в ушах стоял какой-то звон. Ему хотелось кричать: «Что же вы сделали?» — но горло сдавили спазмы, и Георгий не смог вымолвить ни слова.
— Ахметов был смертельно ранен в живот… Мы не смогли его спасти.
Губкин не помнил, как они вошли в операционную. Никак не хотелось верить, что он потерял еще одного фронтового друга, самого близкого, того, с кем вместе принял под Сталинградом первый бой. Чуть придя в себя, увидел, что они стоят у носилок, покрытых белой простыней. Откинув простыню, склонился над Ахметовым и тихо сквозь слезы сказал:
— Прощай, боевой друг.
Японские войска хотя и были разгромлены, но окончательно оружие еще не сложили. Маршал Василевский вынужден был отдать приказ продолжать боевые действия до полной капитуляции противника.
Дивизия генерала Городовикова составила гарнизон города Гирин. Сам он стал начальником гарнизона, и ему пришлось с головой окунуться в административную работу, решать множество неотложных дел. Прежде всего надо было обеспечить людей работой и продовольствием. Губкина назначили помощником начальника гарнизона.
В Гирине начала восстанавливаться мирная жизнь. Но боевые действия на отдельных участках все еще продолжались. Столица Маньчжурии Чанчунь была захвачена воздушным десантом Забайкальского фронта. В соответствии с директивой маршала Мерецкова генерал Крылов приказал Городовикову установить связь с войсками маршала Малиновского в Чанчуни.
Городовиков, снарядив четыре легковых автомобиля с автоматчиками, взял с собой подполковника Губкина и начальника разведки майора Ковалева. На полпути в одном из сел им пришлось сделать привал. Белые домики утопали в садах. Комдив и его спутники с удивлением заметили, что все вокруг напоминает юг России, Украину. Мелодичный звон колоколов, раздавшийся совсем близко, еще больше поразил их. Над зелеными кронами тополей возвышались купола с крестами. Генерал и офицеры, охваченные любопытством, подошли к церкви. Из ее раскрытых дверей доносились голоса — шла служба на… русском языке!
Городовиков в недоумении попросил Ковалева сходить за священником. Вскоре майор возвратился вместе с пожилым человеком в ризе. Он шел, на ходу вытирая платком мокрые от слез глаза.
— Боже мой, русские!
— Откуда вы взялись в этих местах, в Маньчжурии? — опросил его Городовиков.
— Мы здесь проживаем с тех гор, как переселились сюда вместе с колчаковцами, — ответил священник, не сводя глаз с русских офицеров.
— На Родину не тянет? Неужели не хочется вернуться в Россию?
— Еще как хочется! Мы русскими были, ими и остались.
— А вроде бы и здесь прижились. Вон какие сады вырастили!
— Сады эти выросли на людских слезах. Пока они зацвели, каждый третий из наших поселенцев умер в крайней нужде. Мы чужие и на Родине и здесь!
— Обижаетесь на Россию?
— Главное — Россия, а мы былинки. Она-то без нас обходится, а мы без нее — нет. Дело не только в нас, это еще полбеды. Вот молодежь!.. Дети нам покоя не дают, просятся домой, на Родину.
— Как вас величают? — спросил Городовиков.
— Иваном Ивановичем.
— Что касается молодых, то мы им поможем вернуться на Родину. Через неделю приезжайте ко мне в Гирин. Я начальник гарнизона.
Пока генерал говорил со священником, молодежь обступила советские автомашины. Посыпались вопросы. На поляну притащили фрукты, парное молоко, девушки старались угостить советских офицеров. Но пора было ехать. Генерал Городовиков, распрощавшись со всеми, дал команду: «По машинам!»
В полдень въехали в Чанчунь. По сторонам узких, кривых улочек замелькали грязные халупки, густо заселенные китайской беднотой. На каждом шагу встречались нищие, сновали рикши. А в центре города раскинулись широкие, светлые улицы с многоэтажными домами, построенными в европейском стиле. Головная машина остановилась у въезда во дворец императора Пу-И, где размещался штаб нашего воздушного десанта. Самого императора уже не было здесь, он с запасом золота пытался вылететь в Японию, но советский истребитель вынудил его самолет совершить посадку на мукденском аэродроме.
Дворец, покрытый маскировочной сеткой, утопал в зелени. Его окружал ров, наполненный водой. Только с близкого расстояния можно было разглядеть экзотический дворец. Фасад был расписан буддийскими символами. Через ров Городовиков и сопровождавшие его офицеры прошли по мостику, который опустился, как только часовой включил электродвигатель, приводящий его в действие.
Командир воздушно-десантной бригады полковник Казанцев обрадовался встрече с Городовиковым и крайне удивился, когда узнал, что генерал рискнул в сопровождении всего лишь трех машин совершить рейд по тылам японских войск. Он рассказал, как жарко ему пришлось в Чанчуни: по численности враг превосходил его бригаду более чем в десять раз. Главные силы маршала Малиновского находились в двухстах километрах от них.
Городовикова, Ковалева и Губкина провели в большой зал дворца, где на высоком постаменте стоял императорский трон. Десятки лет население Маньчжурии гнуло перед императором спину.
Ординарец комдива Долин, раздобыв фотоаппарат, пригласил всех сниматься.
— Товарищ генерал, садитесь на трон, будет редкая фотография! — предложил Долин.
— Тогда побыстрее. — Городовиков, приглаживая усы, важно уселся на троне, заведомо зная, что при таком свете фотография не получится.
Затем они двинулись дальше, продолжая осмотр императорских апартаментов. Басан Бадьминович остановился около пирамид с оружием; как кавалерист, он не мог равнодушно смотреть на разнообразные сабли, шашки. Казанцев в качестве трофея преподнес ему самую красивую шашку[5].
Командование воздушно-десантной бригады дало обед в императорском дворце в честь встречи войск двух фронтов. В парке перед входом во дворец духовой оркестр играл старинные русские и советские мелодии. В огромном зале были изысканно сервированы длинные белые, сделанные под слоновую кость столы. Впервые за всю войну так торжественно отмечали победу советские офицеры.
После торжественного обеда продолжили знакомство с дворцом императора. Городовикову показали личный автопарк Пу-И, предоставили возможность выбрать одни из легковых автомобилей. Выбор генерала пал на «кадиллак». Долин без особого труда завел его и выкатил во двор. Машина, сверкающая лаком, никелем и обшитая внутри бордовым шелком, с сиденьями, обтянутыми превосходным сафьяном такого же цвета, выглядела роскошно.
Заместитель начальника разведки 6-й танковой армии подполковник М. И. Мельниченко, координировавший высадку воздушного десанта и его взаимодействие с передовыми частями танковой армии, показал Губкину на своей карте, где еще высаживались наши воздушные и морские десанты. Части танковой армии, заполнив разрыв между фронтами маршалов Мерецкова и Малиновского, замкнули кольцо окружения. Георгий узнал, что одним из расположенных неподалеку японских полков командует родственник самого императора полковник Хоза Мики.
Губкин загорелся желанием тотчас же посмотреть на пехотный полк Хоза Мики. Не подозревая, какая опасность его ждет, он отправился в путь на машине с автоматчиками. Вскоре они остановились перед казармами из красного кирпича, расположенными в виде буквы «П». Со стороны фасада видно было, как во дворе маршируют солдаты в полном боевом снаряжении. Во всем чувствовался образцовый воинский порядок. Казалось, что японцы и не помышляют о полной капитуляции. Необычные гости привлекли их любопытство. Губкин уже стал сожалеть, что решился на столь опрометчивый поступок, но отступать было поздно.
Дежурный по части встретил советского офицера сухо и неприязненно, повел его в штаб. Губкин понял всю опасность своего положения и несколько растерялся, но не показал виду. В штабе к нему подошел переводчик, говоривший на чистом русском языке.
— Как прикажете о вас доложить командиру полка, господин подполковник? — оглядев Губкина с ног до головы, вкрадчиво спросил он.
— Представитель советского командования!..
Полковника Хоза Мики на месте не оказалось. Переводчик пригласил Губкина к заместителю командира полка. Поведение японских офицеров, настороженно наблюдавших за ними, показалось Губкину подозрительным, и он отказался идти, заявив, что уполномочен говорить только с командиром полка и потому вынужден уехать. Переводчик в недоумении проводил Губкина до машины. Водитель на всякий случай сразу же нажал на газ, чтобы японские часовые ненароком не обстреляли их.
На обратном пути в Гирин Городовиков поинтересовался похождениями Губкина.
— Подивились на японского принца? — не без иронии спросил он.
Губкин замялся:
— Меня интересовал не столько полковник Хоза Мики, сколько его полк.
— Должно быть, богатое хозяйство? Они в свое время оккупировали Филиппины. Филиппинским вином полковник вас, случайно, не угостил?
— Я его не видел. К сожалению, он отсутствовал. Видимо, развлекался где-то, — улыбнулся подполковник.
— Вот что, товарищ помощник начальника гарнизона, — строго произнес Городовиков, — предупреждаю, чтобы такие ваши необдуманные поступки были в последний раз!
Городовиков не разговаривал с Губкиным всю дорогу.
В Гирине они узнали о полной капитуляции Квантунской армии. На улицах было много народу, на площадях уже шли митинги, освобожденное население ликовало. Наши солдаты, хотя и не знали языка, обходились без переводчика: поднятый кверху большой палец для всех означал «хорошо». Всеобщей радости не было границ.
Новый день для помощника начальника гарнизона, как обычно, начался с многочисленных хлопот. С какими только вопросами не обращались в комендатуру жители города! Но, несмотря на занятость, время на чужбине тянулось непостижимо медленно. Хотелось скорее домой, на Родину. Георгий часто вспоминал Музу. От нее не было никаких вестей. Письмо, адресованное в госпиталь, осталось без ответа. Позже он узнал, что госпиталь, где служила старший лейтенант медицинской службы Собкова, расформирован и она уволена в запас.
Между тем старший лейтенант медицинской службы Собкова, вернувшись в Москву, тоже написала письмо Губкину, но ответа не дождалась. Всякие мысли приходили ей в голову, многое передумала она, но не предполагала, что у Георгия так быстро изменится номер полевой почты и письмо его не застанет. Время все сглаживало, для Музы наступила мирная жизнь, она готовилась к поступлению в мединститут, а те памятные фронтовые встречи, всякий раз связанные с ранением Георгия, теперь казались ей бесконечно далекими.
В сентябре Губкина направили в Москву в Военную академию имени М. В. Фрунзе.
2
Скорый поезд из Гирина доставил Губкина во Владивосток. До отхода хабаровского поезда оставалось еще восемь часов. Георгий Никитович побродил по приморским бульварам, поднялся на Тигровую гору. А мыслями уже был в Хабаровске. Там его должен был встретить Костин. От многочасового хождения по городу Георгий так устал, что, едва сев в вагон, тут же заснул крепким сном. Проснулся утром от неожиданного толчка, вспомнил, куда едет, — и сразу мысли об Асе. Но от них на душе стало тягостно и горько…
Поезд медленно подходил к Хабаровску. Послышалась музыка: оркестр играл военный марш. Перрон был заполнен веселыми, счастливыми людьми, встречавшими фронтовиков. Губкин соскочил на перрон и, пробираясь сквозь толпу, стал искать глазами Костина. Но в такой сутолоке разыскать его было нелегко.
И вдруг совершенно неожиданно столкнулся с ним.
— Еду в Москву за женой. Еще придется служить, надо забрать ее сюда, — возбужденно говорил Костин. — Ты тоже в Москву?
— Нет, мне надо заехать в Благовещенск, к детям. Истосковался по ним… А вот жену видеть не могу…
Костин вздохнул:
— Понимаю тебя, брат. Если уж решил, руби раз и навсегда. — Помолчав, спросил: — А как медсестра твоя, пишет?
— Нет, почему-то молчит. А так хочется ее увидеть! И конечно, не в госпитале, как случалось раньше…
Поезд Костина отходил через несколько минут. Друзья распростились, не ведая, когда им удастся встретиться…
Разговор с однополчанином с новой силой всколыхнул воспоминания о Музе. Губкин тяжело переживал ее молчание, мучился догадками, почему она не ответила на его письмо из Маньчжурии.
В Благовещенске Губкин с вокзала сразу направился домой. Ася, открыв дверь, растерянно замерла на пороге. В глазах ее Георгий прочел испуг и надежду: «Может, насовсем вернулся?»
Но Георгий решил сразу внести в дальнейшие отношения ясность и холодно сказал, что приехал развестись с ней.
Судебное заседание тянулось для Георгия невыносимо долго. Были выслушаны заявления обеих сторон, показания свидетелей. Георгий боялся отрицательного исхода дела. Но вот члены суда удалились на совещание. Снова томительное ожидание, и наконец он услышал: «Суд идет!» Все встали.
Волна оживления прокатилась по залу, когда было зачитано решение: супругов развести, сына отдать отцу, а дочь оставить матери. Послышались возгласы: «Правильно!»
Ася не ожидала такого решения, оно ошеломило и обескуражило ее. «Зачем я взяла с собой Юру? — ругала она себя. — Он так и не сказал, что хочет остаться со мной, хотя я очень просила его накануне».
После того как судьи покинули зал, родные и знакомые обступили Георгия, а он все еще сидел на скамье, не в силах подняться от всего пережитого. Сзади, в следующем ряду, расплакался Юра. Ася в исступлении целовала его мокрое от слез лицо и не отпускала от себя.
Оставшиеся в зале притихли, вздыхая и глядя на прильнувшего к матери сына, и ждали окончательной развязки. Юра мог раздумать ехать с отцом. Силой оторвать его от матери было бесчеловечно. Внимание людей было приковано к ребенку. Но вдруг тишину притихшего зала нарушил совсем седой старик, стоявший чуть поодаль от Юры.
— Иди, сынок, к отцу, с ним тебе легче будет шагать по жизни, — сказал он проникновенно. — Выучишься, в люди выйдешь и мать свою не забудешь. Ступай, ступай с богом!
Юра робко пошел к отцу, оглядываясь в сторону матери. А люди все еще стояли с увлажненными глазами молча, пока Губкин не подхватил сына на руки и не пошел к выходу…
Мальчик впервые ехал в поезде, но новые впечатления не радовали его, он безучастно смотрел в окно вагона, и глаза его выражали тоску. Нелегко было и Георгию Никитовичу. За эти дни ему пришлось многое пережить. И сейчас, видя страдания сына, он был готов сделать все, чтобы избавить его от них и вернуть ему радость детства. Пытался с ним поговорить, рассказывал, как будут жить в Москве, где Юра будет учиться, но сын все смотрел в окно, смотрел…
Уже стемнело, а Юра не отрывал взгляда от мелькавших мимо лесов, полей, сел. Губкин не знал, что ему делать. Он, боевой командир, бывший учитель, воспитавший не одного трудноподдающегося, перед родным сыном был бессилен. Настолько на душе было тягостно, что он, обхватив руками подушку, уткнулся в нее. Мальчик тоже перебрался на свое место и, измученный обрушившейся на него тоской по дому, по матери и сестре, наконец заснул.
Весь долгий путь до Москвы он был печален. Отец старался не трогать его. Пусть погрустит. Детское горе недолговечно, время поможет ему забыть прошлое.
Лишь когда по радио объявили: «Поезд прибывает в столицу нашей Родины Москву», — Юра оживился.
Губкин поехал с сынишкой в общежитие Военной академии имени М. В. Фрунзе. Ночевали в общей комнате, где кроме них разместились еще семь слушателей. Отец с сыном легли на одной кровати. Юра, засыпая, прижался к отцу…
Утром вместе позавтракали, и Георгий Никитович поспешил в академию.
Огромное здание Военной академии имени М. В. Фрунзе растянулось на целый квартал. Светлые читальные и лекционные залы, большая библиотека, прекрасные учебные кабинеты производили впечатление. Несколько часов ему потребовалось, чтобы полностью осмотреть все это.
Особенно поразил его располагавшийся на первом а гаже артиллерийский миниатюр-полигон. Задержался Губкин и в кабинете М. В. Фрунзе на третьем этаже. Долго рассматривал портреты генералов, маршалов, известных военачальников, которые преподавали или учились в стенах академии. К концу дня поднялся на десятый этаж. Здесь его удивил оперативно-тактический кабинет. Георгий Никитович застыл у макета «Прорыв стрелковым полком заранее подготовленной обороны противника». Перед его глазами ожили огневые точки, траншеи и ходы сообщения, позиции артиллерии, расположения полковых и дивизионных резервов, дороги, выводящие к переднему краю. Висевшие рядом большие красочные стенды давали возможность рассмотреть различные варианты решения. Губкин подошел к пульту управления макетом и нажал кнопку. Сразу задвигались «синие» и «красные», заработала имитация взрывов артиллерии и мин. «Синие» контратаковали «красных», атака захлебнулась… Губкин прочитал на табло: «Решение нецелесообразное». При его принятии не было учтено, что на пути «красных» глубокий овраг. «Синие» воспользовались этим и взорвали мост.
Юра выскочил в коридор, где играли такие же, как он, ребята, едва за отцом закрылась дверь.
На улице было зябко и сыро, шел мокрый снег, поэтому детвора с азартом носилась по коридору, несмотря на то, что из открытой фрамуги несло холодом.
Когда Георгий Никитович вернулся из академии, он застал сына среди детворы. Юра был возбужден игрой. Отец радостно сообщил ему, что у них теперь есть своя отдельная комната, этажом ниже.
Комната оказалась уютной, теплой. Около койки стоял платяной шкаф, у другой стены — диван, посередине комнаты — стол, в углу, рядом с умывальником, — тумбочка в электроплиткой. Несмотря на скромное убранство, все здесь напоминало домашнюю обстановку. Губкин принес из столовой суп в трофейном японском термосе, подогрел чай на плитке и быстро накрыл стол, но Юра сказал, что есть не хочет. Георгий Никитович обратил внимание, что у сына красное лицо, приник губами ко лбу — Юра весь горел.
«Простыл!» — догадался отец. Уложив сына в постель, сходил в аптеку, затем напоил его чаем с сушеной малиной, поставил горчичники. Юра забылся в неспокойном сне. Всю ночь Губкин не сомкнул глаз.
Наступило утро, надо было идти на занятия, а с кем оставить больного сына? Решил позвонить матери Музы. И каково же было его удивление и радость, когда в трубке услышал знакомый голос.
— Муза, ты?! — только и мог вымолвить он.
— Ты откуда говоришь? — взволнованно спросила она.
— Я в Москве, только вчера приехал. Буду учиться в академии. Со мной сын, он заболел. Если можешь, приезжай к нам. Запиши адрес общежития. Все расскажу нри встрече.
Через час Муза уже стояла на пороге их комнаты. Георгий бросился к ней, помог снять шинель. Стройную фигуру девушки плотно облегала гимнастерка, перетянутая в талии ремнем. Муза выглядела так, будто не было долгих месяцев разлуки. Накинув белоснежный халат, она подошла к ребенку. Проверила пульс, поставила мальчику градусник. Юра дремал в полузабытьи.
— Ты давно демобилизовалась? — не сводя с Музы глаз, спросил Георгий.
— В мае. Учусь в мединституте.
— У меня сегодня напряженный день. Не смогла бы ты у нас остаться?
— Конечно, останусь! — сказала она, окинув Георгия нежным, любящим взглядом.
Разбуженный разговором, Юра открыл глаза. Температура у него была за тридцать девять. Увидев женщину в белом халате, очень похожую на тех добрых врачей, которые лечили его дома, мальчик послушно выпил из ее рук чай с малиной. Муза укутала Юру теплым одеялом, и он заснул. А когда проснулся, ему стало легче, он попросил пить. Муза напоила его, присела рядом и стала рассказывать, как у его папы на фронте после ранения тоже была очень высокая температура, но он держался молодцом.
— А вы откуда знаете? — спросил Юра.
— Я тогда работала в госпитале и лечила твоего папу.
— А куда он был ранен?
— В руку. Врачи хотели ампутировать, но он не дал.
— А что такое ампутировать?
— Это значит отрезать. И вот твой папа не захотел остаться без руки. Его сильный организм поборол болезнь, и он поправился.
— Расскажите еще что-нибудь о папе…
Муза и Георгий не могли наговориться. Сидели, глядя в глаза друг другу, и рассказывали, что с ними было после того, как они расстались на фронте. Юра спал крепким сном. Губкин прислушался к ровному дыханию сына, и на душе у него стало легко и спокойно. Рядом находились два близких, любимых человека.
Муза взглянула на часы и заторопилась домой — было уже поздно. Георгий остановил ее. И, не в силах сдерживать больше свои чувства, осыпал ее лицо поцелуями. Переведя дыхание, он проговорил с волнением:
— Муза, я люблю тебя! Оставайся с нами навсегда. Не представляешь, как ты нужна нам… И мне, и Юре…
— Ты преувеличиваешь, Георгий, — возразила Муза. — У Юры есть мать, и он не забыл ее. Захочет ли он иметь мачеху? Я знаю, что это такое, и не хочу сделать твоего сына несчастным.
— Но ты делаешь несчастным меня!
— Тебя я люблю, потому и хочу тебе только добра. Не торопись с решением.
И она ушла, оставив его наедине со своими нелегкими, терзающими душу думами.
На следующее утро, когда пришла Муза, Юра еще не проснулся. Она обратила внимание на усталый вид Георгия, ей показалось, что он в госпитале выглядел лучше. Видно, всю ночь не спал. Больной сын, а тут еще она со своей неопределенностью. В том, что он ее любит и будет надежной опорой, она не сомневалась. И она не была к нему равнодушной: столько лет ждала и надеялась; а вот когда пришлось решать этот вопрос, ей вдруг сделалось страшно — вдруг кто-то из них троих окажется несчастным? Она сама детские годы прожила с мачехой и, несмотря на то, что мачеха относилась к ней хорошо, не могла привыкнуть к ней, полюбить как родную мать.
Юра проснулся и закричал: «Папа!»
Георгий подошел к сыну, присел рядом с ним и тихо сказал:
— Юрочка, мне в академию надо, а с тобой останется тетя Муза.
— Тетя Муза, вы больше не уйдете от нас? — радостно воскликнул мальчик.
— Нет, маленький, больше не уйду. Никогда не уйду, сыночек…
Вскоре Губкин побывал на приеме у начальника политотдела академии. Генерал вручил ему ордер на квартиру и поздравил Георгия.
Сознание того, что он в Военной академии, откуда вышли выдающиеся полководцы, маршалы Советского Союза, и что с ним рядом Муза и Юра, слилось в одно общее, радостное, волнующее чувство. Только где-то в глубине души все еще точил червячок: как там дочь, что с ней? Георгий Никитович с тоской зашел в почтовое отделение, которое находилось внутри здания академии, отправил денежные переводы на дочурку, Евдокии Тимофеевне и на приемную дочь Алевтины — Галочку, родители которой так и не нашлись.
Жизнь Губкиных вошла в обычную колею.
Учеба Георгия в академии чередовалась с практической работой в войсках. На последнюю стажировку Губкина по его просьбе направили туда, где служил его боевой товарищ майор Махмудов. Вот уже два года друзья собирались встретиться, но все никак не удавалось. К тому же Георгию давно хотелось побывать в тех местах, где он принял свой первый бой.
В Сталинград он отправился на пароходе со всей семьей. После долгих месяцев напряженной учебы путешествие по Волге в комфортабельной каюте одного из самых красивых волжских судов — парохода «Радищев» — показалось ему верхом блаженства.
Юре особенно понравился капитанский мостик. Он был обнесен блестящими медными поручнями, справа от мостика находился красный световой сигнал, слева — зеленый. На мостике стоял капитан в белоснежном кителе с золотистыми нашивками на рукавах и золотой кокардой на белой фуражке. Мальчик не мог оторвать от него глаз.
— Папа, я хочу быть капитаном! — сказал он отцу.
Георгий и Муза с улыбкой переглянулись.
— Чтобы быть капитаном, надо учиться на «отлично» и иметь спортивную закалку, а у тебя одни четверки, и зарядку ты не очень-то любишь делать, — с ласковым укором заметила Муза.
С особым волнением Георгий и Муза ожидали, когда «Радищев» подойдет к Саратову, городу, в котором они познакомились. Ранним утром пароход причалил к саратовской пристани. Юра еще спал. Муза с Георгием вышли на пристань. Кругом возвышались строительные краны — город восстанавливался и строился. Они с трудом разыскали тот дом, где в войну размещался госпиталь. Теперь здесь находилась городская больница. Позабыв обо всем, они молча стояли перед зданием, пока тишину вдруг не разорвали мощные гудки «Радищева». Георгий и Муза поспешили на пристань…
В Волгоградском порту их ожидала открытая машина. Они поехали вдоль правого берега Волги по тем самым местам, где в 1942 году шли кровопролитные сражения. Георгий Никитович попросил остановить машину там, где его, раненного, переправляли на катере на левый берег Волги. Как их тогда бомбил вражеский самолет!..
Поехали дальше и остановились в Бекетовке. Вот то здание, где в войну был госпиталь, в котором Георгий лежал после первого ранения. Снова нахлынули воспоминания…
К обеду приехали в штаб. Дежурный по штабу проводил Губкиных в гостиницу. Они хотели отдохнуть с дороги, но кто-то постучал в дверь.
— Войдите! — крикнул Георгий Никитович.
Дверь распахнулась, на пороге стоял Махмудов.
— Здравствуйте, мои дорогие! Я уже потерял надежду на встречу в этом году, — возбужденно заговорил Махмудов, обнимая Георгия. — И вот неожиданно получил ваше письмо. Сейчас едем ко мне, жена ждет нас.
— Так сразу и поехали? — улыбнулся Губкин. — Познакомься, Азим, это моя жена и сын.
— Очень приятно! — Махмудов осторожно пожал руку Музе, взъерошил волосы на голове Юры.
Муза много слышала от мужа о Махмудове. Она с интересом всматривалась в его открытое, бронзовое от загара лицо. Фронтовые друзья начали вспоминать боевых товарищей, затем перешли к будничным делам.
— Ну рассказывай, как жизнь у тебя складывается после войны. Курская дуга не снится? — спросил Георгий Азима.
— У нас и сейчас в войсках, как на фронте, напряжение не спадает. Живем от одной инспекторской проверки до другой. Требования усложнились, личного времени почти не остается…
И снова они на открытой машине мчались вдоль правого берега Волги. Вскоре доехали до опушки рощи, где расположился военный городок. Махмудов показал рукой на двухэтажный дом, у подъезда которого вместе с мальчиком стояла женщина в ярком национальном платье. Это были жена Азима Зульфия и сын Тимур.
Когда вошли в квартиру, Азим подвел гостей к люльке, где сладко спала его десятимесячная дочурка. Посреди комнаты стоял щедро накрытый стол. Махмудов стал рассаживать гостей. После первых тостов за встречу, за здоровье вновь начались воспоминания.
— Думали ли мы тогда, на меловых горах, о такой встрече! — с грустью проговорил Махмудов.
Друзья не могли наговориться. Уложили ребят, скоро и женщины расположились ша отдых, а Георгий с Азимом засиделись до утра.
Лето в войсках, как всегда, было насыщено учениями и стрельбами. Как-то ночью часть подняли по тревоге. Военный городок наполнился рокотом танковых моторов и лязгом гусениц. Муза спала, Георгий, осторожно повернув голову, стараясь не потревожить ее сон, смотрел на лицо, на длинные шелковистые волосы, рассыпавшиеся по подушке. Он благодарил судьбу, которая свела их в этой кошмарной войне.
Шум моторов все усиливался, Муза не сразу поняла, во сне это или наяву. Настолько осязаемо вспомнилась война, что она вскрикнула. Георгий Никитович успокоил ее, поцеловал, выбежал из дому с походным чемоданчиком…
Часть двинулась тем же маршрутом, как и тогда, в сорок втором. Стояла такая же темная ночь, только теперь солдаты ехали на бронетранспортерах и на трехосных крытых тентом автомашинах.
Четыре дня и четыре ночи под палящими лучами солнца «синие» оборонялись, а «красные» наступали. Основные боевые действия развернулись на рубеже реки Аксай.
Штаб обосновался на восточной окраине. Все вокруг было так знакомо! Перед глазами Губкина вставали боевые товарищи: комбат капитан Шакун, комдив полковник Сорокин… Никогда не забудутся тяжелые бои, фронтовая дружба, скрепленная пролитой на полях сражений кровью…
Из Сталинграда в Москву Губкины летели на самолете.
Новый учебный год принес новые заботы. Программа в академии была перенасыщена. Перегрузка сказалась — перед самым выпуском у Георгия открылись старые раны. В поликлинику академии он обратился не сразу. Консилиум врачей принял решение направить Губкина на курортное лечение в Светлогорск. Там, где он воевал и был ранен, теперь ему предстояло лечиться.
Неприветливо принимала солдат его батальона эта земля зимой сорок пятого года — пронизывающими ветрами, слякотью. Сейчас же Губкина встретило тепло июньского солнца, янтарный берег, сверкающая синева моря. На быстрое выздоровление он особых надежд не возлагал, но был уверен, что поправится и проживет еще долгую жизнь.
Губкин всегда полагался на «запас прочности» своего организма. Врачи для него были лишь помощниками. Но на этот раз чудодейственные светлогорские грязи исцелили его за какие-то две недели. Исцелили открывшиеся раны. А была еще закрытая, недоступная. Пока она молчала, а теперь вдруг стала давать о себе знать — иногда в груди вспыхивала острая боль.
…Во второй половине октября Главное управление кадров Наркомата обороны начало приглашать выпускников Военной академии имени М. В. Фрунзе на предварительное распределение. Губкину предложили полк с перспективой стать командиром дивизии. Двадцатидевятилетнего офицера ожидала блестящая военная карьера. Но Георгий Никитович отказался. Он реально оценил свои возможности и, посоветовавшись с Музой Феофиловной, решил дать согласие на преподавательскую работу. Георгий Никитович посчитал для себя важным учить современному военному искусству новые поколения советских офицеров, готовить их надежными защитниками Родины…
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Послевоенные годы пролетели незаметно, словно растаяли в дыму походных костров. Герой Советского Союза полковник Губкин отслужил в рядах Советской Армии двадцать пять календарных лет.
После он работал в центральном аппарате одного из союзных министерств промышленности. Губкину уже перевалило за шестьдесят. Давно закончилась вторая мировая война, а боль старых ран все еще напоминает ему о пережитом. Осколок от тяжелого снаряда, изготовленного на одном из заводов Рура или Силезии, надолго притаившись в теле героя, в конце концов заявил о себе тяжелой болезнью — инфарктом. И лишь благодаря заботе и труду людей в белых халатах, не раз уже спасавших Георгия Никитовича, Губкин снова в строю. Хотя на письма однополчан он отвечает: «Нахожусь на заслуженном отдыхе и покое!..» — покой ему только снится. Он по-прежнему очень занят: выступает по радио, телевидению, перед молодежью Москвы и тех населенных пунктов, которые он освобождал, где прошла его боевая юность.
Георгий Никитович не только неутомимо работает, но и интересно проводит свободное время, он частый гость в Литве; пригласили его и в Кудиркос — Науместис на празднование тридцатилетия победы над немецко-фашистскими захватчиками, где произошло много встреч, но одна из них была особенно трогательной.
— Товарищ комбат, вы не узнали меня? — спросила высокая миловидная блондинка.
— Где же я мог вас видеть? — удивленно переспросил Губкин.
«Товарищ комбат!» — так обращались к нему только на войне. Были в его батальоне женщины — санинструкторы и снайперы. Но слишком много прошло времени, чтобы угадать в этой чуть полноватой женщине ту маленькую девчушку. Тридцать лет — срок немалый. Правда, слишком уж молодо она выглядит…
— Не вспомнили, товарищ полковник? — с сияющей улыбкой нарушила молчание женщина.
— Нет, мне кажется, вы обознались!
— Сауле я, Сауле! Та самая девочка, которой вы спасли жизнь!
В один миг все восстановилось в памяти: горящий сарай с людьми, выстрелы вдали и он, Губкин, с крошкой на руках бежит к своим…
— Да, узнать невозможно. И видел-то я вас ночью. Чем же вы теперь занимаетесь, дорогая крестница? — взволнованно спросил он.
— Учительствую в науместисской средней школе. Одному из наших пионерских отрядов присвоено ваше имя.
— И как же вам учительствуется?
— Хорошо. В нашей школе создан интернациональный клуб «Цветок дружбы». Клуб ведет воспитательно-патриотическую работу. В сентябре занятия в школе начинаются минутой молчания в честь светлой памяти советских воинов, погибших за нашу свободу в борьбе с фашистскими захватчиками. Ученики ухаживают за могилами советских воинов. У нас побывали родные тех, кто здесь похоронен. Мы поддерживаем связь о ветеранами войны, нашими освободителями.
— Благородное дело делаете, воспитывая Отчизне молодое племя! Молодчина, крестница!..
Совсем недавно Губкин снова побывал в тех местах по приглашению правительства Литвы. Он даже не представлял, какая встреча еще ожидает его. Случайно стало известно, что в Науместисе живет семья бывшего начальника погранкомендатуры капитана Бедина, с которым служил брат Василий. Георгий Никитович обрадовался этой вести и разыскал жену пограничника.
Полина Ивановна Бедина рассказала ему о пережитой трагедии фашистской оккупации. Если бы им не помогли литовцы, то гитлеровцы расстреляли бы всю их семью. Под чужими фамилиями их угнали в рабство в Германию. И только после разгрома немецко-фашистских войск им удалось вернуться в родной Науместис. Полина Ивановна на его вопрос с сожалением ответила, что ничего не знает о судьбе старшего лейтенанта Василия Губкина и его дочери.
Георгий Никитович показал Полине Ивановне семейную фотографию Алевтины Петровны — жены брата Василия — с приемной дочерью Галиной, ее мужем и двумя сыновьями и фотографию своего сына Юры, который, окончив морское училище, находился в дальнем плавании.
В Литве Губкину было поручено произвести перезахоронение солдат и офицеров батальона в Кудиркосе — Науместисе.
Из Калининграда в распоряжение полковника Губкина прибыл мотострелковый взвод на новеньких автомашинах. Солдаты были одеты с иголочки и похожи на его бойцов, только ростом повыше, все как на подбор. Он поймал себя на мысли, что с ними пожизненно связан одной судьбой и теперь скучает без них.
Командир взвода, молодой офицер в полевой форме, молодцевато скомандовал «Смирно» и, приложив руку к головному убору, строевым шагом пошел навстречу полковнику Губкину.
Губкин, приняв рапорт, поздоровался: «Здравствуйте, товарищи!» В ответ по опушке леса прокатилось: «Здравия желаем, товарищ полковник!» Это был тот самый лес, который Губкин в юности спас от гитлеровских извергов. Все здесь было, как в сорок четвертом году, — и лес, и поля, только вместо блиндажей остались холмики, вместо траншей — полоски. Вдали, на горизонте, словно облако дыма, повисла туча. Так же, как и тогда, парило небо над изумрудом трав. Георгий Никитович ощущал дыхание тепла близкой ему земли. Эхо от слов «Здравия желаем» все еще катилось далеко-далеко по лесу, будто деревья тоже желали ветерану доброго здоровья.