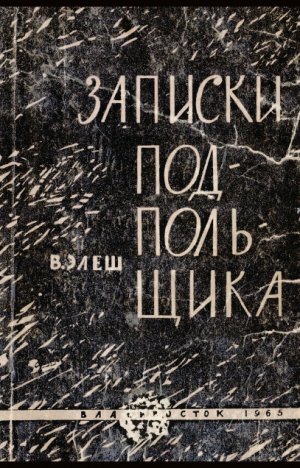
Элеш В., Записки подпольщика
Чувашский мальчик
По обеим сторонам глубокого оврага, заросшего высокими визами и лохматыми, старыми ивами, в одной версте от Волги, раскинулась чувашская деревня Кинеры. По дну оврага бежит веселый ручеек.
Из окон нашей избы виднеются яблоневые и вишнёвые сады, огороды, жерди с вьющимся на них хмелем, верхушки вязов и ив, выглядывающие со дна оврага. За ними, там, где заходит солнце, открывается величественная роща вековых, могучих дубов.
За околицей совсем другая картина. Направо, на фоне ржаного поля, нежно-зеленого весной и золотистого летом, тихо перебирали крыльями ветряные мельницы. Налево — поля и возвышенность Чар-ту со смешанным лесом. Дальше — остров Криушинский, а за ним красавица Волга. Широкой лентой она прорезает пески и луга, уходя далеко на восток. С высокого крутого берега Волги как на ладони видны корабельные сосны.
В деревне больше ста дворов. Бревенчатые, рубленые избы крыты тесом и соломой. Были и две курные избы. Эти широкие улицы, образующие букву П, заросли травой.
С ранних лет мы любили слушать легенды и сказки про Волгу, про большие волжские каменные города — Симбирск, Самару, Саратов, Царицын и Астрахань.
Ходили легенды и про нашу Чар-ту (по-русски — Царь-гора). Старики рассказывали, что здесь с войском стоял Иван Грозный, когда воевал с Казанью, и что на вершине ее зарыт клад.
Жигулевские горы, по рассказам, представлялись нам величественными, таинственными. Хотелось знать, что там, за этими горами.
Но больше всего мы любили Волгу. Она была рядом и доставляла нам много радости. Рыбу ловили круглый год. Особенно хорошо в июне клевала чехонь. Эту костлявую рыбу так и называли чувашской. Она была нашей главной пищей. С утра детвора собиралась на берегу. Купались, закидывали удочки, разводили костры, жарили рыбу.
Жизнь на Волге не прекращалась ни на минуту: вверх и вниз по Волге плыли пароходы обществ «По Волге», «Кавказ и Меркурий», «Надежда», «Самолет», совершая рейсы из Нижнего в Астрахань, из Нижнего до Перми, от Уфы до Нижнего. Буксиры тащили за собой караваны барж, на носовой части которых крупными буквами были выведены надписи «Бр. Нобель», «О-во Мазут»...
Ночью пароходы казались сказочными дворцами, украшенными разноцветными огнями. Медленно проплывали беляны, огромные светлые горы пиленого леса и связанные из бревен плоты с затейливыми и приветливыми домиками на них. На плотах горели костры. Вокруг них сидели плотогоны и пели песни, вывезенные с берегов Унжи, Ветлуги и с верховьев Волги.
Здесь моя родина, Чувашский край! Здесь я вырос, получил первое понятие о жизни.
В нашей семье, кроме близнецов (меня и Ивана), было еще два брата — Никита и Илья и сестра Матрена.
У отца земли было мало, и наша семья никогда не имела в достатке своего хлеба. Отцу приходилось наниматься пильщиком, а старшему брату Никите бурлачить на Волге. Я не помню отца без работы.
Наша изба была небольшая, крытая тесом. Кровати в ней заменяли скамейки из широких досок. Справа от двери стояла большая русская печь, да перед «красным углом» небольшой простой стол и стул. Вот и вся обстановка.
У нас любили сумерничать: после дневных трудов сидеть и отдыхать в темноте. Но вот мать зажигает керосиновую висячую лампу «семилинейку», а с появлением света приходит и сосед. Вслед за ним другой. Так постепенно изба заполняется людьми. Рассядутся где кто может: на скамейках и просто на полу, и начинаются беседы. Каждый старался рассказать что-нибудь: матросы с барж — о жизни в городах, плотогоны — о том, как они проводили сплав леса по реке Кокшаре, плотники и пильщики — о своем. Некоторые бывали в самарских и донских степях, где косили сено и хлеб.
Мы, дети, забившись в каком-нибудь укромном местечке, сидели тогда тихо-тихо, слушая рассказы бывалых людей. Так и засыпали. Обычно эти беседы затягивались до глубокой ночи. Мы любили такие длинные зимние вечера.
С пасхальных дней, когда земля становится суше, молодежь переносила свои развлечения в центр села, на площадь, где устраивался большой хоровод, пелись те же песни, что и на посиделках.
Чуваши — веселый, душевный народ. Однако жилось им нерадостно. Наряду с постоянными недостатками, в чувашских семьях часто вспыхивали болезни: брюшной тиф, дифтерит. Люди умирали, особенно дети. Моя мать родила 12 детей, а в живых осталось пять. Такие болезни, как чесотка и трахома, были национальным бедствием. В детстве я болел постоянно, особенно болезнью, которую называли горячкой. Тогда мать, бывало, натрет картошки и этой массой обвяжет ноги и голову. Вот так и лечили. Кроме горячки переболел я брюшным тифом, желтухой, дифтеритом и бог знает еще чем.
На несколько десятков деревень была одна больница и при ней врач и фельдшер. Больной, так и не дождавшись медицинской помощи, умирал.
Но более трудные дни для чувашей наступали осенью, когда надо было платить налоги. Срок этот приурочивался ко времени уборки скудного урожая хлебов и овощей и сбора хмеля. Народ готовился к этому, как к величайшему бедствию, торопливо тащили на базар последний кусок домотканого холста, последнего поросенка, петухов и все, что можно было продать.
Налоги и подати были высоки. Были подати государственные, были земские, были и церковные. Все они почему-то из года в год росли. Собирал налоги староста. С понятыми он ходил по дворам. Но не все могли платить. Тогда приезжали в деревню волостной писарь и старшина, а с ними и становой — добирать недоимки. Пороли.
Вот так я рос среди песен и радостей, болезней и слез. Когда повзрослел, исполнилось мне десять лет, пошел я учиться в церковно-приходскую школу, в деревню Щамалы. Все было интересно в школе, но самое примечательное для меня было то, что там зародилась у меня мечта. Она, эта мечта, и привела меня в 1904 году в Бичуринское 2-классное училище. Здесь застали меня события 1905 года.
Помню декабрьский солнечный морозный воскресный день; помню глубокий, отдающий синевой снег на улицах. В селе Бичурине небывалое оживление. У волостного правления огромная толпа — собрались крестьяне со всей волости. Здесь же и ученики. Шум, разговоры, смех. Вот неожиданно наступила тишина: стоя на облучке кошевы, начал говорить, обращаясь к народу, кто-то в форменной фуражке и шинели с башлыком. Это был студент Казанского университета Николаев. Он говорил тогда о том, что чуваши мрут от голода, слепнут от трахомы, что народ держат в темноте, давят налогами.
Толпа слушала неслыханно смелую речь. Каждое слово падало на благодатную почву. Это понятно: чуваши ненавидели царский режим и полицейский произвол. Налоги и разные земские сборы ложились на крестьян тяжелым бременем. Малоземелье и низкая урожайность постоянно держали народ на крайней степени голода и нищеты.
На призыв Николаева захватить власть в руки крестьян народ ответил быстрыми действиями. Были арестованы волостной старшина, писарь и урядник. Создан временный волостной комитет.
Однако народная власть просуществовала недолго. На третий день в село прибыл становой пристав с ротой солдат. Несколько человек было арестовано, а на жителей в наказание было возложено содержание прибывшей роты солдат. Село будто вымерло. Появились в нем урядник, жандармы...
Разрозненные восстания крестьян происходили и в других волостях Чебоксарского уезда, но эти восстания, не получив широкого развития, быстро подавлялись.
... Окончив в 1906 году 2-классное училище, я решил продолжить образование. Была заветная мечта стать капитаном.
В лапах улицы Мокрой
Я знал, что 20 октября приемные экзамены в Казанском речном училище. Решил попытать счастья. «А если не попаду, — думал я, — останусь в городе. Подыщу работу».
Посоветовался со старшим братом Никитой. Он одобрил и дал на дорогу серебряный рубль. С этим рублем 19 октября 1906 года на пристани Звениговский Затон я сел на пароход. Спросил кассира:
— Сколько стоит билет до Казани?
— Рубль!
Что делать? Купить билет и остаться без денег? Решил на пристани в Козловке сойти. Оттуда до нашей деревни 12 километров. Но, к несчастью или счастью, пароход не остановился в Козловке. Я продолжал ехать без билета и все время думал, что делать.
Пока я переживал и думал, наступила ночь, пароход приближался к Казани. Пароход в Морквашах стоял всю ночь, грузился мукой.
Вот и Усть-Казанская пристань. Здесь тоже дебаркадеры убраны. Пароход пристал, приткнувшись к берегу носом. Я наблюдал, как матросы подали швартовы (чалка — по-волжски) и стали подтягивать корму. Наблюдал, и у меня зрела мысль: как только корма парохода подтянется ближе к берегу, разбегусь и выпрыгну на берег. Я так и сделал. Прыжок мой был достоин рекорда.
... В речном училище швейцар принял меня за нищего. Он сказал:
— Нищим не подают. Здесь училище.
На мне был весь в заплатах полушубок, грязная солдатская шапка, на ногах лапти, за плечами котомка.
— Я не нищий, пришел учиться, — ответил я.
Оказалось, что экзамены уже прошли, но швейцар все же доложил обо мне начальнику.
Через несколько минут в прихожую, она же и приемная, вошел внушительного вида рослый морской офицер. Я заметил пышные светлые усы на морщинистом продолговатом лице и толстые губы. Серые, чуть навыкате глаза смотрели, как мне показалось, строго. Это был начальник училища Михаил Васильевич Черепанов.
Он подошел ко мне и спросил:
— Вы хотели меня видеть?
Вместо ответа я подал ему прошение с документами. Он внимательно просмотрел их.
— Хочу быть капитаном, — сказал я.
Находившиеся тут ученики и два швейцара громко рассмеялись, а М.В. Черепанов, еще раз внимательно оглядев меня, распорядился проводить в один из классов.
Для меня одного он организовал приемный экзамен, использовав для этой цели находящихся в училище преподавателей. То ли вопросы задавались мне легкие, то ли на самом деле я был подготовлен, но отвечал я по всем предметам неплохо и был принят в Казанское речное училище. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю Михаила Васильевича Черепанова.
Сразу же после экзаменов секретарь училища предупредил меня:
— Элеш! Учтите, в лаптях в училище ходить нельзя.
А у меня, кроме лаптей, каравая черного хлеба в котомке, ничего не было.
Я вспомнил, что в Казани, на Мокрой улице (а училище находилось в Адмиралтейской слободе, в 3-х километрах от города) арендует постоялый двор наш деревенский русский сосед М.П. Мосолов. Я направился к нему.
М.П. Мосолов и его жена Антонина Захаровна приняли меня приветливо. Оба они были еще молодые, приятные люди. Когда я им рассказал, что поступил в Казанское речное училище, удивлению их не было предела. При помощи этих отзывчивых людей выход из моего бедственного положения был найден: мне дали во временное пользование старые сапоги и пиджак хозяина, разрешили жить у них на постоялом дворе.
В первый же день я написал старшему брату письмо в деревню:
«Дорогой брат Никита!
Шлю тебе и всем большой поклон; 20-го числа я сдал экзамен в Казанское речное училище и хожу на занятия. В лаптях в училище ходить нельзя, поэтому Мосоловы дали мне на время старые сапоги и пиджак. Рубль, что ты дал мне, я бережно трачу, но он приходит к концу. Живу у Мосоловых на постоялом дворе. Для того чтобы продолжать учиться, мне надо хотя бы валенки, в них зимой в училище можно ходить, и костюм какой-нибудь, да надо немного денег, хлеба и картошки. Напиши, как быть дальше».
Через неделю приехал Никита, которого я вовсе не ожидал. Я ему очень обрадовался. Да и он, обычно всегда суховатый в обращении с людьми, был трогательно ласков со мной.
Оказывается, мое письмо обрадовало не только нашу семью, но и всех в деревне. Дядя Петр Миронович Девеев помог деньгами, купил мне валенки, местный портной сшил для меня без мерки костюм из хлопчатобумажной темной материи. Выходит, почти вся деревня приняла участие в моей судьбе. Брат привез мне еще каравай хлеба, картошки, пирожков домашних. На прощание оставил три рубля.
Улица Мокрая, где я поселился, оправдывала свое название. Она была самой грязной в городе. Не только весной и осенью, но и летом, при первых дождях, она становилась непроходимой. Улица постоялых дворов, грязных ночлежек, кабаков и трактиров, чайных и лавочек, она заканчивалась свалкой нечистот. У свалки стояла из красного кирпича церковь пророка Ильи.
Постоянными жителями улицы были содержатели кабаков и прочих заведений и обслуживающий их персонал, служители церкви Ильи, запойные пьяницы обоего пола да случайно заезжие в город бедняки.
«Почему они потеряли человеческий облик?» — думал я.
На постоялом дворе были люди всякого звания и общественного положения в прошлом.
Здесь я встретил студента-медика Казанского университета, некоего Сергея Николаевича — человека невысокого роста, хлипкого сложения, со светлой жиденькой бородкой. И глаза у него были серенькие, невыразительные. Весь он был какой-то мягкий, ходил тихо, незаметно. Носил студенческую форму из синего диагоналя, студенческую фуражку. Тужурка никогда не расстегивалась, под ней не было белья. Наступили холода, а он оставался в летнем, ходил весь съежившись. Лекций в университете не посещал. Он вызывал во мне жалость. И несмотря на все это, я смотрел на него как на бога. Шутка ли сказать — студент!
Хозяйка брала уроки и за это подкармливала его.
... До боли мне было жаль в ту пору одну женщину. Молодая, лет двадцати пяти, не больше, она появилась в нашем дворе, обратив на себя внимание всех. Высокого роста, стройная, с темно-карими глазами, обрамленными черными ресницами. Трезвая, она держалась с достоинством. Тогда в ее глазах стояла тоска, ярко-красные и полные губы выражали брезгливость. Одета она была не в пример жителям Мокрой улицы просто, но со вкусом. Пьяная, она плакала. Как мне хотелось, чтобы она выбралась на дорогу. Но неотвратимо она опускалась на дно. И некому было ее спасти. Постепенно ее хорошая одежда превратилась в тряпье, все чаще появлялась она на улице пьяной и, наконец, стала, как и многие, уличной девкой.
На Мокрой улице я почти не видел радостных лиц, не слышал смеха. Но горя тут было хоть отбавляй.
В то время я наивно думал, что все несчастья людей происходят только от пьянства.
Сам я питался плохо: черный хлеб и картошка, а когда кончался привезенный из деревни картофель, я переходил на один черный хлеб с водой.
Три рубля из деревни я получал не всегда. Из них за место на нарах нужно было отдать по 3 копейки в день. За два фунта хлеба в сутки по 7 копеек, да еще надо было выгадать на учебники и письменные принадлежности. Бывали дни, когда совсем нечего было есть, я голодал.
Несмотря на такие лишения, я не падал духом. Учился, ходил в городскую библиотеку, любил книги. И ни разу не болел. Сказались деревенская закалка и занятие физическим трудом с детства.
Учился я хорошо. Наш класс состоял из учеников разных возрастов (от 20 до 35 лет). Многие были женаты, служили на пароходах на командных должностях, имели детей. Большинство из зажиточных семей. Одетые с иголочки в форму речного училища со светлыми пуговицами, в шинелях от лучших портных, они сторонились меня.
Но зато отношение ко мне начальника училища М.В. Черепанова было отеческим. Он преподавал «Навигацию». В каждый свой урок вызывал меня к доске, показывая этим, что следит за моими успехами. Я боготворил его.
М.В. Черепанов любил отмечать выпуски учеников торжественно. Обычно на эти торжества приглашались пароходовладельцы. В 1907 году присутствовал почетный шеф училища, миллионер, владелец многих пароходов и барж, хлеботорговец, купец первой гильдии Землянов. Лицо у него было грубое, неотесанное и бородатое. Говорить он не умел, сильно заикался, однако выступил с речью, в которой было немало оскорбительного для учеников. Надо было видеть тогда М.В. Черепанова! Он стремительно вышел на середину залы. В отличие от Землянова, он умел говорить. Но теперь он говорил особенно горячо.
Он хлестко тогда отчитал миллионера.
Однажды он останавливает меня в коридоре и спрашивает:
— Элеш! Вы бывали когда-нибудь в опере?
— Нет! — ответил я смущенно.
— Вот вам билет на «Пиковую даму», от Марии Васильевны. Непременно посмотрите! — сказал он, подавая мне билет.
Мария Васильевна — жена М.В. Черепанова — была добрейшей души человек. Высококультурная, с демократическими взглядами на жизнь, она немало помогала ученикам и заслуженно пользовалась уважением всех.
Билету я был очень рад и сердечно поблагодарил Михаила Васильевича. О «Пиковой даме» я не имел никакого представления. Надо сознаться, что даже слово «опера» для меня тогда было новым словом.
В театре я испытывал неповторимые чувства. Попасть из чувашской деревни в такой театр, как Казанский, было равносильно открытию нового сказочного мира. Я был буквально потрясен всем виденным: прежде всего люстрой, огромной люстрой, что свисала с потолка и сверкала тысячами огней, отраженных в прозрачном хрустале; величественной сценой, красоту которой мой ум воспринимал как чудо; артистами и публикой, непохожими на меня. Все происходящее в театре я остро переживал. Сидя в четвертом ярусе театра (всех ярусов пять), очарованный, я не смел пошевелиться.
Театральные переживания оставили во мне те же чувства, что и красивые сказки. Я хорошо понимал, что существует иная жизнь, но она для меня была несбыточной. Я продолжал оставаться жителем улицы Мокрой.
Весной 1909 года я окончил Казанское речное училище. Потом побывал в сибирских городах, поплавал на многих сибирских реках, но где бы ни был, я не забывал никогда моего бывшего начальника училища М.В. Черепанова. В 1928 году, вернувшись из-за границы и получив назначение в Ленинград, я случайно от капитана учебного судна «Товарищ» Лухманова узнал, что М.В. Черепанов живет в Ленинграде.
Конечно же, я прежде всего навестил своего старого учителя. Мы поздоровались. Я понял, что М.В. Черепанов не узнал меня.
— Михаил Васильевич, — сказал я, — прошу простить меня, что беспокою вас и Марию Васильевну. Я ваш бывший ученик по Казанскому речному училищу, тот чувашский мальчик, который пришел в лаптях.
— Да, да... чувашский мальчик... в лаптях. Вспоминаю. А Марии Васильевны не стало вот уже четыре года, — добавил он и глубоко вздохнул.
Он молча, внимательно рассматривал меня с головы до ног. Ему, видно, трудно было сравнивать хорошо одетого человека с тем мальчиком в лаптях, которого он знал много лет назад. Я рассказал о себе. В свою очередь от него узнал, что с первых дней революции он стал работать с большевиками в Ленинградском порту. Старика уважали. Ему дали хорошую квартиру, пенсию.
Старик потеплел. Ему было приятно, что питомцы не забывают его, вспоминают добром.
... Это была последняя встреча с М.В. Черепановым. Скоро меня перевели в другой город. Через год не стало и М.В. Черепанова — замечательного человека, доброго к людям.
На Волге
Зимняя учеба кончилась. В 17 лет я стал матросом буксирного парохода «Суворов», куда меня устроил начальник училища М.В. Черепанов.
Жизнь матросов была однообразной, но я был молод, меня интересовало все: сама Волга, широкая как море, ее красивые берега и люди, окружавшие меня. Здесь я уже не голодал: похлебка-тюря, каша пшенная, черный хлеб и кипяток всегда были к завтраку, обеду и ужину.
Исполнились и мои юношеские мечты: я побывал во всех городах Волги, Камы и Белой.
Жизнь бурлила в волжских городах. Со всех концов необъятной, обширной России текли сюда безработные, гонимые голодом. Волга превращала сотни тысяч людей в матросов, кочегаров, грузчиков, плотогонов, бурлаков. На десятках пристаней, растянувшихся на версты по берегу реки, загроможденных горами всевозможных грузов, стоял несмолкаемый шум.
В моей памяти сохранилась встреча в Астрахани с грузчиком Михаилом Кабановым, моим земляком-соседом. Его изба в деревне стояла через улицу, прямо против нашей. Это была бедняцкая семья. Небольшая изба с небольшими же окнами, крохотный амбарчик — вот и все постройки, да пустой двор. Лошади у них не было, не было и других домашних животных, кроме трех-четырех овец. В избе узкие скамейки по стенам, потемневшая от времени иконка в углу, небольшой простой столик да русская печь. Неуютная, сумрачная изба не была красна пирогами. На их столе я редко видел горячее кушанье. Обычно лежал каравай черного хлеба и стояла деревянная чашечка-солонка. Время обеда в семейном кругу у них редко соблюдалось. Каждый подходил к столу, когда хотел, отламывал — не резал ножом, а именно отламывал — кусок хлеба, посыпал солью и ел где попало. И в этой бедной, полураздетой, полуголодной семье, на черном хлебе и воде да на свежем воздухе рос и развивался крепыш и силач, чувашский Поддубный. Михаил Кабанов был старше меня на несколько лет и ушел из дома, когда я еще учился в селе Бичурине. Домой он не приезжал и, будучи неграмотным, писем не писал. И вот в Астрахани, на подмостках пароходной пристани, я столкнулся с ним лицом к лицу: он легко нес на спине огромный тюк кожи. Мы оба очень обрадовались. Тюк он отнес, и передо мной предстал широкий в плечах, пышущий здоровьем крепыш — подлинный волжский богатырь. Одет он был, как и большинство грузчиков, в рваную рубашку, шаровары из чертовой кожи, без меры в ширину, короткие в длину, в опорки. Голову его покрывала обыкновенная тряпка.
Я смотрел на его широкое загорелое лицо с синими глазами. Да, передо мной был тот же Михаил Кабанов из деревни Кинеры, только его слегка рыжеватые волосы стали светлее, да глаза смотрели без прежнего юношеского озорства, с какой-то затаенной печалью.
Он обхватил меня, легко приподнял и прижал к себе:
— Экий Топтыгин! — говорю ему, — пусти, раздавишь!
— Я любя, — смеется он.
Мы выбрали место на рогожных мешках с вяленой воблой, и началась наша длинная беседа на родном языке. Я рассказывал о деревенских новостях: кто умер, кто женился и кто болеет; говорил, что его очень ждут дома, а мать горюет и плачет. Он внимательно слушал, был молчалив и невесел, только задавал вопросы. Но и мне хотелось знать, как он жил и живет.
Ничего веселого не было в его рассказе.
Года два назад он поступил матросом на деревянную, нефтеналивную баржу фирмы Конецких. Первым же рейсом попал в Астрахань. Здесь обратил на него внимание подрядчик и, соблазнив большими заработками, уговорил Кабанова остаться в артели грузчиков.
— Год поработаю, — думал я тогда, — будет и лошадка и коровенка. А вот, как видишь, все еще продолжаю работать.
— Наверно, накопил денег и скоро поедешь в деревню? — спрашиваю я, — там будут рады!
— О деревне как не думать! Думаю, — отвечает он, — но ехать не могу.
— Почему же? Там тебя все ждут!
— Гол я как сокол, — отвечает он, — вот все мое богатство! — Говорит он, хлопая по штанам.
Когда босяки с Мокрой улицы ходили в рвани и без гроша, то было понятно: они не работали! А он, Михаил Кабанов, красавец и силач, много работает, а гол как сокол, как те же босяки с улицы Мокрой! Как же это?
В артели грузчиков, где был Михаил, работало около двухсот человек. Принимал в артель подрядчик, тесно связанный с управляющим пароходной пристани. За счет труда грузчиков хорошо наживались оба. Артель жила в грязнух бараках, принадлежащих подрядчику. Там же была столовая, хозяином которой являлся он же. Он наживался не только на труде грузчиков, но и на их питании, жилье. Наряды на работу давал подрядчик: захочет послать на выгодную работу — пошлет; захочет оставить день-два без работы — оставит. Изменить этот порядок грузчики не могли. Был у артели и свой старшина, выбранный грузчиками, но он бессилен был что-либо сделать. Обычно он быстро скатывался до роли подхалима хозяина и, как правило, начинал тянуть его руку.
В артели был разный народ. Тут и молодые, как Кабанов, случайно оторвавшиеся от семьи; средних лет, еще крепкие, здоровые, но потерявшие окончательно семейные и родственные связи, лишившиеся всяких нравственных устоев. Одни из них — типичные босяки, потеряли надежду на будущее, жили сегодняшним днем, остальные продолжали повторять пройденный товарищами нерадостный путь.
Грузчики работали посменно 12, иногда 14 и более часов в сутки. Приходилось носить на себе обычно пять-шесть пудов, а иногда 10 и 20. Это не все грузчики могли. В матросах и я испытал эту долю. Бывало сваливался вместе с пятипудовым мешком прямо в трюм.
В бараке грязно, у многих вместо матраца голая доска. А после трудов и грузчику хочется отдохнуть. Но где же может найти он желанный отдых? Только в трактире! Там свет, тепло, музыка! Вот и идут грузчики гурьбой в трактир и там пропивают последние деньги, что еще бренчат в карманах. Не беда: завтра подрядчик выручит — даст в счет зарплаты. Да, подрядчик не откажет и даже с большой охотой даст. Но зато при месячном расчете грузчик всегда оказывался в долгах у подрядчика. Кабанов не был пьяницей, но, живя в артели, приходилось артельно и расплачиваться: за трактир, за общежитие, за питание. Глядишь — и получать нечего.
— Вот и тянешь лямку из месяца в месяц, — невесело закончил Кабанов.
— Но как же так, — спрашиваю его, — ведь ты, наверно, неплохо зарабатываешь?
— Зарабатываю, дай бог всякому, — отвечает Кабанов, — до двадцати пяти рубликов, а иной месяц и больше, но в кармане шиш. Деревню я не забыл! Но как я туда появлюсь в своих лохмотьях?.. Засмеют!
Что я мог посоветовать этому богатырю? Ничего! Так мы и расстались с ним — оба с нерадостными думами.
Грузчики жили тяжело. Однако по сравнению с другими они были еще счастливчиками — имели работу, могли существовать. Рядом с ними на пристанях приволжских городов я видел несметные толпы безработных, бледных, болезненных, оборванных, босых. Они проели последние деньги, успели спустить за бесценок все, что у них было. Все они приехали сюда в погоне за работой, ждали работы, а ее все не было.
... При поступлении в училище я, как помнит читатель, ответил начальнику училища М.В. Черепанову: «Хочу быть капитаном».
Хотеть — это одно, но быть — другое.
Третью навигацию я работал на арендованном Казанским округом путей сообщения пароходе «Ермак» матросом-вахтером. Командиром был инженер Владимир Иванович Орлов. Это был типичный интеллигент, народник. Живой, энергичный, он ко всем относился запросто. Все привлекало в нем: его всегда ровное настроение, приятное, слегка продолговатое умное лицо, открытые глаза, манеры, его хорошее отношение к людям.
Прибыв на службу под руководство инженера Орлова, я был приятно удивлен, увидев, что подавляющее большинство матросов на землечерпалке и на шаландах были чуваши. Я подолгу разговаривал со своими земляками.
Работа в навигацию 1909 года у инженера В.И. Орлова на пароходе «Ермак» была для меня временной. Нужно было искать постоянную. Не придумав ничего путного, я решился поехать с инженером А.И. Воскресенским лебедчиком землечерпательного каравана «Волжская-II», командиром которого он был назначен. Караваи работал на плесе Нижний Новгород — Юрьевец. Проработав восемь месяцев матросом, я получил назначение на должность вахтера (письмоводителя) на той же машине. Дальнейших перспектив для себя я не видел. К тому же испортились мои отношения с багермайстером (руководителем всех работ землечерпательной машины) Маховым. Дело началось с того, что я заметил, как Махов включает в список несуществующих матросов, а их зарплату присваивает себе.
Сам Махов, довольно энергичный и умный делец, хорошо понимающий, что физический труд матросов и лебедчиков очень тяжелый, все же, в корыстных целях, держал неполный штат.
Я, конечно, не стал молчать, и Махов вынужден был прекратить свои проделки.
После этого случая, не доверяя уже Махову ни в в чем я стал проверять счета на закупаемые им материалы. Махов и тут оказался подлецом. Он представлял фальшивые счета.
Мой начальник, командир машины, инженер Вознесенский был человеком нерешительным, не любил заниматься делами и часто находился в отлучке.
Вот в этой обстановке из приказа по Казанскому округу я узнаю, что инженер В.И. Орлов назначен заведующим землечерпательными работами Томского округа путей сообщения.
«А не поехать ли мне в Сибирь?», — мелькнула робкая мысль...
Сибирь
Прибыл я в «столицу» Западной Сибири — Томск в воскресенье. Медлить было нельзя, так как деньги были на исходе. Разыскал квартиру В.И. Орлова. Он и его жена, Софья Александровна, приняли меня тепло, как желанного гостя. Вышел я от них радостный. И Сибирь окончательно преобразилась в моих глазах: огромная, еще неясная, она казалась мне приветливой и полной человеческой теплоты, как и семья Орловых.
На другой день я был назначен помощником командира парохода «Семипалатинск» и выехал в Омск, где тогда находился пароход. Вот и река Иртыш, большая и многоводная, но непохожая на Волгу. Волга величаво и плавно, как бы не торопясь, медленно несет свои воды в Каспийское море. Иртыш спешит, вырываясь в быстром и бурном беге из объятий отрогов хребтов Тарбоготая и Алтая. Несходны и паводки (разливы) рек. Волга широко разливается весной. Стоишь и думаешь: «Море!» А Иртыш в жаркие месяцы лета, июль — август, когда в горах начинается усиленное таяние снега и вечных льдов, полной грудью вздохнет, затопит берега, еще пуще стремясь слиться с Обью. Волга вечно в плавном, постоянном движении, а на Иртыше тихо. Я люблю Волгу, стремительную жизнь на ней, но полюбил впоследствии и Иртыш. Правда, здесь не было столько судов, белян, плотов, не слышно было и песен, но какой простор!
«Семипалатинск» оказался сравнительно крупным буксирным пароходом, имел просторные чистые помещения, а команда приняла меня в свою среду по-сибирски радушно. И потекла жизнь молодого помощника командира тихо.
... Шла первая мировая война. На Иртыше слабо чувствовалась военная обстановка. Разве только в том, что из многих семей молодые уходили на войну, да в городах появились юнцы в золотых погонах с одной звездочкой и саблей на боку. Стали расширяться слесарно-токарные и кузнечные кустарные мастерские: война требовала много снарядов. Быстро стал ощущаться большой недостаток в рабочей силе, и впервые на судах появились в качестве матросов и кочегаров казахи.
Говорили о войне всюду. Оживились театры, клубы, усилился интерес населения к газетам и журналам. Но о революции — гробовое молчание! Казалось, кругом тишь, да гладь.
Но тишина эта была только у нас, на Иртыше. Политическая жизнь в Петрограде и промышленных городах бурлила, как весенний паводок. Это стало чувствоваться по тону газет. В отчетах о заседаниях Государственной думы передавались речи депутатов оппозиции и немногословные и фильтрованные цензурой речи депутатов-большевиков. Жадно читали газетные данные о наших победах и провалах. Формула «Война до победного конца» была священной. Она была и моей формулой в то время...
А война продолжалась и требовала все новых и новых средств в масштабах, превышающих возможности страны. Выдержать таких огромных жертв страна не могла. Газеты стали писать о начале экономической разрухи, о недостатке продуктов в Петрограде и промышленных центрах, о плохом снабжении фронта, о разложении армии, о похождениях Распутина и министерской «чехарде»...
Стали появляться сведения о стихийных выступлениях женщин и рабочих. Телеграфное сообщение в феврале 1917 г. о том, что Николай II, а затем и Михаил отреклись от престола, всколыхнуло жителей, все еще живших в обывательском неведении. Площадь быстро наполнилась народом. У всех радостные и взволнованные лица, красные банты или ленты на груди. В тот же день состоялся митинг. Тут было все городское начальство, именитые купцы, чиновники всех рангов и простой народ. Внешне это казалось единством всех классов и сословий. Мне тоже казалось, что с революцией наступит эра новой, свободной жизни: народ, избавившись от гнета царизма, получит возможность свободно учиться, а налоги не будут больше давить крестьян и моих чувашей.
Всему этому я искренне верил и думал: есть искушенные в политике партийные люди, они и завершат устройство послереволюционной жизни.
Вскоре я был переведен в Томск, на земснаряд «Сибирская-III». На новом месте, конечно, были новые люди: командир — инженер И. Гохштейн, вахтер — бывший политкаторжанин, эсер Александр Рудаков, а в тридцатых годах, когда я его встретил в Москве, он уже был коммунистом. А пока что он успел создать на судне эсеровскую партийную ячейку. Александр Рудаков был первым членом революционной политической партии, с которым мне пришлось работать бок о бок в течение полутора лет. Он не увлек меня за собой и за своей партией. Был он какой-то неряшливый и неорганизованный во всем. Эсеровская ячейка под его руководством особой роли не играла. И когда в сентябре 1917 года был созван 1-й съезд водников Томского округа, делегатом на съезд команда избрала меня, беспартийного.
В октябре караван был отведен в Самуськовский затон на зимовку, а я стал учиться на Высших технических курсах в Томске. На некоторое время я оторвался от рабочей среды. Мало читал газет. Но даже из того немногого, что успевал урывками узнавать из газет, было достаточно, чтобы иметь представление о событиях. Я видел непримиримость партий, которая становилась все глубже, острее, и огорчался этим, совершенно не понимая, что идет жестокая классовая битва, борьба идеологий.
Жизнь не улучшалась. Надвигалась разруха и голод, армия разваливалась. Ушло в прошлое и сибирское изобилие в продуктах, а недостаток промтоваров в непромышленной Сибири был теперь обычным явлением.
И вдруг телеграф принес известие: революция! Создано первое в мире Советское социалистическое государство. Образован Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным.
На другой день появились сообщения о первых декретах, принятых II съездом Советов. Эти первые законы Советской власти изменили настроение многих. И это понятно. Когда правительство Керенского проводило в жизнь лозунг «Война до победного конца», большевики буквально в первый день своего существования на весь мир объявляют: «Довольно войны, мир народам!» — это было понятно народу: он смертельно устал от войны. Правительство Керенского откладывало решение аграрного вопроса, Советское правительство быстро решило этот вопрос, провозгласив: частная собственность на землю отменяется, земля принадлежит народу. Это тоже было понятно народу.
Эти первые законы открыли миллионам таких, как я, сущность Советской власти. У меня было такое ощущение, будто после долгих поисков я отыскал вдруг самых близких, родных мне людей. Улетучилось чувство сиротливости, и я почувствовал, что трудовой человек обрел прочную защиту. Своя это была власть!
В Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов шла жестокая политическая борьба. В октябре большинство в Совдепе принадлежало еще эсерам и меньшевикам.
Советская власть установилась в Томске только 6 декабря. Переход власти к Совдепу произошел для большинства населения города совсем незаметно. Рассказывали, что утром 6 декабря вооруженные группы красногвардейцев и солдат гарнизона заняли все основные правительственные учреждения и взяли на себя охрану города. На этом дело по захвату города и закончилось. Я узнал о новой власти только вечером 6 декабря, когда патруль не пропустил меня на занятия. Оказывается, был объявлен комендантский час.
У нас на курсах за короткое время прошли два собрания студентов. Выступали в основном кадеты и эсеры. Их на курсах было большинство.
Выступал и я, приветствуя декреты о мире и земле как законы, которые отвечали жизненным чаяниям трудового народа.
Меня на курсах стали называть большевиком, хотя ни к какой партии я в то время не принадлежал. Просто законы пришлись мне по душе, соответствовали моим взглядам.
Особую злобу вызвал у эсерствующих контрреволюционеров разгон Учредительного собрания, известие о котором было получено вечером 6 января. Главная улица Томска как бы ощетинилась: всюду группы людей спорили, шумели, кричали... По улице ходили патрули вооруженных солдат и красногвардейцев. Они вежливо, но строго уговаривали расходиться и не устраивать сборищ и шума. Им из толпы кричали: «Узурпаторы!..», «Кто дал вашим комиссарам право разогнать народных представителей?..», «Ничего, придет скоро расплата!»
В толпе слышались и голоса, оправдывающие разгон Учредительного собрания.
— Учредилка оказалась контрреволюционной, — слышится спокойный голос в толпе, — вот и разогнали.
— Правильно сделали, — поддерживает другой голос, — зачем нам контра!
— Контра нам ни к чему, — говорит парень в шинели, — нам чтоб было за народ!
А бойцы суровели, но все так же вежливо, но более настойчиво продолжали свое дело охраны порядка.
В то время я снимал комнату у инженера Хитрова. По вечерам у нас собирались инженеры, путейцы. Очень резко выступал обычно малословный, похожий на Собакевича, как его рисует художник Агин, сам хозяин — инженер Хитров. Он считал, что рано или поздно действительность заставит большевиков одуматься.
— Они должны понять, — говорил он, — что с одними комитетами рабочих, круглыми невеждами, управлять промышленностью и транспортом невозможно.
Таких же взглядов придерживался и инженер Широков. Я сидел и слушал, но их высказывания не находили отзвука в моей душе. Я понимал, что советские декреты прямо-таки застряли у них в горле. Меня в этой компании тоже стали называть большевиком.
Время шло в спорах о власти, о партиях. Я продолжал учиться на Высших курсах. В апреле 1918 года Советская власть назначила двух багермайстеров на инженерные должности: Резвякова и меня. Я поехал в затон, где снова был избран членом судового комитета.
1 июня в затон прибыл вооруженный белогвардейский офицерский отряд. Мы узнали, что Советская власть в Томске 31 мая свергнута. В тот же день отряд белых отбыл. Исполнительный комитет рабочих продолжал свою работу, как будто ничего и не случилось. Вот все, что стало мне известно о перевороте, когда 3 июня наша землечерпательная машина была отбуксирована вверх по реке Томи на дноуглубительные работы.
Новая эсеро-меньшевистская и кадетская власть в Сибири на первых порах проявляла либеральность и сладко говорила о демократии. Но положение скоро изменилось. Широко развернулась деятельность белогвардейской контрразведки, набранной в основном из бывших царских жандармов. Начались преследования и репрессии. В конце июля прошли массовые аресты рабочих и служащих в Самуськовском затоне, в Томске и других районах. В числе первых были арестованы члены судового комитета, тогда еще беспартийные, командир землечерпалки «Сибирская-I» Резвяков и машинист катера Михайлов, с которым я часто встречался по служебной и общественной работе. Оба они просидели в тюрьме до прихода Советской власти.
Ничего в то время об этих арестах я не знал. Наша землечерпалка еще в начале июня была забуксирована вверх по реке Томи и работала по углублению переката у деревни Поломошная.
И только в начале августа по приезде в Томск я узнал об арестах. Меня предупредили и посоветовали остерегаться. Тогда я и принял решение уехать еще дальше, на восток.
Выстрелы в лесу
Весь путь до самого Владивостока был полон больших впечатлений: Байкал, окружающие его горы, необъятная тайга Забайкалья. Но все очарование от них пропало у меня из-за дикой выходки семеновцев на станции Хилок. Среди пассажиров этой станции оказались новобранцы, только что призванные в армию Семенова. Потолкавшись у теплушек, новобранцы вошли в вагон III класса, где находилась группа семеновских офицеров. Офицерам это не понравилось. Они вытолкнули новобранцев и на платформе стали их бить стеками.
Новобранцы, молодые ребята в возрасте 20 лет, возмущенно кричали:
— Вы не имеете права!
Меня тоже возмутил поступок офицеров, и я не сдержался:
— Как вам не стыдно, господа офицеры, — сказал я, насколько мог спокойно, — молодые люди призваны в армию, готовятся служить, а вы их бьете.
Какое-то время офицеры молча смотрели на меня злыми, враждебными глазами.
— Арестовать этого большевистского агента, — крикнул офицер, наблюдавший с площадки вагона.
— Слушаюсь, господин ротмистр, — ответил младший по чину офицер и подошел ко мне. К нему присоединился другой офицер и оба сделали сабли наголо. Мне оставалось только подчиниться. Комендатура помещалась рядом с вокзалом, и мы быстро дошли.
— Господин капитан, — обратился конвойный офицер к коменданту станции, — мы привели к вам большевистского агента. Он вел среди новобранцев агитацию, возбуждал их против офицеров.
Сказав это и передав таким образом меня коменданту, офицеры взяли под козырек и вышли.
Я стоял перед комендантом в форме речника со светлыми пуговицами, не ожидая ничего хорошего.
Комендант устало посмотрел на меня и нехотя спросил:
— Расскажите, что произошло у вас с офицерами и новобранцами?
Я сказал, что не большевик, и, не скрывая и не прибавляя ничего, рассказал обо всем, как оно было. Очевидно, он поверил и отпустил меня, дав совет:
— Будьте впредь осторожны, молодой человек.
В вагон я вернулся, когда меня там вовсе не ожидали. Думали: «Погиб». Внутри у меня все бушевало. Я ругал себя за абсолютно бесполезное вмешательство.
Так я ехал по Читинской железной дороге. Не знаю, на какой станции, но помню, что это было вскоре после Карымской, наш поезд надолго остановился. Давно прошла проверка документов, а поезд все стоял. Эти долгие стоянки были невыносимы.
— Арестованных повели: сняли с поезда, — сказал кто-то. Многие выскочили из вагона.
Вооруженные офицеры конвоировали нескольких штатских в сторону видневшегося вдали леса. Через некоторое время оттуда раздались одиночные винтовочные выстрелы. Потом все смолкло. Пассажиры тихо, как пришибленные, вернулись в вагон и молча уселись по местам. Поезд продолжал стоять. Кое-кто из пассажиров набрался храбрости и вышел на платформу.
— Расстреляли шесть большевиков, — сказал один из пассажиров, возвратившийся в вагон.
— Расстреляли рабочих и двух матросов, — уточнил другой.
— Расстреливать без суда и следствия! Разве это законно? — возмущается мужчина, обращаясь ко всем и ни к кому в частности.
— Как бы не так! Будут они, отец, спрашивать у тебя, что им можно и что нельзя!
Слышу недалеко от себя шепот:
— Вот и начался белогвардейский террор, бессмысленный.
— Этого надо было ожидать.
Это говорили между собой два молодых человека, обособленно державшиеся от остальных пассажиров.
Медленно надвигались сумерки. В вагоне темнело. Поезд все продолжал стоять.
— Так им, большевикам-разбойникам! — хлестнул, как плетью, кто-то громкоголосый из другого конца вагона. — Большевиков надо хватать везде и расстреливать на месте!!
Пассажиры в пререкания с громкоголосым не вступали. Притихли, опасливо поглядывая на соседей. От мирной обстановки и доброжелательности друг к другу в вагоне не осталось и следа. Каждый замкнулся в себе, сидел и молчал. Молчал и я.
Поезд медленно продирался сквозь осеннюю тайгу, одетую в золото и пурпур. На одной из станций ко мне на верхнюю полку втиснулся новый пассажир. Был он молодой, моих лет. В простом поношенном темном пальто и яловых сапогах, шапке-ушанке. Усталым, тревожным взглядом стал осматриваться кругом. Мы разговорились. Говорил он скупо, очень скупо, как бы жалея слова, заменяя твердые согласные буквы гласными.
— Вы чуваш? — спрашиваю его.
— Чуваш! — отвечает он.
Мы оба давно не встречали земляков. И, несмотря на это, он долго держался со мной настороженно, как бы боялся всего. Как выяснилось позже, было ему из-за чего осторожничать.
Он был большевик-красногвардеец с Забайкальского фронта. Назвался Антоновым. Знал лично товарищей Лазо, Мухина и многих большевиков. Имя Мухина и Лазо я слышал еще по пути из Иркутска в Читу. Но Антонов рассказал мне, что борьба с белыми временно прекращена, красные бойцы скрываются в тайге и подполье.
Это был первый большевик на моем жизненном пути, с которым я так близко, откровенно разговаривал, да еще в такой обстановке! Он говорил много о Ленине, о целях большевиков, первых декретах Советской власти. Говорил он также о меньшевиках и эсерах.
— Шуйтансем весем (дьяволы они), — говорил он о меньшевиках и эсерах, — если бы не их предательство — не торжествовали бы белобандиты в Сибири.
— Борьба еще не закончена, — продолжал он. — Будет всенародная борьба!
К сожалению, наша встреча была короткой. На станции Шилка он слез. Я уговаривал его остаться и вместе продолжать путь до Хабаровска.
— Нет, — отвечал он, — дальше мне опасно, да и договорился я с товарищами встретиться на станции Шилка; пойдем в тайгу.
Больше я его не встречал. Где теперь товарищ Антонов, жив ли? Не уверен я и в том, что эта фамилия не вымышленная. Время было такое. Я до сих пор хорошо помню этого товарища, хотя встреча была совсем короткой. Он помог мне лучше понять действительность.
С тревожными мыслями продолжал я свой путь на Дальний Восток. Не проходило дня, чтобы с поезда не снимали пассажиров!
В Хабаровск прибыли вечером. Оставив чемодан на хранение, пошел знакомиться с городом, расположенным довольно далеко от вокзала. По дороге и в городе много военных. Приюта в городе на ночь не нашел, дошел до памятника Муравьеву-Амурскому, посмотрел на могучий и широкий Амур, на пароходные огни, милые моему сердцу, и вернулся на вокзал. Но тут произошел инцидент, который мог для меня плохо кончиться.
В слабо освещенном зале станции народу было много. Все стояли. Недалеко от меня — группа молодых женщин с узелками и мешками. Возле них — три казака с желтыми погонами — калмыковцы, как мне объяснили потом. Вначале у них, очевидно, шел обычный разговор, который бывает между незнакомыми. Потом казаки стали наглеть, приставать к женщинам, предлагая им на ночь место в своем вагоне. Женщины отказывались. Тогда казаки стали силой тащить их к выходу.
— Оставьте нас! Мы не хотим в ваш вагон! — кричали женщины.
Мое вмешательство помогло женщинам, казаки оставили их в покое, но сосредоточили внимание на мне.
— Кто такой? Откуда взялся? — кричал один из них, наступая на меня.
— Я не обязан вам отвечать, — говорю им возможно спокойнее.
— Это мы еще посмотрим, как не обязан, — продолжал тот же казак.
— Что с ним церемониться и терять время. Заберем с собой и баста! Ну-ка, пойдем в наш отряд, — командовал второй казак.
Меня уже схватили за руки, за плечи, пытаясь увести с собой.
А толпа смотрела и молчала!
Как раз в это время в помещение вокзала вошли американские офицеры. Казаки, очевидно, сочли неудобным при них держать меня и освободили. Я отошел.
В это время из толпы кто-то шепнул: «Скройтесь». Я воспользовался советом доброжелателя, смешался с толпой и вышел на улицу.
Я ехал в Хабаровск, чтобы устроиться в Амурском пароходстве. Но этот случай на вокзале, рассказы о зверствах калмыковцев и личные наблюдения в пути заставили пересмотреть мои намерения. Тут же я купил билет и уехал во Владивосток.
Владивосток
Поезд прибыл во Владивосток ночью. Еще в дороге мне говорили, что искать пристанища в гостиницах бесполезно, свободных комнат не найти, а если и удастся, то это будет редким, счастливым исключением. Я решил не гнаться за исключением и коротать ночь на вокзале. Здесь для пассажиров было два помещения: одно в первом этаже для пассажиров попроще, второе для привилегированных, где ресторан. Я поднялся в ресторан и занял свободное место за столом. Вскоре все стулья были быстро заняты такими же, как и я, бесквартирными. Разница была лишь в том, что я прибыл сегодня, а многие вчера и даже несколько дней назад.
«Нечего сказать, весело, — думал я, осматривая помещение ресторана, — и надо же было мне заехать так далеко, почти на край света, таскаться без угла, ходить без работы и, чего доброго, голодать».
Для таких дум у меня была основательная причина — деньги подходили к концу. Да, надо прямо сознаться, настроение было неважное, я решил не брезговать никакой работой.
Невозмутимо спокойно сидел рядом со мной молодой краснощекий крепыш с яркими губами и белоснежными зубами. Светлые, пышные и мягкие волосы его были зачесаны набок. Одет он был просто, но опрятно. Мы почему-то улыбнулись друг другу и заговорили. Он оказался моряком. Плавал на коммерческих судах матросом, кочегаром, как удавалось устроиться. А теперь без работы... За длинную ночь мы успели наговориться вдоволь и решили вместе искать работу и комнату.
Так я познакомился с Вилли Штейнбергом. Мне стало веселее.
Утром мы решили прежде всего сходить в баню, но это оказалось не таким простым делом. Городские бани не работали. Нам порекомендовали бани на Семеновском базаре. С трудом отыскали их в трущобах. Шли по каким-то переулкам и переходам, узким и темным, поднимались по крутым лесенкам на этажи, проходили каморки без окон, и, наконец, банщик показал нам открытую дверцу в клетушку без окон же, размером не более четырех квадратных метров. Принес по ведру каждому горячей пресной воды и, указав на кран в стене, сказал:
— Соленая вода.
В помещении сидений не было. Мылись стоя. Но мы были довольны и этим.
Так началась наша жизнь в незнакомом городе, без пристанища, без работы, почти без денег.
День во Владивостоке был чудесный, кругом море и тепло. Все привлекало наше внимание: здания, амфитеатром спускающиеся с сопок; бухта Золотой Рог; корабли, стоящие у пристани и на рейде; небольшой, старинной русской архитектуры вокзал в центре города; залитые светом, оживленные улицы.
Но почему-то нам с Вилли Штейнбергом особенно понравилась сопка Орлиное Гнездо, высившаяся над площадью. Так и тянуло на ее вершину.
Отсюда открывался большой, испещренный бухточками лесистый Русский остров со множеством бухт. Дальше, далеко в открытом море, — острый, как правильный конус, выделялся остров Аскольд, а еще дальше — залитое солнцем Японское море.
Еще прошлой ночью я тревожился: «И надо же было заехать так далеко», а теперь, глядя с вершины сопки, думал: «Как хорошо, что я здесь все это вижу».
Однако скоро нам предстояло спуститься с заоблачных высот и окунуться в «земное».
Город был переполнен интервентами: английскими моряками и шотландскими стрелками в клетчатых юбках, французскими солдатами в беретах с помпонами, «выутюженными» американскими солдатами с вечной резиновой жвачкой во рту, итальянскими моряками, альпийскими стрелками, китайскими и канадскими матросами и солдатами. Этот «букет» дополняли потомки самураев — солдаты Страны восходящего солнца в фуражках с красным околышем. По улицам, на вокзале, в театрах и ресторанах щеголяли в новеньких английских мундирах штабные офицеры генерала Иванова-Ринова — белогвардейского ставленника в Приморье.
В дневные и вечерние часы владивостокские кафе, рестораны и столовые превращались в своеобразные черные биржи. Среди посетителей можно было встретить коммерсанта, спекулянта, офицера, артиста оперетты и видного гражданского чиновника, занимающихся валютными сделками.
Продавалось все: цинковые и оловянные рудники, уголь и угольные шахты, фабрики и заводы, рыбалки и пароходы с грузом лососевых консервов фирмы «Демби», покупалась валюта всех стран мира, акции всевозможных (русских по названию, иностранных по капиталу) промышленных предприятий.
На улицах, особенно вечером, пестрели погоны офицеров, гардемаринов и всевозможных интервентов.
Своеобразен был и ночной Владивосток. Ярко освещенные и переполненные кафе и рестораны, закусочные и шашлычные, открытые и тайные дома свиданий, клубы разных обществ и притоны работали круглую ночь. Там шумно пьянствовали и безобразничали, проигрывали и выигрывали крупные суммы и все, что представляло какую-то ценность.
С раннего утра до поздней ночи шумел Семеновский базар. Здесь, прижавшись друг к другу, громоздились магазины, жилые дома, бани, лавчонки, разные мастерские, опиокурильни, ларьки денежных менял. Разноплеменный, пестрый поток людей бесконечно толкался по разукрашенным яркими фонариками и цветастыми полотнищами узким и грязным улочкам. Внешне вся эта картина представлялась причудливым пестрым балаганом.
Рынок без остатка пожирал все. Тысячи людей жили на доходы от контрабанды. Продажность таможенных чиновников и стражи открыла широкую дорогу контрабанде, и она текла сюда через все сухопутные и морские границы.
Под видом снабженческих грузов для интервентских войск контрабанда не менее широко и безнаказанно выбрасывалась на рынки Приморья юркими дельцами — американскими и японскими купцами в военной форме.
Страшно было в городе по ночам. В темных улицах грабили, раздевали, порой убивали.
Резким контрастом на этом фоне буржуазно-спекулятивных нравов одичавшей своры белогвардейцев и интервентов выделялся Владивостокский Народный дом и клуб железнодорожников на станции Первая Речка. Оба они были местом подлинно культурного отдыха для рабочих и их семей. Здесь можно было услышать живое слово, лекцию, посмотреть любительский спектакль, побывать на концерте. Иногда и я бывал в театре «Золотой Рог», но чаще — в Народном доме и клубе. С тех пор прошло почти сорок лет, а я вспоминаю их по-прежнему с особенно теплым чувством. Это были своего рода очаги культурно-просветительной и политической работы, которую вели разные кружки самодеятельности, работники профсоюзов и рабочего Красного Креста. Здесь происходили и конспиративные встречи большевиков. Не случайно Народный дом и клуб были под особым наблюдением белогвардейской контрразведки. То и дело здесь появлялись шпики. Посетители Дома и клуба хорошо это знали и всегда были начеку. Поэтому, хотя облавы с проверкой документов бывали часто, однако, за редким исключением, оказывались безрезультатными.
Помню, как с неизменным успехом выступал на сцене Народного дома в амплуа босяка артист Зорин. В театре «Золотой Рог» с немалым успехом подвизалась труппа Константина Зубова. Там же нередко выступал молодой артист Россов с экзотическими, полными мистики и упадочнических настроений песенками Александра Вертинского.
Был в подвальном помещении театра «Золотой Рог» и своеобразный клуб владивостокской богемы — «Балаганчик». Трудно сказать, кто его организовал. Состав его посетителей был разношерстный. Многие из них появились во Владивостоке в те годы, когда в центральных районах Советской России шла гражданская война. Видимо, они рассчитывали на Дальнем Востоке найти тихую пристань.
В «Балаганчике» по вечерам собирались писатели, поэты, актеры, художники и затевали литературные споры и дискуссии. Появлялись импровизаторы-конферансье, поэты и писатели читали стихи и рассказы, актеры декламировали, пели. В основном это была интеллигенция политически пассивная, но с «левыми» настроениями; встречались среди них и сочувствующие большевикам, такие как поэты С. Третьяков, Н. Асеев, А. Жаров, С. Алымов, писатель капитан Лухманов, актеры К. Зубов, Варшавский и многие другие деятели искусства. В 1920 году на короткое время неожиданно появился проездом в Америку Давид Бурлюк.
Внешняя сторона городской жизни с ненавистными населению белогвардейцами, официальными учреждениями, с накипью ошалелых спекулянтов и дельцов ни в какой мере не отражала подлинного лица города, общественно-политических настроений основного населения Владивостока — трудящихся.
Местная буржуазия даже под крылышком интервентов дышала на ладан. Она не представляла общественной силы, была разобщена. Влиятельная часть буржуазии держала в своих руках всю добывающую и обрабатывающую промышленность Приморья. Она активно поддерживала японских интервентов, продолжала выступать в тесном контакте с ними. Некоторая часть буржуазии начала ощущать на себе нажим со стороны иностранного капитала, особенно японского. Здесь оказалась задетой русская мошна. Этого никак нельзя было терпеть, но что делать? А делать буржуазия ничегошеньки не могла: сил не было.
В городе было много безработных. Безработица была бичом рабочих и давала себя чувствовать все острее. У биржи труда каждый день собирались толпы людей. Кроме биржи были и специальные агентства, вербовавшие физически крепкую молодежь в Америку, на угольные шахты Пенсильвании и Австралии. Однако отправка завербованных в Америку не состоялась: американцы предпочли рабочих из других стран, не «зараженных большевизмом».
Биржа труда могла обеспечить работой одиночек. И, тем не менее, рабочие проявляли стойкость и высокую организованность. После Октябрьской революции, за короткое время существования здесь Советской власти, рабочие сумели закрепить за собой завоеванные права и не отдали их даже тогда, когда с помощью интервентов пришла власть белых.
Гостиницы, свободные квартиры, углы, даже сараи были на скорую руку приспособлены под жилье. Переполнены были и все дачи в окрестностях города, вплоть до станции Угольная. В этой обстановке ежедневно и упорно, подолгу мы искали хоть какой-нибудь угол, но все было напрасно.
Путь в партию
После долгих поисков, мы с товарищем Штейнбергом наконец нашли жилье (вернее угол) на 7-й Рабочей улице, в доме № 2, у рабочего П. Дубинина.
Но получить работу было еще труднее. Безуспешные поиски продолжались до тех пор, пока я не обратился в союз грузчиков, который направил меня грузчиком на Коммерческую пристань.
Было одно плохо — далеко: с 7-й Рабочей до Коммерческой пристани, а иногда на Чуркин мне приходилось пробираться пешком через всю Светланскую улицу, утром и вечером.
Мы были довольны и этим. Во Владивостокском порту грузчиков был избыток. Их насчитывалось более 7 тысяч. Всех, безработных — и не имеющих никакой специальности и специалистов с высшим образованием — нужда гнала в грузчики. Между тем жизнь Владивостокского порта, оторванного гражданской войной от Сибири и центральной России, постепенно замирала. Грузооборот резко сократился.
В ожидании работы грузчики каждый день толпились по районам порта. Самыми крупными районами были Эгершельд, Товарный двор, мыс Чуркин и Первая Речка. Здесь всегда было оживленно. Интересовались Советской Россией, Красной Армией. Говорили и спрашивали с опаской, сдержанно, оглядывая проверяющим взглядом соседа, но жадно ловили каждое слово. Часто произносилось здесь имя Ленина. Ленина знали все.
Можно было услышать довольно резкие суждения о Колчаке и его режиме. В большинстве своем грузчики были настроены революционно. Много среди них было сочувствующих большевикам, были, наверное, и большевики, но я их не знал. Приходили в порт жены и дети грузчиков, приносили обед, под видом родственников появлялись девушки и раздавали листовки или воззвания подпольной организации большевиков. Центральным бюро профсоюзов даже издавалась газета. Но она преследовалась и после каждого очередного запрещения выходила под новым названием. Помню, выходили одна за другой газеты «Красное знамя», «Рабочий путь», «Рабочая трибуна», «Путь», «Заря» и другие, названия которых в памяти не сохранились.
Нужно сказать, что во Владивосток я прибыл не с теми отсталыми и сумбурными политическими взглядами, которые в недавнем прошлом владели мной. Все, что я видел и пережил в пути, встреча с большевиком Антоновым, конечно, оставили во мне неизгладимый след. Я начал хорошо понимать предательскую роль эсеров, меньшевиков и других партий, серьезно заинтересовался политикой, стал более вдумчиво читать газеты.
Вскоре я был окончательно прикреплен к участку Коммерческой пристани. Обычно здесь пришвартовывались товаро-пассажирские пароходы, совершающие заграничные рейсы. Поэтому сюда не поступали и отсюда не грузились массовые грузы, как рис, соя, бобы, чай, уголь, лес... В основном на эту пристань поступали текстиль, аптекарские товары, игрушки и всякие предметы роскоши.
Группа активистов подпольной партийной работы и партизанского движения в Приморье.
Сидят, слева направо: В.А. Масленников, Г.В. Лебедев, Н.К. Ильюхов, Р. Шишлянников, Г.С. Гендлин;
стоят, слева направо: П. Никитенко (Телешев), В. Владивостоков, К.Ф. Пшеницын, В.М. Элеш, В.П. Шишкин
Вместе с другими грузчиками я носил тюки, чемоданы, корзины или ящики в склад. Часто приходилось участвовать при таможенном осмотре. Тогда занимались вскрытием ящиков и переупаковкой их, а также навешиванием пломб на товары, прошедшие таможенный осмотр.
Работы было мало. Часто мы были заняты только два-три дня в неделю. Свободного времени было достаточно, чтобы подыскать другую работу.
На Коммерческой пристани часто бывал таможенный экспедитор Центросоюза Фролов. Я стал захаживать к нему на работу. В одно из этих посещений он познакомил меня с Клавдией Петровной Никифоровой. Она в то время имела какое-то отношение к кадрам. Там же меня познакомили с Птицыным, человеком добродушным на вид и весьма спокойным. Я тогда понятия не имел о том, кто такой Птицын. Меня в Центросоюзе больше интересовал инженер Г.А. Нилов. Он заведовал транспортным отделом Центросоюза и мог быть мне полезен. Так стал расширяться круг знакомых.
Хотя на Коммерческой пристани было мало грузчиков, но и здесь велись политические разговоры. Я не отставал от других, передавал им все, что успевал узнать нового о международных и внутренних событиях. Конечно, многого сделать я не мог, да и сам, говоря правду, учился у активных рабочих. Особенно привлекал мое внимание грузчик Коля Бахарев. Молодой, лет 26, это был неунывающий, веселый парень. Достаточно грамотный, он неплохо разбирался в политических событиях. Он тоже еще не был большевиком, но беззаветно верил, что Советы будут. Любил он говорить на политические темы, однако осторожно, умел для этого выбрать и время и людей. Мы вместе работали с ним в одной группе, вместе читали газеты и листовки рабочим, вели беседы.
Коля часто говорил: «Надо держаться большевистской партии. Мы должны добиться Советской власти. Наша эта власть, рабочая».
Коля Бахарев был прирожденным общественником, агитатором. Таких, как он, тогда среди грузчиков было немало.
Вот Алеша, портной по специальности, 23 лет, со светлыми волосами, открытым и доверчивым лицом. Бывал он у нас на квартире почти ежедневно. Готов был слушать разговоры на политические темы хоть до утра. Сам говорил мало, мешала скромность, но неизменно повторял:
— Надо нам быть с большевиками.
Алеша не был членом партии, но ни у кого не вызывало сомнений, что по зову большевиков он пойдет на любые подвиги! Таким же был и мой товарищ, честный и скромный В. Штейнберг.
Но встречались люди и иного образа жизни. Квартира, где мы снимали угол, была неспокойной. Хозяин квартиры Порфирий Дубинин, бывший матрос Сибирского флотского экипажа, был максималистом, имел большой круг знакомых. Его друг Татаринов, бывший матрос, служил кочегаром на пароходе «Симбирск», совершал рейсы в Шанхай и возил контрабанду (он вскоре уволился или уволили его). Приходили к хозяину Бажанов, хорошо одетый и с приятными манерами, Григоренко — высокий и стройный, с ухватками военного, и многие другие. Все они нигде не работали, но часто пьянствовали. Приглашали на свои пирушки и нас: Штейнберга, Алешу и меня. Пьянка нас не соблазняла. Мы зарабатывали немного, но не голодали. А рядом с нами — люди нигде не работали, а жили широко.
По сообщениям газет мы могли судить о том, что в Советской России живется трудно. Начинался незабываемый 1919 год. Окруженная армиями белых генералов и интервентов, вооруженных первоклассной по тому времени военной техникой, Красная Армия и советский народ напрягали все силы, отстаивая свободу, революционные завоевания. Вся Сибирь и Дальний Восток изнывали под гнетом произвола колчаковских ставленников и самозванных атаманов. Во Владивостоке свирепствовал генерал Иванов-Ринов, установивший режим террора. За слово «товарищ» — пороли, подозрение в большевизме стоило тюрьмы, даже расстрела. Каждый шаг и каждое слово требовали от людей, сочувствующих большевикам, особой осторожности.
Рабочие рассказывали, что после контрреволюционного переворота 29—30 июня 1918 года чехословаки и белогвардейцы арестовали почти весь состав исполнительного комитета Владивостокского Совета и наиболее активных руководящих большевиков. Среди них были товарищи К.А. Суханов, П.М. Никифоров, М.И. Губельман и другие. В общем, руководство было разгромлено, и большевики ушли в подполье. Рабочие, которые часто бывали у нас на квартире, говорили, что небольшая группа большевиков уцелела и ведет работу. Из листков и газет, которые мы изредка получали, мы и сами знали, что подпольный обком большевистской партии действует. Я стал часто бывать в Центросоюзе, у К.П. Никифоровой. Эта худенькая и плохо одетая простая женщина, мать двух детей, почему-то вызывала у меня доверие. И на ее вопросы о грузчиках и моей работе я рассказывал ей все запросто. Однажды сам спросил:
— Не родственник ли вам большевик Никифоров, который в тюрьме?
— Он мой муж, — без колебаний и просто ответила она.
Это было большой неожиданностью. Я стал с ней еще более откровенен и в каждый свой приход буквально давал ей отчет о том, что у нас делается.
П.М. Никифоров, один из руководителей приморской организации большевиков
Часто бывал я и у инженера Г.А. Нилова. Этот всегда живой и оригинальный человек привлекал своим общительным характером. Я стал бывать у него в семье. Он жил на Седанке (дачный район). Вот у него, на Седанке, в марте 1919 года я впервые встретился и познакомился с Володей Маленьким (В.П. Шишкиным).
Почти одновременно, не помню при каких обстоятельствах, я познакомился с Николаем Горихиным, а в клубе железнодорожников на Первой Речке — с Михайловым и Леваном.
Я не был лежебокой, принадлежал к натурам активным. И эта моя активность пробила наконец броню отдела кадров Добровольного флота, и меня приняли матросом на пароход «Яна». Пароход ремонтировался в сухом доке. Мы, матросы, здесь были заняты отбивкой и очисткой стен и потолков трюмных помещений от старой краски. Но по той безработице, которая была во Владивостоке, я рад был и такой работе. Устроиться матросом на пароход было большим достижением.
Было отрадно, что матросы «Яны» были настроены революционно, стояли за Советскую власть. Но, к сожалению, работать с ними мне не пришлось. Вскоре я перешел в Центросоюз.
... Однажды, когда собрались Лагутин, Никифорова и я, Лагутин сказал:
— Я большевик, связан с партийной организацией, а Клавдия Петровна сочувствующая, работает в рабочем Красном Кресте. Ты, — обратился он ко мне, — тоже сочувствуешь большевикам. Будем считать, что мы партячейка.
Тут же председателем партийной ячейки избрали Лагутина. Так я вошел в партию.
Еще не так давно, когда за характер выступлений на собраниях меня называли большевиком, я отрицал это, заявляя, что никакой я не большевик. И это было на самом деле так. Передо мной тогда не возникал вопрос о партийности. Я был беспартийным. А вот теперь, в условиях террора, когда большевистскую партию загнали в подполье, я стал большевиком.
Я становлюсь подпольщиком
Во Владивостоке и в Приморской области в это время свирепствовал белогвардейский ставленник генерал Иванов-Ринов. 27 марта 1919 года он опубликовал во владивостокских газетах приказ:
«1. Активных деятелей большевизма, захваченных нашими отрядами, предавать военно-полевому суду и немедленно, после состоявшихся приговоров, расстреливать, все их имущество конфисковать, дома уничтожать до основания.
2. Из зараженных большевизмом местностей брать заложников из числа сочувствующих большевизму и пособников их.
3. В случае повторения проявления террористических актов, заложников расстреливать и, кроме того, предавать военно-полевому суду и подвергать смерти большевистских деятелей и активных большевиков, находящихся в тюрьмах, по 10 человек за каждый террористический акт.
4. В случае, если террористические акты будут продолжаться, то мною будут объявлены списки деятелей большевизма и сочувствующих, и всех этих деятелей я поставлю вне закона» («Наши дни», № 23, 1919 г. ).
Тем не менее Колчак снял генералов Хорвата и Иванова-Ринова и назначил вместо Хорвата генерала Розанова.
О том, каков был режим Розанова, красноречиво рассказывает командующий американским экспедиционным корпусом в Сибири генерал Гревс в своей книге «Американская авантюра в Сибири»: «Жестокости были такого рода, что они несомненно будут вспоминаться и пересказываться среди русского населения через 50 лет после их свершения...».
Необычайно оживилась контрразведка. По селам разъезжали каратели. Во Владивостоке специальные отряды устраивали облавы: на улицах, в домах, в ресторанах и в других общественных местах ловили молодых людей и насильно отправляли в белогвардейскую армию.
Были у колчаковских сатрапов веские основания беспокоиться.
К весне 1919 года Красная Армия на Восточном фронте перешла в решительное наступление и отбросила войска Колчака за Урал, отогнала Юденича от Петрограда, приостановила наступление Деникина. Это был переломный момент, когда победа на фронтах гражданской войны склонялась на сторону Красной Армии.
На чрезвычайном заседании Моссовета 3 апреля В.И. Ленин говорил: «Колчак двинул теперь все свои резервы».
По всей Сибири и в Приморье Колчак собирал силы для продолжения борьбы с Советами. Была объявлена широкая мобилизация многих возрастов вплоть до родившихся в 1885 году. По городам и селам всюду были расклеены воззвания и приказы Колчака о призыве. Однако население отнеслось к мобилизации отрицательно. Дальневосточный комитет РКП (большевиков) обратился к населению с призывом: «Ни одного солдата Колчаку!»
Карательные отряды жестоко расправлялись со всеми, кто уклонялся от мобилизации, как и с теми, кого подозревали в сочувствии большевикам.
В апреле 1919 года одна из таких облав задержала меня на Светланской улице. Был я тогда с бородой и имел временное удостоверение с удачно исправленным годом рождения: 1884 вместо 1890, но не имел еще брони по работе.
Проверяя мое удостоверение, офицер сказал:
— Знаем мы ваши документы. Вишь, какой старичок выискался. Ну-ка, не разговаривай и марш к остальным!
Ни борода, ни документ меня не спасли. «Мобилизованных» таким образом обычно направляли в специальных эшелонах прямо на фронт, а пока что втолкнули в городской сад, что против Китайской улицы.
Хотя городской сад был довольно обширен и окружен невысокой чугунной решеткой, я обнаружил, что вырваться отсюда невозможно: вокруг сада стояли вооруженные солдаты. В то время, когда полный тревожных мыслей, я стоял у решетки и безучастно смотрел на проходящих по улице, я увидел инженера Г.А. Нилова и окликнул его. Объяснив почему я здесь, я просил помочь мне выбраться отсюда. Г.А. Нилов, который так же, как и я, работал в Центросоюзе, отыскал офицера, поговорил с ним, что-то настойчиво доказывая, и меня отпустили. К этому времени было уже известно, что в Сибири рабочие и крестьяне неспокойны, что и там участились восстания, возросло дезертирство солдат и даже офицеров. Мобилизация не только не укрепила армию, а привела к деморализации ее. Неудержимо шел процесс разложения колчаковского воинства. Еще быстрее разваливались колчаковские учреждения. Военные продавали имущество, чиновники — все, что плохо лежало. Взяточничество, подкупы, спекуляция достигли неслыханных размеров.
В тех условиях, когда большевики жестоко преследовались, нечего было и думать о широкой агитационно-пропагандистской работе. Также не могло быть и речи о том, чтобы руководящие работники, активисты большевистского подполья могли открыто приходить к рабочим. И все же большевистская агитация среди рабочих не прекращалась. Кропотливо, упорно, она велась на всех предприятиях и в учреждениях, в гуще рабочих, среди солдат гарнизонов. С каждым днем все новые и новые люди вставали в ряды сочувствующих большевикам.
Так и наша маленькая партячейка вела работу в Центросоюзе. За короткое время мы успели подготовиться к выборам в Совет рабочих и служащих Центросоюза. Так назывался профсоюзный местный комитет по коллективному договору. Выборы в Совет состоялись в июле 1919 года, и, несмотря на то, что все руководство Центросоюза состояло из эсеров и меньшевиков, в Совет были избраны Лагутин, Никифорова и я, то есть все члены партячейки. Председателем Совета избрали меня.
Мы организовали группу сочувствующих большевикам, куда вошли Копытин, Горсткин и Рябов.
Конечно, наряду с элементами стихийности, рост и развитие революционной сознательности рабочих и служащих направлялись указаниями Центрального бюро (ЦБ) профсоюзов, нерегулярно выходящими большевистскими газетами и листовками. Но самыми лучшими агитаторами в то время были первые декреты Советской власти. Имя Ленина и слово «большевик» были знаменем для рабочих, той притягательной силой, с которой были неразрывно связаны мечты и чаяния простых людей. Поэтому не приходится удивляться тому, что, несмотря, на сравнительно слабую, на первых порах, связь рабочих с подпольной организацией большевиков, единство рабочих и большевиков укреплялось.
По информации Лагутина во всей Владивостокской партийной организации было не больше двухсот коммунистов. Он говорил, что на первых порах связь в партии была нарушена, первичные парторганизации распались, не было и руководящего центра. 22 декабря состоялся партийный актив, на котором присутствовало 30 активных партийных работников. На нем был впервые после переворота избран областной комитет РКП (б) куда вошли: Дельвиг, Воронин (Птицын), 3. Секретарева, И. Сибирцев и А. Владимирский.
Военный отдел был поручен Воронину и Шишкину, связь и явка — Перевозчикову и Сахьяновой, агитация и пропаганда — Дельвигу и И. Сибирцеву, объединенный рабочий Красный Крест — 3. Секретаревой и финансовый отдел — А. Владимирскому.
Собрание приняло решение для активной пропаганды использовать все возможности: легальные, нелегальные и индивидуальные и, прежде всего, профсоюзы, учреждения рабочего Красного Креста, подпольную типографию для издания листовок.
В рабочем Красном Кресте стали работать 3. Секретарева, А. Фадеев, К. Шумятская, Т. Цивилева, К. Никифорова, Мария Белых, Тупицына.
В проведении политики партии большую роль играли профсоюзы. В то время во Владивостоке насчитывалось до 30 отдельных профсоюзов с общим числом членов до 35 тысяч, объединенных Центральным бюро профсоюзов.
При Центральном бюро профсоюзов работал актив коммунистов и сочувствующие большевикам. Руководящие работники там часто менялись. Так, в разное время в течение 1918—1919 годов председателями ЦБ были Раев, Морозов, Усов (Шура), Вакс, Климов, Петровский, короткое время Федор Коваль и другие. В конце 1919 года — снова Раев.
Такая частая смена руководства ЦБ вызывалась условиями конспирации, усилением репрессий колчаковской контрразведки.
Группа руководящих партийных работников периода 1917—1918 гг.
Следует особо сказать о роли коммунистов Временных вагоносборочных мастерских на Первой Речке. Мастерские были созданы еще в 1914 году. Тогда там работало более 12 тысяч рабочих. В 1916 году, когда поставка деталей вагонов из США прекратилась, мастерские законсервировали. Вновь они открылись в мае 1917 года, когда правительство Керенского, следуя лозунгу Антанты «Война до победного конца», получило от США крупный заем. Во Владивосток снова стали поступать детали вагонов.
Из Перми, Екатеринбурга и Тюмени прибыли квалифицированные, кадровые рабочие, ранее работавшие в Первореченских мастерских. Часть рабочих была набрана во Владивостоке. Среди них были и эмигранты, вернувшиеся из разных стран. Из коммунистов здесь с мая 1917 года работали П.М. Никифоров, И.Г. Кушнарёв, Строд, Камыс.
И.Г. Кушнарев один из руководителей приморских большевиков
Вначале комитет рабочих и служащих находился целиком под влиянием меньшевиков, но после переизбрания руководства, когда председателем комитета стал И.Г. Кушнарев, а секретарем — М.И. Шуликов (оба коммунисты), влияние коммунистов выросло. Увеличивалось и число коммунистов. В июле 1917 года их стало 18. Тогда же была создана коммунистическая партийная ячейка. Председателем ячейки был избран Строд.
Большому коллективу Временных мастерских партия всегда уделяла особое внимание. В 1917—1918 годах здесь часто выступали А. Нейбут, К. Суханов, П. Никифоров, И. Кушнарев. В дни чешского выступления были арестованы многие, в том числе И. Кушнарев. Однако влияние коммунистов не ослабло, а усилилось. К этому времени в мастерских работало уже 40 коммунистов. Несмотря на репрессии, коммунисты Временных мастерских продолжали активно вести партийную работу. Они были и оставались политической силой, способной сплотить многотысячный коллектив Временных мастерских. Примером тому служит организация и проведение забастовки железнодорожников в июле 1919 года.
Июльской забастовкой железнодорожников в 1919 году руководил стачком в составе коммунистов: М. Шуликова (председатель), Наумова и Попова. После окончания забастовки первыми пострадали члены стачкома. Союз железнодорожников был надежной опорой партии.
«За сочувствие большевизму и Советской власти» (так был сформулирован приказ) были уволены 957 железнодорожников и рабочих Временных мастерских.
Из других профсоюзов самым крепким и организованным был союз грузчиков. Там было сильное ядро стойких и смелых пропагандистов, которые среди многотысячного коллектива грузчиков распространяли идеи коммунизма, осуществляли повседневную борьбу с колчаковским режимом и интервентами.
Наступление реакции вначале сказалось на общем состоянии партийной работы в Приморье. Многие коммунисты были арестованы; в некоторых учреждениях и даже на крупных предприятиях партячейки распались. Вновь они стали создаваться в конце 1918 года уже в подпольных условиях. Появились ячейки в порту, в судоремонтных мастерских, на узловых станциях железных дорог и в ряде учреждений. Партийная работа большевиков усиливалась.
Работали и мы в Центросоюзе: Лагутин держал связь с Центральным бюро профсоюзов, Никифорова — с рабочим Красным Крестом, я — с грузчиками порта.
Уместно здесь рассказать об одном из заданий.. Однажды в апреле или начале мая 1919 года пришёл к нам товарищ Михайлов и говорит:
— Надо со склада чехословаков достать два ящика браунингов. Дело опасное только до некоторой степени, так как есть договоренность с часовыми-сторожами. Для дела надо шесть человек: четверо будут нести ящики, а двое охранять. Операцию проведем в час ночи, сегодня.
— Кто будет участвовать? — спросили мы со Штейнбергом.
— Будут участвовать: я, Леван, еще два товарища да вы. Вот нас и будет шесть.
— Вся эта работа, — сообщил Михайлов, — подготовлена Володей Маленьким. Сомневаться в успехе нет основания.
Мы согласились.
Ровно в час ночи мы подошли к складу. С задней стороны склада сторожами-часовыми была подготовлена лазейка (один лист железа висел на одном гвозде). Ночь была весенняя, темная. Погода благоприятствовала нам: шел мелкий моросящий дождик.
В складе мы обнаружили, что ящики с браунингами завалены тяжелыми тюками сукна. Пришлось сбрасывать и укладывать горы тюков. Работали без шума, молча. Стало жарко, все были мокрые, как в бане. Ящики достали и осторожно вынесли через лазейку. Несли ящики по два человека. Один из нас шел на определенном расстоянии впереди, разведывая путь, а другой замыкал шествие, тоже наблюдая по сторонам.
Опасность представлял отрезок пути через Светланскую (ныне Ленинскую) улицу.
Физически нам досталось. Начав подниматься у Гайдамакского оврага, мы шли все в гору и в гору. Рабочая слободка находится за перевалом высокой сопки. Туда тяжело и трудно подниматься не только с грузом, но и налегке. А ведь мы несли два тяжелых ящика. Буквально падая от усталости, отдыхая много раз, мы с трудом добрались до цели. На всем пути мы не встретили ни души. По ночам было опасно ходить по городу. Ценный груз мы оставили на попечение Михайлова и Левана.
Надо сказать, что военный отдел обкома партии, руководимый Ворониным и Шишкиным, опираясь на активистов, сумел организовать снабжение партизанских отрядов боевыми припасами и медикаментами. Правда, отдел не мог обеспечить партизан всем необходимым, но он все же успевал сделать многое. Нелегко добывалось это снабжение. Особенно трудно и опасно было доставать взрывчатые вещества. Использовать для этого приходилось главным образом личные связи.
Гранаты, патроны и снаряды удавалось доставать из американского военного склада на Второй Речке. Военное снаряжение добывалось также из складов на Эгершельде и в латышском батальоне. Здесь у Володи Маленького были личные связи с солдатами охраны.
В частях американских войск при содействии переводчика Эглита доставали медикаменты, одежду, белье, револьверы.
Взрывчатку и бикфордов шнур — эти строго контролируемые материалы, удалось добывать на Сучанских копях, из складов Крепостного управления или у саперов на Русском острове.
Для снабжения партизан оружием и боеприпасами в городе привлекались все члены партии. Они обязаны были выяснять, у кого есть оружие и как его можно достать. Грузчики, железнодорожники и моряки следили за отправляемыми грузами. Большую помощь Военному отделу оказывали железнодорожники, которые, сообщив о погрузке в вагоны оружия или боеприпасов, получали распоряжение загнать их в тупик. А там своевременно подготовленные люди разгружали эти вагоны.
Володя Шишкин рассказывал об одном таком случае. Поздно вечером железнодорожники сообщили ему, что они загнали в тупик в районе мельницы, на Первой Речке, вагон с патронами. При этом указали, что вагон надо разгрузить ночью, а утром надо поставить на место, откуда он был угнан. Но у В. Шишкина людей, подготовленных к разгрузке вагона, не было. У него на квартире заседал областной комитет РКП (б). В. Шишкин сообщил о положении с вагоном членам обкома и предложил пойти всем на разгрузку. Все согласились. Вагон был разгружен. В выгрузке патронов участвовали члены обкома партии: И. Кушнарев (председатель), А. Владимирский, Дельвиг, Ф. Шумятский, И. Ершов и другие.
Несколько слов о подлинных героях-подпольщиках, работавших в городе, Михайлове и Леване. В 1919 году я встречался с ними в клубе на Первой Речке по заданию партии. Михайлов был волевой, энергичный человек, был способен работать день и ночь, безотказно. Страха он не знал.
Товарищ Леван более сдержанный, работал так же преданно и безотказно. Оба: и Михайлов, и Леван, хорошие конспираторы, были неоценимыми исполнителями опасных поручений.
В работе по снабжению Военному отделу партии помогали десятки преданных товарищей в учреждениях и на предприятиях города. Одним из организаторов всего дела был В.П. Шишкин (Володя Маленький).
Владимир Петрович Шишкин родился 19 декабря 1889 года в слободе Ламской Старо-Оскольского уезда Курской области. Еще мальчиком, по окончании начальной школы, он начал трудиться. За участие в революционных событиях 1905—1906 годов и в последующие годы неоднократно подвергался арестам. Демобилизовавшись после второй мировой войны, остался в Чите, где работал радистом.
В Забайкалье и на Амуре летом 1918 года Володя Шишкин принимает активное участие в борьбе с контрреволюционным мятежом. В ноябре 1918 года В. Шишкин вместе с Николаем Горихиным приезжает во Владивосток, быстро устанавливает связь с большевиками, в частности с М. Сахьяновой, и включается в активную подпольную работу.
В П. Шишкин, один из руководителей большевистского подполья, в годы гражданской войны в Приморье
Небольшого роста, худой, щупленький, он вполне оправдывал любовно данную ему партийными товарищами кличку Володя Маленький. Все, кто близко знал В.П. Шишкина, искренне его любили. Выдержанный, спокойный, всегда скромный, он обладал вместе с тем большой силой воли, смелостью и отличался исключительной работоспособностью. Казалось, не было области работы, где он не принимал бы живейшего участия.
В один и тот же день его можно было встретить на Эгершельде, на Русском острове, на Седанке и на Второй Речке. Он сам не раз добывал военное снаряжение и проявляв необычайную находчивость, когда оказывался в трудном или опасном положении. Однажды, рассказывал мне сам В.П. Шишкин, он вез с Русского острова пироксилин. Желая быстрее попасть на трамвай, В. Шишкин с катера направился к Светланской улице, пересекая железнодорожный путь. Здесь его встретил колчаковский милиционер. Полагая, что в свертке какая-то контрабанда, которой можно поживиться, милиционер крикнул: «Стой! Покажи, что несешь!». Разумеется, раздумывать долго не приходилось. В.П. Шишкин бросил сверток и помчался назад к пароходной пристани. Катер только что дал последний свисток. Смешавшись с толпой, В.П. Шишкин успел сесть на катер и через полчаса опять оказался на Русском острове. Вновь раздобыв пироксилин, он благополучно доставил его в город.
В период всеобщей подготовки ликвидации колчаковского режима в Приморье В.П. Шишкин проводил большую работу по организации рабочих боевых дружин и вооружению их. Репрессии и преследования, экономическое давление, которые обрушились на рабочих (разгром профсоюзов, удлинение рабочего дня, снижение заработной платы и увольнение многих рабочих с работы), не ослабили их воли, не сломили сопротивления ненавистному режиму. Большевики сохранили свою организованность, укрепили свои силы для решительной борьбы.
В профессиональных союзах грузчиков, железнодорожников, моряков, металлистов, швейников, служащих и т. д. шла напряженная работа. В правления союзов массы избирали преимущественно большевиков и сочувствующих им.
Председателями многих союзов были избраны большевики: у грузчиков — Денисенко, у моряков — И.И. Шевцов, у металлистов — А.А. Гульбинович. Легальные организации рабочих — профсоюзы — проводили в жизнь политику партии, выполняя указания подпольного обкома. По приказу Центрального бюро профсоюзов массы рабочих организованно выступали против мероприятий колчаковской власти и игнорировали их. Естественно, что такое положение вызвало особое внимание контрразведки и она усилила наблюдение за деятельностью профсоюзов и Центрального бюро.
Надо сказать, что в те дни (лето 1919 года) ряды большевиков стали заметно пополняться за счет лучших, наиболее сознательных людей.
Таково было положение во Владивостоке, когда неожиданно раздались орудийные и пулеметные выстрелы так называемого гайдовского восстания.
Что делать?
Всякое восстание, как известно, готовится в глубокой тайне. Этого нельзя сказать о гайдовском восстании. По мысли его организаторов, оно должно было охватить широкий фронт колчаковского тыла. Однако масштаб его действия оказался столь ограниченным, и в нем участвовало так мало людей, что оно не вышло за рамки локального выступления. О восстании знали те, против кого оно готовилось, а также американское и японское командование.
Однажды, это было в первых числах ноября 1919 года, приходит в Центросоюз Михайлов и говорит:
— Нужна подвода для одной операции. Было бы хорошо, если ты сам будешь с ней.
— Когда ехать?
— Сегодня к пяти часам вечера.
— Не могу. У меня в шесть часов собрание рабочих и служащих.
— А если собрание без тебя?
— Нельзя! Вопросы важные и председатель Совета должен быть. Давай отложим на завтра.
— Нет, отложить не можем. Поеду с Леваном или с кем-нибудь другим, а подводу ты приготовь.
— Да, вот что, — добавил он доверительно, — в ближайшее время можно ожидать значительных событий: готовится восстание.
Сказав, что он спешит и больше ничего не знает, Михайлов ушел.
Но как удержаться и не поделиться такой новостью с членами своей парторганизации! Лагутин и Никифорова восприняли мое сообщение так же, как и я: восстание казалось всем нам желанным.
Но вот приходит к нам Николай Руденко. В последнее время он держал с нами постоянную связь. Был конец занятий, и мы пригласили Н. Руденко в отдельную комнату. Каждый из нас почувствовал, что он пришел сегодня неспроста. Н. Руденко приходил к нам всегда неожиданно, тихо и обычно на несколько минут: даст тихим голосом задание и так же незаметно исчезнет. Сегодня он впервые заговорил с нами полным голосом и без всяких предисловий заявил:
— Назревает восстание!
Это для нас уже не было новостью, и мы выжидательно молчали. Посмотрев на нас внимательно, Руденко продолжал, что организаторами восстания являемся не мы, большевики, а эсеры, то есть те же контрреволюционные силы, которые в начале лета 1918 года, вдохновляемые империалистами Антанты, осуществили контрреволюционный мятеж в Сибири и в Приморье, подготовили почву для режима Колчака.
Мы выразили сомнение: «Как же это, те же контрреволюционные силы, которые породили режим Колчака, теперь выступают против Колчака?» Руденко ответил, что он не оговорился и, как это ни кажется неправдоподобным, именно так развиваются события. История с восстанием тесно связана с противоречиями между США и Японией и успехами Красной Армии на фронтах борьбы с колчаковскими войсками.
Мы понимали, что у американских и японских империалистов есть противоречия, но зачем им заниматься в этом случае переворотами у нас, да еще связывать это с успехами Красной Армии? Мы никак не могли толком понять эту мысль, да и Н. Руденко не объяснил. Он только сказал, что не все так просто объяснимо в этом процессе, но одно несомненно: назревающее восстание связано с успехами нашей Красной Армии на фронтах гражданской войны.
— К сожалению, — добавил он, — всех подробностей я еще не знаю, а вы ждите указаний.
Н. Руденко ушел, оставив нас в недоумении. На фоне жестокого белогвардейского террора, может быть, такое восстание и имело какой-нибудь смысл. Вскоре мы узнали, что эсеры из Центросоюза тесно связаны со штабом генерала Гайды. Узнали мы также через Сергея Суховия (тогда эсера и секретаря правления Центросоюза)1, что подготовку восстания возглавляет генерал Гайда.
Мы знали положение на фронтах гражданской войны. Осенью 1919 года Красная Армия громила колчаковские войска, и армия Колчака отступала, разваливалась. Стало очевидным, что одной из важнейших причин быстрого и сокрушительного разгрома колчаковских войск была непрочность их тыла: народ встал против Колчака. Его режим перестал представлять силу, способную задержать стремительное движение Красной Армии на Восток. А это означало скорую советизацию всей Сибири и Дальнего Востока, крах всей политики интервентов.
— А будут ли интервенты мириться с этим положением и не предпримут ли они в связи с этим какие-либо шаги? — не раз задавал вопросы Лагутин, и сам же отвечал:
— Нет, интервенты с этим не смирятся.
Мы соглашались с ним, понимая под словом интервенты прежде всего японских и американских империалистов. Ни для кого на Дальнем Востоке не было секретом, что из всех империалистических государств наибольшую активность в организации интервенции на Дальнем Востоке проявили США и Япония. Ведя непримиримую борьбу между собой за влияние в районе Тихого океана и в Азии за рынки сбыта, эти два империалистических хищника вместе с тем выступали союзниками, когда дело шло о борьбе против Советов, против социалистической России. Оба они страшились распространения большевистских идей в странах Азии и Латинской Америки, и оба стремились распространить свое политическое и экономическое влияние на Дальнем Востоке. Вот отсюда у них и необходимость преградить путь Красной Армии на Восток. Но как? Конечно, прямым вооруженным выступлением интервенты этого сделать не хотели. И в Японии, и в США к этому времени интервенция в России стала непопулярной. Отсюда поиски выхода путем образования автономной государственности на Дальнем Востоке руками самого населения.
К созданию ее интервенты подходили с разных точек зрения. При этом, японские и американские интересы резко расходились в вопросе о том, чье политическое и экономическое влияние здесь должно преобладать — японское или американское!
На Дальнем Востоке существовали отдельные областные правительства со своими контрреволюционными режимами: в Забайкалье — атаман Семенов, в Благовещенске — Гамов, в Хабаровске — Калмыков, во Владивостоке — генерал Розанов. Все четыре сатрапа никаким авторитетом среди населения не пользовались. Белый террор и жестокости, проводимые ими, стали ненавистны всему населению Дальнего Востока. Это хорошо знали американские интервенты. Знали не хуже и японцы, а вот, поди ж ты, японцы все же активно поддерживали и поддерживают эти режимы. И это было понятно: имея 150-тысячную армию по всему Дальнему Востоку и в лице этих сатрапов прямых своих агентов, японцы могли и уверенно проводили политическое и экономическое влияние, не боясь конкуренции.
А это положение не отвечало интересам США. Предпринимая интервенцию в Сибири, американский империализм пытался обеспечить здесь себе полное политическое, экономическое и культурное влияние. В этих целях янки на широкую ногу поставили во Владивостоке работу евангельских общин «Христианский союз молодых людей» и католической иезуитской общины «Рыцари Колумба». Для клуба «Христианский союз молодых людей» они переоборудовали огромный склад на Каботажной пристани, где демонстрировали американские кинофильмы, устраивали танцевальные вечера и для приманки публики открыли буфет.
Для этой же цели американцы мобилизовали печать и выпускали на русском языке газеты «Новое русское слово», «Дружеская речь» и журнал «Дружеское слово». Эти общины и печать вели идеологическую обработку русского населения, всячески восхваляя американский образ жизни и «преимущества» американской демократии. Интервенты создали на Дальнем Востоке ряд институтов, призванных объединять и координировать их действия. Так, во Владивостоке существовал Военный союзнический совет, в котором руководящую роль играли американцы и японцы. Для управления всеми дорогами Сибири, Дальнего Востока и Китайско-Восточной железной дорогой был организован межсоюзнический железнодорожный комитет и при нем оперативный технический совет. Возглавлял совет американец Стивенс.
Американский консул Колдуэлл в консульском корпусе играл среди дипломатов видную роль. А международную полицию, которую интервенты не преминули создать во Владивостоке, возглавлял также американец, по фамилии Джонсон.
Таким образом, американские империалисты держали в своих руках на оккупированной интервентами территории Дальнего Востока ключевые позиции экономики и политики, даже полицию. Но все же существовавшее положение не могло их удовлетворить. Американцы хорошо понимали, что, пока агенты Японии Семенов, Калмыков, Гамов и Розанов остаются у власти, все их потуги обеспечить себе господствующее влияние на Дальнем Востоке — пустой звук. Следовательно, надо добиться изменения существующих областных прояпонских режимов и создать режим, отвечающий американским интересам, режим, который стал бы вместе с тем и противовесом надвигающейся на Восток Красной Армии.
Более подробные сведения о готовящемся восстании мы получили от В.П. Шишкина. Оказывается, переговоры обкома РКП (б) с эсерами по вопросу восстания ведутся давно. Заручившись поддержкой американцев, эсеры задумали большой план: снова при помощи чехословацких войск свергнуть Колчака и захватить власть. Эсеры полагали, что к ним перейдет значительная часть колчаковских войск, будут на их стороне и чехословацкие штыки и, таким образом, у них будет довольно крупная вооруженная сила. А имея такую силу, эсерам, как они мыслили, можно будет говорить с Советским правительством как равный с равным и поставить вопрос о признании автономной Сибири и, конечно, с эсеровским правительством во главе.
Задумав так, эсеры обратились к обкому РКП (б) с вопросом:
— Если эсеры возьмут власть в свои руки, не распустят ли большевики партизанские отряды?
Обком нашей партии ответил:
— Если вы, эсеры, намереваетесь разговаривать с Советской Россией вооруженными, то какие могут быть разговоры о роспуске или прекращении действий партизанских отрядов!
Эсеры понимали, что, кроме всего, для успеха восстания надо еще заручиться активным участием в нем народных масс. И вот, поразмыслив, они решились было через голову большевиков и Центрального бюро профсоюзов обратиться непосредственно к отдельным профсоюзам. Но из этого у них ничего не вышло. Профсоюзы отказали им в поддержке. Эсеры и без отказа союзов хорошо знали, что без коммунистов народ на восстание не поднять и что поэтому надо договориться с ними о совместном выступлении.
Штаб Гайды полагал поднять восстание одновременно в Хабаровске, Имане, Спасске, Никольске, Владивостоке и на Русском острове, то есть в тылу Колчака, протяженностью до тысячи верст. Это было заманчиво. Осуществление восстания было бы большой помощью Красной Армии в ее борьбе с Колчаком.
Продолжалась гражданская война. В Приморье партизанским движением были охвачены все уезды. В самом Владивостоке создалась следующая революционная ситуация. Во многих воинских частях гарнизона были организованы подпольные солдатские комитеты, на предприятиях и в некоторых учреждениях созданы рабочие дружины, а за их спиной — 30-тысячный, организованный в профсоюзы, революционный пролетариат Владивостока.
Г.Раев председатель Центрального бюро профсоюзов во Владивостоке в 1917—1919 гг.
В этих условиях, когда две враждебные нам силы боролись между собой за власть, областной комитет большевиков как боевая революционная организация пролетариата не мог остаться в стороне от развивающихся событий, в роли пассивного наблюдателя.
По предложению И.Г. Кушнарева обком партии принимает решение оказать содействие восстанию. Для этой цели обком партии создал Военный штаб во главе с И.Г. Кушнаревым. Заместителем его назначили В.П. Шишкина2.
На первом совместном совещании в штабе Гайды от большевиков присутствовали И. Кушнарев, Г. Раев, Сакович и В. Шишкин. Они потребовали ознакомить с планом восстания и информировать о силах, готовых к выступлению. Кроме того, И.Г. Кушнарев заявил, что коммунисты должны получить свидетельство о том, что войска интервентов во время восстания будут соблюдать нейтралитет, только при этом условии рабочие будут участвовать в восстании.
На это председательствовавший на совещании полковник Солодовников ответил так: на стороне Гайды выступят воинские части гарнизона Владивостока и других городов, а также некоторые отдельные части чехословацких войск.
— Штаб Гайды к восстанию готов, — заявил он, — и нейтральность интервентов обеспечена.
Все эти заявления Солодовникова были недостаточно конкретны и недостаточно убедительны и, естественно, вызывали сомнения. Руководители Военного штаба обкома партии особенно сомневались в соблюдении нейтралитета интервентами. В добавление ко всему стало известно, что контрразведка генерала Розанова подробно, до мелочей, знала все, что делается в штабе генерала Гайды. Знал об этом и сам Розанов. Он даже делал неоднократные попытки арестовать Гайду и его штаб, но безуспешно: международная полиция обеспечивала неприкосновенность Гайды.
15 ноября у генерала Гайды состоялось совещание с участием Раева, Абрамова, Саковича и Шишкина. Там выяснилось, что оружием обеспечат чехословацкие части. В восстании будут участвовать 2 роты чехословаков, нейтральность интервентов обеспечивается. Это было все, чем располагал штаб Гайды.
В тот же день вечером состоялось совещание и в Военном штабе обкома партии. На этом совещании В.П. Шишкин выступил против участия или содействия восстанию под руководством Гайды. Он считал восстание авантюрой, мотивируя это отсутствием сил у Гайды, сомнительностью выступления гарнизона на стороне восставших, а также малой вероятностью того, что интервенты останутся нейтральными. Из всего этого В.П. Шишкин делал вывод о том, что успех восстания очень сомнителен.
Но большинство совещания поддержало предложение И.Г. Кушнарева об оказании содействия выступлению Гайды. И.Г. Кушнарев вновь подчеркнул, что борьба наших политических врагов между собой приближает наш успех. Он также считал, что мы, коммунисты, не можем оставаться простыми зрителями и что должны быть готовы при благоприятных обстоятельствах вмешаться в восстание и завершить его с большевистскими лозунгами.
Военный штаб поручил В.П. Шишкину и А. Крастину поднять к восстанию особый отдельный стрелковый батальон морской пехоты, расположенный на Океанской, куда они оба и поехали в тот же день.
16 ноября Г. Раев принимал в вагоне Гайды представителей рабочих дружин3: В. Врублевского, Г. Мельникова, М. Старкова, Л. Бурлакова, И. Шевцова и других, вручал им листовки — обращение ЦБ профсоюзов о всеобщей забастовке — и инструктировал.
17 ноября 1919 года обком партии выпустил воззвание, в котором говорилось: «... В борьбе двух чуждых нам политических сил заинтересованы мы больше, чем сами враждующие стороны. Идущая с запада Красная Армия, восставшая и восстающая крестьянская Сибирь заинтересованы в ослаблении сил противника и лишении реакции базы. Поэтому всякая борьба против колчаковщины здесь, на Дальнем Востоке, отвечает этим требованиям. И наша задача — способствовать успеху восстания, которое приближает нас к достижению наших целей, когда будет благоприятствовать международная обстановка».
Накануне восстания Военный штаб обкома РКП (б) принял постановление — приказ № 1: всем боевым дружинам и рабочим города быть готовым к бою. До получения приказа № 2 в боевых действиях между гайдовцами и колчаковцами участия не принимать.
Было решено для поддержки восстания объявить с 17 ноября «всеобщую забастовку сочувствия».
В районе Нижне-Портовой улицы, у железнодорожного тупика, где стоял поезд генерала Гайды и находился штаб восстания, еще с ночи стали сосредоточиваться вооруженные грузчики.
М. Старков, член правления союза грузчиков, организатор боевых дружин грузчиков, вспоминает: «Не получая прямого приказа о выступлении на стороне Гайды, я уговаривал рабочих-грузчиков товарного двора воздержаться от выступления, но ненависть их к режиму Колчака — Розанова была так велика, что удалось удержать их с большим трудом... Ушли в ряды восставших по своей инициативе более трехсот грузчиков с Эгершельда, и многие из них погибли».
К девяти часам утра прибыл батальон морских стрелков с Океанской, сагитированный В.П. Шишкиным и А. Крастиным, и особая ударная группа под командованием И. 3. Сидорова. Стали собираться солдаты, прибывшие на катере «Фарватер» под командованием Кулагина с Русского острова, и отдельные рабочие предприятий города.
В соответствии с планом, разработанным начальником оперативного отдела штаба восстания коммунистом Саковичем, рабочие боевые дружины железнодорожников были сосредоточены во Временных мастерских на Первой Речке, дружина военного порта — в Рабочей слободке и остальные — по своим предприятиям и учреждениям. Так и простояли они, как и мы, в ожидании приказа № 2 до конца трагедии 18 ноября. Обстановка была неблагоприятная, и приказ № 2 не издали.
Утро 17 ноября жители Владивостока встретили в обычной, спокойной и мирной обстановке. Только погода стала заметно ухудшаться: чувствовалось, что с Японского моря надвигается тайфун.
И.3. Сидоров, командир партизанского отряда
В 6 часов утра в порту раздались судовые гудки, возвещавшие о начале забастовки. Очень быстро весь город узнал, что с утра не вышли на работу грузчики, рабочие Добровольного флота и мукомольной мельницы. Около 11 часов утра забастовало железнодорожное депо и Временные мастерские на Первой Речке. Поезда из Владивостока не вышли. Движение было прервано. К забастовке примкнули рабочие и служащие других предприятий и учреждений.
В это же время у штаба генерала Гайды повстанцы стали задерживать и обезоруживать офицеров с броневика «Калмыковец» и колчаковские воинские части, расположенные на Эгершельде. Начались эксцессы, готовые перейти в вооруженные столкновения.
Около 10 часов утра отряд моряков во главе с секретарем союза моряков товарищем Самельсоном, по указанию товарища И.И. Шевцова, захватил вагон с оружием и патронами и вооружил ими моряков и грузчиков. Захватив пароход «Печенга», стоявший у пристани Добровольного флота, отряд моряков организовал там базу и стал на охрану района порта, не допуская высадку колчаковцев с бухты Золотой Рог.
А между тем, когда восстание готово было разразиться, штаб Гайды хранил молчание, бездействовал. Там все еще продолжались жаркие споры о том — выступать или не выступать, когда день выступления был назначен еще на совещании 15 ноября.
Испугавшись активности масс, привычные соглашатели эсеры предлагали отказаться от вооруженного восстания и договориться с генералом Розановым о форме власти мирным путем. Эти бесконечные споры, создавшие обстановку неразберихи в штабе, связали по рукам и ногам оперативных работников штаба, и фактически организацией восстания никто не руководил. Эта беспримерная беззаботность в штабе привела к тому, что события развивались стихийно, независимо от руководства восстания.
Около 12 часов дня полковник Воронов из свиты Гайды встретился на виадуке, соединяющем вокзал с портом, с комендантом станции Владивосток (фамилию его не помню). В споре, возникшем между ними, полковник Воронов застрелил коменданта станции. Этот случай привел полковника Солодовникова в особо боевое настроение, и по его единоличному распоряжению, неожиданно даже для руководства штаба восстания, раздались пулеметные выстрелы с крыши вагона генерала Гайды в сторону вокзала. Вокзал к этому времени был занят юнкерами инструкторской школы и гардемаринами Военно-морского училища. После этого началась беспорядочная стрельба. Белые открыли ответный огонь, появились первые раненые. Так Гайда и его штаб были поставлены перед фактом неорганизованно начавшегося восстания.
Погода резко ухудшилась. Начался дождь со снегопадом. Холодный, сырой морской ветер, пробирал до костей.
Геройски сражаясь с колчаковцами, повстанцы под командованием И. 3. Сидорова около 2 часов дня заняли вокзал и прилегающие к нему железнодорожные пути. Шла перестрелка с гардемаринами и цепью японских солдат. Последние всячески ограничили пределы распространения восстания и фактически загнали повстанцев в мышеловку,
Розанов хорошо был осведомлен о готовящемся восстании, а японцы заверили его в активной поддержке. Поэтому он был спокоен, хотя и знал, что гарнизон города ненадежен.
17 ноября Розанов издал приказ, в котором заявил, что забастовку рассматривает как «измену родине». Он объявил, что всякие «попытки подобного рода будут с полной беспощадностью подавляться оружием... Зачинщиков предавать полевому суду».
К вечеру 17 ноября повстанцы заняли пристань и подходы к станции Эгершельд. Розанов объявил город на осадном положении.
В эти дни, 17 и 18 ноября, происходили совещания консульского корпуса и представителей военного командования интервентов. Колдуэлл предлагал поддержать генерала Гайду, англичане колебались. Японцы настаивали на сохранении власти Розанова. Не найдя общего языка, представители империалистических держав молчаливо предоставили японскому командованию свободу действия против восставших.
Империалисты хорошо знали свои цели. Они были осведомлены о ходе развертывающихся событий. Участие рабочих и коммунистов в гайдовском восстании не было секретом для членов консульского корпуса. Они знали, что выступление японцев означает зверскую расправу с большевиками и рабочими, означает ослабление и даже разгром революционных сил, к которым все они питали смертельную ненависть.
Генерал Гревс в своей книге, умолчав о провокационной роли американских дипломатов в этом деле, так вспоминает о гайдовском восстании: «После полудня 17 ноября союзные командования имели совещание с целью наметить какие-нибудь планы, чтобы воспрепятствовать убийствам, грабежам и причинению ущерба союзникам, и, так как это борьба политическая, решили остаться нейтральными...» («Американская авантюра в Сибири». Военгиз, 1932, стр. 198—199).
Так ловко развязывали и поддерживали американцы гражданскую войну на Дальнем Востоке.
Весь день 17 ноября наша дружина находилась в готовности, но никто не приходил. Мы слышали пулеметные и орудийные выстрелы и на все лады судили и рядили поступок товарища Руденко, думая, что он позабыл о нас. Так наступила ночь 17—18 ноября. Мы остались третью ночь в помещении Центросоюза, но так никто к нам и не приходил. А между тем события шли своим чередом, неотвратимо приближаясь к концу...
Японские войска неожиданно перешли в наступление. Вопреки уверениям руководителей гайдовского штаба, что военный флот будет нейтрален, сторожевое судно «Якут», эсминцы «Лейтенант Малеев» и «Твердый» открыли по восставшим орудийный огонь.
В район восстания вошел бронепоезд «Калмыковец» и в упор стал расстреливать восставших. С этого времени повстанцы от активных действий вынуждены были перейти к обороне. Исход восстания был предрешен.
Стоявшие на рейде американские, английские и японские крейсеры вечером и ночью ярко освещали прожекторами территорию порта, вокзала и другие районы восстания, помогая розановским войскам. К 10 часам дня 18 ноября юнкера и гардемарины при поддержке бронепоезда и японских частей штурмом захватили вокзал и очистили железнодорожные пути, оттесняя восставших к пристани Добровольного флота.
Ударная боевая группа с ротой особого батальона стрелков морской пехоты и отдельные отряды рабочих, грузчиков и моряков, в составе более пятисот человек, которыми командовал И. 3. Сидоров, потеряв до половины своего состава, в 11 часов утра 18 ноября с боем стали пробиваться к Нижне-Портовой улице, но, встретив сильное сопротивление японских и американских частей, сдались американцам. Американцы обезоружили их и тут же передали японцам. Так, по Гревсу, американцы «решили остаться нейтральными».
«Многих пленных, рассказывает участник гайдовского восстания товарищ И. 3. Сидоров, японцы расстреливали на глазах у американских солдат и офицеров».
Так осуществлялось единство в действиях американских и японских империалистов, когда это касалось разгрома революционных сил пролетариата.
Когда стало очевидным, что японцы выступили на стороне генерала Розанова, в 5 часов утра 18 ноября, Военный штаб обкома партии выпустил приказ № 3: «... всем рабочим — участникам восстания — оставить поле боя и, уходя, сохранять строжайшую конспирацию». - По настоянию генерала Гревса и консула Колдуэлла, было предложено Розанову и Гайде прекратить борьбу. К 12 часам дня гайдовское выступление было ликвидировано. Гайда и его штаб сдались начальнику международной полиции Джонсону.
Никто не взял под защиту рабочих. С ними жестоко расправились, их расстреливали из пулеметов, забрасывали гранатами. Участники восстания товарищи Раев, Сакович, Смирнов, полковник Краковецкий и другие в 11 часов утра спаслись благодаря смелости и находчивости шофера грузовой автомашины (к сожалению, фамилия его забылась). Развив бешеную скорость, грузовик каботажной пристани прорвался через цепь японских солдат и гардемаринов на городские улицы. По ним стреляли, но ранен (легко) был только товарищ Г. Раев.
Так закончилось гайдовское верстание 17—18 ноября 1919 года.
Есть основание полагать, что в этом восстании погиб и мой товарищ, грузчик Николай Бахарев. До восстания он продолжал работать грузчиком на Коммерческой пристани. Бывая по службе в порту, я часто встречал его, а после гайдовского восстания он как в воду канул. Имена подавляющего большинства погибших в этом восстании остались неизвестными.
Надолго останется в памяти многих владивостокцев 18 ноября 1919 года. День выдался пасмурным, и, как только прекратились выстрелы, недавно пустынные тротуары быстро наполнились людьми. Вот с Каботажной пристани появилась толпа людей в простой рабочей одежде и в солдатских шинелях. Она, конвоируемая юнкерами и гардемаринами, медленно поднималась к Суйфунской улице. Арестованные выглядели усталыми, но явно старались держаться бодро. Они не могли не видеть, что толпа, состоящая в основном из рабочего люда, не скрывала своего сочувствия к ним. Слышались слова приветствия и негромкие возгласы:
— Не унывайте, друзья!
Таков финал гайдовского восстания. В обстановке, которая сопутствовала восстанию, другого исхода не могло быть. Восстание стоило больших жертв. Свыше пятисот рабочих и солдат были убиты и расстреляны. К сожалению, во всяком восстании элементы стихийности неизбежны. И в данном восстании, вопреки указаниям обкома РКП (б) не выступать до особого распоряжения, многие рабочие примкнули к восстанию и погибли.
Крах колчаковщины
Конец 1919 года ознаменовался славными победами Красной Армии. На юге страны она заняла Харьков, Полтаву и Киев, на Восточном фронте — Новониколаевск (Новосибирск). В Сибири поднялась волна восстаний. Правительство Колчака бежало из Омска, а сам Колчак был захвачен и арестован рабочими. К началу 1920 года в Сибири была восстановлена Советская власть.
По всему Дальнему Востоку почва горела под ногами белогвардейцев и иностранных интервентов. Широкой волной разлилось партизанское движение по всем областям обширного края.
В Амурской области уже зимой 1918/19 года под руководством большевика Ф.Н. Мухина началась героическая партизанская война с японскими интервентами и белогвардейцами.
Идея партизанской войны в Приморье возникла еще летом 1918 года. В «Дневнике коммуниста», автором которого является один из зачинателей партизанского движения Н.М. Еременко, читаем (запись сделана в августе 1918 года): «... Нужно мобилизовать преданных Советам товарищей, готовить штабы в горных дебрях хребта Сихотэ-Алиня. Там мы продержимся... Ночью собрали товарищей, решили готовиться, собирали оружие, послали разведку...»
С конца 1918 года Шевчук, Петров-Тетерин, Шевченко, Иванов, Мечик, Ильюхов, Глазков, Овчаренко, шахтеры-большевики Мартынов и Локтев стали организовывать преданных Советской власти бойцов в партизанские отряды. Партизанское движение развивалось в Приморье, как и по всему Дальнему Востоку, в условиях острой классовой борьбы, как проявление гневного протеста против режима белогвардейского террора и международной интервенции.
Ходом событий крестьянство должно было рано или поздно стать на путь выбора власти. А между тем кулак и, в значительной степени, зажиточные крестьяне, заинтересованные в сохранении экономических преимуществ, продолжали идти против бедноты.
К осени 1918 года, когда установилась власть белых и по Приморской земле двинулись вооруженные интервенты, обстановка коренным образом изменилась. Крестьяне видели, как нагло оккупанты попирали родную землю, как меньшевики и эсеры, вкупе с кадетами и белогвардейцами, выступали агентами интервентов, приветствуя их на русской земле.
Повсеместный, разнузданный белогвардейский террор, чудовищные зверства, казни, насилия, чинимые карательными отрядами над мирным населением, над лучшими, передовыми людьми из рабочих и крестьян, открыли глаза широким массам крестьянства. Их политическое сознание стало яснее.
С кем идти, за какую власть бороться: за ту, что защищает родную землю, или за монархистов, белогвардейцев, эсеров и меньшевиков, выступающих в роли агентуры интервентов и защищающих интересы богатеев и капиталистов? На этот вопрос основная масса крестьян ответила твердо и без колебаний.
Общие собрания крестьян Ивановской, Анучинской, Сысоевской и Яковлевской волостей Приморской области, руководимые большевиками и вернувшимися с фронта революционными солдатами, принимают решение взяться за оружие против колчаковского режима и интервентов. В деревнях организуются дружины, ставшие под большевистскими лозунгами на путь партизанской борьбы. Ведя боевые операции с колчаковскими и интервентскими войсками, партизаны одновременно вели работу по разложению колчаковских гарнизонов, подготавливая восстание среди солдат. В результате этой большой агитационной работы 34 полк колчаковцев, расквартированный на Сучанском руднике, несмотря на присутствие здесь японского гарнизона, восстал. Полк в полном составе, с четырьмя пулеметами «гочкис» и богатейшим по тому времени военным снаряжением перешел на сторону партизан. Влившись в отряд партизан, он получил название Первого Дальневосточного советского полка,
Подобные восстания происходили в Шкотово, на Сучане и в других районах Приморья. Восставшие солдаты вливались со всем вооружением в партизанские отряды.
Во Владивостоке, где я в то время работал в подполье, по-разному реагировали на успехи партизанской борьбы. В кругах белых и интервентов непрерывно росла тревога и неуверенность в прочности своего положения. Трудящиеся же, и прежде всего рабочие, с нескрываемой радостью обсуждали между собой сообщения об успешных налетах партизан на воинские поезда белых и интервентов, о взорванных поездах с боеприпасами, об уничтожении белых карательных отрядов и японских частей. Неотразимое действие, даже на умы обывателей, оказывали сообщения о героической борьбе амурских партизан, об уничтожении ими у села Ивановки крупного карательного отряда японских оккупантов.
В развитии партизанского движения, в борьбе против растлевающего влияния на крестьян соглашательских партий эсеров, меньшевиков, анархистов огромную роль играли шахтеры Сучана.
У них была большевистская партийная организация, были профсоюзные ячейки индустриального союза горнорабочих.
Неудержимо нарастали революционные силы в самом Владивостоке. В условиях белого террора подпольный обком партии вынужден был ограничить свою работу по агитации и пропаганде регулярным выпуском нелегальных листовок и воззваний. Издавались и распространялись они при непосредственном участии рядовых большевиков. Большевики знакомили население с политической обстановкой, а главное — напоминали, что партия существует и действует. Это сознание поддерживало и воодушевляло рабочих. Да и сама жизнь большого портового города с его контрастами особняки и трущобы, изобилие у тунеядцев и беспросветная нужда у людей труда, разгул военщины и бесправие) была живой агитацией за Советскую власть.
В декабре 1919 года состоялась Приморская партийная конференция. Учитывая нарастающую революционную ситуацию, а вместе с тем наличие военных сил у интервентов, которые не допустили бы советизации области, она приняла решение:
1. Партия, оставаясь верной принципам организации Советской власти, считает, что при создающихся в крае международных условиях невозможно немедленное восстановление власти Советов рабочих и крестьянских депутатов, поэтому она высказывается за поддержку областной земской управы при условии проведения ею политики скорейшей ликвидации интервенции на Дальнем Востоке и осуществления объединения с Советской Россией...
2. Все военные силы должны находиться под влиянием исключительно коммунистической партии.
Но уже в начале января 1920 года состоялась Владивостокская подпольная городская конференция. Она решила проводить восстание под лозунгом перехода власти Советам.
Такое решение понятно и закономерно: в условиях атамано-генеральских режимов насилия и произвола народ жаждал советизации края. А кроме того, все знали, что на Восток безостановочно двигается Красная Армия. Она уже подходила к Иркутску, вселяя в трудящихся города и деревни светлые надежды. Между тем политическая обстановка становилась сложнее. С Запада на Восток откатывались войска «союзников», основательно потрепанные Красной Армией. Владивосток стал наполняться разными военными специалистами и дипломатическими миссиями воюющих иностранных государств.
Мы уже из чехословацких источников знали, что правительства европейских государств, а также США дали указание своим представителям в Сибири вывести войска с Дальнего Востока. Мы также знали, что Япония думает крепко держать свою 120-тысячную экспедиционную армию в Забайкалье и Приморье. Было похоже на то, что японцы остаются на Дальнем Востоке с согласия американцев. Среди иностранных корреспондентов и командования чехословацких войск в связи с этим не без основания ходили упорные слухи о том, что молчаливое согласие правительства США на оставление японских войск в Приморье задумано не без определенной цели.
А цель эта — втянуть Японию в войну с Советской Россией.
В течение января 1920 года во Владивостоке сосредоточилось огромное количество интервентских войск. При этих условиях, хотя полный развал розановского режима был очевиден, организация переворота являлась сложнейшей задачей: самая незначительная политическая ошибка могла стать поводом для вмешательства иностранных войск. Этим поводом как раз и могла послужить передача власти Советам.
Политическая обстановка требовала от Приморской партийной организации при решении вопроса о власти самого серьезного и всестороннего учета политического положения. Мы же, рядовые подпольные работники, не подозревали всей серьезности дела. Встречаясь в эти дни с В.П. Шишкиным, я как-то спросил у него:
— Ну, как? Приближаемся?
— Даже быстро, — ответил Володя. — Окончательно решен вопрос о лозунге восстания. Обком партии большинством голосов отменил решение городской конференции о советизации области, власть передается земской управе.
— Значит не Советская власть?
— Обком партии стоит на позиции не увлекаться стремлением восстановить Советскую власть. Он считает, что объявление Советской власти может вызвать остановку эвакуации интервентов и, возможно, привести к выступлению японцев.
— При краевом комитете, — продолжал В.П. Шишкин, — создан Революционный штаб. Учти, тебе также придется поработать.
После этой встречи усилилось снабжение партизанских отрядов. В.П. Шишкин проводил большую работу по снабжению подпольных военных частей и по организации рабочих дружин. Я помогал ему. Он был связан с коммунистами и беспартийными товарищами во многих учреждениях, предприятиях и воинских частях гарнизона города. Большую работу по подготовке восстания в городе проводили Воронин, А. Крастин, Н. Руденко, М. Старков, Н. Горихин, П. Остапов, К. Серов, Лагутин, 3. Секретарева и многие другие. По статистическим данным Приморского обкома партии, изданным в 1925 году, в период гайдовского восстания 17—18 ноября 1919 года в Приморской области насчитывалось приблизительно 200 коммунистов, а к началу 1920 года — около 400. Конечно, такой малочисленный отряд не смог бы сам осуществлять массовую работу среди трудящихся. Большую роль в этом играло Центральное бюро совета профсоюзов Владивостока, руководимое коммунистами. Правда, в составе совета и самого бюро были и беспартийные, но все они стояли на позициях Советской власти, целиком поддерживали в бюро коммунистов.
И.И. Шевцов, председатель Владивостокского союза моряков в 1919 году
Центральное бюро профсоюзов пользовалось огромным авторитетом и влиянием среди рабочих, служащих и передовой интеллигенции. Его авторитет был особенно высок. Трудящиеся хорошо знали, что Центральным бюро руководят коммунисты, а вера в коммунистов была безмерной. Этим и объясняется сила профсоюзной дисциплины, организованность массовых выступлений. Вокруг Центрального бюро профсоюзов группировались представители учреждений и организаций, беспартийные, сочувствующие большевикам. Они явились неустанными, вездесущими агитаторами за Советскую власть, за партию большевиков. Везде и всюду, незаметно и тихо эти сотни и тысячи сочувствующих вели работу по разложению колчаковщины. И дома с соседями, и на работе с товарищами, в общественных местах, и при встречах с солдатами гарнизона они вели разговоры о текущих событиях, о Советской России, о Ленине, о первых декретах Советской власти, о Красной Армии.
Еще 15 ноября 1919 года на заседании ревштаба обкома партии В.П. Шишкин говорил, что военный отдел обкома имеет связи со всеми воинскими частями гарнизона за исключением конвоя генерала Розанова. Были сагитированы и отдельные офицеры, но сила была не в них. Решающей силой оставался солдат. Это подтвердилось и во время восстания 26 января егерского полка, где егерям пришлось арестовать всех офицеров. То же самое случилось и тогда, когда 16 ноября В.П. Шишкин и А. Крастин подняли особый батальон морской пехоты на Океанской. Офицеры не пошли на восстание, и солдаты открыли против них огонь. Еще во время гайдовского восстания гарнизон города не выступил в защиту генерала Розанова, за исключением юнкеров и гардемаринов, одного броневика и трех миноносцев. К январю 1920 года с солдатами воинских частей гарнизона уже были установлены еще более крепкие связи, а во многих частях действовали выборные подпольные комитеты солдат. Были связи и с офицерами частей гарнизона, активно вставшими на сторону восстания.
Решив передать власть земской управе, областной комитет партии начал переговоры с руководством управы. Как мы узнали позднее, земцы неохотно шли на принятие власти. Во-первых, политическая обстановка была весьма сложной, и земцы не ждали успехов. А главное заключалось в том, что правые эсеры, возглавлявшие земство, за время интервенции растеряли своих последователей. Земцы откровенно говорили, что у них нет широкой общественной базы и поэтому они не могут брать на себя функции правительственной власти: главные массы идут за вами, за коммунистами, вы и берите власть, говорили они.
Но все же коммунистам удалось уговорить земцев. Земская управа согласилась принять на себя власть при условии, если коммунисты будут не только ее поддерживать, но вместе с нею примут на себя ответственность перед общественностью за деятельность. Обком РКП (б), возглавляемый тогда И.Г. Кушнаревым, на это согласился. Эта политическая комбинация, конечно, никого не могла обмануть. Было для всех ясно, что это тактический маневр большевиков. Фактически политическая ответственность будет лежать на коммунистах, как на самой массовой партии.
26 января был организован объединенный оперативный штаб, в который вошли коммунисты, эсеры, левые эсеры, сибирские эсеры, максималисты. Председателем штаба был назначен С.Г. Лазо.
30 января 1920 года партячейка при Центросоюзе получила от военного отдела обкома РКП (б), через Николая Руденко, указание быть в мобилизационной готовности и к назначенному времени послать товарищей по указанным адресам.
Самого Н. Руденко мы не видели. Но по той таинственности, с какой председатель партячейки Лагутин предупредил нас подготовиться к выполнению нового задания, мы почувствовали его важность. О существе самого поручения мы еще не имели никакого представления.
— Наверное, ночью начнется восстание, — тихо сказал Некрасов.
— Вполне возможно, — ответил я, вспоминая свой последний разговор с Владимиром Петровичем Шишкиным о сроке восстания.
Было уже темно, слегка моросило, когда мы с Алексеем Некрасовым отправились на Первую Речку. Названия улицы я теперь не помню, но деревянный домик № 29 находился недалеко от мукомольной мельницы. Как потом я узнал, это была квартира братьев Лукьянчук. Оба брата были коммунистами и работали грузчиками на товарном дворе.
Пришли мы вовремя. Встретил нас Адольф Крастин и, принимая наши путевки, спросил:
— Ваши партийные имена?
— Михайлов и Некрасов, — ответили мы.
А.Крастин, молодой и энергичный, с густыми черными волосами и небольшими усами, с чистым лицом. Держался он строго и деловито. Как потом я узнал, А. Крастин всегда, в большом и малом, был таким. Говорил он с заметным акцентом, выдающим его латышское происхождение. Инструктируя и давая нам маршруты, А. Крастин в напутствие говорил:
— Ходите без шума и осторожно. Встречным старайтесь не показываться, но все наблюдайте и замечайте. Ваше дело — разведка!
Вот так, неожиданно, мы оказались в самом штабе восстания. Здесь же был начальник объединенного оперативного штаба военно-революционных организаций С.Г. Лазо, а Адольф Крастин был начальником разведки штаба.
Квартира Лукьянчука состояла из двух комнат с низкими потолками, в которых слабо горело по одной электрической лампочке. Комната, куда мы вошли, служила приемной, а в другой, изолированной, находился С.Г. Лазо. Когда он вышел к нам, А. Крастин представил:
— Наши разведчики Михайлов и Некрасов.
Лазо запросто, как со старыми знакомыми, поздоровался, крепко пожав нам руки. Так, в ночь восстания я впервые увидел Сергея Георгиевича Лазо.
Есть песни, мотив и слова которых запоминаются сразу. Так и Лазо: вся внешность его, манера обращения и голос остались в моей памяти на всю жизнь. Был он выше среднего роста, крепкого сложения, с темной бородкой и живыми карими глазами. В эту ночь весь он был как-то по-особенному собран и сосредоточен, и в то же время по-человечески мягок и прост в обращении. По его живым глазам угадывалось, что этот человек любил пошутить. Но за всю ночь я не заметил на его лице улыбки. Что скрывать, все мы чувствовали тревогу этой ночи.
К Лазо приходил Всеволод Сибирцев и представители чехословацких воинских частей, участвовавших в революционном восстании. Приходили Абрамов и Сакович, державшие связь с представителями воинских частей гарнизона города, и сообщили о том, какие части на своих собраниях вынесли решения о переходе на сторону восстания.
— Так, так! Хорошо! — слышался за тонкой дверью громкий, слегка картавящий приятный голос С.Г. Лазо, — что говорят по поводу восстания в частях, как настроение самих солдат?
— Настроение во всех частях, с которыми мы связаны, очень бодрое. Я бы сказал даже, что во многих частях настроение солдат какое-то торжественное. Они готовы и ждут только сигнала к выступлению, — многословно отвечал Абрамов.
Приходили Николай Руденко и Володя Шишкин.
— Как идет подготовка рабочих дружин, сбор и вооружение их? — спрашивал Лазо.
— Дружины с вечера готовы, — отвечал Н. Руденко, — и вооружены.
— А как ледокол, не ломает лед?
— На ледоколе свои люди, — говорил В.П. Шишкин, — там авария, и ледокол прикован к причалу.
— Это хорошо, — сказал Лазо, — важно сохранить связь с Русским островом.
Из этих немногословных реплик С.Г. Лазо мы понимали, что час восстания приближается.
С Некрасовым мы не раз ходили в разведку. Город был удивительно спокоен в эту темную, безветренную ночь. Лишь изредка встретится запоздалый прохожий да промчится грузовик, выполняя задание штаба восстания. А между тем в эту ночь тысячи людей готовились к большому событию. Всю ночь бодрствовал штаб Лазо, бодрствовали солдаты в воинских частях гарнизона, рабочие дружины, члены военного отдела обкома РКП (б) и рядовые коммунисты.
Не спали и в штабе генерала Розанова. Еще с вечера он грузил награбленное имущество на японский пароход «Хозан-Мару».
Бодрствовали и интервенты. Их многочисленные отряды, вооруженные до зубов, стояли у своих штабов и консульств. Особенно оживленно и демонстративно вели себя японские интервенты. У штаба командования на Корейской улице стоял их большой отряд с пулеметами. Наблюдая за ними, мы с тревогой думали: «Выступят или не выступят?»
Но интервенты не выступили. Около четырех часов ночи из-за перегородки, где был Лазо, стали поступать короткие распоряжения:
— К 6.00 занимайте телеграф, почту и телефонную станцию.
Другим:
— Занимайте морской штаб, штаб крепости, артиллерийское управление, вокзал!
— Всячески избегайте инцидентов с интервентами! Это очень важно, — повторял Лазо неоднократно и каждому.
И еще:
— Избегайте применять оружие. Если это неизбежно, то действуйте энергично и быстро! Но это только в крайнем случае.
До самого утра С.Г. Лазо оставался в штабе. Под утро в город стали вливаться восставшие воинские части гарнизона. Вышли вооруженные рабочие и партизанский конный отряд. Город и правительственные учреждения заняли спокойно и быстро, без всяких жертв: ни одна воинская часть гарнизона не поддержала Розанова!
Ночь, начавшаяся для меня так романтично и таинственно, подходила к концу. Я жаждал больших дел и смелых подвигов. Но ничего этого не произошло. К штабу подошла легковая машина. Сергей Лазо и другие уехали. Оставили и мы гостеприимную квартиру братьев Лукьянчук. Казалось, свершилось чудо: Владивосток, этот большой и красивый порт Дальнего Востока, с населением более ста тысяч человек и переполненный солдатами интервентов, которых тоже было не менее ста тысяч, очень легко, бескровно сбросил с себя режим белогвардейского террора, и руководящей политической силой в городе и крае стала большевистская партия!
Чуда, конечно, никакого не было. Правда, коммунистов тогда насчитывалось во всем Приморье не более четырехсот человек, но за их спиной стояли тысячи сочувствующих им.
Здесь с поразительной убедительностью подтвердились неоднократные высказывания В.И. Ленина о том, что если в стране сложилась революционная ситуация, то есть когда «верхи» не могут больше управлять, а «низы» не хотят больше жить по-старому, тогда небольшая по численности партия, пользующаяся поддержкой рабочих и крестьян, способна возглавить революцию, повести за собой народ.
А город между тем быстро преобразился. Улицы наполнились народом. Народно-революционные войска с развернутыми знаменами, во главе со своими командирами и с оркестрами направлялись на вокзальную площадь. Сюда же шли колонны рабочих и служащих со своими красными знаменами. Здесь, на митинге, встреченные восторженными аплодисментами, выступили Сергей Лазо, Григорий Раев и другие. Народ ликовал. В это утро освободили из тюрьмы и других мест заключения политических заключенных, среди которых был один из организаторов Советской власти в Приморье, старый большевик Петр Михайлович Никифоров.
О нем я много слышал от грузчиков, матросов, железнодорожников. В день его освобождения из тюрьмы я познакомился с П.М. Никифоровым вот при каких обстоятельствах.
Митинг на вокзальной площади только что закончился, и многие коммунисты-активисты, в том числе и я, пошли в одну из крепостных казарм, находящихся на Портовой улице, недалеко от вокзала. Здесь Адольф Крастин раздавал коммунистам бельгийские браунинги. Вокруг него столпилась группа товарищей. Я обратил внимание на одного человека. Выше среднего роста, в поношенном, дешевом пальто и в кепи, худощавый, со смуглым монгольского типа лицом, черными волосами и темными глазами. Он ничем не выделялся среди остальных. Однако многие почтительно и радостно здоровались с ним, называя Петром Михайловичем. «Вот он какой!» — подумал я, подошел и запросто поздоровался с ним.
С тех пор я довольно часто встречался с П.М. Никифоровым.
Самые тяжелые годы борьбы рабочих и крестьян Дальнего Востока с интервенцией и белогвардейщиной теснейшим образом связаны с именем П.М. Никифорова.
Выходец из трудовой семьи, он родился в селе Оек Иркутской области в 1882 году. П.М. Никифоров прошел тяжелую школу жизни, славный, героический путь профессионала-революционера в условиях царского жандармского произвола, испытал всевозможные лишения.
Активный участник революции 1905—1906 годов в Петербурге, за революционную работу в последующие годы он неоднократно арестовывался, просидел ряд лет в симферопольской, феодосийской и керченской тюрьмах. Имел неоднократные побеги из тюрем. В 1910 году арестован и приговорен к смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой. На каторге Петр Михайлович пробыл до Февральской революции.
Во Владивосток П.М. Никифоров прибыл в 1917 году и был введен в состав членов бюро городского комитета РСДРП (б). В эту пору по решению партийного комитета он организовал большевистскую газету «Красное знамя» и был ее редактором.
Петр Михайлович участник первой и второй краевых конференций большевиков; он был избран в краевой комитет, где занимал руководящее положение.
В Приморье П.М. Никифоров принимал активное участие в проведении Октябрьской революции и установлении власти Советов.
Теперь П.М. Никифоров был на свободе, снова окунулся в созидательную работу.
Правительство Приморской земской управы
Итак, казавшееся невероятным — свершилось: город, переполненный войсками интервентов более чем десяти государств, оказался во власти партизан, рабочих дружин.
Войска интервентов, вооруженные по-походному, наблюдали за развитием дальнейших событий, но не вмешивались.
Рано утром 31 января 1920 г. новое правительство объявило о принятии всей полноты власти и наименовало себя Временным правительством земской управы.
Одновременно правительство опубликовало декларацию о ближайших своих задачах: 1) освобождение политзаключенных; 2) ликвидация остатков колчаковской власти; 3) восстановление политических и гражданских свобод; 4) установление общественного контроля над торговлей и промышленностью; 5) организация снабжения и товарообмена; 6) нормирование зарплаты, установление тарифных комиссий с участием рабочих; 7) восстановление земельных комитетов; 8) принятие мер к прекращению интервенции.
Опубликованная программа была подчеркнуто умеренной. В ней не было даже намека на советизацию края, однако японских интервентов эта декларация не удовлетворила. Не устраивало их и само правительство земской управы, пусть даже возглавляемое правым эсером Медведевым. Они зловеще молчали.
Молчали и американские интервенты.
Упоенные первыми успехами, многие забыли о главных врагах революции — интервентах, о том, что с захватом власти революционный пролетариат еще не стал сильнее своих врагов. А он, этот враг, вооруженный до зубов, буквально стоял у каждого за спиной.
Уточняем: учитывая нарастающую революционную ситуацию и имея в виду значительные военные силы интервентов, которые не допустили бы советизации области, еще в начале января 1920 года Приморская партийная конференция приняла решение: партия, оставаясь верной принципам организации Советской власти, считает, что при создавшихся в крае международных условиях невозможно немедленное восстановление власти Советов рабочих и крестьянских депутатов, поэтому она высказывается за поддержку областной земской управы при условии проведения ею политики скорейшей ликвидации интервенций на Дальнем Востоке и осуществления объединения с Советской Россией...
Все военные силы должны находиться под влиянием исключительно Коммунистической партии.
Многие не понимали этого.
Это непонимание происходящих политических событий выявилось и на митинге в Народном доме в тот же вечер 31 января. На нем с обширным докладом выступил П.М. Никифоров. Простыми словами он рассказал о Советской России, об успехах Красной Армии, дал оценку положения на Дальнем Востоке, объяснил причину образования Временного правительства земской управы. Зал был переполнен. Народ слушал П.М. Никифорова с большим вниманием. Указав в заключение, что партия коммунистов будет всемерно поддерживать правительство земской управы, Никифоров закончил доклад словами:
— Коммунисты в правительстве участвовать не будут. Но в экономических органах и в руководстве военным делом мы примем самое активное участие.
Народ ожидал не этого и расходился с митинга с раздвоенными чувствами: он, конечно, был рад, что свергнут ненавистный колчаковский режим, но огорчен тем, что не будет Советской власти. Выходили из Народного дома группами, продолжая дискуссии на улице.
Чего греха таить, и я испытывал чувство неудовлетворенности.
— Скверно то, — говорил я, — что в правительстве сидят представители тех же партий, которые в 1918 году предали рабочих и крестьян.
— Вот именно, — подтвердил мои слова один из спутников, — веры к ним нет!
Так думали многие, расходясь с этого первого легального митинга, продолжая лелеять заветную мечту о Советской власти.
В это время я продолжал работать таможенным экспедитором в Центросоюзе, а по совместительству в Закупсбыте и Московском Народном банке. Поэтому мой рабочий день был уплотнен до предела. Приходилось и вечерами много работать в профсоюзной организации.
После 31 января, когда открылась легальная возможность деятельности, широко развернулась партийно-общественная работа. Большой коллектив Центросоюза работал воодушевленно, с большой охотой. Выросла группа сочувствующих. Сюда, кроме ранее бывших в группе Горсткина, Писковитина и Рябова, вошли Некрасов, Часовитин, Третьяков, Копылов, Першаков и другие. Наша партячейка стала весьма заметной силой в политической жизни коллектива работников Центросоюза. Секретарем был вновь избран Лагутин.
В легальной обстановке шла большая общественно-массовая работа во всех других учреждениях и организациях города. В группы сочувствующих большевикам и в профсоюзы вливались лучшие кадровые рабочие и трудовая интеллигенция. Все это очень радовало.
Город внешне изменился. Не стало видно военных с золотыми погонами: их как ветром сдуло. Заметно увеличилось число людей, одетых в новые военные формы лимитрофных республик (Польши, Латвии и других). Меньше стало фланирующих щеголей — постоянных завсегдатаев кафе и ресторанов: многие из них предпочли харбинские и шанхайские улицы. Двери магазинов и лавок были, как и прежде, гостеприимно открыты.
Чиновничья прослойка готова была всячески саботировать любые мероприятия новой власти. Это особенно чувствовалось в среде таможенников, где я часто бывал по делам службы. Они еще на что-то надеялись. Представителей промышленности, мелкой и крупной торговли, за исключением немногочисленных, вполне устраивали буржуазно-демократические порядки. Эта основная часть буржуазии только одного хотела — чтобы новая власть осталась «розовой».
От чопорности города не осталось и следа. Он стал народным. Улицы наполнились солдатами и партизанами в стеганых брюках, фуфайках или полушубках, подпоясанных солдатскими ремнями.
Материальное положение трудящихся не изменилось. Оно было, как и прежде, тяжелое, но народ сразу почувствовал моральное удовлетворение.
На первичных собраниях коммунистов вопрос о переходе власти к Советам не ставился. Хотя рабочим и многим коммунистам не нравилось то, что во главе правительства эсер, но они мирились с этим, вполне доверяясь руководству партии. Более непримиримыми в вопросе о власти были большинство партизан и некоторые товарищи из партийного актива.
Вопрос о форме власти, как уже известно, возник сразу же после гайдовского выступления, когда стало ясно, что белогвардейский режим, даже под защитой интервентов, приходит к своему неизбежному концу, разваливается. Но, учитывая наличие в Приморье неблагоприятной обстановки, присутствие войск интервентов, январская партийная конференция решила временно передать власть Приморской земской управе.
Обстановка не изменилась. И японцы, и американцы, эти два сильных хищника империализма, одинаково питавшие звериную ненависть к Советской власти и большевикам, выжидали и упорно молчали...
О Советской власти в Приморье и на Дальнем Востоке не могло быть речи. Поэтому на первых порах надо было укреплять власть правительства земской управы и осуществлять формулу, высказанную Никифоровым на митинге — не участвовать в правительстве, но осуществлять руководство в экономике, военном и административном аппаратах. А, между тем, в сравнении с масштабом работы, которую надо было проводить, самих-то большевиков было очень мало. И, тем не менее, эта численно небольшая организация коммунистов в политической жизни Приморья играла важную роль. С ней считались все остальные социалистические и буржуазные партии.
Не хотели, но вынуждены были считаться с большевиками, как реальной политической силой, и интервенты, ибо за спиной этого немногочисленного авангарда большевиков стояли десятки тысяч революционных рабочих и целая армия партизан.
И вот, в период установления новой власти, на этот арифметически немногочисленный отряд большевиков легла большая организационная работа: руководить экономикой и военными делами. Это требовало от большевиков большого такта, энергии и сил. На свет появилось вызванное обстановкой оригинальное сочетание законодательной и административной власти, многим непонятное до сих пор.
Вот эта схема:
1. Правительство Приморской земской управы возглавлял эсер Медведев. Он же ведал иностранными делами.
2. Командующим войсками назначен эсер Краковецкий.
3. Военно-революционный штаб был реорганизован в Военный совет, председателем которого являлся глава правительства Медведев.
Такова фасадная сторона, а вот фактическая:
1. С.Г. Лазо -- заместитель председателя Военного совета, коммунист. Он полностью осуществлял руководство Военным советом и делами армии,
При Военном совете создан особый отдел, которым руководил К.Ф. Пшеницын, коммунист.
2. Создано политическое управление армии, им руководил Б. Мельников, коммунист.
3. Исполнительные органы правительства — управляющие ведомствами. Их работу и деятельность координировал Экономический совет, а председатель совета П.М. Никифоров — коммунист.
Весь состав милиции был пересмотрен и дополнен коммунистами и преданными рабочими.
Надо добавить, что правительство Медведева согласовывало свои действия с обкомом РКП (б).
Так фактически осуществлялось руководство партии большевиков экономической, административной и военной деятельностью правительства, возглавляемого эсерами.
В городе установился революционный порядок, прекратились грабежи и убийства. Многие из нас не представляли, какая большая работа была проделана обкомом партии за сравнительно короткий срок. Обо всем этом мы узнали, когда 5 февраля состоялось собрание всех коммунистов Владивостокской организации. Это было первое легальное партийное собрание, где присутствовало около 300 человек. Коммунисты определили время созыва краевой партийной организации, рассмотрели вопросы агитационной и пропагандистской работы и партии и в профсоюзах. Собрание избрало Владивостокский городской комитет партии в составе И. Кушнарева, П. Никифорова, П. Уткина, С. Лазо, М. Губельмана, Черемных и Заливиной.
Было постановлено возобновить выпуск газеты «Красное знамя». Редактором газеты был избран В.Г. Антонов.
В январе партийная организация командировала председателя обкома партии И.Г. Кушнарева в ЦК партии и Совнарком с докладом о положении дел на Дальнем Востоке, в котором просила дать указания.
«Мы не знаем, — говорилось в докладе, — считаете ли вы занятие Дальнего Востока своей ближайшей задачей или, имея в виду более важные задачи в Европейской России, не будете спешить» («История гражданской войны в СССР», т. 5, глава 9, стр. 329).
В.И. Повелихин, один из активистов большевистской подпольной организации
За это короткое время Военным советом была проведена также большая работа по переформированию армии, укреплению ее политического руководства. Во многих полках и батальонах колчаковских войск были организованы еще в период гайдовского восстания подпольные солдатские и матросские комитеты. Теперь солдатские и матросские комитеты были во всех воинских частях. Были так же назначены политические уполномоченные при управлениях. Так, при артиллерийском управлении политическим уполномоченным был назначен В. Повелихин, при крепостном — Н. Руденко.
В.И. Повелихин, один из активистов большевистской подпольной организации
Приморская область первая на Дальнем Востоке освободилась от белогвардейского засилья. Оставались под властью белых Забайкальская и Амурская области и Приамурье. Но и там было неспокойно: по всей территории областей шумела партизанская народная война. Вскоре было получено сообщение о том, что амурские партизаны после сильных боев 4 февраля окружили и заняли город Благовещенск. Атаман Кузнецов, заменивший Гамова, вынужден был бежать в Китай.
Очередь оставалась за Хабаровском. Обком партии решил направить для ликвидации калмыковского бандитского гнезда в Хабаровске военную экспедицию под командованием Булгакова-Бельского.
Многочисленные партизанские отряды, освободив всю территорию области, стали на подступах к Хабаровску. Атаман Калмыков понимал, что после отказа японцев в поддержке, силы его тают, приближается час народного возмездия за все преступления. Зверь остается верен своей натуре: в последний час — 13 февраля он расстреливает 40 казаков, не пожелавших уходить с ним, и 7 коммунистов, находившихся в «вагоне смерти», и бежит на китайскую территорию. С ним ушли 1200 человек его отряда, при этом они забрали 36 пудов золота. Вскоре бандит Калмыков бесславно погиб на китайской территории.
После ухода калмыковцев в город стали просачиваться партизанские отряды. 14 февраля 1920 года подоспели к городу и войска приморского правительства. Им было дано указание занять город, не вызывая столкновения с японцами, которые в то время еще находились в Хабаровске.
15 февраля с командованием японских войск и представителями хабаровского земства было достигнуто соглашение о порядке занятия города войсками приморского правительства. В три часа дня, приветствуемые подавляющим большинством населения города, они заняли Хабаровск.
В марте во Владивосток приехал представитель Сибревкома В.Д. Виленский. Он привез от ЦК РКП (б) и от В.И. Ленина ясную и четкую директиву, в которой указывалось, что из областей Забайкальской, Амурской, Приморской, Сахалина, Камчатки и полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги следует создать буферную, демократическую Дальневосточную республику.
В.И. Ленин подчеркивал:
«... Вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее, потому что она по понятным условиям сейчас непосильна»4.
Вот такова была та генеральная линия для коммунистов Дальнего Востока, которую они должны были проводить по указанию ЦК партии.
Еще 27 февраля во Владивостоке была получена телеграмма Сибирского ревкома, сообщавшего, что Советская власть признала Приморскую земскую управу в качестве политической власти в Приморье.
Этой телеграммой как бы подчеркивалось, что восстановление Советской власти в Приморье в условиях интервенции является несвоевременным.
Но создавшееся положение в Приморье особо занимало японцев. Правительство Приморской земской управы вначале несколько обескуражило их. Их поражало, как это большевики отказались от власти? Они даже временно воздерживались от активного вмешательства в политическую жизнь и молчали, избегая сношения с правительством Медведева. Японцы чего-то ждали, возможно партийных склок, борьбы за власть. А тут ничего подобного не было. Аппарат нового правительства работал исправно. Японцев это явно не устраивало. Они нервничали, стали проявлять подозрительную деятельность и усиленно искать способа изменить положение в свою пользу. Это видно было хотя бы из того, что японцы всячески поощряли столкновения своих солдат с солдатами Приморского правительства и тем искусственно создавали напряженную обстановку. Когда наше командование указывало японцам на эти ненормальные отношения, они нагло заявляли: «Когда две армии близки друг к другу, недоразумения и даже столкновения возможны».
Памятуя указания В.И. Ленина всячески избегать конфликтов с Японией, членам Военного совета приходилось быть сугубо осторожными, стараться всякий раз сглаживать недоразумения. Японцы продолжали обострять взаимоотношения, выдвигая все новые и новые вопросы, требуя их немедленного разрешения.
Такова была обстановка, когда 16 марта 1920 года в Никольске-Уссурийском состоялась Дальневосточная краевая партийная конференция.
О ходе конференции и об итогах ее работы мы получили информацию на собрании ячейки. В конференции участвовали делегаты Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, Имана, Спасска, Никольска-Уссурийского, Петропавловска, Сучана и других крупных населенных пунктов края. Основным на конференции был вопрос о форме власти на Дальнем Востоке.
Из выступлений делегатов с мест и из доклада Далькрайкома партии выявилась своеобразная политическая карта Дальнего Востока того периода: частично в Амурской и во многих уездах Приморской области (кроме городов) была Советская власть. Советской власти требовали трудящиеся городов и деревень. Исходя из этого, большинство коммунистов настаивали на введении Советской власти. Они недопонимали политической обстановки, не учитывали наличия интервентов и полагали, что теперь можно повсеместно передать власть в руки Советов.
Никифоров, Власова, Кушнарев и другие, убеждая делегатов, указывали, что Япония, имея в Приморье и на Амуре 120 тысяч штыков, не допустит установления Советской власти в крае и что принятие конференцией решения о советизации края направит всю партийную работу коммунистов по ложному пути, что противоречило бы директиве ЦК партии и В.И. Ленина о создании демократического буфера.
На конференции выступил В.Д. Виленский с информацией о положении в стране. Он заявил:
— По мнению ЦК партии, на Дальнем Востоке должен быть создан буфер.
Однако конференция прошла под лозунгом: «Никакой другой власти, кроме Советов». И, несмотря на то, что правительство Приморской земской управы было признано ЦИК РСФСР, в резолюции конференции о форме власти говорилось, что крайком партии «должен спешить с завершением организации Советов и передачей им власти».
Конференция избрала Дальневосточный краевой комитет РКП (б) в составе П. М Никифорова (председатель), И.Г. Кушнарева, С.Г. Лазо, В.М. Сибирцева, М.И. Губельмана, Дубельштейна, Холодова и Яковлева.
Было также решено 1 апреля созвать краевой съезд трудящихся, где и решить окончательно вопрос о власти.
Газета «Красное знамя» от 21 марта 1920 года, освещая работу партконференции, писала, что «все усилия должны быть направлены на прекращение интервенции и что тактика большевистских организаций на Дальнем Востоке должна соответствовать тактике ЦК партии. Все парторганизации Дальнего Востока должны направить свои усилия на предотвращение военных конфликтов с интервентами. Наша позиция оборонительная, и первыми мы не выступаем. Но если Япония не захочет разрешить вопросы мирным путем и выступит первой, то население всего Дальнего Востока поднимется с оружием в руках на защиту своих исторических и законных прав».
28 марта из командировки в Москву вернулся И.Г. Кушнарев. Он также привез директиву ЦК партии и В.И. Ленина: строить Дальневосточную демократическую республику и избегать конфликта с Японией.
Буфер был необходим в связи со сложностью международных отношений как тактический маневр Советского правительства с целью и в надежде лишить Японию и других интервентов повода для продолжения оккупации Дальнего Востока.
И.Г. Кушнарев привез также постановление ЦК партии о создании во Владивостоке Дальбюро ЦК РКП (б) в составе П.М. Никифорова (председатель), И.Г. Кушнарева и С.Г. Лазо. В Верхнеудинске Дальбюро ЦК РКП (б) было создано раньше. Оба Дальбюро были самостоятельны. Дальбюро ЦК РКП (б) являлось высоким органом партии на Дальнем Востоке, на котором лежала ответственность за проведение в жизнь директив ЦК партии.
Казалось бы, теперь не осталось оснований для двояких мнений в вопросе о власти на Дальнем Востоке. Однако ярые приверженцы немедленной советизации края провели свою резолюцию на конференции.
Далькрайком партии на своем заседании от 31 марта вынужден был отменить постановление конференции, как противоречащее директиве ЦК партии.
Оказывается, как я узнал позже, сторонники немедленной советизации края не сложили оружия и после этого. Они не хотели считаться ни с директивой ЦК партии и указаниями В.И. Ленина, ни с обстановкой, которая начала складываться за последнее время во Владивостоке. Наша военная разведка сообщала, что поведение японцев все подозрительнее и что они явно готовятся к каким-то активным действиям: обнесли колючей проволокой Тигровую сопку, на чердаке аптеки Боргеста установили два пулемета, установили пулемет и на углу Алеутской и Фонтанной улиц.
И вот в этой обстановке 3 апреля 1920 года открылся Владивостокский городской Совет. Но что особенно поражало тогда узкий круг коммунистов, знакомых со всей подоплекой созыва Совета, это то, что выборы в Совет были проведены вопреки решению Далькрайкома партии от 31 марта и без санкции Дальбюро ЦК. О том, что во Владивостоке прошли выборы в Совет, члены Дальбюро ЦК партии узнали только в день открытия съезда, 3 апреля. И тогда было решено, что Кушнарев остается на съезде, а Никифоров и Лазо немедленно выезжают во Владивосток и отменят открытие Совета. С утра поездов не было. Никифоров и Лазо выехали на паровозе и прибыли во Владивосток поздно, когда Совет уже собрался.
Заседание Владивостокского городского Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов, первое и оно же последнее, состоялось в 6 часов вечера в Народном доме. Зал был переполнен. Оживленные и радостные депутаты и гости крепкими объятиями встречали своих друзей, товарищей по борьбе, горячо приветствуя друг друга. Когда за столом президиума появились товарищи Лазо, Губельман, Власова и другие, зал разразился громом рукоплесканий. Это была овация в честь Коммунистической партии. На коммунистической фракции городского Совета, в соответствии с директивой ЦК РКП (б) и решением крайкома партии от 31 марта, было решено о советизации края не объявлять.
Я сидел в третьем ряду и, полный радостных переживаний, ловил каждое слово ораторов.
Пока проходили партконференция и съезд трудящихся, японцы продолжали выдвигать все новые «неразрешенные вопросы». Для решения этих «неразрешенных вопросов» была создана русско-японская согласительная комиссия. С нашей стороны в эту комиссию были назначены Цейтлин, Луцкий5, Парфенов, Попов6 и Саваровский7 и с японской — генерал Такаянаги, полковник Исоме, майор Хасибо, капитан Сиваба и профессор Хигучи.
Комиссия приступила к работе 1 апреля. Японские члены комиссии были настроены очень агрессивно, чувствовали себя господами положения и пытались диктовать нам свои условия. Наши представители, придерживаясь известного такта, давали японцам достойный отпор. Это выводило японцев из равновесия, и они заявляли: «Мы здесь сила, а не вы!» Продолжая не уступать в принципиальных вопросах, наши представители требовали эвакуации японских войск...
В ходе переговоров японцы подготовили договор с весьма тяжелыми условиями. На экстренном своем заседании обком партии заслушал доклад председателя нашей делегации в комиссии Цейтлина и пришел к заключению: отвергать японские условия — значит дать повод японцам для открытого конфликта, чего за последнее время японцы усиленно добиваются. Отсюда: не помогать японцам, не идти навстречу их поискам конфликтов, а, памятуя указания ЦК партии и В.И. Ленина, не обострять отношений с японцами, не вызывать больших конфликтов. Обком партии принимает единственно правильное решение: принять японские условия и подписать договор. На этом основании на заседании согласительной комиссии 4 апреля наша сторона изъявила свое согласие принять японские условия договора. Профессору Хигучи и П.С. Парфенову поручили к 5 апреля подготовить окончательный текст соглашения. Пятого же комиссия должна была собраться на «чашку чая».
«Чашка чая» не состоялась
«Чашка чая» не состоялась. 4 апреля вечером, как только комиссия разошлась после заседания, японцы предъявили правительству ультимативное требование разоружить русские войска и отвести их от линии железной дороги.
В этот вечер я рано лег спать. Разбудил. меня стук в дверь. Прислуга торговца из соседней квартиры полушепотом говорила:
— Откройте! Мне надо сказать вам очень важное.
В это время с улицы, со стороны вокзала, послышалась частая пулеметная стрельба.
Я наскоро оделся и открыл дверь. Женщина быстро вошла и, закрыв за собой дверь, сказала:
— Выступили белые. Хозяин считает вас большевиком и собирается выдать.
Я стал было ее расспрашивать о подробностях, но она ничего не знала и только твердила:
— Скорей уходите! Вещи я сохраню.
Я жил в доме № 8 на 1-й Морской улице недавно и почти никого из соседей не знал. Очевидно, прислуга торговца сочувствовала большевикам и, услышав, что меня подозревает хозяин, решила помочь.
Через минуту я покинул дом, свернул на Посьетскую улицу и направился в Центросоюз. Стрельба нарастала. Казалось, город был в осаде. В Центросоюзе я застал товарищей Першакова и Копылова, которые успели выяснить, что выступили японцы. Телефоны не работали. Мы здесь и остались на всю ночь, не сомкнув глаз. Японцы в Центросоюз не заходили. Рано утром мы с Першаковым вышли на улицу. Кругом было тихо, как после грозы. Патрулировали вооруженные японские солдаты, четко отпечатывая шаг по мостовой. Мы дошли до Алеутской улицы, дальше не осмелились и вернулись обратно. В 9 часов никто из сотрудников на работу не явился. Только к 11—12 часам пришли управляющий Я. Дедусенко, секретарь С. Суховий и кое-кто из сотрудников. Все они мало что знали о событиях ночи.
А ночь была трагедийной. Многие не пережили ее, многие в ту ночь оставили город. Точные и подробные данные о всех событиях мы едва ли узнаем когда-нибудь; мы не узнаем также и число жертв в эту ночь. Только по рассказам очевидцев можно составить себе общее представление. Эти рассказы напоминают ужасы Варфоломеевской ночи. Но для уточнения всех обстоятельств возвратимся к событиям последних дней.
1 апреля снялся с якоря и вышел из бухты Золотой Рог корабль с американскими солдатами и полицией. С ними покинул Владивосток и командующий экспедиционными войсками США генерал Грэвс. Американцы хотя и покинули Владивосток, но не хотели от него оторваться совсем. Кроме генерального консульства они оставили на Русском острове для постоянной связи военных радистов и вооруженный отряд.
За американцами, а именно после полудня 4 апреля, ушли из Владивостока два французских корабля с чехословацкими войсками. Уехали и чехословацкие генералы Сыровой и Чечек.
Немногочисленные воинские части остальных интервентов: англичан, канадцев, итальянцев, китайцев, поляков и других эвакуировались несколько раньше. На Советской земле, таким образом, осталась сильная армия одних японских интервентов.
И вот, 4 апреля, как только разошлись члены русско-японской согласительной комиссии, условившись собраться для подписания согласованного договора утром 5 апреля, когда за горизонтом еще не успели скрыться иностранные корабли, командующий японскими экспедиционными войсками, генерал Оой, предъявил правительству земской управы ультиматум, принятие которого поставило бы последнее в полную зависимость от Японии.
Одновременно японцы усилили патрули по всему городу и на окраинах. Они установили военный контроль на вокзалах и пароходных пристанях, задерживали отправку поездов. Таким образом ими были задержаны несколько вагонов с военными грузами и восемнадцать вагонов серебра, приготовленных Владивостокским отделением Госбанка к отправке в Благовещенск. Перевозка серебра из подвалов банка и погрузка в вагоны производилась в глубокой тайне.
Японцы выступили в десять часов вечера одновременно по всему городу. Первые удары были направлены на воинские части, на казармы и учреждения, где находились отдельные воинские подразделения. Нападение японцев было строго по плану, разработанному заранее. Между часом и тремя часами ночи они заняли вокзал, телеграф, радиостанцию, казармы, здание земской управы, штаба войск, крепостное и артиллерийское управления, тюрьму и другие учреждения и всюду вывесили японские флаги.
Японские солдаты нападали на часовых с необъяснимой звериной злобой: убивали на месте или избивали и уводили неизвестно куда, после чего многие из них бесследно исчезали.
Между партизанами и японцами в разных местах и в разных концах города бой шел всю ночь. Отдельные воинские части, захваченные врасплох, не имея возможности сопротивляться, вынуждены были сдаваться японцам. Японцы обезоруживали их, при этом обращались зверски: жестоко избивали прикладами, некоторых расстреливали. Хотя японцы всюду выступили внезапно, многие наши воинские части оказали им упорное сопротивление: геройски сражались, наносили чувствительные удары, но под давлением превосходящих сил противника с большими потерями отступали за город и уходили в сопки.
Японцы чудовищно зверствовали. Без всякого повода они арестовывали и избивали мирных жителей, вторгались в частные дома, производили обыски, грабили.
В Хабаровске японцы выступили 5 апреля утром, открыв по городу артиллерийскую, пулеметную и ружейную стрельбу. Стреляли не разбирая — по школам, по лачугам, по больницам. Стреляли по всем, кто носил военную одежду, или даже если человек был в шинели. Оказывая возможное сопротивление, под давлением превосходящих сил противника наши воинские части и партизаны уходили из городов, оставляли станции железных дорог.
Во всех городах, в том числе и во Владивостоке, японцы заняли участки милиции, обезоружив милиционеров, охрану городов взяли на себя. На главных улицах стояли их вооруженные пулеметами заставы, а по улицам патрулировали солдаты.
В момент японского выступления члены Военного совета С. Лазо, А. Луцкий и В. Сибирцев находились в гостинице «Золотой Рог». Поздней ночью они узнали, что японские войска занимают правительственные здания, вокзал и телеграф. С. Лазо, В. Сибирцев, А. Луцкий и те, кто был с ними, направились в следственную комиссию, которая находилась в доме № 3 по Полтавской улице. Отсюда С. Лазо успел дать по телефону некоторым частям войск указания, как поступать, если японцы начнут наступление.
Около двух часов ночи дом следственной комиссии окружила цепь японских солдат. С. Лазо дал указание караулу не оказывать сопротивления японцам и вывесить белый флаг. Тогда в здание вошли два японских офицера с солдатами и потребовали сдать оружие. Члены Военного совета и караул выполнили это требование.
На другой день на допросе С. Лазо назвал себя прапорщиком Козленко. А. Луцкий и В. Сибирцев сказали свои настоящие фамилии. После допроса всех штатских японцы выпустили, а военных задержали.
7 апреля С. Лазо удалось отправить в Ревштаб записку, в которой он сообщил, что назвался прапорщиком 35 полка Козленко и надеялся, что его освободят.
Но это были напрасные надежды. Рано утром 9 апреля, когда все остальные арестованные спали, трех членов Военного совета С. Лазо, А. Луцкого и В. Сибирцева увели. С тех пор они бесследно исчезли.
На запросы Приморского правительства, владивостокской общественности и печати: «Где Лазо, Луцкий и Сибирцев?» — японцы неизменно отвечали: «Японскому командованию ничего неизвестно!»
Страшная тайна о гибели трех замечательных, мужественных коммунистов была раскрыта только после освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов.
С.Лазо, А. Луцкий и В. Сибирцев были увезены японцами на станцию Муравьев-Амурский (ныне станция Лазо) и переданы в руки бандитов-офицеров Бочкарева и Ширяева, которые сожгли их в паровозной топке...
Так погибли герои-борцы за Советское Приморье Сергей Лазо, Всеволод Сибирцев и Алексей Луцкий.
От рук японцев погибли многие, в том числе начальник партизанского гарнизона в Никольске-Уссурийском Андреев.
Уцелевшие партизанские отряды и воинские части уходили в тайгу и в сопки, а через некоторое время перешли оттуда к активным действиям.
Партизаны били японские заставы, караулы, обозы, отдельные части, где только могли. Старшина консульского корпуса Колдуэлл будто не замечал всего этого. Представители иностранных государств 5 апреля устроили два совещания: консульского корпуса и руководителей военных миссий и атташе. На этих совещаниях протесты правительства земской управы даже не обсудили. Совещания ограничились тем, что японцам было предложено снять японские национальные флаги, вывешенные над правительственными и общественными зданиями.
Казначей ревштаба
Обстановка безвластия, которая создалась после японского выступления, требовала принятия срочных чрезвычайных мер: перевода партийной организации на нелегальное положение, реорганизации воинских частей, укрепления революционных сил.
Н.К. Ильюхов
Вечером 5 апреля в помещении Центросоюза (угол Светланской и Посьетской) собрался небольшой актив большевиков, который обсудил создавшееся положение. Для руководства подпольной деятельностью большевистской партии актив избрал областной Революционный штаб в составе: И.Г. Кушнарева (председатель), М.В. Власовой, М.И. Губельмана, И.Н. Панкратова, Ефима Ковальчука и А. Климова (секретарь). Облревштаб сначала помещался на Пекинской улице, в полуподвальном помещении дома, арендуемого Закупсбытом, почти рядом с японским генеральным консульством. Особый отдел Военного совета был включен под таким же названием в аппарат Ревштаба. Руководил отделом К. Пшеницын. Кроме него в отделе работали В. Шишкин, Н. Ильюхов, Н. Руденко, Р. Шишлянников, Кригер-Войновский, П. Пынько и Л. Бурлаков. Помещался отдел на Посьетской улице и проводил в жизнь важнейшие решения Ревштаба партии.
Военно-технический отдел, состоящий из опытных и энергичных коммунистов-подпольщиков, быстро связался со всеми низовыми партячейками, и вся партийная организация без паники перешла к подпольной деятельности. Отдел проводил агитационно-массовую и партийно-организационную работу и разведку.
Ревштабом был создан также финансово-хозяйственный отдел. 6 апреля около пяти часов вечера я был вызван в Ревштаб. Там я застал И.Г. Кушнарева, М.В. Власову, И.Н. Панкратова, М.И. Губельмана, Е. Ковальчука и К. Пшеницына.
Все они — старые большевики, непререкаемые для меня партийные авторитеты, но знаком я был только с И.Н. Панкратовым и М.И. Губельманом.
— Товарищ Элеш! Мы решили поручить Ковальчуку и тебе, — сказал И.Г. Кушнарев, — ответственное дело. У вас будут большие суммы партийных и государственных денег, а также секретные документы. Ковальчук и Пшеницын знают, где получить деньги и документы.
Доверие оказывает могучее действие. Оно возвышает человека в его собственных глазах, вызывая хорошие чувства и желание сделать все добросовестно и этим оправдать оказанное доверие. Я был весь охвачен этим чувством. К. Пшеницын сказал:
— Пойдемте!
Мы молча вышли. Ночь по-весеннему была темная. Город спал. Шли настороженно, пробираясь к Семеновскому базару, всячески избегая встреч с японскими патрулями и часовыми. Поднялись по Косому переулку и добрались до квартиры А.М. Дмитриева, где я и должен был принять казначейство. Он, оказывается, был предупрежден и ждал нас.
К. Пшеницын и Е. Ковальчук быстро ушли. И вот я остался со своими мешками у А.М. Дмитриева, которого, кстати сказать, знал раньше. Вскоре в комнату втащили железную кровать и устроили мне постель. Однако меня беспокоило содержимое мешков. Я не получил на этот счет никаких указаний. Никаких! Знал только, что в мешках деньги, паспорта и секретные документы. Я не пытался также узнавать, откуда, кем и как были доставлены ценности в мешках. Значительно позже я узнал, что деньги эти были получены из казначейства, по особому распоряжению правительства. К сожалению, все подробности мне неизвестны. Знаю только, что операцию эту провели К. Пшеницын, Р. Шишлянников и П. Никитенко за несколько минут до того, как у казначейства были поставлены японские часовые.
В двух мешках оказались бумажные деньги в крупных купюрах на сумму 18 миллионов рублей, что в переводе по курсу дня составляло 5,4 миллиона золотых. Это была огромная сумма. В получении денег я нигде не расписался. Мне, коммунисту, их просто доверили. В третьем мешке была одна папка с бумагами и сотни паспортов. Закончил я эти уточнения поздно.
М.В. Крепачев (Федя), большевик, подпольщик
После прошлой беспокойной ночи и дневных тревог, я тоже быстро уснул. Наутро пришли ко мне К. Пшеницын и В. Шишкин. Пшеницын информировал меня о назначении денег и порядке их расходования. Я обратился к Пшеницыну.
— Сумму денег в двух мешках я уточнил, — и назвал цифру. Кому дать расписку в получении?
— Это после, — ответил он. И тут же на клочке бумаги написал: «Товарищу Элешу. Выдайте Володе Маленькому два миллиона рублей. Костя». На этой записке Володя оформил расписку лаконической фразой:
«Два миллиона получил.
Володя Маленький».
Но надо здесь же сказать, что с первой же операции со своими миллионами у меня получилось невероятное: я обсчитал Володю Маленького, в присутствии Кости Пшеницына, на миллион рублей (300 тысяч рублей золотом по тогдашнему курсу).
М.В. Крепачев (Федя) большевик, подпольщик
— Надо сказать, — вспоминал позже К. Серов, приводя этот факт, — что отношения между партийцами тогда носили особенно чистый, товарищеский характер; доверие друг к другу было исключительным, всех объединяла не только опасность, висевшая над каждым. Люди доверяли друг другу свои жизни.
Получив миллион, Володя Шишкин уехал в область. Поэтому второй миллион я смог выдать ему только по возвращении из командировки.
Так я стал расходовать миллионы. Ко мне приходили, как теперь вспоминается, Яковлев, Тамара Головина, Мария Сахьянова, Николай Руденко, Владимир Врублевский, Повелихин и другие. Они вручали мне записки за подписью «Костя», а я выдавал им крупные суммы.
Все это казалось мне вначале непривычно примитивным. Конечно, я понимал, что и вся подпольная работа необычна и не все трафаретные нормы и формальности здесь уместны. Но главное — люди. Я имел дело только с коммунистами, о которых в народе, говорили: «Это идейные», подразумевая под этим самые лучшие качества человека. Я имел дело с коммунистами, притом в подпольных условиях. Здесь важно было быстро, без всяких проволочек и формальностей, оперативно разрешать первоочередные задачи. Все эти товарищи, которые приходили ко мне с мандатами Ревштаба за деньгами или за паспортами, направлялись в районы Приморской области. Им надо было спешить. После выступления японцев армия и партизаны остались без материальной базы и продовольствия. Многие были буквально раздеты, требовались срочные меры, чтобы одеть и обуть их, накормить. Организацией и руководством этой сложной работой и занимался военно-технический отдел, возглавляемый К. Пшеницыным. Е. Ковальчук на третий день зашел попрощаться со мной: он был направлен на другую работу.
А.Дмитриев жил у матери и занимал небольшую комнату. Там же в квартире проживала приехавшая из Хабаровска в гости к свекрови жена младшего брата Дмитриева, офицера. Это была молодая и красивая, но пустая, воинственно настроенная против большевиков женщина. Рядом с моей комнатой находилась столовая, где постоянно торчали офицеры разбитой белой армии, быстро надевшие после выступления японцев золотые погоны. Я сидел рядом со своими мешками. За стеной, в столовой, велись разговоры, полные ненависти к большевикам. Большевиков здесь ругали так, как могли и могут это делать только махровые белобандиты. Вся эта «белая кость» понятия не имела о большевиках, но, поощренная японским выступлением, вылезла из разных углов и щелей. Как хотелось мне дать крепкую отповедь этим прохвостам. Но мое конспиративное положение не позволяло мне делать такие глупые шаги.
Стоит ли говорить, что в таком соседстве я чувствовал себя весьма тревожно. Жил, стараясь не привлекать внимания своей персоной. Из комнаты выходил очень редко.
Меня продолжали беспокоить золотопогонники. Правда, они ничем не проявляли своего интереса ко мне, сохраняя гробовое молчание, когда я проходил, бывало, через столовую. Только сама молодая вдова несколько раз пыталась заговаривать со мной, но мои короткие ответы «да» и «нет» охлаждали ее любопытство..
Мои опасения А.М. Дмитриев не разделял. Он говорил, что нет основания для беспокойства. И, не в силах удержаться от смеха, он рассказывал, как эта любопытная особа спросила однажды его:
— Какого дикаря ты приютил?
На это Дмитриев ответил:
— Этот нелюдим — писака из Пролеткульта. Ему отказали в комнате за неплатеж. Человеку некуда деваться, вот я его временно и приютил. В общем, он человек неплохой, но на редкость неудачник.
— Ты можешь быть совершенно спокойным, неудачники ее не интересуют. Ей нужны люди богатые, с солидными карманами.
В течение пяти-шести дней я успел выдать около двенадцати миллионов, все по запискам и за подписями: «Володя», «Костя» и т. д. «Как же я буду отчитываться», — думал я.
Пока шла выдача денег и пока я был занят этими невеселыми мыслями, политическая обстановка изменилась: японцам пришлось отступать, и власть в Приморье снова перешла к правительству земской управы. А вместе с этим кончилось и мое затворничество.
Остаток денег, около шести миллионов рублей, я внес в Московский Народный банк, открыв счет на имя Михайлова Федора Михайловича. Ими стал распоряжаться особый отдел Военного совета в лице того же К.Ф. Пшеницына.
Как мы уже знаем, миллионы из казначейства получил К.Ф. Пшеницын. Он в них и расписался. Время шло. Правительство стало коалиционным, и пост управляющего государственного контроля занял представитель буржуазии. Пора было думать о представлении отчета в израсходовании миллионов. Это дело стало настолько серьезным, что пришлось, крепко об этом подумать многим. Составление отчета поручили коммунисту А. Карамышеву, бухгалтеру особого отдела Военного совета, и мне. Расписки в моем портфеле не могли быть документами для отчета. Надо было искать отчеты от получателей аванса — от уполномоченных Ревштаба. Но они тоже денег не расходовали, а выдавали их казначеям воинских частей. К счастью, деньги попали опытным военным казначеям, и они выдавали деньги по типовым ведомостям. Не было ни одного случая нечестного отношения к деньгам!
Отчет, приемлемый во всех отношениях и стоивший большого труда, был составлен. В этом большая заслуга коммуниста Александра Карамышева, К.Ф. Пшеницын никогда не забывал об этом.
Константин Федорович Пшеницын с первой встречи произвел на меня сильное впечатление. Он был трудолюбив и усидчив. За двадцать лет дальнейшего знакомства с ним я не видел, чтобы он выходил из себя, раздражался. Его выдержанность была изумительна. И отношение к товарищам у него было свое, пшеницынское. Сделал ошибку — он пригласит, поговорит с тобой и мягко осудит твои ошибки, а ты сидишь, слушаешь, тебе и неловко, и стыдно. Но выйдешь от него с таким чувством, будто очистили тебя от чего-то ненужного.
Родом он был из Одессы, окончил городское училище. Потом поступил к инженеру-строителю учеником, стал у него чертежником. В партию вступил в 1917 году в Иркутске и с тех пор всегда шел в первых рядах борцов за Советский Дальний Восток.
В период культа личности, на посту секретаря Свердловского обкома партии, К.Ф. Пшеницын трагически погиб.
Политический «тайфун»
Мы переживали время, насыщенное большими событиями. Колчак со своей огромной армией сошел со сцены, авторитет и международное значение Советской России неуклонно возрастали. Укреплялось и внутреннее положение. Это нас радовало. Еще в январе Антанта вынуждена была отменить блокаду Советской России. Но Владивосток, этот большой красивый город, после событий 4—5 апреля 1920 года оставался без власти, порядок был нарушен. Начались грабежи и убийства, а вести борьбу с этим злом было некому. Разнузданное поведение японских солдат еще более усугубляло беспорядок. Продолжал бушевать своеобразный политический «тайфун».
Созданный после японского выступления подпольный Ревштаб РКП (б) не имел определенной штаб-квартиры и технического аппарата, однако продолжал вести большую организационную работу. Встречи и заседания Ревштаба происходили в разных местах: то на улице Пекинской, в полуподвальном помещении, то в офицерском флигеле по Светланской улице или в других местах. Заведуя финансово-хозяйственным отделом Ревштаба РКП (б), а в дальнейшем и Дальбюро ЦК и Далькрайкома партии, я участвовал в совещаниях и был в курсе политических событий.
Прежде всего встал вопрос о ликвидации последствий японского выступления. Этот вопрос был предметом постоянного внимания Приморской партийной организации. Под ее руководством рабочие и крестьяне области повели борьбу за восстановление правительства Приморской земской управы.
6 апреля ЦБ профсоюзов Владивостока заявило о своей поддержке Временного правительства и под угрозой всеобщей забастовки потребовало от японского командования освобождения всех арестованных, освобождения занятых зданий, возвращения ценностей и оружия и восстановления власти земской управы. Профсоюзы металлистов, железнодорожников, грузчиков и другие объявили забастовку.
Вопросом о последствиях событий 4—5 апреля занимался и консульский корпус, вернее генеральный консул США Колдуэлл. Занимались этим и сами японцы.
Как известно, японцы намеревались пригласить Семенова, а через него изменить политический режим. Однако японцам не удалось это осуществить: дипломатический корпус не допустил Семенова. Тогда командующий японскими войсками генерал Оой обратился к представителям владивостокской буржуазии, но те наотрез отказались. Надо сказать, что отношение самой буржуазии к японской интервенции изменилось.
Для японцев все это было полной неожиданностью. Но еще более они были обескуражены, когда официальные представители союзников поспешили сделать заявление о том, что японцы выступили по собственной инициативе и что союзники тут ни при чем.
Японцы поняли, что союзники умывают руки и хотят все свалить на них. Тогда дипломатический представитель Японии Мацудайра пригласил иностранных корреспондентов и заявил им, что Япония в выступлении 4—5 апреля действовала по соглашению со своими союзниками.
На основании этого заявления Мацудайра Городская дума, конечно, не без участия руководства нашей партии, обратилась к союзным представителям с запросом. Однако союзники промолчали, подтвердив тем самым, что согласие на выступление японцев они давали.
Но что же после этого оставалось делать японцам? Только одно: восстановить, как выражаются на дипломатическом языке, статус-кво, то есть режим правительства Приморской земской управы.
Не оправдались и предположения американцев. Слов нет, американцы остались довольны разгулом японской военщины в печальные для нас дни 4—5 апреля 1920 года. Еще бы! Японцы «разгромили» большевиков и вконец дискредитировали себя в глазах русских! Разве после этого можно сравнивать японцев со «свободолюбивыми демократами» — янки?
И вот, когда у японцев не оказалось другого пути, как только восстановить правительство земской управы, Мацудайра обратился к чехословацкому представителю Гирсу, чтобы тот взял на себя посредничество и устроил свидание с представителями большевиков.
На свидание с Мацудайра отправился П.М. Никифоров. По его рассказу, эта встреча произошла 10 апреля в кабинете у представителя Чехословацкой республики Гирса. Первым заговорил Мацудайра. Полный любезности, слащавый, он заявил, что японское командование очень сожалеет о происшедшем конфликте между японскими и русскими войсками и что конфликт нарушил деятельность правительства. При этом он выразил удивление, что на улицах почему-то нет милиции.
— Очень желательно, — заявил Мацудайра, — чтобы порядок был восстановлен.
На это П.М. Никифоров ответил, что Временное правительство едва ли пожелает работать при занятых японскими солдатами учреждениях и не имея в своем распоряжении вооруженной силы. Милиция, ведь, разоружена.
— Пусть ваше правительство не беспокоится, — заявил Мацудайра, — мы дадим приказ освободить все занятые помещения. Будет также дано указание вернуть милиции оружие.
Прощаясь, Мацудайра вновь рассыпался в любезностях и с фальшивой улыбкой заявил:
— Я очень прошу верить мне: я весьма возмущен поведением наших солдат и попустительством командования. Не одобряет происшедшего и императорское правительство.
П.М. Никифоров спросил тогда у Мацудайра:
— Если так, то как могло ваше командование устроить в наших городах бойню?
— Нам очень трудно контролировать военных, — лаконично ответил Мацудайра. И, прощаясь, выразил свое большое желание нанести визит председателю правительства Медведеву.
После встречи П.М. Никифорова с Мацудайра, в тот же день, то есть 10 апреля, японцы освободили все учреждения, сняли свои патрули и заставы. Милиции были возвращены оружие и патроны. Правительство земской управы стало функционировать.
11 апреля возобновила свою деятельность и русско-японская согласительная комиссия. Так завершился возврат к политическому режиму правительства земской управы. Само собой понятно, что в той обстановке основным перед нашей партийной организацией стоял вопрос о ликвидации последствий японской провокации 4—5 апреля. На всех совещаниях в подпольных органах партии и между членами партии этот вопрос стал предметом постоянного внимания.
Шесть дней, прошедшие со времени выступления японцев, говорили о том, что в политической междоусобице ни Япония, ни США не достигли своих целей. Они показали также всем дипломатам, что во Владивостоке нет более организованной, более массовой политической силы, чем большевистская партия. В то же время эти события служили нам предупреждением о том, что провокации интервентов этим не закончатся. Появилась горсточка людей, претендующая на государственное руководство в Приморье. Японцы и американцы не преминут использовать эту горсточку авантюристов для изменения режима. Правительство земской управы, где руководящую роль играли большевики, не удовлетворяло американцев и японцев. Несмотря на серьезные противоречия между ними, не было гарантии, что они не договорятся между собой. Поэтому наша политика, будучи рассчитана на всемерное использование японо-американских противоречий, должна была идти и по линии использования настроения населения, в том числе и буржуазии, направленные против интервентов и интервенции.
Все эти высказывания среди наших партийных руководителей я воспринимал как откровение. Передо мной по-новому, как бы в оголенном виде, раскрывалась политика империалистических хищников на Дальнем Востоке; по-иному открывалась подлинная роль буржуазных оппортунистических партий (эсеров и меньшевиков). Становилась понятней и ясней полная героизма несгибаемая борьба приморских большевиков, цели и задачи, которые стояли тогда перед коммунистами и владивостокским пролетариатом. События 4—5 апреля многих заставили понять, что пока интервенты находятся на нашей земле, они не допустят Советской власти. Только неисправимые антибуферщики, недооценивая обстановку, продолжали все еще мыслить с нереальных, демагогических позиций, продолжая цепляться за лозунг: «Только Советская власть!»
А между тем не были еще ликвидированы последствия японской провокации 4—5 апреля. Нашим представителям в русско-японской комиссии, которая возобновила свою работу 11 апреля, приходилось выдерживать большое давление со стороны «победителей 4—5 апреля», оказывать им должное сопротивление. Всему бывает конец. Закончила, наконец, свою работу и русско-японская согласительная комиссия.
Это было в начале третьей декады апреля. Помню, на Дальбюро делал доклад товарищ Р. Цейтлин. Надо здесь же сказать, что комиссия не работала, а буквально вела борьбу в течение почти двух недель беспрерывно, день и ночь. Дальбюро ЦК РКП (б) было всегда в курсе работы комиссии. Поэтому Р. Цейтлин ограничился словами:
— Вы знаете хорошо весь ход переговоров комиссии. Ее работа — это огромный труд, выраженный в бесконечных бесплодных разговорах; это большая настойчивость наших представителей с небольшими результатами. Выход один — надо согласиться.
Воцарилось молчание. Условия японцев были тяжелые, и никто не хотел взять на себя смелость первым высказаться по этому поводу.
— Как ни тяжелы, как ни унизительны для нас условия соглашения, — наконец прервал молчание П.М. Никифоров, — но надо поручить нашим представителям подписать соглашение с японцами.
— Да, другого выхода нет, — подтвердили И.Г. Кушнарев и В.Г. Антонов. — И пора нормализовать наши отношения с японцами независимо от того, каковы они будут в дальнейшем.
... Был конец мая 1920 года. Когда я вошел в помещение Дальбюро, там находились П. Никифоров, И. Кушнарев, В. Антонов и М. Власова. Вскоре пришел Р. Цейтлин. Он ознакомил собравшихся с содержанием декларации министра иностранных дел Японии Учида по «сибирскому вопросу», где последний говорил о том, что Япония хочет закончить «ненужную войну» и что она будет «помогать русским партиям объединить ныне разрозненные дальневосточные области в единое государство».
— О, да! — отзывается И.Г. Кушнарев, — японцы безусловно будут помогать, но только русским белогвардейцам.
Так понимали и все. Тут подошли К. Пшеницын и Гендлин. С их приходом, когда выступила М. Власова, тема разговора переменилась.
— Я хочу заострить, — начала она, — простой, но очень злободневный вопрос. Речь идет о политической литературе. Все вы знаете, что в период белогвардейщины в городе полностью изъята из обращения не только революционная, но вообще сколько-нибудь серьезная общественно-политическая литература. А между тем кадры наши, даже активисты, политически подкованы слабо. Нам пора думать о политическом воспитании не только актива, но и широких масс рабочих. Без литературы этого не сделаешь. Давайте подумаем об издании отдельных книг К. Маркса, В.И. Ленина.
— Давайте теперь же поговорим и даже уточним, какую форму партийной учебы нам принять. Думаю, нам следует организовать партийные курсы, — предложил И. Кушнарев. Назовем их в целях конспирации курсами секретарей профсоюзов. Срок учебы установим 2—3 месяца. В этот срок курсанты успеют получить многое. Сегодня мы, конечно, не решим все вопросы с курсами. Надо подумать. Поручим товарищу Власовой разработать вопрос и доложить нам через неделю. Она наметит и программу курсов.
Кто-то предложил назвать рождающееся учебное предприятие партийной школой, а не курсами. Это предложение не встретило возражений.
К изданию политической литературы все, кто был привлечен к этому делу, приступили с большим усердием и присущей молодости энергией. Не задерживая, товарищи В.Г. Антонов и М.В. Власова составили список литературы. Я и Михалевич быстро договорились с типографией Циммермана о бумаге, о сроках выпуска книг и платежах. К.Ф. Пшеницын нашел возможным выделить из средств особого отдела Военного совета деньги, которые полностью обеспечили нам выпуск необходимых книг. Старший бухгалтер особого отдела Военного совета товарищ Карамышев нашел пути легализации расхода на издательство. Труд и энергия людей, направленных к единой цели, быстро сделали свое дело: стали выходить из печати брошюры В.И. Ленина, отдельные работы К. Маркса.
Надо сказать, что старых большевиков, знакомых с политической литературой и трудами К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, среди нас были единицы. Подавляющее большинство членов партии почти не были знакомы с политической литературой. Сам я в то время не читал ни одного произведения К. Маркса и В.И. Ленина и какой-либо другой политической литературы, если не считать подпольной литературы 1905—1910 годов. С последней я до некоторой степени был знаком еще в юношеские годы. Поэтому издание книг было для нас, молодых коммунистов, большим делом. Забегая вперед, надо сказать, что наши издания обеспечили партшколу учебными пособиями.
Непрерывно менялась внутренняя и внешнеполитическая обстановка. Но неизменной оставалась основная линия поведения японских интервентов: они всюду искали повода к провокационным действиям. Да и американцы за последнее время вновь повели какую-то замысловатую игру с эсерами вокруг создания буфера.
Действительность требовала от коммунистов особо гибкой и трезвой политики, которая могла бы противостоять козням интервентов. Временный отказ от установления Советской власти на Дальнем Востоке и создание правительства земской управы были правильной тактикой. Эта политика и переход многих колчаковских частей на нашу сторону создали затруднения для японских интервентов. Тактика коммунистов в какой-то степени служила началом консолидации общественных сил против интервентов.
Вопрос о расширении общественного антияпонского движения и освобождении из-под японского влияния даже тех групп буржуазии, которые все еще продолжали опираться на них, в Дальбюро был предметом частого обсуждения. Так, при обмене мнениями по этому поводу созрела мысль создать авторитетный общественный орган, который объединил бы вокруг себя все слои населения. И было решено назвать этот орган Народным собранием Дальнего Востока. Было также решено, что выборы в Народное собрание будут проводиться в Приморье, на Сахалине, Камчатке и в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги.
Всех волновал вопрос: каково будет политическое лицо будущего Народного собрания? Были уверены, что подавляющее большинство будет за рабочими и крестьянством, самыми активными классами общества.
Было решено также немедленно приступить к подготовке выборов, которые нужно было провести в июне 1920 года.
Одновременно в Дальбюро и Далькрайкоме партии в середине мая возник вопрос о реорганизации существующей структуры исполнительной власти.
Было решено бюро финансово-экономического совета преобразовать в совет управляющих ведомствами и соответственно перестроить. Такое решение 29 мая 1920 года было утверждено и декретом Временного правительства, которое утвердило первый коалиционный совет управляющих ведомствами из социалистических партий под председательством П.М. Никифорова.
Следует сказать, что когда на Дальбюро намечались кандидаты управляющих ведомствами и в числе их была названа фамилия генерала Болдырева, то это вызвало недоумение. Член директории (Уфимской) Учредительного собрания, организатор борьбы с Советским правительством, только что вернувшийся из Японии и вдруг в коалиции с большевиками, да еще в роли управляющего военно-морскими делами!
Понятно, к приглашению генерала Болдырева Дальбюро ЦК РКП (б) подошло с большим предубеждением, нелегко. Известно, что во время переворота 30—31 января 1920 года вместе с солдатами перешло на нашу сторону много офицеров. До 12 тысяч офицеров проживало во Владивостоке и других городах, устроившись на гражданской службе. Многие из них никак не исповедуют нашу идеологию и даже враждебны нам. Материальное положение большинства их было невысокое. Да и теперь многие из них перебивались кое-какими заработками. Перед нами тогда стояла задача не давать интервентам использовать этих офицеров в своих целях. Но как? Таким лицом, которое могло бы объединить их своим авторитетом, являлся генерал Болдырев. На нем остановились еще и потому, что после 4—5 апреля он категорически отказался возглавить правительство и работать с японцами.
— Лучшей кандидатуры, чем Болдырев, — поддержал П.М. Никифорова И.Г. Кушнарев, — пока у нас нет. С многотысячной массой офицерства нельзя не считаться. Болдырев не будет нам страшен: во всех войсковых частях у нас политические уполномоченные, а к самому Болдыреву мы посадим политическим уполномоченным Виктора Владивостокова.
Начался период первой коалиции, коалиции с эсерами, народными социалистами, меньшевиками, интернационалистами и беспартийным генералом Болдыревым.
Коалиция поставила перед собой главную задачу: как можно быстрее провести выборы в Народное собрание.
Объявление о предстоящих выборах в Народное собрание было воспринято положительно всеми слоями общества и всеми партиями. Поэтому подготовка к выборам повсеместно проходила активно. Но нашлись и враги будущего народного форума. Этими врагами оказались, как и можно было ожидать, японские интервенты.
Их никак не устраивал созыв Народного собрания — авторитетного органа, выбранного всем народом, всеми партиями. Японцы решили предупредить созыв Народного собрания, спровоцировав переворот в самом Владивостоке. Для этой цели они на этот раз решили использовать скрывавшихся в их казармах еще с 30—31 января белогвардейских офицеров. Но японцы здесь явно просчитались. Военно-технический отдел Далькрайкома партии, руководимый К. Пшеницыным, своевременно узнал о предполагавшемся выступлении белых и принял соответствующие меры. В частности, был разоружен и заперт в казарму конвой главнокомандующего. Выяснилось, что в него проникли враждебные элементы. Народная милиция была усилена переодетыми рабочими из боевых дружин, да и рабочая дружина была мобилизована.
Так затея японцев с организацией переворота закончилась крахом. Им не удалось склонить на провокационное восстание ни одну политическую партию, имеющую какое-то, хотя бы небольшое влияние в массах.
Период коалиции
Совет управляющих ведомствами, возглавляемый П.М. Никифоровым, куда входили представители всех партий (и бывший генерал Болдырев в качестве управляющего военно-морским ведомством) начал свою деятельность в условиях так называемого временного мирного договора с Японией, заключенного после 4—5 апреля. Надо прямо сказать, что население городов и сел Приморья приняло тяжелые условия договора с японскими интервентами с чувством оскорбления. Не будет, очевидно, преувеличением сказать, что население, в том числе и буржуазное, расценило японские требования, выраженные в договоре, как неслыханную наглость. Японцы по договору получили почти все, что требовали, но вызвали к себе ненависть всего населения, за исключением, может быть, самых отпетых прояпонцев-белогвардейцев.
Нельзя было забыть о том, какого врага мы имеем в лице японских интервентов. И коммунистическая партийная организация продолжала действовать в полулегальных условиях.
Помню, на первых порах в работе коалиционного правительства возник ряд важнейших вопросов, требовавших быстрейшего разрешения. Одним из них был вопрос о девальвации бумажных денег.
В Приморской области в то время имели хождение всевозможные бумажные деньги, казначейские знаки и обязательства, выигрышные билеты и их купоны. Все эти заменители платежных средств были обесценены и после 4—5 апреля продолжали стремительно падать. А эта неустойчивость денег особо сильно отражалась на материальном положении рабочих.
В Дальбюро неоднократно обсуждался этот вопрос и, наконец, было решено провести девальвацию. По представлению совета управляющих ведомствами Временное правительство земской управы 5 июня издало закон о выпуске новых кредитных билетов (кстати сказать, изготовленных в США еще по заказу Керенского).
Денежная реформа населением была встречена благожелательно и весьма враждебно консульским корпусом и иностранными резидентами. В этих условиях курс нового рубля не мог долго продержаться — уж очень неравны были силы: с одной стороны, новый рубль, поддерживаемый слабой экономикой одной области, с другой, японская йена Чосен-Банка, поддерживаемая всей экономикой Японии, сильно ожиревшей на войне.
Первоочередным в деятельности Дальбюро было важнейшее политическое мероприятие — выборы в Народное собрание. Само собрание открылось 21 июня 1920 года. Хотя делегатов в него послали только из южной части Приморья, с Сахалина, Камчатки и полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги, оно было названо Народным собранием Дальнего Востока.
Амурская область не прислала представителей: там существовала Советская власть. Но все же Народное собрание представляло собой авторитетный орган, объединивший вокруг себя все основные слои населения — крестьянство и казачество, рабочих и буржуазию. Народное собрание стало центром, где выявился мощный союз рабочих и крестьян, определявший в дальнейшем под руководством коммунистов политическую деятельность Народного собрания8
Народное собрание неспособно было да и не могло в полной мере выполнять в условиях интервенции волю народа. Оно фактически и призвано было служить своеобразной вывеской, своеобразным показателем того, что в крае парламентский строй и буржуазно-демократический порядок.
Состав Народного собрания оказался несколько неожиданным. Вот цифры о классовом составе депутатов Народного собрания: депутатов от крестьян — 75, от блока коммунистов и профсоюзов — 26, от эсеров — 3, сибирских эсеров — 3, меньшевиков и народных социалистов — 9, торгово-промышленников и беспартийных — 10, кадетов — 4. Всего 130 депутатов. Подавляющее большинство крестьянских депутатов шло за коммунистами. Но, как показали последующие события, при данном составе Народного собрания не всегда удавалось обеспечить большинство голосов за коммунистами и крестьянскими депутатами. Депутатам из числа зажиточных крестьян и кулаков иногда удавалось повести за собой часть депутатов Народного собрания из крестьян. Тогда большинства не получалось. Коммунистам приходилось бороться в Народном собрании буквально за каждый голос депутата из крестьян меньшинства. Да и обстановка оставалась та же, интервентская. Хотя с японскими интервентами и был заключен кабальный для нас временный договор и, в связи с этим, как будто разрешены «неразрешенные вопросы», однако японцы не изменили своего отношения к правительству земской управы и его режиму. Японцев не удовлетворяла также и коалиция социалистических партий в правительстве. Они не переставали искать пути изменения существующей политической обстановки.
Не были удовлетворены правительственной коалицией социалистических партий и американцы. Они прекрасно понимали, что раз во главе управляющих ведомствами стоит коммунист, то это правительство не проамериканской ориентаций. Поэтому они строили всяческие интриги.
Эти два империалистических хищника по-разному подходили к созыву Народного собрания. Американцы ожидали, что выборы приведут к победе правых социалистических партий и кадетов. Однако их надежды не оправдались. Для японцев созыв Народного собрания был новой преградой на пути их политики. Они, как известно, пытались не допустить созыва Народного собрания — не вышло: белогвардейский переворот, затеянный японцами в июне 1920 года, не удался. Но это не означало, что японские интервенты оставили свои намерения. Нет, они продолжали свои провокации.
Все это сплетение интересов всевозможных политических партий, единство империалистов США и Японии в борьбе с революционным пролетариатом Приморья, при наличии резких противоречий между ними, проводимые интервентами провокации, интриги и всякие акции создавали в Приморье сложную обстановку. Многие тогда не могли разобраться в ней.
Эта обстановка обязывала руководителей нашей партии быть гибкими, осторожными и неослабно искать новых путей по объединению общественных сил и изоляции интервентов. Надо было лишить японцев всякой возможности использовать какую-либо военную или общественно-политическую группу и группировку в своих интересах, в своих целях.
В связи с этим, предметом постоянного обмена мнениями среди членов Дальбюро был вопрос об отношении к буржуазии.
Конечно, вопрос о коалиции с буржуазией был не простым вопросом. Это был акт серьезный. Подумать только — коалиция коммунистов с буржуазией! Этот шаг был настолько неожиданным, что напрашивался вопрос: «А как воспримут этот шаг активисты и рядовые коммунисты?»
И в Дальбюро было решено вынести этот вопрос на обсуждение партийного актива.
На состоявшемся в конце июня собрании по вопросу о коалиции с буржуазией выступил П.М. Никифоров. Его доклад на активе был воспринят весьма возбужденно. Многие выступили против коалиции с буржуазией, считали такой шаг кощунством.
Я сидел на активе и волновался как никогда на подобных собраниях. Зная вопрос, так сказать, с его эмбрионального состояния и придерживаясь точки зрения членов Дальбюро, я считал, что эти товарищи просто не понимали всей сложности обстановки. Громкой революционной фразой в данной обстановке можно было погубить самую революцию. Гибкость политики, которую хотели осуществить ленинцы, встречала сопротивление со стороны части партийного актива, который знать ничего не хотел, кроме лозунга: «Вся власть Советам!»
Заключительное слово П.М. Никифорова хотя и рассеяло несколько общую обстановку, создавшуюся на активе, но голосование показало, что не весь актив поддерживает предложение Дальбюро. За предложение Дальбюро голосовало 35, против — 36 человек.
Голоса разбились. Все это объяснимо одним словом — неожиданность! Действительно, для актива было ошеломляюще неожиданным само предложение Дальбюро о коалиции с буржуазией. Актив был взбудоражен и возбужден до предела. Выступление защитников предложения Дальбюро не смогло успокоить многих коммунистов. Над всеми выступлениями доминировал вопрос: «Коалиция с буржуазией?» Пролетарское чувство не позволяло легко и быстро ответить: «Да!»
Когда на другой день утром я пришел в Дальбюро, там уже были П.М. Никифоров и И.Г. Кушнарев. Разговор между ними шел о вчерашнем собрании актива. Я не помню теперь дословно существа их разговора, но в общем речь шла все о той же коалиции с буржуазией.
— Если бы актив знал всю обстановку, — заметил П.М. Никифоров, — реакция собрания была бы другой.
— Так почему вы, Петр Михайлович, — осмелился я спросить, — не осветили перед собранием эту обстановку?
— Не так это просто и... не всегда можно говорить, — ответил он.
И, обращаясь к И.Г. Кушнареву, добавил:
— Положение очень серьезное. Медлить нельзя. Нам надо срочно осуществить такие политические мероприятия и действия, которые могли бы опередить японских интервентов и парализовать их действия в проведении плана оккупации и установления своей администрации на территории Дальнего Востока.
— Да, это так, — подтверждает И. Кушнарев, — надо отнять у них всякий повод к выступлениям.
— Итак, создадим коалицию с буржуазией, — сказал П. Никифоров, — рабочие нас поймут.
А обстановка действительно была очень тревожная. Мы стояли перед угрозой полной оккупации японскими интервентами Дальнего Востока со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что такая реальная опасность существовала, подтверждали имевшиеся в Дальбюро документы. Они очень интересны. Поэтому считаю необходимым привести их здесь, хотя бы в небольших выдержках.
Военное Министерство, Токио, 1920 г., 12/6 Командующему Сибирской армией. Владивосток.
... Мы приказываем Вам военно-оперативный план разработать; этот план должен нашим интересам, в случае оккупации по Амуру, служить...
... Для того чтобы Вашу работу облегчить, в кратчайший срок мы Вам пришлем все планы, которые в Иностранном Министерстве уже выработаны, которые гражданские учреждения на случай оккупации предусматривают...
... Вы должны к этому наступлению все подготовить таким образом, чтобы каждый момент наступление начать могли.
Общие интересы Японского Императорского правительства требуют, чтобы оккупация в скором времени в полном объеме была проведена, поэтому мы Вам приказываем оккупационный план в кратчайший срок нам прислать.
Не менее интересен и второй документ, отправленный генералом Оой в Хабаровск:
Владивосток, главный штаб, 1920, 17/6 Командующему 14-й дивизией.
... Дайте немедленный ответ, во сколько дней может 14-я дивизия к наступлению на Благовещенск готовой быть... Я обращаю Ваше внимание на мост через Амур, так как в случае наступления наша Армия в этом мосте нуждаться будет. Подготовка к исправлению моста должна немедленно начаться: если для этого необходимо, то займите тамошний арсенал. По Вашим прежним сообщениям, я рассчитываю на то, что указанные Вами ранее русские нам очень полезны будут. По моему мнению, наша полная администрация во всей Приморской области будет, поэтому приказываю я Вам наши проекты с надежными русскими обсудить и фамилии этих русских, которые Японскому Императорскому правительству служить хотят, мне сейчас же прислать».
Эти документы раскрыли все секретные планы японских интервентов. Перед Дальбюро стала задача помешать интервентам выполнить их планы оккупации. Было решено: по дипломатической линии — в полном объеме использовать секретные документы разведки, по линии внутренней политики — проводить такие меры, которые способствовали бы еще большей консолидации общественных сил и максимальной изоляции их от японских интервентов.
Это был очень своевременный политический и дипломатический маневр со стороны Дальбюро ЦК РКП (б). В политике коммунистов, направленной на объединение русской общественности, японские империалисты вскоре увидели для себя серьезную опасность.
«... Опасность, которая заключается в объединении всех русских, может принести нам неожиданные препятствия», — говорилось в документе секретного заседания от 4 августа Военного Министерства Японии.
Вот тогда и было положено начало созданию второй коалиции: коммунистов и буржуазии. И хотя актив не поддержал это предложение, оно было проведено Дальбюро ЦК РКП (б) в жизнь.
28 июня Народное собрание утвердило совет управляющих ведомствами в составе: председателя П.М. Никифорова (коммунист), транспорта — И.Г. Кушнарева (коммунист), юстиции — А.В. Грозина (народный социалист), финансов — И.И. Циммермана (промышленник), промышленности и торговли — В.Ю. Бринера (промышленник), иностранных дел — В.Я. Исаковича (директор Средне-Азиатского банка), военных дел — генерала Болдырева (беспартийный). Управляющим делами совета был избран В.И. Дмитриаш (народный социалист).
Такой тактический маневр Дальбюро ЦК партии явился также большой неожиданностью и для консульского корпуса. Многие иностранные представители продолжали обсуждать этот факт и долго не могли понять, считать ли это только тактическим маневром далекого прицела большевиков и, если всерьез, то надолго ли? Особенно занимал этот факт японских интервентов. И было из-за чего: созыв Народного собрания и так явился для них большим препятствием на пути их агрессивных замыслов, а тут еще коалиция коммунистов с буржуазией. Тревога японцев имела основание: они понимали, что этим маневром коммунисты изолируют Японию от всех классов населения на Дальнем Востоке. Так это поняли впоследствии и представители других иностранных государств. В частности, консулы Франции, Италии, Англии и Китая выразили свое удовлетворение вхождением представителей буржуазии в правительство. Японцы и теперь промолчали. Промолчали и американцы. И это было понятно лучше всяких слов: консолидация общественных сил не устраивала японцев и американцев.
Коалиция с буржуазией была уступкой с обеих сторон. Интервентская обстановка не принесла выгоды буржуазии. Говоря словами промышленника Бринера, «русская торговля и промышленность на Дальнем Востоке поставлена Японией в очень тяжелое положение. Мы буквально сжаты Японией в тиски и нечем нам стало дышать».
Бринерам негде было развернуться, задели их мошну. «Поэтому торгово-промышленный класс не может стоять в стороне от борьбы русского народа против японской интервенции», и они, по словам Бринера, клятвенно уверяют, что «... готовы честно и всеми силами помогать правительству в борьбе с японским засилием».
Но, входя в Народное собрание и в правительственную коалицию с коммунистами, представители буржуазии, конечно, не думали оставаться в роли пассивных созерцателей. Они, безусловно, думали о власти перспективнее. Менялись времена, менялась политическая обстановка. Стал во весь рост вопрос объединения дальневосточных областей и создания Дальневосточной буржуазно-демократической республики. Это в какой-то степени буржуазию устраивало.
В весьма сложных условиях интервенции, полные постоянной заботы не только о настоящем, но и о будущем Приморья и Дальнего Востока, руководители нашей партии находили пути для укрепления общественного фронта.
Я видел, как в Дальбюро ЦК РКП (б) формировалась внутренняя политика отношений с представителями общественных организаций и представителями иностранных государств. Я видел также и понимал, что сложность обстановки в известной степени усложнялась отсутствием определенного большинства в Народном собрании. Не прошло и двадцати дней после того, как сформировалось правительство коалиции коммунистов и буржуазии, а в недрах Народного собрания возникла идея о новом составе правительства во главе с меньшевиком Бинасиком. Это уже была третья коалиция. Правительство дополнилось тремя эсерами и двумя меньшевиками. Буржуазия сохранила, включая генерала Болдырева, все пять мест, которые они имели в двухпартийной коалиции.
В вопросе сформирования третьей коалиции члены Дальбюро партии заняли непоследовательную, колеблющуюся позицию. На многократных своих совещаниях они высказывали мнение, что, имея возможность обеспечить проведение в Народном собрании линии большевистской партии голосами депутатов-коммунистов и крестьян, не следует связывать свои действия вхождением в коалицию.
Однако впоследствии они дали согласие занять в коалиции два поста управляющих ведомствами: отделов труда и путей сообщения, которые и заняли П.М. Никифоров и И.Г. Кушнарев.
Вскоре же после сформирования третьей коалиции, 10 июля 1920 гола была созвана Приморская областная конференция РКП (б). Основным на конференции являлся вопрос о внутреннем и международном положении, связанный с укреплением единого фронта и борьбой с японской интервенцией.
Дальбюро поручило доклад члену Дальбюро В.Г. Антонову. Его обстоятельный доклад сводился, примерно, к следующему: партия не располагает реальными военными силами в Приморье, которые могли бы противостоять Японии. Это обстоятельство вынуждает нас идти на уступки и тем добывать себе необходимую передышку. Америка нам помогать не будет. Ее политика — политика интриг, с целью столкнуть Японию с Россией... «Наши надежды и перспективы мы можем базировать лишь на собственных силах. Японии для войны с Россией нужны достаточные оправдания. Вся наша тактика сводится к тому, чтобы не дать Японии таких оправданий. Поэтому мы и отходим на вторые позиции, отказавшись здесь от принципов советизации. К этому побудила не внутренняя наша слабость и не сила буржуазии и средних слоев. Мы по-прежнему являемся главной социальной силой, как представители трудящихся, поэтому стоим за активное участие в органах власти. Нам нечего бояться, что нас используют при такой комбинации. Мы сами призвали буржуазию к участию в работе, сознательно пошли на коалицию и используем ее в наших делах. Иной политики здесь, в условиях текущего момента, быть не может. Отказаться от этого — значит пойти на столкновение с Японией. А это значило бы совершить колоссальное преступление перед Советской Россией.
Наша тактика должна иметь одну задачу — сохранить край, предотвратить столкновение с Японией».
Как и можно было ожидать, доклад В.Г. Антонова вызвал горячие прения, как и на прошлом активе. Но время, хотя и короткое, дало возможность многим членам партии правильно оценить обстановку и не предаваться иллюзиям. Поэтому вопрос временного отказа от принципов Советского строя и строительства буферного государства особых возражений не вызвал.
Были и неудачные выступления с предложением перебазировать партийные и военные силы в Амурскую область. И, конечно, такие предложения не могли найти поддержки. Коммунисты не могли согласиться оставить Владивосток и бросить на произвол судьбы 30-тысячный революционный городской пролетариат.
В своем решении конференция признала, что в условиях японской агрессии, когда требуется консолидация всех общественных сил, образование правительства с участием буржуазии допустимо.
Объединение областей Дальнего Востока конференция решила проводить в соответствии с директивами центра.
Надо сказать, что еще 23 июня П.М. Никифоров, тогда председатель совета управляющих ведомствами, вошел в Народное собрание с предложением послать парламентскую делегацию в Верхнеудинск, в функции которой входило определить условия, место и время созыва конференции представителей Приморского, Амурского и Верхнеудинского правительств и читинской общественности. Задача конференции — созыв Учредительного собрания, которое займется конструированием власти.
Но этот вопрос тогда не получил своего разрешения. Надо сказать, что руководящие работники партийной организации Приморья тогда не занимали четкой позиции в этом вопросе. Они еще не знали, какой линии держаться в отношении путей и методов объединения и в вопросе буфера. Явную путаницу в этот вопрос внес представитель Сиббюро В.Д. Виленский, называвший себя уполномоченным Советского правительства, хотя им не был. Он высказывался за объединение всех областей Дальнего Востока вокруг правительства земской управы.
В связи с этими колебаниями, только 26 июля 1920 года Дальбюро (Владивосток) приняло решение ускорить работу по объединению областей, чтобы центром стал Верхнеудинск.
Верхнеудинск как центр буфера не устраивал буржуазию, эсеров и меньшевиков. Они чувствовали себя в оккупированном японцами Приморье лучше, чем в какой-либо области Дальнего Востока. И правительство Бинасика рассылает всем дальневосточным областным правительствам приглашение прибыть на объединенную конференцию. То же самое делает и Верхнеудинск, приглашая только Амурское и Владивостокское правительства.
С созывом Народного собрания, с организацией правительства широкой коалиции, общественный противояпонский фронт был создан, японцы изолированы. Но все же обстановка оставалась тревожной. Факты говорили о том, что в широкой коалиции разные точки зрения.
Продолжали углубляться противоречия. Да и японские интервенты не оставляли своего основного замысла — оккупировать Дальний Восток.
Так, в приказе от 12 июня 1920 года генерал Оой пишет командующему 14-й дивизией (привожу приказ в выдержках):
«Наступление на Амурскую область должно быть не позже конца августа...
... Если наше наступление молниеносно произойдет, то мы имеем ту пользу, что вышеуказанные войска в один месяц разбиты будут... Старайтесь, чтобы во время наступления комиссары и видные большевики в наши руки попали; чтобы мы опасность, которая нам со стороны коммунистов угрожает, раз навсегда покончить могли...»
А что значит попасть в руки японских интервентов, мы уже хорошо знали! Вся партийная организация оставалась на полулегальном положении. Руководители были правы, призывая к осторожности, не открывая партийной организации.
Борьба за объединение
Первостепенным для коммунистов Дальнего Востока оставался вопрос объединения Забайкальской, Читинской, Амурской, Приморской, Камчатской областей и Сахалина в демократическую республику (ДВР).
Как известно, Дальневосточная республика в Верхнеудинске еще 14 мая официально была признана Советским правительством. К сожалению, сложная политическая обстановка, связанная с японской интервенцией, не позволяла быстро осуществить этот план. Первые конкретные шаги в направлении объединения областей были сделаны, когда во Владивосток прибыла делегация Амурского областного правительства во главе с Николаем Матвеевичем Матвеевым.
Члены Дальбюро часто по утрам совещались с Н.М. Матвеевым. С ним тогда окончательно были согласованы точки зрения о месте и порядке созыва конференции правительств по объединению дальневосточных областей и уточнены взаимоотношения между Временным правительством земской управы и Амурским правительством.
Прибыла во Владивосток и делегация так называемого Читинского правительства во главе с семеновским генералом Хрещатитским. Она добивалась непосредственных переговоров с министрами-коммунистами, но ее домогательства были отклонены. Члены Дальбюро ЦК РКП (б) по вопросам объединения областей с контрреволюционным Читинским правительством стояли на принципиальной позиции — никаких переговоров не вести.
Следует отметить, что за время пребывания делегации Хрещатитского во Владивостоке Дальбюро ЦК РКП (б) было в курсе всей ее секретной переписки с Читой. Над этим неплохо потрудились К. Пшеницын и Р. Шишлянников,
Вопрос объединения областей занимал всех, и Дальбюро решило устроить собрание ответственных работников Владивостокской организации РКП (б) и осветить этот вопрос в докладе о текущем моменте.
Собрание, где с докладом выступил П.М. Никифоров, состоялось 7 августа. Доклад правильно освещал события в Приморье. Касаясь Японии, П.М. Никифоров сказал, что в силу обстоятельств она теперь вынуждена от многого отказаться, поэтому переходит от военного давления на политическое и, руководствуясь этим, поспешно направляет в Верхнеудинск свою военно-дипломатическую делегацию.
Свой доклад он закончил словами, что в настоящее время вся деятельность Дальбюро направлена к одной цели: быстрее собрать конференцию правительств в Верхнеудинске и объединить Дальний Восток. К этому же стремились и верхнеудинские товарищи.
Еще до собрания актива из Владивостока в Верхнеудинск выехала делегация Приморского Народного собрания во главе с И.Г. Кушнаревым. В делегацию входили представители всех партий. По данным, которые были получены в Дальбюро 20 августа, делегация Народного собрания во главе с Кушнаревым в полном составе подписала соглашение с Верхнеудинским правительством. В нем были уточнены вопросы о созыве объединительной конференции.
Таким образом, объединение дальневосточных областей получило реальную основу.
Это было время, когда на фоне политической жизни почувствовалось наступление некоторой разрядки, заметного потепления. В Дальбюро стали говорить о том, что США, по имеющимся сведениям, все настойчивее советует японцам увести свои войска с русской территории. На этом же настаивает и собственная японская оппозиция в парламенте. Общественное мнение в Японии так же высказалось против интервенции в Сибири.
Все это подтверждалось секретными документами нашей разведки и, поскольку эти данные представляют интерес для понимания обстановки, привожу в выдержках один документ:
Токио, Военное Министерство, 1920 г., 4/8 В штаб Сибирской экспедиционной армии. Владивосток.
Японское Императорское правительство вынуждено принять следующее решение: общеевропейское положение, победы советских армий на польском фронте, возрастающая опасность от Советского правительства, ощущаемая антипатия со стороны Соединенных Штатов и Китая, шаги, предпринятые Америкой в вопросе о Сахалине, общая подготовка к войне в Соединенных Штатах, тайное соглашение между Советской Россией и Германией заставляют наши политические проекты в Сибири полностью не проводить.
Пожелание Соединенных Штатов о немедленной эвакуации японскими войсками Сибири превратилось в очень серьезный вопрос, и этот вопрос требует от нас особой осторожности... всякие преждевременные шаги могут погубить все наши великие идеи. Настоящее положение вынуждает нас отказываться от оккупационных планов в Сибири на некоторое время...
Наибольшую важность приобретает Советское правительство, так как опасность, которая заключается в объединении всех русских, может принести нам неожиданные препятствия. Мы можем только на себя рассчитывать, так как происшествия в Николаевске и по всей Приморской области произвели невыгодное впечатление среди союзников...
Наши интересы требуют от нас, чтобы Японская Императорская дипломатия с Владивостокским Временным правительством в тесные сношения войти должна без того, чтобы это правительство сильно укрепилось. Операции против Амурской области должны быть приостановлены, но войска должны быть готовы, так как опасность с этой стороны все еще велика. Возрастающее коммунистическое влияние, которое мы в каждом шаге теперешнего правительства замечаем, производит на нас и на наш народ невыгодное впечатление...
... Мы приказываем ему и его управлениям постоянную осмотрительность относительно партии коммунистов, которая больше всего нам препятствий чинит в наших планах...»
Да, прав был П.М. Никифоров, когда говорил, что «в силу многих обстоятельств» японские интервенты вынуждены «от многого отказаться».
И действительно, вскоре японское командование объявило об эвакуации Забайкальского и Хабаровского районов. Но, однако, это вовсе не означало, что они отказались от своей «светлой идеи», как японские интервенты называли план оккупации Дальнего Востока.
Здесь же уместно сказать, что наша разведка была хорошо поставлена. Она всегда была в курсе намерений японских интервентов. И не случайно генерал Оой в своем приказе командованию японскими войсками в Хабаровске и Харбине требует:
«... против коммунистов (большевиков) приказываю постоянное наблюдение и осторожность. Коммунисты имеют очень хорошие организации, через которые они все наши шаги наблюдают...»
А неделей позже, 19 августа, он же из Владивостока в Хабаровск с явной досадой радирует:
«Все наши планы становятся известными. Коммунисты имеют о наших планах документы. Получается так, что Юрьев — предатель.
Пришлите мне немедленно фамилии всех коммунистов, которые там официально или неофициально работают...»
Но Оой ошибался. Юрьев как был изменником своей Родины, так и оставался им, продолжая служить интервентам. Юрьев тут был ни при чем. У нас была своя разведка, состоявшая из коммунистов. Сюда входили А.Н. Луцкий, К.Ф. Пшеницын, Р. Шишлянников.
Организация нашей специальной военной разведки имеет свою историю. Когда в феврале 1920 года Алексей Николаевич Луцкий прибыл во Владивосток, то первым его желанием было встретиться с П.М. Никифоровым. Встреча состоялась, как говорят, один на один, тайно.
Будучи по специальности и образованию военным разведчиком, А.Н. Луцкий поставил тогда перед П.М. Никифоровым только один вопрос — организация военной разведки.
— Если будем знать своевременно все планы интервентов, мы усилим наши позиции в вопросах и военных и дипломатических, — заявил он П.М. Никифорову.
Уже много лет спустя П.М. Никифоров, вспоминая об этой встрече с А.Н. Луцким, рассказывал:
— Свое предложение организовать специальную разведку А.Н. Луцкий так убедительно доказал, что трудно было не согласиться с ним.
Было решено организацию специальной разведки, чего бы это ни стоило, материально полностью обеспечить.
А.Н. Луцкий будет встречаться с П.М. Никифоровым только официально; все дело специальной разведки, после ее создания, передается К.Ф. Пшеницыну, тогда начальнику особого отдела Военного совета. По согласованию с А.Н. Луцким, К.Ф. Пшеницын привлек к этой работе Рафаила Шишлянникова. Сам Луцкий был незаурядной, яркой личностью. Потомок декабриста Александра Луцкого, сосланного в Сибирь, Алексей Луцкий родился 23 февраля 1883 года в г. Козлове, в семье нотариуса. В 1904 году он окончил Тифлисское военное пехотное училище, участвовал в русско-японской войне, а затем был штабным военным работником в Сибири.
В 1913 году его откомандировали во Владивосток на военные курсы при Восточном институте. Он хорошо владел японским и английским языками, а впоследствии стал бегло говорить на китайском, немецком, французском и итальянском языках.
В годы первой мировой войны он снова на штабной работе в Сибири.
А.Н. Луцкий принадлежал к офицерам прогрессивных убеждений. Внимательный к простым людям, он пользовался большой популярностью среди солдат и рабочих. В дни Октябрьской революции, будучи членом Харбинского Совета рабочих и солдатских депутатов, он активно включился в работу.
12 декабря 1917 года в полосе отчуждения КВЖД власть наместника Временного правительства генерала Хорвата была свергнута и провозглашена Советская власть.
Однако белогвардейцы вместе с китайскими милитаристами, при помощи иностранных штыков, захватили Китайско-Восточную железную дорогу. Луцкий тогда уехал в Советскую Россию, где весной 1918 года вступил в ряды Коммунистической партии. Он тогда же был назначен на ответственную работу по формированию частей Красной Армии, организации и руководству разведывательной службы на Дальнем Востоке. На этой работе Луцкий показал себя большим организатором, обладающим глубокими знаниями в этом деле. Им тогда был раскрыт ряд преступных заговоров иностранных держав и их пособников — белогвардейцев, направленных против Советской России.
После разгрома Советов в Сибири и на Дальнем Востоке, А.Н. Луцкий остался в Благовещенске на подполной работе, где в марте 1919 года был арестован белогвардейской разведкой и препровожден в Харбинскую тюрьму.
Когда во Владивостоке к власти пришло Временное правительство Приморской земской управы, по настоянию последнего, в феврале 1920 года А.Н. Луцкий был в сопровождении китайских солдат отправлен во Владивосток, где и получил свободу. Он был назначен членом Военного совета.
К сожалению, жизнь этого замечательного, несгибаемого борца за Советский Дальний Восток рано оборвалась. Арестованный японскими интервентами в ночь с 4 на 5 апреля, он был передан белобандитам, а последними на станции Муравьев-Амурский (ныне — станция Лазо) сожжен в топке паровоза вместе с С.Г. Лазо и А.Н. Сибирцевым.
... В конце августа делегация И.Г. Кушнарева вернулась из Верхнеудинска и отчитывалась перед Народным собранием. Были продолжительные дебаты. Сепаратисты из лагеря буржуазии, эсеров и меньшевиков, не возражая против объединения областей, всячески добивались, чтобы не Верхнеудинск, а Владивосток стал столицей объединенных областей.
В обоснование своих предложений сепаратисты приводили разные мотивы, как например: «Владивосток — самый крупный город Дальнего Востока, культурный центр (университет), мировой порт, торговые ворота в мир...», но совершенно упускали из виду, что Верхнеудинск был ближе к Советской России, а во Владивостоке хозяйничали интервенты.
Но по требованию коммунистов и крестьян большинства соглашение с Семеновым было аннулировано, и Народное собрание приняло решение «признать приемлемым в качестве основы для дальнейшей работы по объединению Дальнего Востока соглашение, подписанное в Верхнеудинске».
Было также принято решение направить в Верхнеудинск на объединительную конференцию делегацию во главе с П.М. Никифоровым. В состав делегации кроме Никифорова вошли Кабцан (меньшевик) и Трупп (эсер).
К этому времени закончило свою деятельность и третье коалиционное правительство из представителей социалистического и буржуазного блоков.
В Совете министров остались одни представители социалистического блока. Началась конкретная работа по объединению областей.
Делегация П.М. Никифорова выехала в Верхнеудинск во второй половине сентября и, проезжая Читу, высадила там группу коммунистов для нелегальной работы, в числе их были старые большевики М.В. Власова и Резников.
По просьбе читинских буржуазных кругов П.М. Никифоров от имени делегации на общественном собрании сделал доклад.
Делегация встретилась и с командующим каппелевскими частями, генералом Войцеховским. Из разговора с Войцеховским выяснилось, что каппелевцы готовы прекратить войну с партизанами и принять условия, на которых перешли к правительству земской управы в Приморье колчаковские войска. Но вопрос этот остался открытым до согласования с Верхнеудинским правительством.
1 октября состоялось заседание делегаций областей, которое установило:
а) конституция Дальневосточной республики принимается Учредительным собранием, созываемым правительством, образуемым настоящей конференцией;
б) конференцию для объединения областей открыть 15 октября в Верхнеудинске или в Чите после ее освобождения;
в) в конференции примут участие делегации Приморской, Амурской, Забайкальской, Верхнеудинской областей, по четыре делегата от областей и от Сахалинской — один делегат;
г) семеновское «правительство» на конференцию не допускать.
Помню, это было 23 октября, в обком партии пришел дипломатический представитель Дальневосточной республики (ДВР) В. Шатов и, поздоровавшись со всеми, смакуя слова, обычным своим звучным голосом рассказал:
«Сегодня утром пожаловал ко мне генерал Такаянаги. Его сопровождала почетная свита из трех человек, в том числе начальник дипломатического отдела японского командования полковник Гоми. Генерал мне заявил:
— Имею сведения, что 22 октября Читу заняли верхнеудинские войска. Командование экспедиционными войсками Японии крайне недовольно действиями Народно-революционной армии, нарушившей соглашение о «нейтральной зоне», и требует, чтобы вы дали гарантию личной безопасности членов японской военной миссии, оставшейся в Чите.
Я, продолжал Шатов, воспользовался их же ответами в подобных случаях и сказал генералу Такаянаги:
— Мне ничего неизвестно о действиях Народнореволюционной армии в Чите, и я не думаю, что она нарушила соглашение. Но я допускаю, что Читу могли занять восставшие крестьяне, которые не могли больше терпеть семеновского режима. Поэтому я не могу, господин генерал, дать какие-либо гарантии в отношении безопасности японской миссии. Однако, если японский штаб не будет возражать против ввода в Читу хотя бы одной дивизии НРА, тогда можно быть спокойным за безопасность членов миссии.
Ответ мой явно не понравился генералу, и он ушел, не дав согласия на ввод в Читу частей НРА».
Сообщение Шатова о занятии Читы и изгнании оттуда белогвардейцев обрадовало нас всех, как имеющее большое значение для полного объединения всех областей Дальнего Востока. Но вместе с тем оно вселило в нас и тревогу: куда направятся выброшенные из Забайкалья военные силы каппелевцев и семеновцев? Не будет ли маршрут их дальнейшего движения своеобразным «бумерангом», который ударит по нам же.
Как показали дальнейшие события, опасения оправдались: белогвардейцы оказались во Владивостоке.
Итак, читинская «пробка» выбита, и все дальневосточные области освобождены от белогвардейских полчищ, 28 октября в Чите легально открылась конференция представителей областных правительств. На конференции было оформлено объединение всех областей Дальнего Востока и создано правительство Дальневосточной республики (ДВР), в составе Краснощекова (председатель и министр иностранных дел), П. Никифорова, Н. Матвеева, Ф. Петрова, Румянцева и Кузнецова.
Таким образом, объединение дальневосточных областей стало совершившимся фактом, но не по рецептам Японии и США, а вопреки их желаниям, в соответствии с директивами ЦК РКП (б) и указаниями В.И. Ленина.
Правительства областей решением конференции упразднялись. Был назначен и срок созыва Учредительного собрания ДВР. Конференция постановила также и о режиме ДВР. Он должен быть демократическим, где должны учитываться преимущественные интересы трудящихся.
Решения и постановления объединительной конференции население встречало с большим удовлетворением. Но не все. Поощряемые японскими интервентами, агенты их во Владивостоке развили большую активность. Они собрали небольшую группу из буржуазных фракций Народного собрания во главе с братьями Меркуловыми и вынесли протест против решений.
Не многим отстал от братьев Меркуловых и совет управляющих ведомствами. Голосами меньшевиков и эсеров он принял решение:
«Акт от 2 ноября временного делового президиума об образовании центрального правительства и о роспуске с 1 ноября областных временных правительств является преждевременным... Всем учреждениям на территории Приморского Временного правительства предложить впредь выполнять распоряжения совета управляющих ведомствами, который по ратификации соглашения на конференции Народным собранием передаст власть центральному правительству».
Здесь эсеры и меньшевики вновь показали свою непоследовательность и по сути дела поддержали этим решением протест японской агентуры. Особую активность проявил в эти дни и генерал Болдырев. На совете управляющих ведомствами он поставил вопрос так: на конференции от Приморской области принимал участие один Никифоров, а вновь назначенные делегаты Бинасик, Румянцев, Кабцан и Трупп находились в пути, не участвовали. На этом основании совет вынес постановление не подчиниться решению конференции.
Никифоров на это ответил, что он, как председатель делегации Народного собрания, считает для себя необязательным постановление совета управляющих. Потуги японских интервентов и их агентуры не могли уже изменить события. Правительство ДВР действовало, и оно объявило:
«С 1 ноября 1920 года временный деловой президиум правительства принимает на себя всю полноту общегосударственной власти, а потому существующие правительства территории Дальневосточной республики теряют свои общегосударственные функции и превращаются в органы общественного самоуправления.
Все вооруженные регулярные силы переходят в подчинение единого высшего командования при правительстве Дальневосточной республики».
Так сформировалась центральная власть ДВР.
После почти трехлетней гражданской войны, навязанной трудящимся Дальнего Востока интервентами Антанты и Японии, разрозненные области далекого края объединились, и 24 ноября в Чите состоялась Первая Дальневосточная конференция РКП (б). В решениях конференции указывалось: «Организации РКП (б) на Дальнем Востоке должны проводить такую тактику, которая обеспечила бы наиболее благоприятные условия мобилизации революционных масс на стороне Советской власти как основного условия осуществления заданий Центрального Комитета партии на Дальнем Востоке...»
В решениях конференции также указывалось, что основной целью коммунистов продолжает оставаться сохранение Дальнего Востока за Советской Россией и недопущение военного столкновения Японии с Советской Россией.
Антоновское правительство
Объединение областей отразилось и на структуре партийных организаций. В частности, во Владивостоке перестало существовать Дальбюро ЦК РКП (б). Оно объединилось с Дальбюро в Верхнеудинске. Прекратил свое существование и Далькрайком партии. Во Владивостоке начал действовать Приморский областной комитет и Владивостокский городской комитет РКП (б).
Еще в конце сентября к нам прибыл представитель Дальбюро ЦК РКП (б) в Верхнеудинске В.И. Хотимский. Потом он вошел в состав областного комитета партии и был избран председателем обкома, в котором членами были тогда В.Г. Антонов, И.Г. Кушнарев, К.Ф. Пшеницын, В.А. Масленников.
Казалось, что политическая жизнь нормализуется: немного полемики в Народном собрании, уступки друг другу двух парламентских блоков, возможно, смена отдельных министров. Но действительность вскоре представилась в ином свете. Началось с того, что японцам не по вкусу пришелся коммунистический состав Временного правительства Дальневосточной республики (ДВР) в Чите. Это вывело генерала Оой из равновесия. Он пригласил к себе представителей всех фракций Народного собрания и заявил дословно: «Господа, я пригласил вас за тем, чтобы поставить вас в известность об отношении нашего командования к Временному правительству Приморской области. В связи с колебаниями политической атмосферы в здешнем крае и в зависимости от объединительной конференции в Чите, во избежание возможного нежелательного конфликта, я довожу до вашего сведения, что в районах расположения японских военных сил коммунистическая власть не может быть допустима. Под влиянием создавшегося раскола по вопросу объединения Дальнего Востока политическая обстановка обстоит весьма остро. Мы опасаемся, чтобы в связи с изложенным не нарушились бы порядок и спокойствие в районе расположения японских войск... Поэтому японское командование не может допустить, чтобы какое-нибудь третье лицо без ведома японского командования осмелилось нарушить существующий политический порядок и спокойствие в крае».
Это был очередной маневр японцев, который нетрудно было разгадать. Он означал, во-первых, угрозу, которой Оой хотел напугать местную общественность и, во-вторых, поощрение, которым генерал Оой вдохновлял свою агентуру, вроде братьев Меркуловых, на более смелые действия против решения правительства ДВР.
Но в то же время это был намек на то, что Япония не намерена признавать «третье лицо», то есть правительство ДВР.
Конечно, было из-за чего беспокоиться генералу Оой. Ведь правительство ДВР это уже не правительство земской управы или Владивостокское Народное собрание. Его бесило то, что, несмотря на потуги японских интервентов, области Дальнего Востока объединены, объединены и все военные силы.
Но одно оставалось неизменным — это усиление японских интриг и провокаций против правительства ДВР. При этом не приходилось сомневаться, что японцами будет все использовано: вся агентура, махровые контрреволюционеры, возможно и цензовики. В Приморье, не освобожденном еще от интервентов, снова создавалась тяжелая политическая обстановка. Можно было ожидать активности всех партий и групп.
И действительно, с 3 по 16 декабря с повестки дня Народного собрания не сходил вопрос об объединении с Читой. Запугивая крестьянских депутатов, «правые» грозили, что в ДВР будут проведены национализация и разверстка, а министр внутренних дел эсер Гуревич объявил, что если Читинское правительство будет признано без «особых оговорок для Приморья», японцы выступят на другой же день. Не было единства и в правительстве, и коалиция социалистических партий затрещала по всем швам. Правительству из трех партий (коммунистов, эсеров и меньшевиков) оставалось одно: сложить свои полномочия, что оно и сделало.
Начались бесконечные переговоры между представителями партий и блоков о новом составе правительства. Наконец, после двухдневных споров формирование правительства было поручено лидеру фракции Коммунистической партии В.Г. Антонову. В него, кроме коммунистов и крестьян большинства, вошли: один крестьянин меньшинства и два меньшевика.
Новое правительство получило название антоновское правительство. Так и сохранилось за ним это название до меркуловского переворота. По времени существования, в сравнении со всеми другими коалициями, это было самое «долгое» правительство. Оно существовало более шести месяцев и пережило самое трудное время.
Новое правительство незамедлительно, 14 ноября 1920 года, объявило декларацию о признании центрального правительства ДВР в Чите и о превращении Приморского правительства земской управы в областное управление. Эта декларация эсерами и кадетами была встречена в штыки. Они требовали автономии для Приморья, а Приморское правительство земской управы, возглавляемое эсером Медведевым, отказалось признать ДВР.
Вновь разгорелись страстные и бесплодные прения. Еще никогда до сих пор не проходили так бурно заседания Народного собрания. Тогда в поддержку антоновского правительства выступили организованные в профсоюзах рабочие и служащие Владивостока. Начались митинги, собрания и конференции, на которых рабочие требовали признания ДВР и роспуска Временного правительства Приморской земской управы.
5 декабря Нарсоб, наконец, - принял постановление о признании ДВР, а 12 декабря сложило свои полномочия и Временное правительство земской управы.
Однако фракционные бои на этом не закончились. Они вновь разгорелись по вопросу о роспуске Народного собрания. Все правые партии, меньшевики и эсеры воспротивились этому и потребовали сохранить Народное собрание как законодательный орган до созыва Учредительного собрания.
Горячие прения заняли шесть заседаний. Во время перерыва эсеры и меньшевики, не унимаясь ни на минуту, убеждали крестьянских депутатов не верить коммунистам, не поддерживать их «опасного» предложения о роспуске Народного собрания. Они всячески пытались дискредитировать депутатов-коммунистов.
Крестьянская фракция и депутаты-большевики составляли в Народном собрании большинство. Хотя преобладающая масса крестьян стояла на позиции борьбы за Советскую власть, часть из них, представлявшая кулацкую группку, тянула в сторону соглашателей, срывала решения фракции, вызывала колебания среди остальных крестьянских депутатов. К тому же была еще зима, и зажиточные не испытывали тяги в деревню. 120 рублей серебром, которые получали они в месяц как депутаты, довольно прочно удерживали их на позиции сохранения Народного собрания. В кулуарах Народного собрания и в общежитии депутатов-крестьян, которое помещалось в жилом доме служащих торгового дома «Кунст и Альберс», напротив универмага, по Светланской улице, непрерывно шла борьба политических партий за влияние на крестьянскую фракцию...
В декабре в Народном доме состоялась городская партийная конференция. Товарищ И.Г. Кушнарев в своем докладе дал обстоятельный обзор работы Дальбюро и Далькрайкома партии и фракции большевиков в Народном собрании и в правительстве. Он дал отповедь представителя правых партий и цензовиков в коалиции. Конференция заслушала и мой доклад о финансово-хозяйственной и издательской деятельности обкома партии.
Новая ситуация
Пока в Народном собрании шли бурные прения, белогвардейцы, кадеты и часть эсеров, с помощью японцев, торопливо старались продвинуть белую армию и каппелевские войска по Китайско-Восточной железной дороге к Приморью.
Войска белых, изгнанные из Забайкалья, представляли еще значительную силу. К партизанам от них перешли только два полка из дивизии генерала Бангерокого.
30 ноября первый корпус семеновцев прибыл на станцию Пограничная, а через день вторгся в Приморье, заняв станцию Гродеково. За семеновцами по Китайской железной дороге двигались каппелевцы. Сам Семенов приехал во Владивосток и поселился у генерала Оой.
События эти взволновали весь город. Коммунистическая фракция внесла в Народное собрание внеочередной запрос по поводу появления, в сопровождении японцев, во Владивостоке Семенова и указала, что Гродеково занял семеновский гарнизон со своими комендантами и контрразведкой, которые снимают пассажиров с проходящих поездов, арестовывают и т. д.
Областное управление для реэвакуации и устройства белых создало комиссию в составе П. Парфенова (председатель), В. Масленникова, Борисенко, Коврашицкого, Осипова, Кравцова и Богданова. Перед комиссией была поставлена трудная задача — направить скопившиеся на КВЖД и в Приморье остатки белой армии на Запад через Маньчжурию и Забайкалье, используя для этой цели прямые переговоры с командирами частей и агитируя самих солдат и офицеров.
Своих уполномоченных комиссия послала на станцию Пограничная, в Харбин, Маньчжурию и на другие железнодорожные пункты. Существенных результатов комиссия не добилась, но, однако, договорилась с маньчжурскими властями о разоружении белых корпусов. 7 января эти корпуса были разоружены. Основная лавина белых упорно двигалась на Восток. Помогали им представители Чжан Цзо-лина и западных империалистических держав.
В самом Народном собрании правые партии (меньшевики и эсеры), аппелируя к «человеческим чувствам», требовали беспрепятственного пропуска «русских людей». Их заветной мечтой было создание в Приморье ударной боевой силы.
Водворение здесь белых корпусов отвечало интересам и японского командования. Интервенция стала настолько непопулярна в самой Японии, что оппозиция в палате депутатов открыто потребовала эвакуации войск из Сибири. Вторжение белых развязывало руки японскому командованию, позволяло оттягивать эвакуацию и открывало возможность вновь разжечь гражданскую войну на Дальнем Востоке.
Когда выяснилось, что реэвакуацию белых на запад осуществить не удается и что белогвардейцы вот-вот хлынут в Приморье, областное управление заключило с японским командованием соглашение о размещении белых в «30-верстной зоне», в пределах Раздольнинского и Никольск-Уссурийского районов. Оно согласилось пропустить эти части при условии:
1. Если войска сложат оружие и подчинятся областному управлению.
2. Если каппелевский генерал Вержбицкий отдаст приказ своим частям, запрещающий вооруженное вмешательство в жизнь Приморья, и если создаст условия для перехода их на мирное положение (расформирование).
Генерал Вержбицкий эти условия принял. Правые фракции Народного собрания и эсеры объявили неписанную гарантию в том, что «каппелевцы договора не нарушат». Коммунисты хорошо понимали, что все эти «гарантии» стоят немногого.
Итак, последние осколки белой армии вторглись в Приморье: в Гродеково корпус атамана Семенова, в Никольск-Уссурийский — корпус генерала Молчанова, в Раздольное — корпус генерала Смолина.
Началась жизнь белой армии «на мирном положении»: 9 января, в день выборов в Учредительное собрание ДВР, в Раздольном убили комиссара гарнизона товарища Шарапова и избили товарища Продайвода. Происходило это в присутствии генерала Болдырева. Он видел, как Шарапов был схвачен генералом Сахаровым и другими офицерами. В Гродеково арестовывали, пороли, расстреливали местных жителей.
В районах расположения белой армии возродились нравы времен атаманов. Мы, к сожалению, не имея военной силы, были бессильны что-либо предпринять. Нам оставалось только ограничиваться официальными протестами.
Вторжение белогвардейцев в Приморье изменило всю обстановку. До прихода каппелевцев мы говорили о консолидации общественных сил, об укреплении общественного фронта, основанного на отрицательном отношении к японской интервенции всех партий и группировок, включая и местную буржуазию. Теперь положение изменилось. Вокруг реакционного командования белой армии стали собираться группы несоциалистических партий и махровых контрреволюционеров. К ним стали примыкать и отдельные представители буржуазии. В этой обстановке по Приморской области прошли выборы в Учредительное собрание Дальневосточной республики.
В них приняли участие все партии, даже офицеры и солдаты белой армии. Но результаты для правых партий были неожиданными: они оказались в значительном меньшинстве. И хотя генералы Болдырев, Вержбицкий, Молчанов, Смолин и лидеры буржуазии Кроль, Меркулов были избраны, правые объявили выборы «подтасованными» и своих депутатов в Учредительное собрание не послали. В газетах и в Народном собрании они открыли бешеную кампанию против коммунистов и областного управления.
Общежитие депутатов-крестьян превратилось в своеобразный политический клуб: здесь постоянно вертелись эсеры, меньшевики и кадеты. Они спорили, кричали, агитировали крестьян. А депутаты молча сидели, теребили свои бороды и слушали. Им нелегко было разобраться, а «агитаторы» успевали сеять семена сомнений. Лидеру крестьянской фракции товарищу Румянцеву, который жил здесь, пришлось положить немало труда, чтобы раскрыть депутатам смысл выступлений соглашателей и их политические цели. Помогали ему в этом и депутаты-коммунисты Алютин, Борисевич и Коврашицкий. Да и мы с Парфеновым часто посещали это общежитие, помогая нашим товарищам.
Активность правых партий в Народном собрании усиливалась. Их выступления становились все более наглыми. Но как ни изощрялись депутаты правых партий, однако успеха их выступления не имели.
Поощряемые японским командованием и дипломатами США и Англии, лидеры буржуазных партий приступили к организации своего, так называемого «несоциалистического» парламента. Обстановка становилась еще напряженней.
Ввиду отъезда в конце января в Читу члена обкома партии товарища В.И. Хотимского, председателем обкома избирается товарищ В.А. Масленников.
Одним из неотложных в эти дни вопросов был вопрос о «17 эшелонах». На КВЖД под охраной китайских войск оставались 17 эшелонов материальных ценностей, награбленных и вывезенных из Сибири белой армией. Кроме того, белые угнали сюда значительную часть подвижного состава сибирских дорог. Надо было добиться у китайских властей возвращения имущества законному владельцу — ДВР и Советской России. Для переговоров по этому вопросу 22 января в Харбин выехала комиссия Приморского Народного собрания в составе П.С. Парфенова (председатель), полковника Луцкого, инженера путей сообщения Соколова и меня.
Надо сказать, что моя поездка в Харбин была вызвана не одними делами комиссии. Приморская партийная организация в эту пору нуждалась в средствах. Поэтому на заседании обкома РКП (б) от 19 января 1921 года было постановлено «командировать Элеша в г. Харбин и поручить ему следующее: выяснить состояние счетов в Харбинском партбюро РКП (б); изыскать совместно с товарищами Минскером и Парфеновым средства для обкома РКП (б), выяснив финансовые возможности в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги».
Наша комиссия с первых же дней встретилась с препятствиями, специально подстроенными. На станции Пограничная наш вагон задержали на несколько дней.
По прибытии в Харбин я посетил Якова Григорьевича Минскера. Ранее я с ним не встречался. Передо мной оказался маленького роста человек, с мягкими чертами лица и живыми глазами. Встретил он меня как старого знакомого. Быстро мы с ним нашли общий язык и перевели во Владивосток шесть тысяч йен. Надо добавить, что Минскер одновременно являлся уполномоченным Народно-революционной армии. Он имел большую переписку с Владивостоком, Благовещенском, Читой, Верхнеудинском и со всеми представителями РСФСР, находившимися в то время в Пекине, Шанхае и Дайрене.
Вскоре ко мне в Харбин прибыл Степан Веселовский и привез два мешка старых бумажных денег царского времени, изъятых во время последней девальвации в июле 1920 года. Эти кредитки, прекратившие хождение в Приморской области, перестали котироваться и на официальных биржах и в банках капиталистических стран. Но на черных биржах Харбина имели хождение царские деньги. Очевидно, там надеялись еще на восстановление монархии. Вот этим оружием, которое буржуазия готовила против нас, мы и воспользовались, обратив его против буржуазии. Мы с товарищем Веселовским продавали эти деньги разным меняльным лавчонкам. И нудная же была работенка! Но игра стоила свеч: мы выручили за них ходовые деньги и перевели во Владивосток.
Менее успешной была наша официальная работа по делам комиссии Народного собрания. Переговоры с губернатором Гиринской провинции Чжан Хуан-сяном велись в Харбине долго и безрезультатно. Было ясно, что все пути ведут к Чжан Цзо-лину. А между тем здесь широко шла распродажа русского имущества, при прямом содействии продажных китайских чиновников. Достаточно было любому коммерсанту предъявить основанный на фальшивых документах иск атаману Семенову или каппелевскому командованию, китайские чиновники не задумываясь погашали его за счет имущества 17 эшелонов.
Быстро усвоил этот маневр и генерал Пепеляев. Он организовал в Харбине кооператив «Самопомощь» и под его вывеской предъявлял иски, которые безотказно оплачивались. За короткий срок он стал богатым содержателем извозчичьего промысла и кафешантанов.
Переговоры, перенесенные в Пекин, также не дали результатов. Чжан Цзо-лин ответил, что «вопрос о задержанном имуществе Пекинское правительство считает возможным разрешить только при непосредственных переговорах с центральным русским правительством». А между тем, под нажимом японского правительства он выдал белогвардейцам три эшелона. В то же время наша комиссия в сложных условиях политических интриг никаких положительных результатов не добилась.
3 февраля я отправился в Читу с докладом правительству, а товарищ Парфенов — в Пекин для доклада миссии РСФСР. Мой выезд из Харбина в Читу совпал с днем выезда туда же делегатов в Учредительное собрание ДВР от русского населения полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги. Регулярное движение по Читинской дороге еще не наладилось. Железная дорога от Маньчжурии до станции Куэнга медленно восстанавливалась.
Отступая в Маньчжурию, белые взрывали мосты, водокачки, сжигали подвижной состав, станционные здания, склады и жилые дома. Восстановительные работы потребовали много материалов, денег и рабочей силы. Во всем этом в ДВР был огромный недостаток.
Наш поезд из трех старых вагонов третьего и четвертого классов подвигался очень медленно. Не хватало воды и дров. Мы, пассажиры, принимались ведрами таскать воду, заготовляли дрова. Стояли сильные февральские морозы. Вагоны отапливались сырыми дровами, и по ночам пассажиры основательно мерзли. Сколько дней мы ехали от Маньчжурии до Читы, теперь не помню. Но ехали долго.
С нами ехали полковник генерального штаба каппелевец Померанцев и четыре каппелевских солдата. Померанцев был высокого роста, с рябоватым простоватым лицом, худощавый, стройный. В вагон нашей комиссии он пришел в Харбине. Держался просто, рассказал о себе. В России у него осталась жена и дети.
— Тоскую по семье, — говорил он, — тоскую и по родине, но боюсь ехать.
Ходил он к нам что-то около недели. Наконец, как-то приходит и с поддельной храбростью говорит:
— Поеду!
В тот же день я пошел с ним к особооперуполномоченному ДВР Эсперу Озорнину, где оформил паспорта ДВР.
В Чите я встречался с Померанцевым несколько раз. Его зачислили в какую-то воинскую часть, и по его лицу можно было понять, что это уже другой Померанцев.
На второй день по приезде в Читу мне был назначен прием у Председателя Совета Министров ДВР и министра иностранных дел Краснощекова. Он не заставил себя ждать, быстро принял.
Краснощекова раньше я не встречал. Это был высокого роста, стройный брюнет, с признаками седины в черных волосах. Он производил впечатление волевого человека.
Я коротко рассказал ему о попытке комиссии получить наше имущество из Маньчжурии и о той обстановке, которая создалась там в связи с этим.
— Работа Комиссии, конечно, не могла закончиться успешно, — сказал Краснощеков. — Для нас это было ясно с самого начала вашей работы, но вопрос перед китайцами надо было поставить.
Он поблагодарил меня за информацию.
12 февраля открылось Учредительное собрание ДВР. На первом заседании я присутствовал. В Учредительное собрание было избрано 92 коммуниста, 183 крестьянина большинства, 44 крестьянина меньшинства (кулаков), 14 меньшевиков, 18 эсеров, 3 народных социалиста, 6 сибирских эсеров, 8 торгово-промышленников и 1 беспартийный. Левый блок занимал 275 мест, оппозиция — 95.
Собрание открылось в огромном доме Второва и представляло живописное зрелище: вот огромного роста, могучий командир партизанского отряда забайкалец Якимов, вот тунгус, вот группа крестьянских депутатов: кто в валенках, кто в сапогах, в самотканых рубахах или в пиджаках. А вот другая группа: в приличных костюмах, в белоснежных рубашках, при галстуках. Это меньшевики, эсеры и представители буржуазных партий. Заседания проходили бурно. Оппозиция никак не хотела мириться с тем положением, что и на Дальнем Востоке настала пора, когда приходится считаться только с большевистской партией и ленинской политикой.
«Недоворот 31 марта»
В конце марта я выехал из Читы во Владивосток через Харбин. Вместе со мной ехал Александр Петрович Лепехин, назначенный командующим войсками Приморской области. С Лепехиным мы были старые знакомые. В 1906—1908 годах учились вместе в Казанском речном училище. Еще в бытность пребывания в речном училище Лепехин работал помощником командира на пароходе частной фирмы в Сибири и плавал по Оби. Его рассказы о Сибири, многоводных сибирских реках, богатых рыбой, о сибирской природе повлияли тогда на мое решение ехать в Сибирь.
И вот мы встретились. Он мало изменился. Тот же взгляд темно-карих с прищуром глаз, скупая улыбка. Хотя Лепехин не отличался многословностью, но тут он разговорился. В первые же дни революции А.П. Лепехин стал большевиком. Активный участник борьбы за Советскую власть в Сибири, он показал незаурядные способности военного руководителя и организатора.
— Я так и знал, — говорил он, — что и ты будешь большевиком. Многие из наших бывших речников стали в ряды нашей партии. Это понятно. Все мы выходцы из трудовых семей, росли в нужде, в постоянном тяжелом труде. Поэтому, несмотря на нашу недостаточную политическую зрелость, выбор, с кем идти, для нас не был трудным.
Во Владивосток мы прибыли 31 марта 1921 года утром. Улицы были полны народа. Казалось, что жизнь в городе течет мирно, лишь редкие трамваи да извозчичьи пролетки проедут по мостовой, нарушая тишину. На зеркальной поверхности бухты Золотой Рог скользили лодки, перевозящие ранних пассажиров с мыса Чуркина и обратно.
А между тем Владивосток пережил трагическую ночь, которая вошла в историю под названием «недоворот 31 марта». Нет следствия без причин. «Недоворот 31 марта» тесно связан с международным политическим положением и обстановкой в Приморье. Поэтому попробуем дать сжатую характеристику политического положения.
Состав Учредительного собрания и его обращение показали интервентам, что ДВР им не помощник. И не только Япония в ту пору враждебно насторожилась. Тамбовское, кронштадтское и западносибирские кулацко-эсеровские восстания воодушевили международную буржуазию надеждой на «непрочность» и «недолговечность» Советов... Пресса Соединенных Штатов, развязно комментируя события в Советской России и на Дальнем Востоке, недвусмысленно стала поощрять агрессивные шаги Японии, обещая держать «строгий нейтралитет» при дальнейших столкновениях ее с русскими большевиками.
6 марта 1921 года японское правительство заключает с остатками белых следующий договор: «Япония получает в Сибири полное господство. Русское административное управление будет подчинено японскому надзору. Все концессии будут принадлежать японцам. Китайско-Восточная железная дорога передается под японский надзор. В пунктах, имеющих стратегическое значение, Япония имеет право держать свои войска».
Японское правительство к этому времени отбрасывает всякую мысль об эвакуации из Сибири своих экспедиционных войск. Оно сменяет поголовно высшее командование экспедиционной армии. Были присланы еще более твердые генералы-милитаристы. Потрепанные и разлагавшиеся дивизии были заменены свежими, а в белые корпуса были посланы японские инструкторы-офицеры: Нагайи, Сати, Хара и Танаки.
6 марта в Порт-Артуре открылось японо-французское совещание. Присутствовали на нем атаман Семенов и наблюдатели от США и Англии. Именно тогда был задуман широкий план новой кампании на базе «мирных» трех корпусов белых войск в Приморье. В плане этих «мероприятий» 20 марта был созван во Владивостоке съезд несоциалистических организаций. Разработав практические меры борьбы с большевиками, он избрал бюро несоциалистического съезда во главе с С.Д. Меркуловым.
Выступление объединенных сил реакционных партий, белогвардейцев и японских интервентов было теперь уже только вопросом времени.
В конце марта разведка военно-технического отдела установила, что выступления белых можно ожидать в любое время. И вот когда наш поезд приближался к Владивостоку, там выступили белогвардейцы. В этом выступлении участвовали банды полковника Патиашвили, собранные из белогвардейцев, скрывавшихся под крылышком японцев в самом Владивостоке, и бригада полковника Глудкина, прибывшая из Никольска-Уссурийского.
Но мы с Лепехиным еще ничего не знали о ночных событиях в городе. Утро и день я устраивался и только вечером пошел в бывший Морской штаб, где в кабинете у В.Г. Антонова застал почти весь актив большевиков.
Оказывается, к вечеру 30 марта японское командование неожиданно блокировало наши воинские части: дивизион народной охраны (в Шефнеровских казармах), конные части в Гнилом Углу, лишив их тем самым возможности передвижения несколько позднее, уже ночью, наша разведка сообщила Совету обороны, что сегодня выступят белые. Первый удар белых — захват вокзала. Перед Советом обороны встала задача собрать силы для отпора. Но как? Времени 10 часов вечера, воинские части блокированы, рабочие дружины не предупреждены. Собрать их ночью представляет значительные трудности, связанные со временем.
Тогда Н.К. Ильюхов, заведующий военно-техническим отделом обкома партии, дает распоряжение Я.К. Кокушкину вывести курсантов партшколы (человек 50) к вокзалу и вместе с конвоем командующего войсками организовать защиту вокзала.
Одновременно Бекезову (Быкову) поручается собрать, где возможно, отряд рабочих и направиться с ними к вокзалу, в распоряжение Я.К. Кокушкина.
Многие из собравшихся не знали подробностей ночных событий и попросили Я.К. Кокушкина рассказать, как удалось организовать разгром белобандитов. Передаю его рассказ, который запомнился до мелочей.
Получив распоряжение Н.К. Ильюхова, Кокушкин быстро собрал слушателей партшколы и без приключений прибыл к вокзалу. Несколько позже, на лодке по бухте Золотой Рог, к Я.К. Кокушкину подошел отряду рабочих в 27 человек. Им руководил Бекезов-Быков. Солдат конвоя командующего войсками (который располагался около вокзала), партшкольцев и рабочих одели в шинели, выдали им фуражки, вооружили винтовками, снабдили патронами и гранатами и, кроме того, выдали им два ручных пулемета «льюис» и станковый пулемет «шварц-лозе». Каждый получил удостоверение с указанием номера винтовки и с визой японского штаба, какие должны были иметь все солдаты конвоя и народной охраны. Таким образом партшкольцы и рабочие превратились в хорошо вооруженный отряд.
От солдат конвоя узнали, что штаб полковника Глудкина находится в гостинице «Версаль», а основные силы его отряда расположены во дворе Русско-Азиатского банка и холодильника «Унион», там, где спускается лесенка на полотно железной дороги. Получив эти сведения, Я.К. Кокушкин решил, что пора перейти к активным действиям. Для этого он разбил отряд на четыре части и направил отряд рабочих и часть партшкольцев во главе с Бекезовым от вокзала по железнодорожным путям по направлению к виадуку, солдат конвоя под руководством Абдрашитова — по Корейской улице, до гостиницы «Версаль». Им же был поручен захват штаба полковника Глудкина. Часть партшкольцев, под прикрытием двух пулеметов, была оставлена для защиты вокзала. Остальные партшкольцы расположились цепью вдоль штакетника, за лежавшими там бутовыми камнями.
Пока цепь отряда лежала в ожидании, прошел отряд японских солдат на Эгершельд и обратно к центру города. Пропустив японский отряд, Я.К. Кокушкин решил вылазкой по Алеутской улице проверить силы каппелевцев.
На улице было тихо. Только в разных частях города слышались отдельные выстрелы. И когда отряд стал подходить к Русско-Азиатскому банку, на тротуар вышли солдаты с винтовками. Это были каппелевцы. Было похоже, что стоят они с мирными целями. Их было много. Кокушкин понял, что сделал большую ошибку, и скомандовал отступление. Солдаты-каппелевцы бросились за ними, открыли стрельбу. Отстреливаясь, отряд отступил к вокзалу и там организовал оборону. Каппелевцы пошли в атаку. Их встретили пулеметным огнем и выстрелами из винтовок. Каппелевцы не выдержали. Потеряв несколько человек убитыми, они отступили. Были раненые и из отряда рабочих, да партшколец Страутнек остался в плену у белых. Отразив атаку белогвардейцев, отряд снова засел цепью за бутовыми камнями.
Почти в одно время отряд Бекезова осторожно пробирался под прикрытием ночи к виадуку. Не успели они сделать и ста шагов, как раздались выстрелы с Алеутской улицы. Это насторожило их. Они остановились, стали прислушиваться. Ждать пришлось недолго. Послышались шаги спускающихся по лестнице. Потом наступила полная тишина. Отряд Бекезова ждал. В это время у вокзала застрекотали пулеметные выстрелы. Бекезов понял: каппелевцы у вокзала.
«А не зря ли торчим мы здесь? — подумал он. — Не может ли получиться так, что все силы каплелевцев у вокзала?»
Однако он решил еще немного постоять (ведь им явственно слышались шаги опускающихся по лестнице). И, действительно, вначале еле слышно, потом все явственнее стали слышаться осторожные шаги множества ног, приближающихся к ним. Пулеметы и винтовки у них были наготове. Подпустив белых близко, Бекезов дал команду. Одновременно заработали «льюис» и винтовки. Ночь, темень. Слышны только крики и стоны раненых. Каппелевцы бежали. Боясь наткнуться в темноте на засаду, отряд Бекезова их не преследовал.
В отряде Барчука было человек 70 солдат конвоя и несколько партшкольцев. Они пришли к гостинице «Версаль», с боем сняли наружную охрану и разгромили штаб полковника Глудкина. Было убито более десяти офицеров и. несколько взято в плен. Сам Глудкин получил рану в грудь, но успел скрыться.
Собрав после всех этих стычек свои силы, Я.К. Кокушкин повел их в наступление на каппелевцев у Русско-Азиатского банка. Каппелевцы боя не приняли, побежали к Семеновскому базару.
Было утро. Продолжая свой путь, отряд завернул на Светланскую улицу и направился к зданию Морского штаба. Но на виадуке в тыл им каппелевцы открыли огонь. Это была последняя вспышка воинского пыла каппелевцев, и, когда партшкольцы открыли огонь из пулеметов, каппелевцы побежали к Амурскому заливу. Преследовать их не пришлось: на перекрестке Алеутской и Светланской улиц японский отряд морской пехоты преградил отряду Я.К. Кокушкина путь и задержал столько времени, сколько потребовалось для того, чтобы каппелевцы успели скрыться.
Выступавшая в эту ночь со стороны белых другая банда, полковника Патиашвили, численностью в 120—150 человек, вышла у сопки Орлиное Гнездо к Коммерческому училищу. Не получая сигналов от группы повстанцев, оперировавших у вокзала, эта группа, не приняв никаких активных действий, отошла, преследуемая отрядом комсомольцев и милиции. Она укрылась в японских казармах.
Третья группа белых была сосредоточена на 6-й версте (Первая Речка). Она состояла целиком из каппелевцев, прибывших из Раздольного в количестве до 300 человек. Против нее были направлены боевые дружины комсомольцев, рабочие дружины железнодорожного депо и мукомольной мельницы. Не проявив большой активности и ограничившись небольшой перестрелкой, эта группа белых ушла в Раздольное.
Так закончилась эта ночь «недоворота». Но характерно то, что начальник штаба японских экспедиционных войск полковник Ямамото, еще в 7 часов утра 31 марта, когда только что смолкли последние выстрелы партшкольцев и каппелевцев, поспешил сделать письменное заявление, где говорилось, что мятежники (то есть каппелевцы) будут разоружены, все лица, взятые ими в плен, будут освобождены и переданы русским властям и что задержанные мятежники останутся в руках японского командования.
Нетрудно было понять, что мятежники, то есть каппелевцы будут оставаться в японских казармах как резерв следующего восстания.
Письменное послание полковника Ямамото с очевидностью показало, что выступление белобандитов организовано с благословения японских интервентов. Это была не простая разведка, а продуманное выступление с целью захвата власти. Каппелевцы готовились и были в полной уверенности, что им удастся легко захватить вокзал, штаб крепости, здание Морского штаба, почту, телеграф и другие правительственные учреждения. Их уверенность подкреплялась всей обстановкой, созданной для этого: дивизион народной охраны блокирован японцами, конные части — тоже, была и гарантия в поддержке японцев. Следовательно, у большевиков, как полагали белые, сил противостоять их выступлению нет.
Однако, как видим, выступление белых потерпело крах. Объяснить это можно тем, что полковник Глудкин был неоправданно самоуверен в том, что сил у большевиков нет. Очевидно, у белых отрядов не было также необходимой хорошей связи для координации действий. Их отряды действовали разрозненно, неуверенно, что видно в действиях банды полковника Патиашвили и отряда раздольнинцев в 300 человек. Довольно многочисленный, хорошо вооруженный отряд полковника Глудкина, сосредоточенный у Русско-Азиатского банка в ожидании присоединения к ним солдат конвоя командующего, потерял инициативу. Для этого отряда каппелевцев особо неожиданным было то, что против них выступила школа комиссаров, как они назвали отряд партшкольцев.
В одной из глав я писал, что мысль об организации партийных курсов дал И.Г. Кушнарев на одном из совещаний при Дальбюро. Тогда же было решено назвать их не курсами, а партийной школой. В дальнейшем в целях конспирации они открылись под названием курсов секретарей профсоюзов. Открытие их было приурочено ко. времени выхода политической литературы, которая печаталась тогда по инициативе М.В. Власовой в типографии. Цель открытия школы — подготовка руководящих партийных и советских работников для городов, сел и армии.
Выход книг из типографии задержался, поэтому школа открылась 26 августа. К 15 января она сделала два выпуска. Был и третий набор, но выпуск его не был завершен, помешал меркуловский переворот.
В школу преимущественно набирались молодые коммунисты, комсомольцы и беспартийные, показавшие свое активное участие в подпольной работе или в партизанских отрядах. Возрастной состав слушателей всех трех наборов не превышал 19—24 лет.
Школа помещалась на втором этаже Шефнеровских казарм (бывший флотский экипаж). Слушатели проживали там же, имея полный пансион. В. нижнем этаже Шефнеровских казарм находились японские воинские части и их штабы. Изучали в школе основы политической экономии, историю партии и международного рабочего движения, задачи партии, партийное и советское строительство. В школе часто проводились лекции-беседы на международные темы или доклады о текущем моменте. Лекции читали в разное время С. Суховий, А. Дмитриев, В. Масленников, Морозов и Я. Кокушкин. По литературе лекции читал прибывший из Москвы писатель Гроссман-Рощин. С докладами и беседами на международные темы и по текущему моменту выступали Р. Цейтлин и П. Парфенов. Мое участие ограничивалось финансово-материальным обеспечением курсантов и школы.
Владивостокская партийная школа того времени, пусть она еще была несовершенна, сыграла большую роль. Подавляющее большинство ее слушателей еще в период колчаковщины и. в период меркуловщины были активными подпольными работниками или партизанами, находясь постоянно на переднем крае борьбы за Советскую власть, вплоть до самого изгнания интервентов и белогвардейцев с Дальнего Востока. Потом, в условиях мирного строительства социалистического общества в нашей стране, многие партшкольцы, продолжая учиться дальше, получили высшее образование, стали крупными партийными или советскими работниками. За все время в партшколе училось более 150 человек.
В этих условиях я не смог использовать свой мандат комиссара Владивостокской таможни, с которым прибыл из Читы. Учитывая сложность политической обстановки, областной комитет РКП (б) решил до поры до времени отложить мое вступление в исполнение обязанностей комиссара таможни. На эту должность я вступил только после 25 ноября 1922 года, когда Приморье и Владивосток стали советскими. Но получилось так, что какой-то особо исполнительный канцелярист министерства финансов ДВР в Чите направил копию приказа о моем назначении непосредственно Владивостокской таможне. Черносотенная газета «Слово» немедленно реагировала на это назначение большой статьей, полной злобы и ненависти к большевикам. Автор-аноним писал, что знает Элеша лично и что он, Элеш, понятия не имеет в таможенных делах и вообще деловыми качествами не отличается. И вот-де этому безграмотному большевику поручают большое дело. Было похоже на то, что статья явно была инспирирована реакционными заправилами таможни и таможенной артели, которых не устраивал комиссар-большевик.
Дни наступали тревожные, и партийная организация готовилась к ним. Теперь каждый видел, что перевод партийной организации на полулегальное положение (с 4—5 апреля 1920 года и до последних дней) был совершенно правильным. В соответствии с решением обкома партии в Шефнеровских казармах и на Портовой улице усиленно проводилась военная подготовка коммунистов. Я занимался в казармах на Портовой улице. Комиссаром курсов был у нас Игорь Сибирцев. Во флотском экипаже военному делу обучались и комсомольцы. Занимались с утра до вечера (в течение месяца). Учились обращаться с винтовкой, пулеметом, овладевали, в частности, тактикой уличного боя и т. д. Питались, спали в казарме. Помню, занятия проводились настолько уплотненно, что едва хватало времени на еду и сон. Надо было спешить!
Одновременно было решено пересмотреть весь наличный состав дивизиона народной охраны, конвоя командующего и рабоче-крестьянской милиции. Эта работа была проведена быстро и вместе с тем тщательно.
Во все эти части были направлены новые пополнения из коммунистов и комсомольцев. Мои занятия на военных курсах еще продолжались, когда меня вызвал председатель обкома РКП (б) В.А. Масленников. Это было в первых числах мая. Наша беседа была короткой.
— Видимо, японцы снова скоро используют остатки недобитых семеновцев и каппелевцев, — начал Масленников. — Все данные нашей разведки говорят о том, что белобандиты выступят всерьез и буквально на этих днях. К этому они усиленно готовятся. Поэтому нам пора подумать о том, как правильно и лучше расставить силы на случай, когда наша партия вынуждена будет уйти в подполье. В подпольной работе, — продолжал В.А. Масленников, — большое значение будет иметь снабжение партизанских отрядов оружием и продовольствием. Обком партии решил эту работу поручить тебе. Но для того чтобы с первых дней подполья был налажен аппарат снабжения, назначаем тебя заведующим закупочно-транспортным бюро Сучанских каменноугольных копей во Владивостоке. Поэтому надо не задерживаясь ехать на Сучан, где ты и получишь назначение.
— Хорошо, я поеду. Но с кем я должен там связаться? — спросил я.
— Свяжись с товарищем Бочкаревым, председателем профсоюза. Зовут его Алексей Ефимович. Договоренность с ним имеется, и там тебя ждут.
Утром на другой день я был в дороге.
На Сучане познакомился с большевиками А.Е. Бочкаревым — председателем индустриального профессионального совета рабочих и служащих Сучанских копей, его заместителем А.С. Алиллуевым и с управляющим копями инженером Пак. Тогда же было оформлено мое назначение на должность заведующего закупочно-транспортньгм бюро Сучанских угольных копей во Владивостоке. Индустриальный профсовет рабочих Сучана уверенно и твердо вел свою работу, несмотря на то, что буквально рядом помещался штаб и казармы вооруженных до зубов японских интервентов. Он был подлинным политическим организатором рабочих Сучана и пользовался у них исключительным авторитетом.
Получив назначение и ознакомившись с кругом вопросов, относящихся к снабжению копей, я вернулся.
Пока я во Владивостоке, почти в течение месяца оторванный от общественно-партийной жизни, проходил в казармах на Верхне-Портовой улице военную подготовку, 27 апреля Учредительное собрание закончило свою работу и постановило считать себя Народным собранием ДВР первого созыва.
Так после ликвидации всех областных контрреволюционных и прояпонских режимов и Объединения таким образом всех ранее разрозненных областей от Байкала до Владивостока окончательно оформилась демократическая Дальневосточная республика (ДВР).
Меркуловскии переворот
Руководящий состав партии изменился. В освобожденные от интервентов и белогвардейцев Читу и другие области для организации Дальневосточной республики (ДВР) выехали старые большевики П.М. Никифоров, И.Г. Кушнарев, Панкратов, М.В. Власова, Резников, Ковальчук, К.Ф. Пшеницын, Полетаев, Воронин и еще раньше, в августе 1920 года, М.И. Губельман, Гендлин и многие другие. Коммунистическая партия продолжала действовать. Ее единство с организованным, революционным пролетариатом Владивостока и других городов Приморья крепло.
С полным основанием руководителями Коммунистической партии в Приморье считали членов Дальбюро и Далькрайкома партии П.М. Никифорова,. И.Г. Кушнарева и В.Г. Антонова, хотя они ничем особенным не выделялись. Были скромны, держались просто, не были блестящими ораторами. Были такими, как и многие. А между тем вся партийная организация и рабочие Владивостока их уважали, крепко поддерживали. Они были старыми большевиками-ленинцами и твердо проводили директивы ЦК партии и Советского правительства. Вот за это их и ценили!
После их отъезда руководящий состав партии помолодел. В облревком вошли молодые коммунисты, из старых членов партии в Приморье остались только В.Г. Антонов и Р.А. Цейтлин.
И на эту Молодежь выпала задача трудная: в сложной политической обстановке встретить надвигающиеся, как грозовые тучи, темные объединенные силы реакционной буржуазии, белогвардейщины и японской интервенции.
Во Владивосток под видом обычных пассажиров приезжали офицеры и солдаты и до поры до времени размещались на частных квартирах. Создавались опорные пункты. О некоторых лицах и опорных пунктах у нашей разведки имелись сведения.
Готовились и коммунисты: формировали вооруженные отряды из рабочих Дальзавода, грузчиков, железнодорожников, которые каждую ночь патрулировали по улицам. Патрулирование усиливалось в зависимости от того, какие сведения нам удавалось получать из японского штаба. Обычно патрулирование продолжалось до утра. Как только начинало светать, все расходились по домам и на работу.
В ночь на 26 мая вместе с группой товарищей я дежурил в районе Мальцевского базара. Ночь прошла спокойно, и рано утром мы разошлись по домам. Жил я тогда на Суйфунской площади, в доме, арендованном Центросоюзом. Только я успел умыться и сесть за завтрак, как позвонили из Центросоюза и сообщили: «Выступили белые». Быстро оделся и вышел на улицу, где встретил Николая Горихина, тогда начальника телеграфа. Суйфунская улица уже была занята белыми, с Полтавской улицы слышались выстрелы. Встречные сообщили, что центральная часть Светланской улицы и Первая Речка заняты белыми. Оставался открытым путь к Голубиной пади. Мы с Горихиным пошли по направлению к Голубиной пади, дальше по сопке к Рабочей слободе и спустились на Светланскую улицу, у Мальцевского базара. Здесь уже стояла большая толпа рабочих и жителей ближайших улиц.
Со стороны центра города слышались пулеметные и винтовочные выстрелы: здесь шли бои дивизиона народной охраны, партшкольцев и рабочих дружин с белыми. Народ напряженно прислушивался к выстрелам, пытаясь определить ход боевых действий.
А между тем наши части громили белых и гнали их по Светланской улице. Это никак не устраивало японское командование, главных вдохновителей белогвардейского восстания. Вооруженные части японцев остановили наступление наших войск и блокировали их в Шефнеровских казармах.
Председатель Приморского областного управления В.Г. Антонов и члены управления Р.А. Цейтлин и В.А. Масленников повели переговоры с представителем японского командования Мацудайрой, добиваясь свободы действия для наших вооруженных сил. Японцы умышленно затянули переговоры, оставляя время для лучшей подготовки белых к дальнейшим выступлениям. Переговоры закончились только ночью, и только тогда японцы сняли блокаду у Шефнеровских казарм.
Получив свободу действий, наши войска без особых усилий снова быстро погнали белых, освобождая квартал за кварталом по улицам Светланской, Пушкинской и Ботанической, и фактически подавили белых в городе. Так думали все, когда после ночного дежурства уходили по домам. Так оно и было. Никто из нас не сомневался в том, что любое выступление белых будет подавлено. На самом деле у белых на Дальнем Востоке основной силой являлись корпуса генералов Семенова, Молчанова и Смолина, расположенные вне Владивостока, да группа белых офицеров, скрывавшаяся после 30—31 января у японцев. Все это воинство насчитывало 17—18 тысяч человек, в то время как во Владивостоке их было не больше полутора тысяч.
У нас были дивизион народной охраны, милиция, военные моряки, всего около 6 тысяч человек. Были рабочие дружины, численность которых могла быть увеличена в короткий срок, резерв — около 30 тысяч рабочих Владивостока, объединенных Центральным бюро профсоюзов. Они доказали свою. преданность большевистской партии неоднократным организованным выступлением по зову ЦБ профсоюзов.
На нашей стороне была и моральная сила: наши бойцы знали крепко, за что воюют и что защищают, а солдат белых да и часть офицеров давно точило сомнение.
Утром 27 мая, после очередного дежурства в районе Мальцевского базара, где все последние ночи нес охрану, я направился на работу в бюро Сучанских копей. Работа в конторе начиналась в 9 часов, а пришел я около восьми, чтобы хоть часок соснуть. Но отдохнуть не пришлось: белые выступили вновь. Повторилась старая сказка про белого бычка: вышедшие из Шефнеровских казарм части народной охраны, отряды милиции и рабочие дружины быстро погнали белых по Светланской улице. Видя, что белогвардейцам не устоять, японское командование бросило свои вооруженные отряды с пулеметами и орудиями. Они обезоружили передовые части дивизиона народной охраны. Стало совершенно ясно, что японцы выступили всерьез, и защита города стала невозможной. К десяти часам утра бои прекратились. Только еще долго продолжались одиночные выстрелы с балкона дома № 3 на Полтавской улице, где помещался дивизион народной охраны.
К моменту выступления белых в помещении народной охраны находились 13 бойцов, командир дивизиона товарищ Казаков, начальник особой части И. 3. Сидоров, бывший офицер Тюнтин и случайно оказавшаяся там в это время заведующая женотделом обкома партии товарищ Геде.
Когда дом № 3 был заблокирован белыми и японскими солдатами, эта горсточка людей решительно приняла бой. Случайной пулей, попавшей рикошетом в грудь, в самом начале боя Казаков был убит. Руководство неравной борьбой принял на себя И. 3. Сидоров. Несколько раз белые бросались ко входу в здание, стремясь штурмом занять помещение, но меткие пули заставляли их снова отступать. Видя, что бой здесь непозволительно для японского престижа затягивается, последние решили вмешаться и вступили в переговоры, дав слово всех защитников беспрепятственно пропустить с оружием в руках. И. 3. Сидоров принял это условие. Горсточка храбрецов с оружием в руках вышла из помещения дивизиона народной охраны и присоединилась к частям дивизиона и рабочим дружинам, уходящим в сопки.
Председатель областного правительства В.Г. Антонов, председатель обкома партии В.А. Масленников и другие члены правительства и обкома партии уехали поездом на Иман. В городе остались молодые коммунисты и организованный в профсоюзы революционный пролетариат.
Владивосток на какое-то время замер, но на рабочих окраинах продолжалась работа подпольщиков.
Установилась власть так называемого меркуловского правительства, прямых агентов Японии. Большевики ушли в глубокое подполье и в сопки укреплять партизанские отряды.
Подпольный обком действует
30 мая в клубе рабочих и служащих мукомольной мельницы, на Первой Речке, собрался актив большевиков-подпольщиков Владивостока. Присутствовало 25 человек: товарищи Н. Ильюхов, В. Шишкин, М. Бахвалов, Е. Соловьева, Л. Бурлаков, К. Серов, Рогальский, Я. Ковнер, К. Кочегарова и другие. По условиям подполья собрание продолжалось не более 30 минут.
С краткой речью выступил Н.К. Ильюхов. На собрании был оглашен состав подпольного облревкома РКП (б): В.П. Шишкин (Володя Маленький) — председатель, К.П. Серов (Вишлин) и Р. Шишлянников; редактор газеты «Красное знамя» Я.К. Кокушкин и заведующий военным отделом Н.К. Ильюхов. Мне поручили отдел снабжения партизанских частей.
Так началась моя вторая подпольная работа, в более сложных условиях, чем это было в период первого подполья, времен розановщины. С захватом власти меркуловцами город и его окрестности густо запестрели лампасами «башибузуков» — семеновских и калмыковских казачьих головорезов, недавно еще наводивших ужас среди населения Забайкалья и Приамурья. Аппарат контрразведки белых усилился. Не было недостатка и в шпионах-добровольцах из тех, кто еще продолжал бредить «единой, неделимой», и просто из прохвостов, готовых продать совесть, честь и самого себя, лишь бы получить за это валюту.
Опыт первой подпольной работы во Владивостоке показал мне, что основными условиями сохранения конспирации являются: во-первых, подходящая квартира; во-вторых, узкий круг лиц из подпольных товарищей, с которыми встречаешься (чем меньше, тем лучше); в-третьих, отсутствие при себе или в комнате, где живешь, партийных и секретных документов.
Квартира, вернее комната, которую я занимал, удовлетворяла таким требованиям; моя должность заведующего закупочно-транспортным бюро Сучанских копей оказалась идеальной с точки зрения конспиративного проведения операций снабжения: легально — снабжение Сучанских копей, а нелегально — партизанских частей, так как транспорт был один и тот же — Сучанская ветка железной дороги.
Председатель облревкома партии В.П. Шишкин в период колчаковского подполья был руководителем отдела снабжения обкома партии, поэтому до последнего времени в его ведении находились складские и транспортные средства партии. После меркуловского переворота все движимое и недвижимое ценное имущество было фиктивно передано чехословацкой фирме под громким. названием «Амурское торгово-промышленное товарищество». Председателем товарищества являлся чех Шуман (коммунист), его заместителем — инженер Свобода (беспартийный).
С. Исупов, член большевистской подпольной организации
В первое же свидание в условиях подполья В.П. Шишкин сказал:
— Вячеслав, у нас есть склад, где хранится военно-техническое снаряжение. Есть также легковая и грузовая автомашины. Они находятся под защитой чехословацкого флага — «Амурского торгово-промышленного товарищества». Сегодня я их передам в твое распоряжение. Есть у нас несгораемый сейф с цифровым секретом. Сейф находится на квартире инженера Свободы по Суйфунской улице, дом № 17. Цифровой секрет сейфа будем знать двое: я и ты. В сейфе будут храниться особо секретные документы и круглая печать партии. Шуман живет в доме № 71 по Светланской улице, но там ничего нашего нет. Людей по отделу снабжения подбери сам, но шоферами надо оставить наших старых помощников Михайлова, Исупова и Левана.
— Михайлов, Исупов и Леван смелые и опытные конспираторы. Это меня устраивает, — подтвердил я. — Но думаю привлечь к работе по снабжению товарища Рогальского. Он имеет связи в коммерческом мире. Нам это пригодится. С Шуманом я знаком, — продолжал я, — питаю к нему полное доверие, но вот в инженере Свободе не уверен.
— У меня у самого такое же настороженное чувство, — ответил В.П. Шишкин, — но Шуман за него ручается.
В тот же день мы встретились с товарищем Шуманом, были на квартире у инженера Свободы. Там же В.П. Шишкин предложил мне, не откладывая в долгий ящик, заняться подготовкой плана снабжения.
— Думаю, что к утру я сообщу свои наметки на этот счет, — ответил я.
Немного подумав, посмотрев на меня как-то особо тепло, своим тихим, проникающим прямо в душу голосам Володя сказал:
— Твоя работа, Вячеслав, опасная, поэтому я хочу дать тебе один полезный совет. С тобой будет работать ряд товарищей, десятки, возможно сотни людей, будут помогать. Тебе придемся иметь с ними связь, часто встречаться. Вот это и опасно, но без людей твоя работа не будет успешной. Здесь нужна большая конспирация в личной жизни. Поставь свои отношения и связь со своими помощниками так, чтобы ты всегда знал их адреса или телефоны, а твой адрес никто знать не должен, кроме особо доверенных.
Мы вышли поодиночке. Шел я по улице, кишащей людьми в золотых погонах, и думал: «Да, Володя прав: знать адреса всех, но сам должен жить без адреса!»
Поездка в партизанский штаб
Работу отдела снабжения нужно было вести в двух направлениях: во-первых, по линии организации базы вооружения в самом городе, на случай организации восстания, и, во-вторых, по линии повседневного снабжения партизанских частей. Для решения последней задачи надо было установить связь с партизанским штабом и уточнить с ним ряд вопросов. Для согласования вопроса о выезде на Сучан, а оттуда в штаб партизан я пошел к В.П. Шишкину. Мы стали говорить о базах оружия на случай подготовки восстания.
— Думаю организовать две базы, — сказал я, — одну за ипподромом, вторую — в городе, на Первой Речке. Если провалится одна, останется вторая.
— Две базы — это хорошо, — сказал Володя, — но база за ипподромом никуда не гадится. Не годится потому, что на отлете, привлечет внимание любопытных, а за ними и шпиков. Быстрый провал здесь неизбежен. Надо продумать более лучший вариант.
— Ты прав, — согласился я с ним, — в каких районах города по-твоему лучше и удобнее организовать базы?
— Мне кажется, — ответил Володя, — на Первой Речке, как ты наметил, и в Рабочей слободке. Но выбирайте место тщательно. Привлеки к этому делу Михайлова и Левана. И еще один совет: на базах, кроме оружия и припасов к ним, ничего не держите.
— Так и сделаем, — сказал я, — приступлю к этой работе сразу после возвращения из Сучана.
В тот же вечер, 16 июня, я уехал на Сучан. Было раннее утро, когда я прибыл на станцию Кангауз. Здесь кончалась ширококолейная и начиналась узкоколейная железная дорога. Поезд узкоколейки из-за каких-то неисправностей в подъемнике на первом перевале был временно задержан. Утро началось чудесное, на небе — ни облачка. Кругом цвело. Я постоял около маленьких открытых вагонов, напоминающих большие железные коробки и, так как одет был легко, а утренняя прохлада давала себя знать, решил продолжать дальше путь пешком.
После нескольких остановок для отдыха (подъем был крутой) я забрался на перевал. Отсюда открылась незабываемая картина. Вот он каков — хребет Сихотэ-Алинь, так увлекательно описанный путешественником по Уосурийскому краю В.К. Арсеньевым. На десятки километров кругом все было покрыто густым лесом, неровные гряды-исполины, казалось, стояли на плечах друг друга. Отдельные, широкие и глубокие безлесные долины выделялись изумрудным ковром, пересеченным блестящими ленточками рек и речушек.
Здесь догнал меня поезд узкоколейки, и я прибыл на Сучан в тот же день. Не откладывая, я побывал в управлении Сучанских копей и в правлении профсоюза. На другое утро, минуя японскую военную базу, пешком добрался до села Фроловки, где тогда временно расположился штаб партизанских отрядов.
В штабе встретили меня успевший прибыть из Читы К. Пшеницын, В. Владивостоков, И. Сибирцев, Н. Горихин, Н. Руденко, В. Повелихин и другие. Встретил и раненный в щеку товарищ Страутнек. К этому времени партизаны уже имели боевые стычки с белобандитами.
Встреча была радостной. Когда кончилась «неофициальная» часть обниманий, вопросов и ответов, меня накормили партизанскими щами, картошкой и напоили чаем.
Совещание. наше проходило на опушке леса, недалеко от полевого телефона, связанного с Анучино и другими точками.
— Я приехал к вам, товарищи, со специальной целью уточнить, в чем на первых порах вы остро нуждаетесь и в каких количествах. Продумайте и дайте заявку. Только на словах. При этом учтите, в средствах мы ограничены, это вы сами знаете. Поэтому — ничего лишнего.
Выступил К.Ф. Пшеницын:
— Я думаю, что тебе и облревкому надо знать общее положение здесь. Поэтому я начну с этого. Как ты знаешь, из Владивостока вышло довольно много людей, плохо одетых и снаряженных. За двадцать дней ребята во многих деревнях провели организационную и агитационно-пропагандистскую работу. Бедняки и середняки не принимают меркуловский белогвардейский режим. Народ стоит на позициях Советской власти, идея партизанского движения в деревнях пользуется большим успехом. В партизанские отряды идет не только молодежь, но и пожилые. Кулак и подкулачники, конечно, существуют, но их мало, и они молчат. Но вот что плохо: партизанские отряды, численность которых растет, вынуждены пока что жить за счет крестьян, обременяя их материально. И хотя отношение крестьян к партизанам хорошее, продолжать оставаться на положении нахлебников крестьян нельзя. Это положение в дальнейшем может повести к недовольству партизанами и дать широкую пищу для кулацких элементов деревни в их агитации против Советской власти. Поэтому, — продолжал Костя Пшеницын, — надо завезти к нам, в первую очередь, несколько вагонов муки. Наши подрывники нуждаются во взрывчатке и бикфордовом шнуре. Надо прислать медикаменты и перевязочный материал и обязательно летние брюки и гимнастерки защитного цвета, пар 500, а если возможно — 1000. Что же касается остального военного снаряжения и вооружения, мы уточним наличие и тогда дадим подробную заявку с разбивкой очередности их доставки.
— Это все? — спросил я.
— На первое время, — ответил К.Ф. Пшеницын.
— Да, список короткий, — сказал я, — но как будем выполнять, пока затрудняюсь ответить. Взрывчатку и медикаменты доставим быстро. Потрудней будет с мукой и гимнастерками.
Затем мы уточнили способы транспортировки грузов.
— Товарищ Элеш, — обратился ко мне Виктор Владивостоков, — не можешь ли оставить мне свои брюки. Видишь, какие у меня плохие. Здесь их трудно достать, а там, во Владивостоке, ты себе достанешь.
Я посмотрел на его солдатские бумажные галифе непонятного цвета, донельзя истрепанные, и удивился: политический уполномоченный при генерале Болдыреве Владивостоков всегда ходил хорошо одетым. Наверное, кому-нибудь тоже отдал. Мы поменялись.
Мне пора было уходить, и мы простились. Игоря Сибирцева я больше уже не встречал: его убили в бою под Хабаровском. Не встречался и с Владивостоковым. Он умер в Москве в 1923 году.
Встреча с товарищами была для меня большой радостью. Жизнь партизан на свободе, среди лесов, мне показалась настолько привлекательной, что не хотелось ехать обратно, в окружение врагов, где опасность подстерегала на каждом шагу, где каждый час можно ждать предательства. Однако ехать было нужно. Предстояла трудная и беспокойная работа. Денежных средств не было, Их надо постараться еще добыть. Но как и где?
«Мукомольное товарищество»
По возвращении из Сучана я был целиком занят решением вопроса, как бы поскорее обеспечить мукой партизанские отряды. Мы уже успели добыть взрывчатку и бикфордов шнур, медикаменты и перевязочные средства и отправили их на Сучан, а оттуда к партизан нам. Но вопрос о муке стал важнейшим.
Однажды я узнал, что во Владивосток из-за границы приехал председатель правления «Русского мукомольного товарищества» Коган. Остановился он в особняке на углу Светланской и Ключевой улиц. Собрав кое-какие сведения, я решил встретиться с ним. На мой звонок в дверях особняка открылось окошечко и показался китаец-бой.
— Мне нужно видеть господина Когана по важному делу, — сказал я бою.
— Нету дома! — сказал бой и захлопнул окошечко.
Я не поверил, так как было еще рано, около 9 часов утра. Через некоторое время я позвонил вновь. Результат тот же. Меня не пустили. Я опять стал прохаживаться, обдумывая всевозможные способы добиться свидания с Коганом.
Слова «мука» и «Мукомольное товарищество», ассоциируясь, постоянно вертелись в моей голове. «Ну что же, — думал я, — у меня, правда, сотни тысяч йен и долларов нет, как у Когана, но зато терпения хоть отбавляй. Итак, наберемся побольше терпения и будем добиваться приема». Но придумать какой-нибудь способ пробиться к председателю правления я не мог. И, наконец, я решился на прямой путь — передать Когану через боя письмо в закрытом конверте. Тут же на листке записной книжки написал:
«Прошу не отказать принять на короткое время. Записку прошу уничтожить.
Заведующий отделом снабжения Приморского облревкома Российской Коммунистической партии (большевиков) В. Элеш».
Шаг рискованный, но я учитывал, что власть меркуловцев даже среди буржуазии авторитетом не пользуется.
Я позвонил в третий раз и вручил бою конверт с просьбой передать адресату. Скоро дверь открылась, и прямо из передней бой ввел меня в большой квадратный кабинет. В глубине его, в просвете между окнами стоял письменный стол из черного дуба и два мягких глубоких кресла с цветными чехлами. В таком же кресле, за столом, сидел изысканно одетый человек средних лет. Я успел обдумать, как мне вести себя с Коганом и что говорить. Я решил быть кратким, «и одного лишнего слова. Любезно предложив мне сесть в кресло, в котором я сразу утонул, Коган спросил:
— Чем могу служить? — при этом его упитанное и выхоленное лицо деланно улыбалось, казалось, улыбались и его маленькие черные усики и гладко приглаженные, черные, как смоль, волосы.
— Наша организация нуждается в средствах, — сказал я, — Приморский областной революционный комитет Российской Коммунистической партии (большевиков) надеется от вас получить материальную помощь.
— В чем моя помощь должна выразиться? — спросил Коган.
— В настоящее время, даже сегодня, нам необходимы пять тысяч йен наличными и 5 вагонов муки простого помола, — ответил я.
В. М. Элеш, заведующий отделом снабжения Приморского облревкома
Коган внимательно, изучающе смотрел на меня и молчал. Перед ним сидел прилично одетый, простоватый на вид молодой человек, которого он видит впервые и который к тому же просит денег! Затем он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Так он сидел долго. Так долго, что я уже начал терять всякую надежду на благоприятный исход. Наконец, он открыл глаза, выпрямился в кресле и сказал:
— Хорошо! Я все это вам дам, но какая будет гарантия?
— Гарантией будет расписка облревкома партии с печатью, — ответил я спокойно.
После довольно продолжительной паузы, видимо приняв решение, Коган позвонил. Вошел хорошо, со вкусом одетый сухощавый на вид человек.
— Мой компаньон Ротшильд! — отрекомендовал его Коган.
Мы с Ротшильдом пожали друг другу руки. Затем, обращаясь к Ротшильду, Коган сказал:
— Возьмите мою лошадь, поезжайте в «Чосен банк» и выдайте 5 тысяч йен господину Элешу под расписку. После этого поезжайте к Воогу и оформите отпуск пяти вагонов муки.
На недоуменный вопрос Ротшильда: «Почему и на основании каких сделок?» Коган как бы шутя, хлопая Ротшильда по плечу, сказал:
— Успевайте, успевайте до закрытия банка, в свое время все узнаете!
Я поблагодарил Когана и простился с ним, чтобы больше никогда уже с ним не встретиться. Через несколько дней он уехал за границу.
Мы с Ротшильдом поехали в банк. Я был в большом волнении от неожиданного и полного успеха, осуществления замысла. Но не менее, если не больше, волновался Ротшильд. Он буквально был сбит с толку и ошеломлен всем происходящим. Пока мы ехали в банк, он не переставая спрашивал, кто я, как называется моя фирма, какая у нас сделка с господином Коганом, почему 5 тысяч йен он должен выдать под простую расписку. Он все повторял:
— Ведь согласитесь, господин Элеш, в коммерческом мире так просто не делается. Деньги есть деньги, а 5 тысяч йен — деньги не малые!
Я сидел рядом с Ротшильдом, мягко качаясь на удобном сиденье хорошего экипажа. Быстроногая красивая лошадь ветром мчалась по Светланской улице навстречу моему неожиданному успеху. Я слушал и не слушал Ротшильда. И не отвечал ему. Да он и не нуждался в этом. Не давая мне и рта открыть, он задавал вопросы и говорил, говорил без конца.
В банк мы успели вовремя. Там я получил 5 тысяч йен, и мы поехали к Вальтеру Воогу. Этот второй компаньон Когана, по национальности швейцарец, был женат на русской и хорошо говорил по-русски. Он также был в большом недоумении. Оставив меня в кабинете хозяина, Ротшильд и Воог долго совещались в соседней комнате, но все же, вернувшись, Воог оформил ордер-приказ на получение муки. При этом условились, что дополнительные формальности мы закончим в 5 часов вечера.
Я вышел от Воога в настроении, которое словами трудно передать. Быстро пробежал я расстояние от начала Светланской до конца Суйфунской улицы, где в это время в доме под самой сопкой находился председатель облревкома В.П. Шишкин. Операция была одобрена. Надо сказать, что провел я ее самостоятельно, без предварительного согласования. Объясняется это тем, что в условиям подполья мне были предоставлены довольно широкие права на хозяйственные и финансовые операции.
Не мешкая, я разыскал товарища Рогальского и поручил ему договориться с большевиками-железнодорожниками Первой Речки об организации быстрой отправки муки на Сучан.
Пока на мельнице я оформлял получение муки, прибыли рабочие, железнодорожники, для погрузки. Одновременно были поданы вагоны. Не успели мы оглянуться, как необычный поезд из пяти вагонов уже вышел на Сучан. Вся операция была проведена настолько быстро, что обратила внимание управляющего мельницей.
— Служу на мельнице 11 лет, — сказал он, — а такую быструю и дружную работу железнодорожников и грузчиков не приходилось видеть.
Ровно в 5 часов вечера, как уговорились, я был у Воога. Мы быстро закончили оформление формальностей по займу, если так можно назвать нашу сделку. Воог мне говорит:
— Управляющий мельницей крайне удивлен вашей операцией и спрашивает меня: «Кому вы отпустили сегодня пять вагонов муки? Такую быстроту подачи вагонов, погрузки и отправки поезда я раньше не наблюдал!»
— Управляющий, очевидно, шутник, — с улыбкой заметил я, прощаясь с Воогом.
Конечно, и управляющий, и Воог были в то время далеки от разгадки причин нашего успеха. Руководили погрузкой и отправкой муки грузчики и железнодорожники, члены партии и беспартийные большевики. Выполнили они эту работу, конечно, бесплатно. К сожалению, фамилии их в моей памяти не сохранились.
Было 6 часов вечера, когда я вышел от Воога. Он жил по Светланской улице, дом № 1, что против гостиницы «Версаль». Еще не спала дневная жара, и меня потянуло купаться, и тут только я вспомнил, что с утра ничего не ел и не был на работе в бюро Сучанских копей.
Следует добавить, что наш долг «Мукомольному товариществу», согласно обязательству, большевики выплатили в иностранной валюте.
Ошибка
Вскоре после возвращения из Сучана ко мне в бюро пришел председатель Ольгинской земской управы Иван Сергеевич Масленников. Живой, с яркой рыжей могучей бородой и голубыми глазами, весь в черном (френч, галифе и фуражка). А я мысленно представлял его в красной рубашке, плисовых широких штанах, в яловых сапогах, смазанных дегтем, похожим на сундырского русского богатыря с Волги, балагура, песенника и работягу.
Его яркие губы и равные белые зубы улыбались, глаза светились. Но сегодня он был чем-то расстроен:
— Что с тобой? — спросил я.
— Настал час, когда я должен бежать. Иначе не миновать меркуловского застенка.
— Что случилось?
— Случилось то, что можно было ожидать с часу на час. Меркуловцы вспомнили и про наш участок работы: выборных членов управы распустили и назначили новых из числа безработных офицеров. Когда заявился ко мне вновь испеченный председатель управы с погонами поручика, я заявил протест против решения меркуловского правительства о роспуске выборных членов управы и прямо заявил, что не признаю за ним прав председателя и дела не сдам. Офицер ушел от меня, обещав принять меры воздействия.
— И что же ты решил? — спросил я.
— Вчера мы приняли решение: дела, архивы, ценности меркуловцам не передавать. Сам сегодня или завтра выеду в Ольгу и там буду продолжать бороться с меркуловщиной. Я прошу тебя принять имущество и дела управы на хранение до лучших времен.
— Хорошо, примем, — согласился я.
— Ну, теперь я спокоен, — облегченно сказал Масленников.
— Ты-то успокоился, — заметил я, — но я опасаюсь, сижу и думаю: «Не оставишь ли ты «хвост» у меня?»
— Ну, что ты1 Я был осторожен. «Хвоста» не будет, — уверенно заявил Масленников.
Но «хвост», очевидно, был. На другой день в бюро явился меркуловский офицер в чине поручика и отрекомендовался председателем Ольгинской земской управы. Поручик был еще молодой человек, опрятно одетый во все летнее, держался вежливо. При входе его я встал и, не предлагая ему сесть, сказал:
— Я вас слушаю.
— Я пришел к вам по делу управы, — начал офицер. — Мне стало известно, что бывший председатель управы Масленников сдал вам имущество и архив. Я требую вашего распоряжения выдать их моим представителям.
— Господин поручик, — ответил я, — вы информированы неверно. Бюро Сучанских копей никакого имущества на хранение от Масленникова не принимало. Поэтому ничем помочь вам не могу.
Выслушав мой ответ и не сказав ни слова, поручик повернулся на каблуках и ушел.
— Признак нехороший, — подумал я, — на всякий случай надо принять меры. Потом посмотрим, как будут развертываться события. А пока что медлить нельзя.
Дав кое-какие указания моему заместителю, инженеру Ивонину, я быстро ушел из учреждения. И сделал правильно. Не прошло и двух часов после ухода поручика, как за мной пришли из контрразведки белых. Не застав меня в бюро, они долго ждали в помещении, потом дежурили на улице. В бюро я не показывался, продолжая им руководить через связного. Пока агенты контрразведки часами сидели и ждали меня в бюро, я успел переменить комнату.
Собой я был очень недоволен: конспиратор и вдруг такой необдуманный, неосторожный шаг! Согласие принять на хранение имущество Ольгинской земской управы. было ошибкой. В условиях подпольной работы этого делать было нельзя. И вот результаты: провал официального места работы. После этого случая я безусловно попал на серьезную заметку контрразведки белых.
Итак, стали бесполезными документы на имя Элеша.
Через час-полтора после описанных событий по Мальцевской улице, на квартире лодзинского фабриканта обуви Брохиса появился новый жилец. Он был весь в сером: костюм, пальто, шляпа, даже галстук-бабочка. Пришел он налегке: все его имущество состояло из небольшого кожаного чемоданчика и легкой тросточки. И фамилия и имя его теперь были Иванов Федор.
Это была и последняя моя встреча с Иваном Сергеевичем Масленниковым.
Осенью 1921 года в бухте Ольга, вдали от города, высадился отряд меркуловцев. Высадка осталась незамеченной и это дало возможность меркуловцам темной ночью снять часовых и войти в город. Начались аресты большевиков и партизан по списку, заранее заготовленному предателями. Меркуловцы пришли и к дому, где проживал И.С. Масленников. Но он успел выскочить в окно и бежать в лес, но там наткнулся на засаду меркуловцев. Его привезли во Владивосток. В контрразведке, на Полтавской 3, его подвергли пыткам и истязаниям. Там же, на Полтавской, его след затерялся окончательно.
Первый партизанский военный флот
Меркуловцы свирепствовали. Агенты охранки, подобно гончим, рыскали по всем районам города. Аресты, повальные обыски по домам стали обыденным явлением. Опасно стало ночевать на квартире, опасно и у знакомых.
В начале июля 1921 года пришел ко мне Рукосуев-Ордынский с запиской от Володи Шишкина. В ней было два слова: «Сделай все».
Рукосуев снабжался через меня оружием не впервые. В данном случае ему нужны были браунинги и патроны к ним. Получая на другой день оружие, он оказал:
— Здесь и для товарища Потапенко. Он подготовляет угон военных судов.
Я понимал, что угон кораблей из бухты Золотой Рог, буквально из-под носа белых и японских интервентов, было делом весьма рискованным. От исполнителей требовалась большая находчивость, выдержка и редкая смелость. Посильно такое задание товарищам, которые преданы делу до жертвенности.
Вскоре весь город узнал, что партизаны угнали военные корабли. Это была блестящая операция, подрывающая устои меркуловской власти, и яркая демонстрация того, что подпольный облревком действует. В кратких сообщениях об этой операции, молниеносно распространившихся по городу, нельзя было узнать настоящей правды. Более достоверные данные я узнал позже от В.С. Колесниченко.
Идея угона кораблей впервые возникла у партизан Ольгинского района. Дело в том, что с первых дней активной борьбы против меркуловской власти они стали испытывать затруднения в средствах передвижения по побережью. Им стало ясно, что без морских кораблей их деятельность будет связана. Вот тогда-то и было решено добыть корабли во Владивостоке. Приморский облревком партии одобрил идею добыть корабли.
Во Владивостоке появились «мирные» жители побережья: Василий Степанович Колесниченко, Леонид Плутков, Иван Захаров, Сергей Ледников и Глинков. Через подпольную явку В.С. Колесниченко связался с председателем облревкома В.П. Шишкиным, а тот поручил товарищу Потапенко провести подготовку угона кораблей. Решено было угнать военные катера «Павел», «Амур» и «Славянка». Но вскоре «Славянка» ушла в рейс.
Следует отметить, что после меркуловского переворота офицерский состав на кораблях не изменился, да и кадры матросов и кочегаров наполовину сохранились прежние. В числе последних были большевики и сочувствующие нм. В этой среде моряков товарищ Потапенко (сам моряк) был своим человеком. Он сумел увлечь за собой команду обоих катеров. А Рукосуев-Ордынский обеспечил Потапенко необходимым оружием.
Пока команда ожидала момента ухода к партизанам, на катер ночью неожиданно заявился белый офицер и с ним трое штатских. Офицер был высокого роста, высокомерный, властный, с голосом, не терпящим возражений, приказал старшинам катеров отходить на Русский остров.
Старшины, ссылаясь на дисциплину и существующий порядок, отказались, но посоветовали связаться по телефону из сторожевой будки с самим начальником. Последний оказался дома.
— Господин подполковник, — звучал твердый голос офицера, — говорит поручик Соколов. По приказу командира Воткинокого стрелкового полка я должен с солдатами немедленно отбыть на Русский остров переловить большевиков в бухте Воевода. Прошу дать в мое распоряжение катера «Павел» и «Амур». Кстати, не забудьте, господин подполковник, предупредить военный пост о выходе катеров на Русский.
— Да... конечно... конечно... — неуверенно согласился подполковник. — Если разведка, то... терять время нельзя. Ну, что ж, с богом! Желаю успеха, поручик!
«Поручик» не спеша вытащил из кармана платок и вытер испарину со лба. Катера «Амур» и «Павел» быстро отошли от стоянки, миновали стоявшие на рейде корабли и с потушенными огнями направились на Русский остров.
Со сторожевого судна «Маньчжур», где находился военный контрольный пост, катера были замечены. Оттуда последовал запрос:
— Что за суда? Почему без огней?
Поручик по рупору ответил:
— Катера «Амур» и «Павел». Идем на Русский...
Очевидно, подполковник дал соответствующие указания контрольному посту. «Амур» и «Павел» продолжали путь. Скоро силуэт «Маньчжура» растаял в ночном тумане. Последние препятствия остались позади.
— Ну, братва! — громко сказал «поручик». — Не по душе пришелся вам белый офицер, так принимайте же партизана Колесниченко.
Василий Степанович стоял перед ними высокий и стройный. Но это уж не был офицер. Весь его облик неузнаваемо изменился. Совсем не строгий, не высокомерный, а простой, радостный от успеха, он смотрел на матросов веселыми, добрыми глазами.
А матросы между тем изумленно таращили на него глаза и смущенно переглядывались. Видно, такая перемена обстановки их застала врасплох. Дело в том, что они оговорились в удобный момент арестовать офицера и трех белогвардейцев с ним, а при необходимости уничтожить.
Вскоре маленькая флотилия прибыла в Ольгу, радостно встреченная партизанами и населением. Но победа не дается без жертв. В Ольгу не вернулся партизан Глинков. Во Владивостоке его опознали агенты охранки. Его арестовали и увезли на корабль «Маньчжур», откуда обычно арестованные не возвращались. Здесь пропали следы партизана Глинкова.
Используя катера «Амур» и «Павел», ольгинские партизаны активизировали свою деятельность. В разное время ими были захвачены в районах побережья военные корабли «Дыдымов», «Монгугай», «Диомид» и катер «Рында».
Так на побережье организовался первый партизанский военный флот.
Закупочно-транспортное бюро Сучанских каменноугольных копей
Бюро и после моего провала продолжало оставаться главной базой снабжения партизан. Через него было удобно и безопасно посылать обмундирование, обувь, продовольствие, взрывчатые вещества и, маскируя упаковку, оружие.
Бывший заведующий бюро, теперь мой заместитель, инженер Ивонин свое служебное понижение воспринял с полным пониманием обстановки, хотя ему никто не объяснял причину моего назначения. Он хорошо знал, что из отправляемых на Сучан грузов многое предназначалось партизанам, но делал вид, что ничего не знает. И надо оказать, что беспартийный инженер Ивонин до последних дней меркуловщины оставался по отношению к нашему делу и лично ко мне доброжелательным. Фактически он помогал нам. Такой тихоня, как инженер Ивонин, не мог вызвать подозрения у меркуловцев, и мне думается, что он оставался в их глазах безупречным и благонадежным в политическом отношении до конца их режима. Это было очень хорошо для нашего дела.
В первые дни меркуловщины Сучан занимал особое положение. Это была как бы независимая от владивостокских властей республика. Сюда беспрепятственно можно было приехать и уехать обратно, побывать в шахтерских поселках, а если нужно, уйти в села Казаику и Фроловку к партизанам.
Конечно, это очень облегчало мою задачу, тем более, что бюро представляло идеальный аппарат для осуществления нелегальных операций. Трудность заключалась не в транспортировке грузов по железной дороге (в этом нам помогали сотни железнодорожников и работников других транспортных учреждений), а в перевозке их по городу. Владивосток был перегружен военными припасами: ими щедро снабжали белогвардейцев союзники, особенно США. Нескончаемым потоком во Владивосток шли и здесь застревали военные грузы. Теперь они продавались. Продавали их разные проходимцы.
Трудность в нашей работе заключалась также в отсутствии средств. Хотя было все дешево, но надо было все же иметь деньги. Правда, мы уже успели обеспечить партизанские отряды всем, что они просили, на первых порах, без денег.
На очереди стоял вопрос заготовки летнего обмундирования. Сложность здесь была в одном — как добыть кредит и кто нам его предоставит? Мы с А.М. Рогальским долго думали над этим и, наконец, остановились на Славине. С.И. Славин имел большую семью и, в условиях большой конкуренции, малодоходную небольшую пошивочную мастерскую. Когда А.М. Рогальский предварительно успел прощупать настроение Славина, мы пошли к нему вдвоем.
— Я, — заявил нам С.И. Славин, — уверен, что большевики скоро вернутся во Владивосток.
— Да что вы, господин Славин! — воскликнули мы, — большевики не уходили и, как видите, работают!
— Э, это не то, — ответил Славин, — я говорю о власти. Власть меркуловцев не пользуется у населения доверием. Мы смотрим «а них, как на шайку грабителей. Это временные люди, и они держатся японскими штыками. А всякая власть, которая не пользуется доверием народа, не может держаться. Должна рухнуть. Ну, а большевики? Большевики придут скоро. Так думает народ.
— Мы тоже так думаем, — поддержали мы С.И. Славина.
— Вот я и хочу сказать, — продолжал он, — я верю вам и готов предоставить кредит. Но ведь я сам перебиваюсь кое-как, — и, сделав паузу, добавил: — а ваш заказ мне нравится. Крупный заказ для меня, один не подниму. Нет, никак не поднять одному. Поговорю кое с кем. Может быть, сделаем. Понаведайтесь!
А.М. Рогальский продолжал наведываться. Славин искал партнеров несколько дней. За это время я успел переговорить с Арендтом. Немец Арендт — постоянный поставщик Сучанских копей всего, в чем сучанцы нуждались. Кстати сказать, около Сучанских копей вращались и подкармливались в ту пору многие. Все это были маленькие «пиявки», но, как и настоящие пиявки, ненасытные и прожорливые. Сосали они Сучанские копи жадно, уверенно и неустанно. Основные потребители сучанских углей: флот, порт, судоремонтные мастерские и городские предприятия — сами постоянно нуждались в средствах, задерживали расчеты с управлением Сучанских копей, которое поэтому не выходило из полосы финансового кризиса. Этим и пользовались пиявки — коммерсанты, как они любили себя называть. Были среди них более или менее «добросовестные». Арендт принадлежал к более добросовестным из них.
— Славина я знаю с хорошей стороны, — ответил мне Арендт с легким акцентом, добродушно улыбаясь, — и я поговорю с ним, а завтра дам вам окончательный ответ.
А. М. Рогальский, один из участников подпольной большевистской организации в Приморье
На другой день сделка состоялась: принял наш заказ С.И. Славин, а Арендт и третий компаньон, грек Помпадулос, финансировали Славина. Арендт и Помпадулос действовали здесь, исходя из своего отношения, очевидно, к нам, большевикам, и в надежде на сучанские заказы с моей стороны. Но в общем действовали из принципа «деньги не пахнут». Риска у них большого не было. Другое дело — Славин. Он рисковал многим.
«Для кого вы, господин Славин, шьете гимнастерки защитного цвета?» — мог задать ему вопрос любопытный праздный сосед, а вслед за ним и любой меркуловский шпик...
... Не представляла особой трудности и доставка наших грузов на партизанские базы. Мы установили здесь несложный, но верный порядок: грузы обычно отправлялись верными железнодорожниками (кондуктора, проводники). У них находились все документы. На станции Угловая о грузах сообщали нашему представителю Федорову-Минаку (имя и отчество не помню). Данные о грузах Федоров сообщал по связи партизанам. Иные грузы отправлялись с проводником. Выгружались они на какой-либо промежуточной станции Сучанской ветки или принимались партизанами прямо на подводы, а оттуда вывозились на базы. Во всех случаях грузы до самого Сучана не доходили: там стоял японский гарнизон.
Мы с председателем облревкома В.П. Шишкиным условились, что его местопребывание, несмотря на частые перемены, я буду знать немедленно. В свою очередь, он будет знать любой мой адрес. У нас с ним была постоянная связь. Но с другими членами и заведующими отделами подпольною облревкома партии я связи не имел. Та« нужно было в целях конспирации: чем меньше встреч с подпольными работниками, тем меньше провалов. Каждый из нас имел определенный круг обязанностей и не должен был забывать о широкой связи с народом: рабочими, крестьянами, солдатами белой армии. «Надо было, — как любил говорить К. Серов, — добиться того, чтобы почва горела под ногами Меркуловцев и японцев». Эта работа велась кропотливо, непрерывно. Подавляющая часть населения, не говоря уже о рабочих и крестьянах, смотрела на меркуловцев как на временщиков, случайных проходимцев, держащихся только штыками японских интервентов.
На первых порах, мы, коммунисты, действительно ушли в глубокое подполье. И нас не было особо слышно. Лишь активно работали легальные организации: Центральное бюро профсоюзов, рабочий Красный Крест, руководимые коммунистами. Выпускалась подпольная газета «Рабочий».
Меркуловская контрразведка хотела быстро ликвидировать политическое руководство владивостокского революционного пролетариата — коммунистов, их подпольные организации. Они думали, что в небольшом сравнительно городе нетрудно будет разделаться со всеми коммунистами. Вот они и начали устраивать массовые облавы, ловить людей на улицах, в кафе и столовых, применять насилия и пытки. Дом № 3 по Полтавской улице превратился в застенок. Милицейские участки, гауптвахты и тюрьма быстро наполнились арестованными. В основном это были беспартийные, не имеющие никакого отношения к рабочему и революционному движению. Среди арестованных, правда, были коммунисты и комсомольцы, но единицы. Все эти действия контрразведчиков с их массовыми арестами и пытками произвели по городу невероятный шум. Профсоюзы, рабочий Красный Крест, подпольная газета и семьи арестованных протестовали против репрессий. Подняли шум и некоторые буржуазные газеты. Меркуловскому правительству пришлось идти на попятную. Оно и само поняло, что аресты не достигли цели. Некоторых арестованных освободили.
Организационный период и период укрепления партийных сил по всем важным участкам подпольной работы прошел. Настала пара, когда партия должна была по-настоящему возглавить и развернуть борьбу с меркуловским правительством, разоблачать его как кучку грабителей и продажных агентов японского империализма. Облревком партии дал указание всем коммунистам и комсомольцам шире развернуть работу по разложению каппелевских солдат, используя для этого все возможности и средства вести агитацию среди крестьян. И надо оказать, что в этом отношении за короткое время было много сделано.
Однажды Володя Шишкин мне говорит:
— Наш осведомитель передает, что меркуловское правительство, в целях поднятия и укрепления своего авторитета, намерено провести выборы в Народное собрание. До выборов думаем созвать широкую конференцию рабочих. На ней поставим на обсуждение вопрос о всеобщей забастовке, о бойкоте выборов. Подготовим доклад по текущему моменту.
— Это хорошо и своевременно, — сказал я, — конференция всколыхнет рабочих, поддержит их боевую активность. Да и пора приступить к действиям. Но сам ты не должен быть на конференции. Стоит увидеть шпикам твое лицо на конференции, именно здесь, прощай тогда твоя конспирация!
— Нет, сам я не буду на конференции, — ответил Володя, — организацию конференции проводит Серов. А тебе тоже не следует быть.
— Да, ты прав, — ответил я.
После предварительной и тщательной подготовки 26 июня в Народном доме состоялась рабочая конференция. В это время местность около Народного дома превратилась в место прогулок девушек и парней. На самом деле это были комсомольские патрули, охраняющие конференцию от шпиков, Прогуливаясь, они зорко следили за всем происходящим, об опасных моментах немедленно по цепочке сообщали в Народный дом.
Собралось 236 делегатов, представителей крупнейших профессиональных союзов города. На обсуждение конференции были поставлены вопросы о всеобщей забастовке протеста против захвата меркуловцами власти при помощи японских штыков, против произвола, массовых aрестов, ущемления прав профсоюзов, о бойкоте выборов в Народное собрание.
Доклад о текущем моменте сделал Яков Кокушкин. В нем он разоблачил меркуловщину как антинародную власть, обосновал необходимость бойкота выборов. В это время явился представитель меркуловской милиции и, ссылаясь на распоряжение коменданта города, потребовал закрыть конференцию. От него потребовали письменного распоряжения, которого у него не оказалось. Конференция продолжала работу, и представитель милиции вынужден был уйти ни с чем.
Доклад Кокушкина был закончен, когда донесли, что к Народному дому движется большой отряд милиции. На прения не оставалось времени. Приступили к голосованию. За бойкот выборов голосовало 225 человек, против (эсеры и меньшевики) — 7, воздержалось — 4.
Это был ответ владивостокских рабочих на вопрос о признании ими меркуловского правительства. Рабочие ответили «Нет1»
86-й разъезд
В начале июля во Владивостоке появилась Нина Виноградская, она же Бутенко-Антоненко, молодая красивая девушка. Видел я ее один раз, и то мельком: она входила в комнату к В.П. Шишкину, а я выходил. И очень хорошо, что встреча была такой мимолетной. В документе, который она предъявила, указывалось: «... направляется для подпольной работы». Для работника такого плана такая формулировка, мягко выражаясь, была неудачной. Она насторожила Леонида Бурлакова и позволила быстро распознать фальшивку, а также подлинные цели Виноградской. Она оказалась провокатором. К счастью, та быстрота, с которой она была опознана и раскрыта, спасла многих подпольщиков. Но ■все же она успела навредить. Первой жертвой была Нина Буторина, наша связистка, приютившая Виноградскую у себя в комнате. Буторину арестовали. Сама Виноградская, узнав, что она раскрыта, исчезла.
Только что прошла широкая конференция рабочих Владивостока. Началась вторая волна арестов среди молодежи, железнодорожников, судостроителей и моряков. Провалы следовали за провалами. Эти провалы явились результатом деятельности провокаторов и, не в меньшей степени, небрежности в конспирации, которую допускали отдельные товарищи. Эти репрессии и провалы усложнили положение нашей подпольной партийной организации. В связи с этим облревком партии поручил мне срочно связаться с Дальбюро ЦК РКП (б) в Чите и информировать его о положении во Владивостоке и в Приморье.
В Читу в то время можно было попасть по железной дороге только через Маньчжурию. Путь был не из легких. Надо было проехать два семеновских контрольных пункта — Гродеково и Сосновая Падь и две пограничные станции — Пограничная и Маньчжурия. Следовало найти способ для безопасного проезда. Тут я и подумал о голландской фирме Ван-дер-Гувена во Владивостоке. У них переводчиком и агентом работал молодой русский по фамилии Барабанов. Бюро Сучанских копей покупало у этой фирмы семена овощных культур для всего Сучанского района. Поэтому Барабанов часто бывал у меня в бюро.
— Еду в командировку в Харбин, — сказал я Барабанову при встрече на улице, — но опасаюсь Гродеково.
— Знаю, — говорит он, — опасный путь, семеновцы без разбора снимают пассажиров с поезда. — И, совсем посуровев, закончил: — Не завидую вам!
— Да, вы правы, — отвечаю ему, — завидовать нечему.
Немного подумав, хотя все было решено мною заранее, я сказал:
— Послушайте, Барабанов, а ведь вы можете мне помочь.
— Чем же? — быстро отзывается он.
— Дайте мне удостоверение от фирмы Ван-дер-Гувена о том, что я являюсь вашим торговым агентом и командируюсь в Харбин. Это будет все же гарантия. Как-никак, фирма иностранная.
Барабанов посмотрел на меня, улыбнулся. Улыбнулся и я. Мы оба честно работали: он для фирмы Ван-дер-Гувена, я — для моей партии.
— Хорошо, — говорит Барабанов, — поговорю с шефом. Мой шеф, голландец, не одобряет произвол и террор белых. Думаю, что договоримся.
И действительно, в тот же день Барабанов доставил мне хорошо оформленное удостоверение. Я стал «агентом» фирмы Ван-дер-Гувена.
Володя Маленький одобрил удостоверение:
— Ничего не скажешь, документ чистый, но посоветуйся с товарищем Еремеевым. Может быть, он найдет более верный способ.
Получив адрес, я отправился в Куперовскую падь, где на втором этаже полукаменного дома жил Еремеев. На звонок дверь открыла жена Еремеева.
Вскоре появился и сам Еремеев. Он был ростом ниже среднего, сухощавый, с оспенными крапинками на лице. Я рассказал о цели своего прихода.
Он ответил просто:
— Устроим! В нашем поезде бригада кондукторов состоит из коммунистов и сочувствующих. В почтовом вагоне тоже свои. Поезд отправляется завтра утром. К этому времени я все подготовлю.
Далее он сообщил, что они меня посадят в почтовый вагон. Там есть продолговатый ящик для посылок. Во время стоянки поезда на станциях Гродеково и Сосновая Падь, где контрольные посты, мне придется залезать в этот ящик.
— Полной гарантии безопасности, конечно, нет, — заявил Еремеев, — ящик могут проверить. Но таких случаев при мне не было.
— Если в таком ящике меня откроют, — подумал я, — то есть полная гарантия погибнуть...
Я решился все же ехать в ящике.
Точное число не помню. Это было в середине июля. Одет я был легко: белый чесучевый костюм, соломенная шляпа, пыльник, щегольская тросточка. На вокзале Первой Речки я сел в почтовый вагон. В кармане у меня были два паспорта (русский и китайский) на имя Михайлова Федора Михайловича и удостоверение о том, что я торговый агент голландской фирмы Ван-дер-Гувена. Самый опасный отрезок пути Владивосток—Пограничная я благополучно проехал в ящике и, как только прошла последняя проверка пассажиров, пересел в международный вагон. Поезд от Владивостока до Пограничной идет 12 часов. Время, казалось бы, короткое, но мне оно показалось очень долгим. Мало того, что в ящике было душно и жарко, но еще и голодно, так как я не догадался захватить с собой что-нибудь из еды.
Не останавливаясь в Харбине, я проехал до станции Маньчжурия. В этом пыльном и песчаном китайском пограничном поселке больше половины населения было русских белогвардейцев. Знакомых не было и посоветоваться не с кем. Связаться по прямому проводу с Читой я мог только с территории Дальневосточной республики (ДВР), то есть перейдя границу. А как ее перейти? Теперь весь вопрос заключался в этом.
Ближайший от границы разъезд назывался тогда 86-й. Он находится в 4—5 верстах. Я понял, что совершил ошибку. Мне нужно было бы в Харбине сделать остановку, получить от председателя партбюро в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги, Якова Минскера, явку в Маньчжурии. И теперь у меня был бы верный совет.
Сожалеть об этом было поздно, так как Харбин я проехал. Решил держать совет с легковым извозчиком. Подхожу к одному из них, китайцу, спрашиваю.
— Не повезешь ли меня до русской пограничной заставы.
— Можана.
— Китайские пограничники не задержат?
— Сейчаса не задержат. Сейчаса жарко, китайска солдата сепи-сепи есть.
Солнце стояло в зените. Было безветренно и жарко. На улицах почти никого: все прятались в прохладе.
— А если задержат, что могут сделать?
— Денега есть? — спросил извозчик, — надо мала-мала плати есть.
Я подумал, посмотрел в сторону 86-го разъезда. Он виден, рукой подать! Другого выхода нет. Мы договорились и поехали. Вначале он почему-то поехал вдоль границы на Восток, а потом, круто повернув налево, направил лошадь прямо на русскую заставу. Конечно, я ехал беспокойно, оглядываясь по сторонам. Все думал: «Вот погоня!» Было кругом так тихо, даже не было слышно лая собак, и с маньчжурской стороны не было видно людей. А возчик, видно, хорошо знал направление. Вскоре мы оказались за невысокой возвышенностью, и поселок Маньчжурия скрылся от нас.
На разъезде меня встретили наши пограничники и повели к начальнику заставу, где потребовали у меня документы. Показав русский и китайский паспорта на имя Михайлова и удостоверение фирмы Ван-дер-Гувена, я сказал:
— Других документов у меня нет. Я из Владивостока. Приехал сюда по заданию Приморского облревкома партии. Мне нужно срочно связаться по прямому проводу с Дальбюро ЦК партии, с товарищем Буйко или с кем-либо из членов Дальбюро.
Начальника заставы особо привлек документ иностранной фирмы, и он внимательно и долго его рассматривал.
— Есть ли у вас документ, подтверждающий ваши слова? — спросил он.
— Таких документов у меня нет. Их и не нужно. Но независимо от всего я прошу вас, не задерживая свяжите меня по прямому проводу с Читой. Тогда вы, кстати, и сами получите быстрый ответ на все ваши сомнения.
Начальник поста быстро понял, что в данном случае действительно единственно правильный выход из положения — связаться с Читой.
А.М. Буйко оказался у себя в кабинете, и связь с ним была поэтому установлена. Быстро застучал аппарат Морзе:
— Говорит Элеш. Здравствуйте, Александр Михайлович! Только что прибыл из Владивостока с поручением облревкома связаться с вами и рассказать о наших делах.
Подробно, насколько позволило время и место, я информировал о проведенной забастовке, о многочисленных арестах, о настроении населения, о положении в Приморье, о нуждах подпольной организации и помощи, которая нам нужна. А.М. Буйко ответил мне, что они учтут мою информацию, помощь нам и людьми и материальными средствами будет. Буйко пожелал мне благополучного возвращения, и наш разговор на этом закончился.
Мне и дальше повезло: еще в пору дневной жары мы вернулись на станцию Маньчжурия. И никто нас не встретил: китайские солдаты-пограничники все еще продолжали спать.
В тот же день я выехал с тем же поездом, на котором прибыл, обратно во Владивосток, нигде не задерживаясь. Отрезок пути Пограничная — Владивосток проехал как обычный пассажир, полагаясь на удостоверение фирмы Ван-дер-Гувена. Оно помогло.
Не так-то уж мы наивны
По возвращении из командировки в Китай, я в тот же день побывал у Володи Шишкина и сделал ему сообщение о моих переговорах по прямому проводу с Буйко. Вскоре пришел А. Коврашицкий. Он, как всегда, взвешивая каждое слово, неторопливо начал:
— Встретил сегодня бывшего начальника областного управления. милиции Попова. Он просил меня передать содержание разговора с одним японским штабным офицером, близким к генералу Тачибана.
— Что же заявил этот близкий к Тачибана офицер? — спросил В.П. Шишкин.
— Офицер заявил, — продолжал Коврашицкий, — что политическая обстановка на Дальнем Востоке становится для японского командования более сложной, чем до сих пор, и что в настоящих условиях было бы более приемлемым старое антоновское правительство, чем меркуловское. «Не скрою, — добавил этот офицер, — японское командование не прочь оказать свое содействие возвращению антоновского правительства».
— Нет, Андриан Михайлович, — сказал Шишкин, — твое сообщение оригинальностью не блещет. Подобные провокационные заявления мы не раз слышали от представителей японского командования. Заявление японского офицера не заслуживает доверия. Наоборот, после этого мы должны насторожиться и задать себе вопрос: «Какую пакость готовят нам японцы?» Давай договоримся, Андриан Михайлович, — дал указание В.П. Шишкин, — всякие встречи и разговоры с японским офицером прекратить. Встретишь Попова, передай то же самое и ему. Учти, что любые дипломатические переговоры с представителями иностранного государства — это не наше дело, а правительства ДВР.
Но дело, оказывается, этим не кончилось. Прошло несколько дней. Я снова был у Шишкина. Он мне сказал:
— Сегодня у меня был Коврашицкий и говорил, что тот самый японский офицер,, что близок к генералу Тачибана, снова встретился с Поповым и стал уверять его в том, что японское командование окажет активное содействие возвращению антоновского правительства.
— Ну, а ты как? Веришь этим сказкам?
— Нет, конечно! Но интересны мотивы, которые приводил при этом японский офицер.
— Какие именно?
— Офицер, как передал мне Коврашицкий, так мотивировал позицию японского командовании
1) успехи советской дипломатии и Раппальский договор с Германией сильно подняли престиж Советской России;
2) разгром польской армии, неофициально руководимой французским маршалом Вейганом, неожиданно показал возросшую силу Красной Армии;
3) общественное мнение государств Антанты и Америки против вмешательства в гражданскую войну и решительно против любой формы интервенции в России;
4) за последнее время и в самой Японии также усилилось движение против интервенции в Сибири;
5) с приходом меркуловского правительства прекратилась всякая торговля Японии с Россией. Возвращение антоновского правительства означало бы возможность широких экономических связей России с Японией, развитие торговли, выгодной обеим странам.
— Попробуем проверить японцев. У нас для этого будет полная возможность.
— Какая? — спросил я, не понимая.
— Мы готовимся ко всеобщей забастовке. И в ходе забастовки проверим японцев.
Около 20 июля на заседании ревкома партии был окончательно решен вопрос о всеобщей забастовке и назначен срок: с 27 по 31 июля включительно.
Было решено, что Центральное бюро совета профсоюзов предъявит меркуловскому правительству общее требование: прекратить массовые аресты, повальные обыски и облавы, пытки арестованных, расстрелы и убийства; сохранить в неприкосновенности восьмичасовой рабочий день, право собраний и демонстраций.
Временный председатель исполбюро (председатель Ф. Третьяков находился в командировке в Чите), член облревкома партии К. Серов собрал исполнительное бюро, и на нем был организован стачечный комитет, который сформулировал свое требование меркуловскому правительству, предупредив, что в случае его отклонения будет объявлена всеобщая забастовка.
Облревком партии одновременно решил выяснить намерения японского командования. В этих целях было дано указание «секретно» распространить слух, что облревком распорядился подтянуть партизанские отряды к городу я ведет подготовку рабочих дружин и профсоюзов к восстанию.
Меркуловцы, как можно было ожидать, требования отклонили. Тогда Центральное бюро призвало рабочих и служащих начать всеобщую забастовку. Это была знаменитая июльская забастовка, поразившая интервентов и белых своей организованностью. Город погрузился во тьму, остановились предприятия, поезда и трамваи, закрылись магазины. Жизнь замерла. Связь со Второй Речкой, Угольной и Раздольным была прервана. Железнодорожный мост на реке Лянчихе — взорван.
Стан белых охватила сильнейшая тревога. Меркуловское правительство было в панике. Оно мобилизовало все пароходы, и началась спешная погрузка ценного казенного имущества и семей членов правительства. «Правители» готовились к бегству за границу, подобно незадачливому Розанову. Контрразведка усилила репрессии и аресты.
Японцы, будучи в «курсе» наших планов, проявили исключительную активность: они быстро стянули к Владивостоку два корпуса и броневики, усилили в городе посты и патрули, белым стали выдавать пулеметы, винтовки.
Все стало ясно. Японцы выдали себя с головой. Приглашая партизан войти в город, а большевиков выйти из подполья, они рассчитывали одним ударом обезглавить революционные силы Приморья, разгромить партизан, рабочие дружины и профессиональные союзы.
Какая наивность!
Для чего нужна была эта провокация японцам, стало нам понятно несколько позднее. Меркуловский переворот и наступление Унгерна на ДВР через Монголию были по существу наступательными маневрами японского империализма. Но унгерновская армия, имевшая в своем составе до 15 тысяч сабель и штыков, щедро снабженная японцами, была ликвидирована. Японский империализм не мог остановиться на полпути. Он стал усиленно готовить и снабжать каппелевское и семеновское белое войско на новое наступление (против ДВР, теперь уже через Хабаровск. А для этого японцы хотели иметь свободный от партизан и революционного пролетариата тыл. Но, как видим, японцы здесь не достигли своей цели: партизаны и организованный революционный пролетариат продолжал здравствовать и действовать.
Без пристанища
Как-то в конце июля я возвращался домой. Было около пяти часов вечера. На тропинке-косогоре Мальцевского оврага встретил соседку.
— Не ходите на квартиру, — говорит она скороговоркой, — там милиция. Когда я шла сюда, она производила обыск в вашей комнате.
Я был взволнован не столько той опасностью, которая мне угрожала, сколько отношением ко мне, большевику, людей. Долго раздумывать не приходилось. Я поблагодарил соседку и всех, кто заботился о моей безопасности, и, сообщив ей, что на квартиру к Брохису не вернусь, простился. Временно устроился в общежитии Центросоюза, что находилось в Голубиной пади. Но там меня кое-кто знал как большевика. Пришлось с этим пристанищем расстаться, было опасно. На Суйфунской улице (номер дома не помню) прожил около десяти дней. Но и здесь жить стало опасно: стало часто заглядывать во двор, между прочим очень оживленный, много подозрительных лиц. Пришлось несколько ночей провести на Ключевой улице, у Вахмистрова. Затем в Куперовской пади у проводника международного вагона Еремеева. Два дня пробыл в домике церкви Преображения и т. д. и т. д. Одним словом, полностью перешел на кочевой образ жизни.
В эту пору, как-то в частной столовой в Новом переулке, А. Рогальский познакомил меня с неким Сольцем, назвав его коммерсантом. У нас зашел разговор о бикфордовом шнуре (мы получили новую заявку). Следующее свидание с Сольцем по этому поводу я назначил на другой день в 12 часов, в кафе Букреева и, прощаясь, назвал себя лодзинским коммерсантом Ивановым. Ровно в назначенное время я был в кафе, где и встретил Сольца. Положительного ответа он не дал, и я быстро пошел к выходу. Но когда проходил мимо комнаты буфетчицы, меня окликнули. Оборачиваюсь и вижу А. Зайцеву. Я знал ее еще с 1916 года по городу Павлодару. Это было большой неожиданностью для меня. Живо воскресли в памяти прежние наши встречи. Все тогда началось со свадьбы ее племянницы, куда приглашен был и я. Там я и познакомился с Антониной Васильевной. И вот теперь, через много лет, мы встретились снова, разговорились. Мне хотелось узнать, как она, жена крупного скотопромышленника, очутилась во Владивостоке. Причина оказалась обычной для тех времен: наступала Красная Армия, колчаковская отступала, а с ней и те, кто не хотел принимать Советскую власть и имел средства. Вот она с семьей и очутилась во Владивостоке. Со временем средства иссякли, и она стала буфетчицей.
Пробыл, я у ней недолго. Когда собрался уходить, она сказала, указывая пальцем:
— Идите в эту дверь!
— Куда она выходит? — спрашиваю.
— Во двор и на Алеутскую.
Я простился с ней и вышел во двор и на Алеутскую.
Через несколько дней на углу Алеутской и Светланской, у аптеки Боргеста, я встречаю Сольца. Увидев меня, он круто повернулся и быстро стал уходить по направлению к гостинице «Версаль». Но так как он не дал мне по делу окончательного ответа, я догнал его. Не успел и слова сказать, он сердито, почти шепотом оборвал меня:
— Не говорите со мной. Это опасно! Уходите, оставьте меня!
В полнейшем недоумении я ускорял шаг я пошел к Рогальскому. Сольц, оказывается, был у него и рассказал все, что с ним приключилось.
После моего ухода из кафе Сольц не торопясь допил свой стакан кофе и вышел единственным для посетителей ходом на Светланскую улицу. Здесь его при выходе на улицу остановили два офицера и спросили: «Куда исчез Элеш?» Тот, естественно, мог ответить только одно, что никакого Элеша он не знает, а вел деловой разговор в кафе с Ивановым. Ему, конечно, не поверили и повезли на Полтавскую, 3, в контрразведку, Сольца продержали там два дня, выбили у него «на память» зубы, но добиться, конечно, ничего не могли.
Обычно я имел святую привычку входить в одну дверь и выходить в другую, если была возможность. В данном случае эту возможность мне показала Зайцева. Это меня и спасло.
В моей беспокойной жизни я больше Зайцеву не встречал. Так и не удалось мне поблагодарить ее за эту большую услугу.
До сих пор разведка гонялась за нами вслепую. Мы знали, что она рыщет по нашим следам, находит эти следы, но мы были уверены, что в лицо нас не знает. И я, и многие товарищи, меняя фамилию, ускользали от нее. Еще до того как она оформила ордер на арест Элеша, я стал Ивановым. После Иванова — стал Федоровым. Меня в это время знали только как Элеша, Иванова, Федорова, но не знали в лицо.
Теперь положение изменилась: разведка, оказывается, знала меня.
Скоро я устал жить без угла. Нашел отдельную, правда неважную комнату на Семеновской улице, но с удобным двором, имеющим два выхода, да и квартира в нижнем этаже имела два выхода. Прописался под фамилией Михайлова. Зажил как будто сносно. Через несколько дней хозяйка — жена старшего из трех братьев, владельцев дома, еще очень молодая и миловидная особа — завела со мной разговор:
— У нас в доме большевиков не любят. Все три брата офицеры.
— А вы как? — опрашиваю ее.
— Я безразлична. Был бы человек, — отвечает она. Но вот вы, мне почему-то думается, большевик.
— Из чего вы заключили, что я большевик?
— О, я очень наблюдательна, — отвечает она, — вы непохожи на других, которые меня окружают. Вот хотя бы то, что у вас нет имущества, вы не пьете, в карты не играете, много читаете. В ваших отношениях и разговорах чувствуется человечность. В общем, что-то есть такое, что отличает вас от других. Вот я и подумала, что вы партийный.
— Вот уж не думал, — говорю я ей, смеясь, а сам не на шутку встревожился, — что вы имеете способность быстро определять человека. А я вот живу у вас четыре дня, ежедневно встречаюсь с вами по нескольку раз, но ничего о вас не знаю, кроме одного факта.
— А какого именно? — с женским любопытством, быстро спросила она.
— А то, что вы с мужем не в ладах.
— Откуда вы знаете? — спросила она, невольно выдав этим себя.
— Как и вы, — ответил я, — сказал это в шутку.
Вот и еще моя ошибка! Полез в логово белогвардейцев, не выяснив предварительно, что за люди хозяева квартиры. Надо уходить, и быстро!
В тот же вечер я пошел скитаться. Ночевал на Первой Речке, в Рабочей слободке, на Эгершельде; у разных знакомых. Но чаще всего я оставался на ночь у большевика Анастаса Пантелеймоновича Мариото. Кристально честный, глубоко преданный нашей партии, товарищ Мариото (по национальности грек) очень хорошо помогал революции. Квартира его была в центре города (угол Алеутской и Светланской, дом Бабинцева), с телефоном, что представляло большое удобство. Мы всемерно оберегали возможность для товарища Мариото работать легально (он был управляющим отделением Московского народного банка)9.
Кольцо вокруг меня постепенно смыкалось, но надо было работать. Надо было добывать оружие и снаряжение. Для этого приходилось прибегать к помощи малоизвестных, недостаточно или совсем не проверенных людей, а иногда действовать вслепую. Это были, главным образом, военные, состоявшие на службе в частях белых войск. Работа была сопряжена с риском. Приведу один пример.
Товарищ Михайлов, наш шофер, сообщил мне, что какой-то каппелевский полковник предлагает оружие. Вначале я не придал этому серьезного значения и от встречи с офицером отказался. Через несколько дней полковник вновь напомнил о себе. Совпало это с теми днями, когда вплотную вставал вопрос; о подготовке восстания. Надо сказать, что еще в июле Приморским облревкомом партии от Дальбюро ЦК партии было получено указание организовать агитационную работу по разложению каппелевских войск и подготовке восстания. Военно-техническим отделом облревкома эта работа была поручена группе товарищей, которую возглавлял Рукосуев-Ордынский. Группа проводила работу столь успешно, что подготовка восстания в каппелевских частях к октябрю была уже закончена. Подготовка восстания одновременно проводилась и в рабочих дружинах. Такова была обстановка. И я дал согласие на встречу с полковником каппелевских войск и назначил место, на пустыре перед Каботажной пристанью.
В назначенный день и час сопровождали меня на свидание, наблюдая издали, товарищи Михайлов, Крепачев и комсомолец (фамилии не помню). Полковник, по национальности татарин, предложил четыре ящика винтовок и пять пулеметов. Сдача — приемка — Русский остров в удобный для нас день.
— Но, — заявил полковник, — задаток 200 йен сегодня же, иначе я не сумею подготовить оружие к сдаче.
Я заметил полковнику, что требование им задатка едва ли говорит о серьезности его предложения. Но он продолжал настаивать на задатке. Было ясно, что он хочет сорвать с меня 200 йен. Меня охватило сильное беспокойство. Полковник был вооружен. Я же, выполняя условие, стоял перед ним безоружный.
— Денег у меня нет! — сказал я полковнику грубо. — А вот посмотрите, — показываю ему на моих сопровождающих, — моя охрана.
Героизма во мне не больше, чем у рядового человека, и чувство страха развито не больше. За все время этого странного свидания чувство боязни не оставляло меня. И вот когда полковник уже скрылся и ко мне присоединился Михайлов, я не выдержал и сел.
Гибель товарищей и массовые аресты
Меркуловская охранка свирепствовала. Сотни арестованных активных рабочих и общественных деятелей томились в застенках. В бухте Золотой Рог то и дело находили трупы замученных и убитых, Бесследно исчезали те товарищи, которых меркуловские контрразведчики арестовывали без прокурорского ордера.
В этой обстановке (точную дату не помню, но это было в первых числах октября) я получил от В.П. Шишкина шифрованную записку. Он писал: «Приходи в 5 часов вечера в аптеку доктора Блачева на Первой Речке. Там спроси Романа».
Доктор встретил меня и провел по крутой лестнице на второй этаж, и, сверх всякого ожидания, я увидел там Р.А. Цейтлина. Он отрастил окладистую черную бороду, был одет как самый обыкновенный крестьянин. Во Владивостоке он находился уже несколько дней.
Р.А. Цейтлин, один из руководящих партийных работников на Дальнем Востоке, убит белогвардейцами в 1921 г.
Цейтлин прибыл по решению правительства ДВР от 18 августа 1921 года, в котором сказано: «IV. Назначить Романа Абрамовича Цейтлина уполномоченным правительства Дальневосточной республики в Приморской области по регулированию административной жизни и по устранению недоразумений и столкновений между общественными группировками...» Вернее — целью его деятельности в подпольном Владивостоке была работа по объединению общественных сил, настроенных против японской интервенции, для борьбы с меркуловским режимом и японской интервенцией.
При первой встрече наш разговор был очень коротким. Роман Абрамович мне:
Цейтлин лишь сообщил
— Прибыл помогать облревкому партии в работе. И нам с тобой придется работать вместе.
— Ну что ж, — сказал я, — будем работать.
— Сегодня мы не успеем ни о чем поговорить. Нет времени. Ко мне вот-вот заявится Линдберг10. Но завтра в 7 часов вечера мы встретимся с тобой у редактора газеты «Голос Родины», Кауфмана. Адрес его — Ботаническая улица, дом № 11, второй этаж.
На другой день в назначенное время я был там. Меня встретил прежний Цейтлин, всегда изящный, гладко выбритый и, весело поздоровавшись спросил:
— Ну, рассказывай, как живешь? Вид у тебя, как вижу, неплохой!
— Живу неплохо, — в тон отвечаю ему и в шутливой форме продолжаю, — весь город в моем распоряжении, скитаюсь по нему как по своей вотчине, да только порой трясусь как осиновый лист.
— В условиях подполья это неизбежно, — говорит он, — но унывать не будем. Однако перейдем к делу. Положение складывается так, что мы неминуемо приближаемся к малой войне.
Прежде всего отметим, что политическое положение республики требовало срочного решения основного вопроса — установления единой формы управления по всем ранее разрозненным областям. Как известно, в Амурской и Забайкальской, областях, да и в некоторых районах Приморья существовала Советская власть. Надо было попятиться назад, создавать демократическую республику. Многим этого не хотелось. Но все это теперь прошлое, все недоразумения остались позади.
Новостью был его рассказ о борьбе по ликвидации Унгерна. Правда, мы имели кое-какие сведения о деятельности Унгерна, но в местных буржуазных газетах сообщалось, что он собрал огромные силы и наступал на Иркутск и Верхнеудинск. Оказывается, Унгерн действительно собрал на монгольской территории белогвардейские шайки и увеличил свою дивизию до 14 тысяч человек. Японская миссия в Харбине всячески помогала ему оружием и продовольствием. В конце мая Унгерну удалось вторгнуться на территорию Забайкалья и занять ряд деревень в 10 и 20 километрах от Троицкосавска. Группа из дивизии генерала Разухина прорвалась на территорию Бурят-Монголии в районе Ванкурена и подошла к Селингинску, заняв кожевенный завод. Однако на этом успехи Унгерна закончились. В ночь на 13 июня войска Унгерна были окружены частями Народно-революционной армии ДВР и были разгромлены, а 24 августа его части были окончательно уничтожены. Сам Унгерн вместе со своим штабом был взят в плен и отправлен в Новосибирск, где был осужден и расстрелян.
— А каково экономическое положение? — спросил я.
— Тяжелое, — ответил он, — но улучшается.
Далее он отметил, что меркуловский переворот усложнил положение: мы снова на пороге войны. Подстрекаемые японскими интервентами, каппелевцы и семеновцы уже готовы к выступлению против ДВР. Во Владивостоке поэтому мы должны действовать и держать тыл врага в постоянном напряжении, а при благоприятной обстановке организовать вооруженное восстание в городе.
— Но организация вооруженного восстания, — продолжал Р.А. Цейтлин, — дело сложное и требует больших средств, а Чита дать их не может. Поэтому для подготовки восстания мы должны изыскать средства на месте. Этим мы с тобой и должны заняться.
— Добывать деньги во Владивостоке нелегко. Что касается вооружения, то его легче достать, но за деньги. Меркуловские военные и чиновники вконец разложились и способны продать что угодно. Кроме того, в добывании вооружения и снаряжения нам поможет чех Шуман. А деньги нужны!
— Деньги мы добудем, — заявил Цейтлин.
— Знаешь ты Яворского? — спросил он.
— Якова Кривого? — переспросил я, — знаю!
— Вот у него мы и добудем деньги! — заверил Цейтлин.
Яков Яворский, старый холостяк, владелец нескольких доходных каменных домов по Мальцевской улице, был известен своей чудовищной скупостью. Поэтому уверенности Цейтлина я не поддерживал, но не стал и разочаровывать его.
— Что ж, попытаемся, — сказал я.
На листке плотной бумаги, размером в вексельный бланк, Цейтлин от имени Приморского облревкома написал коротенькую записку Яворскому с просьбой выдать заимообразно десять тысяч йен и крупными буквами расписался: «Цейтлин».
Мы простились. Я засунул записку под перчатку и вышел. Но только успел опуститься с лестницы, которая соединяла первый и второй этажи дома, и хотел было открыть дверь на улицу, как она сама распахнулась и я увидел входящих военных. Молнией пронеслось: «Погиб товарищ Цейтлин». Вооруженная группа заставила меня вернуться. Пока поднимались по лестнице, я всячески старался сбросить с левой руки перчатку, чтобы в темноте осторожно выбросить записку. Трудно было допустить, что я не буду обыскан. Но плотная бумага при малейшем движении предательски шуршала. Мы поднимались в абсолютной тишине. Слышно было, как шуршит листок в моей руке. Офицер закричал: «Что у вас там шуршит?» Я ответил что-то невразумительное. Наконец мы поднялись. Дверь, заложенную на цепь, открыла жена владельца квартиры Кауфмана. Это была женщина видная, высокая, с пышными волосами и, пожалуй, красавица. Она приветливо пригласила всех войти. Выражение лица офицера и тон его быстро изменились. Он очень вежливо сказал, что целый вечер ищет дом № 12 по Ботанической улице. Жена Кауфмана объяснила, что их квартира в доме № 11, а дом № 12 рядом (Ботаническая улица была застроена только с левой стороны). Офицер извинился и вместе с солдатами ушел. Я снова зашел к Р. Цейтлину. Он так же, как и я, был встревожен.
Несколько слов о доме № 12. Оказывается, там жил коммунист Токаринин. Настоящая его фамилия была Скворцов, Тихон Федотович. В эту ночь он был арестован и просидел в тюрьме до освобождения Приморья в октябре 1922 года.
... На другой день я нашел Якова Яворского только около 11 часов утра. Приняв от меня записку Цейтлина, он очень долго и внимательно ее изучал, будто обнюхивал, а потом, рассыпавшись в вежливых извинениях, все повторял:
— Как жаль, ах, как жаль! У меня, как назло, именно теперь нет ни копейки наличных денег. Все находятся в обороте!
Зная Яворского, я не огорчился его отказом. Вернулся к Цейтлину, у которого застал одного из лидеров эсеров-интернационалистов Мансветова, как всегда неряшливо одетого, с нечесаной рыжей бородой и огромной рыжей шевелюрой. Как видно, Цейтлин приступил к своей работе по консолидации общественных сил. Он сидел на кровати, а могучий Мансветов, сидя на единственном стуле, занял все остальное пространство. Незаметно для Мансветова я дал знать Цейтлину, что моя миссия к Яворскому закончилась неудачно.
На следующий день я получил записку, в которой Р. Цейтлин просил меня к 8—9 часам вечера быть на квартире врача Моисеева, при Згершельдской больнице.
Около половины девятого, когда я подходил к больнице, еще издали заметил, что возле квартиры врача творилось что-то неладное: стояли пролетки, дом был оцеплен. Стоять и наблюдать было небезопасно. Я ушел, полный тяжелых предчувствий и провел ночь на квартире у А.П. Мариото. Сам Мариото с женой жил на даче. У меня был ключ от его квартиры. Рано утром ко мне пришла связная Таня Чукашева с запиской от В. Шишкина. Он сообщал, что на квартире Моисеева убит Р. Цейтлин, арестованы мать врача и А. Рогальский. Через некоторое время был арестован и сам врач Моисеев.
На другой день я получил записку от В.П. Шишкина. В конце записки он писал: «Береги себя, днем не выходи. Ночевать буду у тебя».
Как только стемнело, Володя пришел с ночевкой. Его трясла лихорадка. Я спрашиваю:
— Что с тобой? У тебя лихорадка?
— Видимо, — отвечает он, — прошлая ночь сказывается. Сильно лихорадит. Устрой, пожалуйста, горячий-горячий чай, да не найдется ли у Мариото в шкатулках хинин или аспирин. Ну и ноченька была. Такая ночь вовек не забудется. Вчера вечером мы с Ильюховым должны были встретиться с Цейтлиным, но оба были заняты и быть у него не смогли. Ночевать я пошел к Рогальскому. Но когда я уже раздетый лежал в постели, к нам нагрянула с обыском разведка. Одеться не было времени. В одном нижнем белье я выскочил в окно и повис на карнизе над обрывом на высоте второго этажа. Ночь была ветреная, холодная. Обыск продолжался более двух часов, и я здорово озяб. Как я смог продержаться так долго, не могу понять. Очевидно, было огромное желание жить и бороться. Внизу, на дне обрыва, торчали крупные, острые камни. Там была верная смерть. После обыска, часа в 3 ночи, я пошел на конспиративную квартиру Ильюхова на Вороновской улице и пробыл у него остаток ночи.
— Жалко Романа, — сказал я, — но не будем гадать как это произошло. Могло быть хуже!
Охваченные тревогой, мы долго не могли уснуть, вновь и вновь переживали события, не находили слов. Мы были уверены, что после убийства Р.А. Цейтлина меркуловская контрразведка с еще большим остервенением будет продолжать свое гнусное дело.
Уже после того, как А. Рогальский был освобожден из тюрьмы, я узнал подробности этого убийства. Было около 8 часов вечера. Мать врача Моисеева, Цейтлин и Рогальский сидели в столовой и ужинали. В это время бесшумно открылась входная дверь, и в столовую вошли два офицера. Р. Цейтлин быстро встал и побежал по лестнице, ведущей в мезонин. Раздался выстрел, и Цейтлин упал с лестницы навзничь. Он был убит наповал.
Неделей раньше наша подпольная организация понесла еще более тяжелые потери: была раскрыта группа агитаторов, проводившая работу среди солдат каппелевских войск. В группу входили В.И. Рукосуев-Ордынский, П.Г. Пынько, грузчик В.В. Иванов, рабочий Дальзавода Пашков, Портных и другие. Все эти товарищи работали под руководством военного отдела Приморского облревкома партии. Ими ставилась задача, сагитировать на восстание каппелевские части. Работа была опасная. От каждого требовалась исключительная выдержка, непреклонная воля и строжайшая конспирация. Члены группы отвечали этим требованиям вполне.
Руководил группой Василий Иванович Рукосуев-Ордынский. Бывший кадровый офицер царской армии, он пришел в партию в самое тяжелое для Советской России время, в начале 1919 года. В 1920 году он — командир полка во Владивостоке. Меркуловский переворот застает его на должности воинского начальника на Эгершельде. После переворота он остается на подпольной работе. Я знал его и встречался с ним. Выше среднего роста, стройный и худощавый, он держался всегда по-военному собранно и, вместе с тем, удивительно просто и скромно. На его красивом, выразительном и суровом лице редко появлялась улыбка. Но когда улыбка появлялась, суровость исчезала, и являлось другое лицо, доброе и привлекательное. В разговоре он был краток и выразителен.
Вместе с Рукосуевым-Ордынским в группе работал Павел Георгиевич Пынько. Он принадлежал к славной плеяде революционных солдат Владивостокского гарнизона. Февральская революция 1917 года застала его при штабе крепости писарем. Солдаты вскоре после революции откомандировали его во Владивостокский Совет рабочих, солдатских и матросских депутатов. Во время чехословацко-белогвардейского переворота его арестовали и заключили в чехословацкий концлагерь. В конце 1918 года, после освобождения из концлагеря, он работал в кооперации, выполнял поручения подпольной организации большевиков. При свержении колчаковской власти 30—31 января 1920 года во Владивостоке Пынько принимает активное участие и по установлении власти Приморской земской управы работает в особом отделе Военного совета. Руководил отделом Константин Пшеницын. Там впервые я и встретился с Пынько. По характеру и наружному виду он во многом напоминал Рукосуева-Ордынского. Был таким же собранным, скромным и простым в обращении. Было приятно смотреть на его красивое, всегда с легким румянцем, открытое лицо с правильными чертами.
Других участников группы — Иванова, Пашкова, Портных и других — я лично не знал. Но одно уже то, что они были призваны для такой важной и опасной работы, говорит о многом. Общее между ними было то, что все они бывшие военные, хорошо знали быт солдат. Ими были вовлечены в заговор несколько офицеров. Как дальше увидим, это было непоправимой ошибкой. А пока что в каждом подразделении у солдат были проведены нелегальные собрания и созданы руководящие ячейки. В августе и сентябре состоялись совещания делегатов от солдат. На одном из них участвовал Яков Кокушкин.
В последних числах сентября — это было у Володи Шишкина — Рукосуев-Ордынский делал сообщение о ходе подготовки восстания. Надо было тогда видеть Рукосуева-Ордынского. Обычно суровое лицо его преобразилось. Черты смягчились, выражение грусти исчезло, глаза повеселели и смотрели на нас по-умному и доброму. В них выражалась любовь и бесконечная преданность. Если хотите, это сентиментальность. Да, мы, подпольщики, не лишены были тогда сентиментальности и некоторой романтичности. Необычного в этих чувствах ничего не было. Когда на каждом шагу нас подстерегала опасность, мы очень чутко и бережно относились друг к другу. Это было не только уважение. Здесь была и глубокая преданность делу и высокое доверие к товарищам. Это были хорошие чувства. Они укрепляли наши силы, вселяли уверенность, были большой поддержкой в опасной работе.
П.Г. Пынько, активный участник подпольной организации в Приморье. Замучен белогвардейцами в 1921 г.
В.П. Шишкин сказал:
— Очень хорошо, Василий Иванович. Ваша группа сделала и делает большую, нужную работу. Однако после ареста многих товарищей обстановка усложнилась и вопрос о восстании временно отсрочен. Во всяком случае он отпал. А вот работу по разложению солдат белых надо всячески продолжать.
Рукосуев-Ордынский согласился с этим. Он встал и стал прощаться.
Прощаясь с ним, Володя сказал:
— Василий Иванович, работа — работой, а себя берегите.
Я тоже хотел сказать ему что-то теплое, но не нашел слов и крепко пожал руку.
Он ушел. Увы! Это была наша последняя встреча. 7 октября его арестовали. Это было неожиданно.
Почему провалился Рукосуев-Ордынский? Вскоре все стало понятно. Вот как это произошло.
У Рукосуева-Ордынского был близкий знакомый, бывший ротмистр Пестиков. Раньше оба они служили в одном полку и до последнего времени поддерживали дружеские отношения. Кристально честный Рукосуев-Ордынский, поверив Пестикову, что тот противник меркуловщины, лоялен к Советской власти, привлек его к работе среди солдат. Привлечены были в подпольную организацию и несколько офицеров, среди которых были капитан Камякин и поручик Языгеров, выдавший себя за поручика Хаметова. Все они — Пестиков, Камякин и Языгеров — оказались агентами информационной службы (военной разведки). Им не стоило большого труда усыпить бдительность Рукосуева-Ордынского. Они скоро проникли во все воинские части, участвовали в совещаниях, успели выявить всех активных участников организации. Через группу Рукосуева-Ордынского эти агенты разведки надеялись добраться до руководящего центра подпольной организации нашей партии. Но не так-то легко было пробить броню конспирации партийного руководства! И вот, опасаясь восстания, военная разведка белых поспешила предупредить события и разгромила группу Рукосуева-Ордынского.
В последующие дни, 8 и 9 октября, арестованы П.Г. Пынько, В.В. Иванов, Портных, Пашков, все активисты-солдаты и многие другие.
Жена Павла Пынько, Евдокия Антоновна, вспоминает: «Павел еще 7 октября был предупрежден о возможном его аресте и имел распоряжение оставить город и направиться в партизанский отряд. 9 октября он ушел из дома для передачи связи, при этом сказал, что вернется к середине дня. Больше на квартиру он не явился. К вечеру пришли контрразведчики, обыскали всю квартиру, но ничего не нашли...»
Здесь уместно сказать, что в период меркуловщины в городе Владивостоке действовала не одна контрразведка. Кроме контрразведки самого меркуловского правительства с резиденцией в доме 3 на Полтавской улице, еще работала разведка атамана Семенова и информационные отделения (охранки) генерала Смолина и генерала Молчанова. Хотя они и действовали независимо друг от друга и следили друг за другом, но в остальном имели схожие цели и в методах не отличались.
Настали мрачные дни разгула охранок. Произвольные аресты и пытки арестованных приняли широкие размеры. Правильно характеризуя обстановку тех дней во Владивостоке, газета «Новости жизни» писала:
«Начиная с 1917 года при всех переворотах не было такого террора, какой совершается теперь на глазах представителей цивилизованного мира. Арестованные не регистрируются, в тюрьму не доставляются, а отправляются в специальные застенки в Гнилой Угол или на 83 высоту. Над арестованными производятся пытки вроде выворачивания рук, срывания ногтей и т. д.
Целый ряд других фактов неслыханного произвола рисует картину, которая превосходит даурский застенок. Печать задавлена и, по цензурным условиям, не имеет возможности реагировать... Арестам и пыткам подвергаются не только коммунисты, но и меньшевики, эсеры, а также люди, которые уже давно не принимают участия в политической жизни».
Но какова же судьба арестованных? Вот что рассказывает об этом Евдокия Антоновна Пынько:
«Я была сильно встревожена арестом Павла и на другой же день вместе с женой В.В. Иванова Надеждой Филипповной пошла в контрразведку на Полтавской улице, дом № 3. Там нам сказали, что наши мужья сидят в Гнилом Углу, на гауптвахте. Мы пошли туда. К нам присоединилась и жена Рукосуева-Ордынского, Янина Ивановна.
Длинный корпус каменного здания гауптвахты, вытянувшийся вдоль шоссейной дороги, мрачно глядел провалами окон без стекол, но с крепкими железными решетками, на видневшиеся вдали сопки. У окон толпились арестованные. Среди них мы узнали своих. У всех арестованных лица были в синяках и кровоподтеках, у Рукосуева-Ордынского голова забинтована.
В течение дальнейших шести дней я почти каждый день видела Павла и других у окон. Они сильно изменились: побледнели, похудели, а на лицах синяки и кровоподтеки не уменьшались. Их подвергали пыткам.
Было 17 октября. Вечера стали холодные, и я принесла Павлу шубу, но он от нее отказался. Видимо, уже знал свой приговор».
На допросах, в ночь с 17 на 18 октября, Рукосуев-Ордынский, П.Г. Пынько, В.В. Иванов, Пашков и Портных были замучены, убиты. Трупы их в мешках были увезены на катере в бухту Улис и брошены в воду. К утру трупы прибило к берегу. Сбежались жители. Находившаяся среди них жена сторожа вещевого склада Дворянкина опознала в одном из трупов хорошо знакомого ей В.В. Иванова. Осмотреть все трупы не удалось. Прибыли казаки, погрузили трупы на телегу и увезли по направлению бухты Тихой. На этом следы преступления затерялись навсегда.
Слух о преступлении агентов охранки в застенках гауптвахты быстро распространился по городу. Жены погибших: Е.А. Пынько, Я.И. Рукосуева-Ордыпская и Н.Ф. Иванова подали совместное заявление в меркуловский нарсоб и консульскому корпусу. Ответа, конечно, не последовало.
Смерть всегда действует угнетающе. А смерть товарищей в условиях подполья, плечо и локоть которых всегда чувствовался рядом, много тяжелее.
Все они, молодые, полные жизни, пришли в партию в 1917—1919 годах, когда молодая Советская республика, напрягая все свои силы, отбивалась от многочисленных врагов; когда во Владивостоке ставленник Колчака генерал Иванов-Ринов издавал приказы: большевиков расстреливать, сочувствующих сажать в тюрьму.
Чита — Харбин
В начале октября 1921 года меркуловские войска перешли в наступление против ДВР, вели бои с Народно-революционной армией и с партизанскими силами Приморья. Меркуловцы полагали, что экономическое положение ДВР тяжелое, достаточных ресурсов для ведения войны у нее нет и рассчитывать на существенную помощь со стороны Советской России она не может. Там голод, а в распоряжении меркуловцев высокая военная техника Японии, в изобилии продовольствия и боевого питания. Идя в наступление против ДВР, меркуловцы и их покровители рассчитывали на легкую победу. Они вели упорное наступление, на первых порах, правда, без особых успехов. Однако в ноябре и декабре войскам ДВР и партизанским отрядам пришлось после упорных, жестоких боев отступить к Хабаровску.
Таково было положение на военном и политическом фронтах. С началом наступательных действий меркуловских войск против ДВР репрессии против рабочих и общественных деятелей, не говоря о большевиках, усилились. Меркуловцы снова без разбора начали хватать людей, полагая, что таким путем они доберутся до руководителей большевистского подполья. Ряды большевиков поредели. Однако все эти повальные обыски и облавы, аресты, пытки и убийства не сломили боевого духа большевиков подполья и революционного пролетариата Владивостока. И не будет ошибкой сказать, что борьба с меркуловцами, работа по развалу меркуловского режима, и агитация, и пропаганда за Советскую власть продолжались бы неослабно даже в том случае, если бы все действительные члены коммунистической партии были бы выловлены и заключены в тюрьмы. Эту работу продолжали бы беспартийные большевики из более чем тридцатитысячной армии революционного пролетариата, организованного в профессиональные союзы.
Были арестованы профсоюзные работники Суслов, Пушкарев, Авсеенко, Кучинский; работники кооперации — Горсткин и Писковитин и много других. Авраменко, председатель союза грузчиков, на допросах был сильно изувечен и 28 мая 1922 года умер в больнице; работник порта Потапенко, участник увода кораблей из Владивостока в бухту Ольга, также подвергался нечеловеческим пыткам (ему в рот засовывали кортик, под ногти иголки и т. д.). Он исчез бесследно. Очевидно, не выдержав пыток, умер при истязаниях в разведке.
В этих условиях пришлось снять вопрос о подготовке вооруженного восстания. Во избежание провала всей подпольной организации следовало заменить руководящих работников новыми товарищами. В связи с этим, в начале декабря меня вызвал В.П. Шишкин.
— По данным нашего осведомителя из контрразведки, — начал он, — там тебя расшифровали. Им известно, что Элеш, Иванов, Федоров и Михайлов — одно и то же лицо: у них твоя фотокарточка. При этих условиях в городе тебе работать невозможно. Выезжай в Читу. В Дальбюро сделаешь доклад о положении в Приморье. Расскажешь о наших тяжелых потерях за последнее время. Так решил облревком партии.
— Приказ есть приказ, — согласился я, — а жаль расставаться с Владивостоком и людьми.
— Понимаю тебя, — говорит В.П. Шишкин, — те же чувства к Владивостоку и людям питаю и я. Но и мне придется скоро выехать на Сучан.
— Вот я сижу с тобой, — говорю Володе, — и остались у нас считанные минуты перед расставанием, а я охвачен сентиментальными чувствами и думаю. Родился и вырос я на берегу Волги. Там я смутно стал понимать жизнь и отношения между людьми, научился любить труд и быть честным. Почти мальчиком ушел из деревни, многие годы проплавал по Волге и всем её притокам, по многим сибирским рекам и все же сумбурными оставались во мне понятия о жизни, о долге. Коммунистические идеалы были мне неведомы.. И вот теперь, на берегу Тихого океана, сидит перед тобой совсем другой человек — коммунист. Волга и Тихий океан! Что, казалось бы, общего между ними? И приходит мне, на первый взгляд, нелепое сравнение о том, что Волга впадает в Тихий океан. Не географически, конечно, а по судьбам человеческим...
— Ну и ну! Продолжай. Посмотрю, до чего ты договоришься, — говорит Володя, улыбаясь.
—... Несло меня по этому необъятному человеческому океану, и здесь я попал в русло, бурливое, беспокойное, но единственно правильное. Не знаешь, где найдешь приют на ночь, на душе никогда нет покоя, хотя я не трусливее других и пойду выполнять беспрекословно любое задание партии, чем бы это мне ни грозило. Однако сознаюсь, что каждый шорох заставляет меня вздрагивать, чутко прислушиваться. Я никогда не бываю свободен, даже во сне, от ожидания, что вот откроется дверь и войдут за мной контрразведчики. А между тем жаль мне расставаться с Владивостоком, с товарищами.
— Понятно, — говорит задумчиво Володя, — дружба в совместной борьбе — самая крепкая и дорогая. Мне тоже жаль расставаться и с Владивостоком, и с товарищами. Надо!
... Мы расстались, но не навсегда.
Я быстро собрался и в конце ноября выехал через Харбин в Читу. Опасные пункты Гродеково и Сосновую Падь, где были контрольные заставы семеновцев и их застенок, с помощью проводника Еремеева и его товарищей я проехал благополучно. В Чите после моей информации в Дальбюро я был зачислен бойцом в коммунистический полк, который направлялся под Волочаевку.
Пока я ехал в Читу, меркуловские войска приблизились к Хабаровску и, продолжая развивать наступление, перешли Амур и заняли станцию Волочаевку. Дальше, на Амурской железной дороге, они встретили у станции Ин энергичный отпор и, отойдя к Волочаевке, закрепились там. Началась упорная позиционная борьба, уносившая с обеих сторон много жертв. Вот сюда под Волочаевку я и готовился отправиться бойцам вместе с коммунистическим полком. Стояли сорокаградусные морозы. Но я был неплохо одет: американская солдатская шуба из овчины, хотя подержанная, но еще исправная, шапка-ушанка и валенки. Здесь все ходили в валенках.
Накануне отъезда на фронт неожиданно ко мне зашел К.Ф. Пшеницын и повел к секретарю Дальбюро Александру Михайловичу Буйко. Было около 11 часов ночи. Буйко немедленно принял нас и, обращаясь ко мне, сказал:
— Мы решили командировать тебя в Харбин. Специальные задания будешь получать каждый раз отдельно. Официально ты будешь работать торговым агентом Сибдальвнешторга. Вопрос этот уже согласован с Левиным. Вот все! Да, вот еще что! — ухмыляясь себе в бороду, говорит Буйко. — Ты теперь коммерсант и поэтому должен держать марку коммерсанта. Должен хорошо одеваться, и для этой цели Нижник выдаст тебе деньги. Он здесь.
В Харбине я прожил с декабря 1921 г. по апрель 1922 года, был секретарем партийной ячейки Харбинского отделения Центросоюза, выполнял обязанности торгового агента Сибдальвнешторга и специальные задания, поддерживал связь с Читой и Владивостокским облревкомом партии, со штабом партизанских отрядов и постоянно. с особооперуполномоченным ДВР Эспером Озорниным.
У Приморского облревкома, отрезанного от Забайкалья фронтами, не было в эти годы нормальной связи с Читой. Она осуществлялась нелегальными средствами: специальными курьерами, через проводников и кондукторов пассажирских и товарных поездов. Почта доставлялась мне в Харбин, а я отправлял ее с дипкурьером дальше. Приезжали ко мне и со специальными поручениями многие товарищи из Читы и Владивостока.
Так, 26 декабря 1921 года по поручению Владивостокского горкома партии ко мне в Харбин с запиской от Н.Н. Бахвалова неожиданно приехала Мария Владимировна Сибирцева.
М.В. Сибирцеву я знал с начала 1919 года. Да и кто не знал эту энергичную женщину небольшого роста, худенькую, всю сотканную из нервов, с полными жизни, добрыми глазами. Организатор и руководитель Владивостокской прогимназии, она воспитала таких замечательных революционеров, как ее дети — Всеволод и Игорь. Я встречался с ней и после японского выступления 4—5 апреля, когда Всеволод Сибирцев, член Военного совета, вместе с Сергеем Лазо и Алексеем Луцким, был схвачен интервентами и белогвардейцами и зверски замучен. М.В. Сибирцева мужественно переносила горе.
Морщин и серебра в волосах у нее значительно прибавилось. Вскоре она потеряла второго сына. В бою под Хабаровском погиб Игорь Сибирцев. Она собрала всю свою энергию и волю и посвятила остаток своей жизни революции.
Мария Владимировна привезла записку от Н.Н. Бахвалова (Макса), в которой было всего несколько слов: «Сделай все возможное. Макс». Но одно то, что с этой запиской была командирована ко мне М.В. Сибирцева, говорило о значительности задания.
Я ясно представлял себе положение во Владивостоке, так как держал с облревкомом партии постоянную связь. В этот период письма шли ко мне за подписью «Макс». По этим письмам я знал, что председатель облревкома партии В.П. Шишкин в конце декабря уехал в Анучино (штаб партизанских отрядов) и что во Владивосток прибыл уполномоченный облревкома А.В. Слинкин. Я также знал, что подпольную партийную организацию во Владивостоке возглавил новый состав облревкома, куда вошли Н.Н. Бахвалов, В.А. Врублевокий (оба коммунисты с 1917 года) и А.И. Гущин.
— Что-нибудь случилось? — спросил я Марию Владимировну.
— Нет, ничего особенного, — отвечает она тихо, — обстановка во Владивостоке та же: репрессии, аресты.
Она сидела у моего стола, совсем маленькая, говорила почти шепотом. В комнате я был не одни.
— Облревком партии остался без средств. Не можем помочь остро нуждающимся семьям арестованных, да и положение партработников не лучше. В связи с этим Николай Николаевич Бахвалов, Владимир Антонович Врублевский уговорили меня поехать к вам в Харбин. Нужны деньги. Сделайте в этом отношении всевозможное! Бахвалов просил также прислать новый шифр.
На другой день, утром 27 декабря, Мария Владимировна Сибирцева уехала во Владивосток. От меня она получила новый шифр и деньги. Принимая деньги, она дала мне расписку: «Получено от т. Элеш В.М. три тысячи йен. Мать Всеволода Сибирцева».
В.А. Врублевский, член горкома РКП(б) в 1922 г.
Пока М.В. Сибирцева ехала обратно во Владивосток, там происходили такие события, о которых она и не думала: 26 декабря был арестован член горкома партии Дерелло-Орский. В тот же день на первом допросе в кабинете следователя разведки, штабс-ротмистра Сивцова, он был жестоко избит.
На втором допросе 27 декабря, стоя перед штабс-ротмистром Сивцовым, Дерелло давал показания:
«... Сегодня, по моим расчетам, должна приехать из Харбина Сибирцева, Мария Владимировна, проживающая по Корякинской улице дом № 21. Ее, Сибирцеву, мы послали в Харбин за деньгами, и она должна привезти около 1000 рублей, и, возможно, будет переписка (письмо Элеша или что другое)».
А на допросе 28 декабря Дерелло дополнил показания:
«... В последнее время у нашей организации почти не было средств, а поэтому мы с Бахваловым, посоветовавшись у меня на квартире, решили попросить Марию Владимировну Сибирцеву поехать в Харбин и привезти денег от Элеша для нашей организации. К Сибирцевой ходил и вел переговоры относительно поездки Бахвалов...»
К сожалению, из-за предательства Дерелло деньги и шифр не дошли по назначению. Как стало известно несколько позднее, во Владивостоке Сибирцеву встречала ее дочь Вероника. Не заезжая домой, она должна была доставить шифр и деньги на конспиративную квартиру по Тунгусской улице, где ее ждали члены горкома РКП (б) Н. Бахвалов и В. Врублевский.
По дороге ее, хотя она была беспартийная, неожиданно схватили и доставили в контрразведку. При обыске и допросе в качестве консультанта белогвардейцам помогал Дерелло. Кроме денег у нее ничего не нашли. Шифр, спрятанный в чемодане с двойным дном, сохранился, но Вероника так тщательно его потом захоронила, что он вообще уже не был найден.
Марию Владимировну вскоре освободили, но денег не вернули. Несколько позже она снова была арестована за активную революционно-общественную работу и просидела в тюрьме до 22 октября 1922 года.
Как реликвию хранил я расписку Марии Владимировны с многозначительной и трогательной подписью «Мать Всеволода Сибирцева». Эта подпись с особой силой говорила о великой материнской любви и гордости за своего сына-героя.
Кто такой Дерелло, откуда появился — я не знал. Видел я его только один раз. Это был высокий, худой человек, с выдающимися скулами и маленькими глазами. Голос у него был какой-то глухой. И производил он, надо сказать, довольно неприятное впечатление. Дерелло оказался малодушным и неустойчивым человеком. Не выдержав избиений и пыток, он выдал многих товарищей, которых знал. Только по данным трех протоколов его допроса, он назвал фамилии сорока человек. Так были арестованы председатель союза моряков И. Порхайло, Е. Соловьева, Кучинский, Потапенко и М. Старков. Дерелло помог меркуловской контрразведке захватить архив горкома РКП(б).
Из Харбина довольно часто приходилось мне выезжать на станцию Маньчжурия, а иногда и в Читу, причем каждый раз, когда возвращался, я получал поручения и по перевозке ценностей. Однажды в январе 1922 года на станции Маньчжурия с 3. М. Левиной (член КПСС с 1918 года) мы заняли в мягком вагоне четырехместное купе. В четырех чемоданчиках у нас было золото в монетах. На станции Хайлар к нам присоединился третий пассажир — полковник, в новых блестящих погонах и при прочих регалиях. На каждой станции его шумно встречали выстроившиеся, как на параде, части белого воинства. Наш сосед был, видимо, важной фигурой. К тому же он был не в меру болтлив. Картинно выпятив грудь, он галантно обращался к Зинаиде Михайловне, которая назвалась дочерью купца, и снисходительно-небрежно ко мне, хотя я отрекомендовался коммерсантом. Он без умолку болтал о том, что производит смотр частей, приготовленных для отправки на фронт против коммунистов. «Красным скоро конец», — твердил он.
Чувствовали мы себя неважно. Но совсем не по себе мне стало, когда он, не скрывая явного огорчения, рассказал, как неделю назад один большевик вез золото, а он узнал об этом слишком поздно.
— Если бы я узнал вовремя, — заявил он с нескрываемой досадой, — харбинские большевики золота не получили бы. Мне ничего не стоит снять с поезда любого пассажира, и этот большевик, в этом я ручаюсь, от меня не ушел бы!
— Да, обидно, — посочувствовал я ему, — ушел, что называется, из-под носа. А ведь, наверное, золота с ним было немало.
— Конечно, — подтвердил он с огорчением. — Что и говорить.
Мне оставалось только сохранять вид беззаботно веселого коммерсанта. После столь откровенных признаний нашего спутника, 3. М. Левина уже не выходила из купе, сославшись на нездоровье. Да и я предпочел это делать возможно реже. К счастью, на станции Цицикар полковник сошел, весьма любезно простившись с нами.
... В феврале 1922 года я получил документ, секретный и срочный, отпечатанный на тончайшем шелку, не имеющий, правда, никакого отношения к стране, где я в то время находился. Тотчас (это было в 8 часов утра) я отправился к особоуполномоченному ДВР — Э. Озорнину.
Он жил в особняке нашего представительства в местечке Модягоу. Двухэтажное здание было расположено в глубине обширной территории, обнесенной железной оградой. Идя в представительство, я всегда проявлял осторожность, внимательно присматриваясь к окружающей обстановке. На этот раз, торопясь, я быстро вошел в ворота, где на обычном месте стоял китайский полицейский, и направился к особняку. Еще издали я заметил у окна второго этажа товарищей Озорнина и Шелепина. Они делали мне какие-то знаки. Я осмотрелся и тут только увидел, что представительство окружено цепью китайских полицейских. Это была облава, подобная тем, которым подвергались в те времена советские представительства в Лондоне и Париже.
Положение мое было неважным: в кармане лежали малый бельгийский браунинг и секретный документ. Повод для ареста достаточный. А отступать было поздно и некуда. Тогда я принял решение. Быстро, не останавливаясь, прошел через цепь полицейских, вошел в особняк и направился не наверх, а в подвальное помещение и, пробегая мимо уборщицы, которая меня знала хорошо (фамилию забыл), крикнул, чтобы она ругала меня как угодно, лишь показать, что я здесь чужой. Полицейские уже бежали следом. Я мог, конечно, проглотить шелк, но важно было его сохранить. Уборщица поняла и, догоняя меня в подвальном коридоре, громко обзывала всяческими словами. Наконец, пришлось остановиться. Изобразив недоумение на лице, я повернулся к уборщице и стал кричать, что привлеку ее к суду за оскорбление.
Надо оказать, что там же, в Модягоу, на той же улице, почти рядом с Представительством, был другой такой же особняк, в подвале которого был склад мануфактуры. Там я получал как-то партию купленной нами сарпинки. Я учел это обстоятельство и кричал в присутствии полицейских на уборщицу, что нельзя оскорблять человека только за то, что он по ошибке попал в чужое помещение. Документы торгового агента у меня были в порядке. Поэтому проверка их офицером только подтвердила недоразумение.
Не обращая внимания на полицейских и продолжая громко пререкаться с уборщицей, я вышел из подвала, прошел сквозь полицейскую цепь и оказался за воротами. Не оглядываясь, направился к мануфактурному складу и, лишь когда подошел к нему, обернулся. К удивлению, никакого «хвоста» за мной не было. Облаву сняли в тот же день, и документ был доставлен Э. Озорнину.
В лапах контрразведки
В начале апреля 1922 года я получил от облревкома из Владивостока следующую телеграмму:
«Харбин Центросоюз Михайлову немедленно приезжай Павел»
Я поспешил закончить дела, не терпящие отлагательства. Тут неожиданно заявился ко мне хорошо знакомый мне по Владивостоку техник-строитель Калмыков Михаил Александрович. Это был довольно странный для своего времени молодой человек, лет 25. Прежде всего, он имел какое-то особое уважение к людям «положительным», таким, к примеру, кто строил дом в городе или дачу за городом. Он любил театр, одевался чисто и весьма строго следил за своим единственным костюмом. Для этого не жалел трудов, щетки и бензина.
С правильными чертами лица, хорошо сложенный, он производил приятное впечатление. Любил он рассуждать на любые темы, кроме политики. Здесь он был полный профан. Жизнь вокруг него буквально бурлила, а он ко всему был совершенно безразличен. Был он знаком с эсерами, но эсерам не стал, имел знакомых среди белого офицерства, но не разделял безыдейных взглядов белых; близко был знаком со мною, но был очень далек от большевизма. Но была у него одна бесспорно хорошая черта: был честен, не способен на подлость.
— Каким образом в Харбине? — спрашиваю его, не скрывая своего крайнего удивления.
— Убежал от меркуловской мобилизации, — ответил он, улыбаясь. И тут же добавил: — Устрой мне поездку в ДВР.
В тот же день мы поехали к особоуполномоченному ДВР в Харбине, Эсперу Озорнину, где Калмыков получил паспорт Дальневосточной республики, а я снабдил его деньгами.
Паспорта Калмыкова (русский и китайский), а также все его справки, удостоверения и рекомендации с прежних мест работ я попросил дать мне. Надо сказать, что все личные документы Калмыкова представляли ценную находку для подпольщика. Это были подлинные документы, выданные Калмыкову разными уральскими предприятиями, в частности Лысьвенским заводом, где он, очевидно, ранее работал.
Я простился с Калмыковым, сердечно пожелав ему благополучной дороги.
Обстановка во Владивостоке мне была ясна. Я знал, что перспектива попасть там в лапы охранки мне грозила всюду. Не мешало бы документы Калмыкова подкрепить более солидным документом. Я часто встречался тогда с представителями Русско-Азиатской компании. В этой компании ничего русского, конечно, не было. Это была, без подделки, типично немецкая фирма. Переводчиком у них работал некто Хорошев, Иосиф Маркович, настоящий харбинец. Решил использовать его и, в пределах допустимой откровенности, рассказал ему, что мне предстоит поездка во Владивосток.
— Вы, конечно, понимаете, — добавил я, — как там легко попасть в руки меркуловской охранки.
— Да, вести оттуда дурные, — сдержанно подтвердил он.
— Вот это то меня и смущает, — говорю я, — а ехать надо...
Я помолчал некоторое время, не совсем уверенный в правильности избранного мною пути и опасаясь предательства с его стороны. Но в конце концов что-то подсказало мне, что этот человек не свяжется с охранкой, и я решился.
— У вас во Владивостоке, на Суйфунской улице, имеется отделение. Устройте мне удостоверение на имя Калмыкова о том, что ваша компания меня командирует во Владивосток. И я тогда буду в безопасности...
Хорошев смотрел на меня и молчал. Значит отказ, думал я. Но он, сверх всякого ожидания, после небольшой паузы говорит:
— Я понял. Устрою. Для этого не нужно будет подлинных подписей. Но бланк будет фирменный, а печать настоящая. Документ будет что надо.
Хорошев исполнил обещание. Я получил хороший документ и превратился в служащего иностранной фирмы.
На следующее утро я с женой выехал экспрессом, заняв купе в международном вагоне, как настоящая персона. Но на душе было невесело. Казалось, что все шло гладко, и одет я был настолько хорошо, что меня никак нельзя было принять за большевика: шелковая сорочка с галстуком бабочкой, серый, сшитый по английской моде костюм, черное демисезонное пальто и серая шляпа, желтые ботинки, шелковые носки, кольцо с бриллиантом, в руке тросточка. Чем не коммерсант?
До Владивостока я доехал благополучно. И вот, через явку, которую тогда представлял член Ревкома партии Александр Слинкин, к ночи я попал к уполномоченному Дальбюро ЦК РКП (б) Павлу Никитенко-Телешову. Никитенко вызвал меня для разрешения ряда вопросов и установления лучшего контакта через меня с Дальбюро. Вопросы мы быстро разрешили. Было решено, что я выезжаю обратно с нашим поездом, то есть с поездом, где есть преданные нам проводники и кондукторы. Одним из таких проводников в международном вагоне, как уже известно, был Еремеев.
На предварительном совещании с товарищем Еремеевым и его друзьями мы условились, что я сяду на станции Первая Речка в международный вагон, а затем перейду в багажный. Предполагалось, что в багажном я проеду опасный участок Владивосток — Пограничная. Но случилось так, что багажный вагон оказался неисправным, и поезд отправился без него. Пока мы сидели у проводника и рассуждали, как быть дальше, передо мной появился военный контроль. Офицер потребовал документы. А с документами было плохо. Полагая, что Пограничную я проеду в багажном вагоне, а документы Калмыкова, кроме китайского паспорта, мне не понадобятся, я оставил их у Никитенко. Опять ошибка. Я мог предъявить теперь только китайский паспорт. Ревизор поезда что-то шепнул офицеру, и на станции Седанка меня высадили, а к 5 часам вечера доставили в контрразведку (Полтавская, 3).
Огромных усилий мне стоило держаться спокойно. Я твердил себе: «Только не подавать вида, что волнуюсь». Такое состояние продолжалось до тех пор, пока я не попал в арестное помещение. Но когда я увидел здесь товарища Порхайло и нашего шофера Исупова, сразу вернулось спокойствие. Исупов предупреждающе приложил палец к губам: надо быть осторожным.
Первыми моими словами, сказанными довольно бодро были: «Здравствуйте, господа! У вас недурно».
И этот несколько насмешливый, но бодрый тон я сохранил до конца. Я напевал арии из оперетт, выстукивал чечетку, рассказывал анекдоты. Исупов шепнул, что к нам подсажен шпион, и показал на молодого человека в сером пальто, который лежал на скамье, явно притворяясь спящим.
На допрос вызвали в тот же день.
Допрашивал подполковник Богословский. Я так и назвался Калмыковым Михаилом Александровичем11. Наиболее слабым местом мог быть ответ на вопрос: «Где ночевали?» Но у меня было достаточно времени, чтобы обстоятельно его обдумать. Я оказал, что прибыл вчера и ночевал очень неудачно, в таком месте, что мне, семейному человеку, просто неудобно даже говорить; потерял бумажник, деньги, документы: русский паспорт, справки и рекомендации о работе, письмо Русско-Азиатской компании. Все это результат легкомыслия, выпивки. На вопрос, куда и к кому ехал, я оказал, что ехал на Седанку, сел без билета: торопился, так как опоздал. А ехал занять денег у Эммы Филипповны Ниловой (знакомой мне жене инженера-поручика Нилова). Это была культурная и передовая женщина. В годы царской реакции она испытала арест и тюремную жизнь. Она хорошо знала и меня и Калмыкова. Я был уверен, что при всех случаях она не выдаст меня. Далее я добавил, что мог бы деньги достать и в отделении Русско-Азиатской компании, но тогда мне пришлось бы рассказать о потере денег и документов, а этого, по соображениям служебного положения, я хотел бы избежать.
Здесь я вытащил из кармана серебряный портсигар и попросил разрешения закурить. Я протянул подполковнику Богословскому портсигар со словами:
— Не хотите ли? Харбинские «Лопато», высший сорт.
Он поблагодарил и взял папиросу. Папиросы я предложил и двум офицерам, присутствовавшим на допросе. Но вдруг сзади меня раздался голос:
— Я вас часто встречал в Харбинском профсовете. Вы там работаете?
Это был четвертый человек в комнате, о существовании которого я не подозревал. На какой-то, правда очень короткий, отрезок времени я был сбит с толку и насколько позволяло мое состояние, как мог медленнее обернулся. Сзади стоял человек в штатском, с очень неприятной физиономией. Именно это неприятное лицо, со смесью хамства и пресмыкательства, и возвратило мне спокойствие и уверенность в том, что он меня не знает. В профсоюз я никогда не ходил. По роду своей работы туда не должен был ходить. Поэтому, зная, что шпик врет, отвечал ему спокойно:
— В Харбинском профсовете мне нечего делать. Мои патроны-немцы не потерпели бы на работе члена профсоюза, да еще русского.
— Но Вильде ваш приятель, — уверенно врал шпик, — с ним-то я видел вас в профсовете.
Вильде я хорошо знал. Встречался с ним, но только не в профсовете.
— Кто такой ваш знакомый Вильде, не знаю. И для чего мне о нем говорите, тоже не понимаю.
— Вильде многие знают в Харбине. Вильде коммунист, член партбюро и профсовета, — заявил он, — именно с ним вы и приходили в профсовет. Вы проходили мимо меня, даже довольно грубо задели, но не извинились. Помните?
— Я уже говорил вам, что Вильде вашего не знаю, — ответил я, — следовательно, и быть с ним не мог.
— Вспомните! Вы же вместе с Вильде зашли в кабинет члена правления профсовета Шергова?
— Шергова я тоже не знаю.
— Может быть, вы и Сугака не знаете? — еще задал вопрос шпик, ехидно улыбаясь.
— Да, Мефодия Сугака я знаю хорошо, — ответил я, — и даже часто встречаюсь не только с ним, но и с управляющим Харбинским отделением Центросоюза Гольдбергом, а Сугак его заместитель. А как по-вашему, — перехожу я в наступление, — за что держат меня немцы на службе? Не думаете ли вы, что это делают за мои прекрасные глаза? Ошибаетесь, — отвечаю я, совершенно внутренне овладев собой, — им нужен русский сотрудник для связи с русскими фирмами. Наша фирма очень ценит связь с Центросоюзом. Как-никак, Центросоюз крупная русская кооперативная организация. Вот почему я часто бываю в Центросоюзе и знаю Сугака.
— Так, значит, вы и большевика Минскера знаете? — сурово глядя на меня в упор, спрашивает шпик. — А? Что скажете?
Я действительно когда-то обедал у Минскера, но это было в феврале или марте 1921 года. И уже стала было подкрадываться ко мне мысль: что если действительно он знает, кто я? «Ведь могло же это быть»,, — молниеносно мелькали в голове сомнения. Но нет! Этого не могло быть. Я был по положению, по характеру работы всегда очень осторожен. Вспомнил, что и Минскера давно нет в Харбине.
— Господин подполковник, — вместо ответа обратился я к Богословскому, — разрешите мне больше не отвечать на нелепые вопросы и предположения этого господина.
Богословский кивком головы остановил шпика. Тот встал и оставил комнату.
Я попросил. подполковника для скорейшего выяснения моей личности отослать телеграмму в Харбин Русско-Азиатской компании. Я просил его также справиться у инженера Моисеева и его жены, врача Моисеевой, проживающих по Китайской улице, дом № 26, о технике Калмыкове. Моисеевы хорошо знали меня и Калмыкова. Я полагал, что Моисеев меня не выдаст.
Выдать-то он меня не выдал, но офицеру разведки ответил, что никакого техника Калмыкова не знает. В охранке меня обыскали и нашли китайский паспорт, золотой крест, серебряный портсигар, перочинный нож, два носовых платка и около 30 йен. Бумажника у меня не оказалось.
Днем в охранке, а ночью в ночлежке Суйфунского отделения милиции я старался держаться беззаботно. Мой неунывающий характер, когда кругом все заключенные оставались удрученными, грустными и молчаливыми, приводил многих в недоумение. Они не понимали показной стороны такого поведения. А между тем мне было не лучше, чем им.
Для беспокойства и тревоги причин было больше, чем достаточно. Особенно тревожило то, что по подпольной работе 1921 года агенты разведки хорошо знали меня и буквально рыскали по пятам. В охранке, у подполковника Сивцова, имелась моя фотография. Могли устроить и очную ставку с предателем Дерелло.
Кроме того, в первый же мой допрос я допустил оплошность, непростительную для подпольщика. Я показал, что ехал на Седанку к Эмме Филипповне, позабыв, что она уже более года живет в городе. Агенты охранки могли это проверить и обнаружить обман.
Я переживал, внешне оставаясь беззаботным и веселым. Старался показать, что я здесь случайный гость, и все думал, как бы вырваться. Для этого могли быть две возможности:
а) собрать в карман из печных поддувал мелкую золу. Я представлял себе, что в сумерки отпрошусь выйти (а уборная находилась рядом со зданием милиции на открытой Суйфунской площади, что под сопкой), брошу золу в глаза конвойному и убегу. Такая возможность была реальной: улицы, переулки и сопки я знал хорошо, а близко были знакомые квартиры, где на первых порах можно было укрыться. Золу я каждый день собирал;
б) срочно дать знать о себе Никитенко-Телешову.
Счастливый случай для этого представился. Рано утром к Суйфунскому отделению милиции, куда нас с Полтавской водили ночевать, приходили жены арестованных рабочих и через разбитые окна, хотя на них были железные решетки, передавали арестованным пищу. Через жену одного рабочего, на которую, как говорил Порхайло, можно было положиться, я послал записку Александру Слинкину с сообщением, что сижу на Полтавской и прошу немедленно дать объявление в газете «Голос Родины», примерно, такого содержания: «Утерян паспорт и другие документы на имя Калмыкова, Михаила Александровича. Нашедшего прошу переслать по адресу: Полтавская, 3».
А.В. Слинкин, получив записку, тотчас передал ее Никитенко-Телешову, а последний послал соответствующее объявление в «Голос Родины». После публикации были отправлены в редакцию и документы. Прошло несколько дней, как дежурный офицер доверительно сообщил мне: «Звонили из редакции газеты, ваши документы найдены и просили прислать за ними».
Примерно через час к нам зашел подполковник Богословский и, передавая мне китайский паспорт, сказал:
— Счастлив ваш бог, господин Калмыков! Ваши документы нашлись. Вы свободны, а в 5 часов вечера приходите подписать протокол допроса, тогда выдадим и все остальное.
Я поблагодарил его, простился взглядом с Порхайло и Исуповым. В б часов я, конечно, не вернулся к Богословскому, а документы оставил ему на память.
Вечером я уже был у Павла Никитенко. Он жил неподалеку от Народного дома у коммунистов — братьев Александра и Анатолия Романских. Когда я вошел, он бросился навстречу и, обнимая, все время приговаривал:
— Кто глупей оказался! Не так-то мы просты! Не так просты!
На столе появились пельмени, и мы отпраздновали мое освобождение. Во время ужина я со всеми подробностями рассказал о своих злоключениях в Меркуловской охранке.
Но все же мне надо было поскорее убираться в Харбин. Отъезд приурочили к субботе, накануне пасхального воскресенья (апрель 1922 год). На этот раз с проводником международного вагона Еремеевым мы договорились иначе: я покупаю два билета на отдельное двухместное купе, ночую у Еремеева и сажусь вместе с ним в вагон, когда последний будет еще стоять в Первореченском депо. В мое купе под сиденье нижней полки ставится большая корзина. Жена садится в поезд со своим багажом, как только состав подадут на городской вокзал. Я же буду лежать в корзине, пока не проедем Пограничную. Делая вид, что она нездорова, жена ляжет, на нижнюю полку. Так и сделали.
В пути военный контроль проверяет документы несколько раз, и в последний — между Сосновой Падью и Пограничной. Около 12 часов этого пути я должен был лежать в корзине в крайне неудобной позе. Обычно последний свой обход контроль делал после станции Гродеково, и когда он прошел, я вылез из корзины, с трудом сел на постель и стал разминать затекшие и онемевшие руки и ноги.
Проехали Сосновую Падь. Считанные минуты остались до границы. Вдруг без стука дернули дверь и потребовали открыть ее. Я быстро влез в корзину, жена снова разложила постель и, открыв дверь, легла. Это был последний контроль. Он не обнаружил ничего подозрительного...
Наступила пасхальная ночь. Я был уже в Китае, и в полной безопасности. А рядом, в трех купе, ехали чиновник меркуловского правительства — уполномоченный по Камчатке, со своим помощником инженером Лебедевым и другие. Они пировали.
Верные помощники
Я снова в Харбине. Продолжаю прерванную работу, поддерживая связь с Читой и Владивостоком. В середине мая из Читы во Владивосток проехал нелегально Николай Горихин. Опасный отрезок дороги Пограничная — Владивосток он совершил, как и я, в почтовом вагоне. В мандате, написанном на шелке, который он получил в Чите, сказано, что он уполномоченный правительства Дальневосточной республики (ДВР) во Владивостоке. Он должен был направить свои усилия к объединению общественности во Владивостоке, настроенной против меркуловского режима и японской интервенции.
К этому времени член облбюро РКП (б) во Владивостоке, Павел Никитенко, уехал в Анучино и в пути трагически погиб. После него партийное руководство осуществлял Владивостокский городской партколлектив, куда входили Николай Горихин, Александр Слинкин, Федор Третьяков, Андриан Коврашицкий и Исай Абрамович.
Город переживал последние месяцы белогвардейского режима и японской интервенции. Это был тяжелый этап. Особенно тяжелым ударом для подпольной партийной организации были массовые аресты в июле 1922 года. В шифрованной информации, которую я тогда получил из Владивостока, сообщалось, что только 19—20 июля было арестовано 36 комсомольцев. Правда, аресты комсомольцев были и ранее. Еще в начале октября 1921 года были арестованы Дрибский (Рудзе) и Шая Коган.
Вскоре, в дни разгрома группы Рукосуева-Ордынского, 9 октября, в квартире комсомольца Виктора Коношенка, арестованы сам Коношенок, Иван Климачев, Александр Баянов, (Помилуйко), Збышевская и другие. А 19 октября была арестована новая группа комсомольцев.
Некоторые из арестованных комсомольцев были вскоре под залог отданы на поруки. Так, в январе освободили Дрибского, Когана, Климачева, Баянова, Збышевскую, в феврале — Шнейдера и Коношенка.
И вот снова арест 36 человек! Среди этих тридцати шести были Сергей Пчелкин, Михаил Стишов, Иван Ильюхов, Игорь Свиньин, Петр Крысанов, Петина, Пачевский. Последние двое и еще кое-кто были освобождены, но все остальные комсомольцы оставались в тюрьме до 22 октября 1922 года.
Но вернемся к более ранним событиям. Известно, что Первый Приморский областной съезд трудящейся молодежи состоялся в Народном доме во Владивостоке 8 ноября 1920 года. Съезд был широкопредставительным. На нем участвовали представители всех уездов области. Съезд принял программу и Устав РКСМ и избрал областной комитет РКСМ, куда были избраны Михаил Яншин, Александр Манюшко (оба коммунисты), Никанор Марченко, Павел Гладких, Иван Афанасьев, Леонид Гершгорн и другие. Секретарем первого состава обкома был избран коммунист Михаил Яншин.
Перед приморской молодежью, объединенной в союз, открылись широкие перспективы. Первый состав областного комитета действительно успел многое сделать по укреплению комсомольских организаций. Однако меркуловский переворот прервал деятельность обкомола.
Партия и комсомол вынуждены были уйти в глубокое подполье. Резко изменились условия и характер партийной и комсомольской работы. Перед партийной организацией стала задача: находясь в подполье, все силы направить на подрыв вражеского режима, готовиться к вооруженному восстанию. Это требовало объединения всех активных сил вокруг единого руководства — вновь созданного областного революционного комитета РКП (б).
После переворота никого из членов областного комитета РКСМ в городе не осталось, и комсомол возглавила тогда так называемая тройка. Она провела учет находившихся в городе комсомольцев и создала из них десятки. Тройки и десятки в условиях подпольной работы и связанной с ней строжайшей конспирацией не могли проводить самостоятельную работу. Весьма сложная обстановка, созданная условиями интервенции, белогвардейского режима, террора, жестокой классовой борьбы и нелегальной работы, требовала строжайшей дисциплины и единого руководства. Неудачна была структура построения организации с разбивкой на десятки. Конспирация требует поменьше встреч. А десять человек — это уже толпа. А отсюда, как мы увидим дальше, и аресты комсомольцев происходили всегда группами. К сожалению, комсомольцы поздно об этом подумали, а руководство партии вовремя не подсказало. Только уже после массовых арестов в июле 1922 года комсомольцы перешли от системы «десяток» к «тройкам».
Приморские комсомольцы, как и везде комсомольцы в Советской России, были верными и неоценимыми помощниками большевиков. В героической борьбе за Советское Приморье они вместе с большевиками были в первых рядах. Они кропотливо и неустанно вели, пусть малозаметную, небольшую, но важную агитацию и пропаганду среди несоюзной молодежи и среди населения, подрывая тем устои белогвардейского режима и интервенции.
Ни одно важнейшее мероприятие облревкома партии, проводимое в условиях подполья, не проходило без участия комсомольцев. Они всегда с готовностью шли на выполнение любых заданий партии. Возьмем ли мы работу по распространению нелегальной литературы и газет, очень опасной в условиях подполья, или еще более опасную работу — расклейка по городу на видных местах воззваний и листовок — вся эта работа лежала на плечах комсомольцев. И надо сказать, она выполнялась ими умело и самоотверженно. Я не привожу имен. Это работа большого коллектива. Но нельзя не сказать о Мите Часовитине. Он был одним из активнейших комсомольцев Владивостока и когда его арестовали, при нем нашли пачку нелегальных листовок. Его жестоко пытали, добиваясь узнать адрес типографии, где печатались листовки, адреса товарищей и т. д. Он выдержал все муки, но никого не выдал.
Комсомольцы Приморья воспитывались на славных традициях старших товарищей, первых борцов за Советское Приморье. Имена героев революции Кости Суханова, Сергея Лазо, Всеволода Сибирцева, Алексея Луцкого и многих других были для них, в недавнем прошлом живым примером. Романтики в лучшем понимании этого слова, полные силы и энергии, комсомольцы жаждали революционных дел, горели желанием подвигов. И они действительно совершали подвиги.
Вот пример. Раннее утро. Жители Владивостока выходят на улицы и с изумлением, а многие с восхищением и радостью видят на многих правительственных зданиях, даже на радиомачтах, гордо развевающиеся ярко-красные флаги. На жителей города эти флаги производили сильное впечатление. Многие даже думали, что город за ночь занят коммунистами. Флаги напоминали всем: облревком РКП (б) и комсомол действуют.
Как известно, в октябре 1921 года готовилось восстание отдельных частей войск меркуловского правительства. Выступление должны были поддержать рабочие дружины, весь владивостокский пролетариат и, конечно же, комсомольцы. Цель восстания заключалась в том, чтобы изменить существующий режим.
Для этой цели под руководством военно-технического отдела из комсомольцев были созданы боевые десятки. А в конце сентября из села Анучино была вызвана для участия в восстании большая группа партизан-комсомольцев.
По уже известным причинам, восстание тогда не осуществилось, но боевые десятки комсомольцев, а потом перестроенные тройки сохранились. Это они осуществляли разведку и выполняли отдельные задания военного характера на коммуникациях врага. Особенно памятны и дороги мне воспоминания о деятельности комсомольцев боевых десятков по линии отдела снабжения. Правда, комсомольцы не участвовали в добывании массовых предметов снабжения. Они не участвовали и на отгрузке их. Это делали грузчики, тоже свои люди, и всегда безотказно, быстро и бесплатно.
Комсомольцы выполняли другую, физически более легкую работу, но более опасную то характеру. Эта работа — транспортировка и переброска предметов вооружения и взрывчатки по городу, а нередко и доставка их в партизанские отряды. При исполнении одного из таких заданий был арестован грузчик, комсомолец Андрей Евданов. Он нес взрывчатку. Его увезли на Русский остров, подвергли пыткам и там замучили.
По рассказам комсомольцев Эгершельда, Андрей Евданов был подлинным вожаком молодежи, хорошим и чутким товарищем. Был принципиален и правдив. И погиб он, оставаясь мужественным.
Нередко комсомольцы несли и охранную службу. Иногда охраняли и меня и вот при каких случаях. Мне приходилось устраивать встречи с белыми офицерами по вопросам приобретения оружия. Как правило, эти свидания я назначал на открытых местах или площадях, как Суйфунская, перед Каботажной пристанью, на перевале в Голубиную падь. Это делалось для того, во-первых, чтобы не оставлять за собой след для шпика; во-вторых, — избежать всяких неожиданностей, возможных при свидании в закрытых помещениях. А назначая свидание на открытых площадках, я не был одинок. Обычно о таких свиданиях я предупреждал товарищей: Исупова или Левана, а иногда Крепачева. В этих случаях кто-нибудь из них всегда приходил с двумя или тремя комсомольцами, и вчетвером они следили за ходом свидания. Что скрывать, шел я на свидание всегда в большой тревоге и, конечно же, волновался.
Но стоило мне увидеть своих — Крепачева или Левана с комсомольцами, маячивших по сторонам площади, я успокаивался, земля под ногами становилась тверже. Я не знаю фамилий многих комсомольцев, несших охрану во время операций, поручавшихся мне. Они приходили незаметно и, обычно не встречаясь со мной, незаметно уходили. Возможно, что они тоже не знали моей фамилии. Жаль, конечно. Но ничего не поделаешь. Такова была обстановка, требовавшая строжайшей конспирации.
Прошли десятки лет, и я до сих пор не могу без глубокого волнения и искренней признательности вспоминать о моих верных охранниках — Леване, Исупове, Михайлове, Крепачеве и многих безымянных комсомольцах. Те теплые чувства, которые я испытывал к ним тогда, остались у меня навсегда.
Говоря о комсомольцах, нельзя не сказать об участии их в партизанской борьбе с интервентами и белыми. Комсомол и молодежь Приморья принимали самое активное участие в этой борьбе. Они составляли основную массу партизанских отрядов. Были и отдельные комсомольские партизанские отряды. Одним из таких отрядов командовал коммунист И. 3. Сидоров.
В годы меркуловщины замучены комсомольцы Кронид Кореннов, Виталий Бонивур. Многие были ранены в боях и остались калеками на всю жизнь. Сотни комсомольцев томились в тюрьмах, десятки и десятки комсомольцев прошли через пытки в застенках контрразведки белых. Они не склонили головы, не уронили чести и достоинства комсомола, стойко перенесли испытания.
В этой связи уместно сказать о комсомольце Мише Демченко. Он работал грузчиком в порту. Руководя «пятком» комсомольцев, вел активную работу на Эгершельде. Пяток Демченко выполнял разнообразную работу: распространял подпольную газету, большевистские листовки, выполнял работу по снабжению, повседневно проводил агитацию и пропаганду среди грузчиков и несоюзной молодежи.
Выходец из рабочей среды, простой в обращении и общительный со всеми, Миша умел подходить к людям. Он пользовался у грузчиков большим уважением.
Миша Демченко был смелым и опытным конспиратором, и не раз находчивость выручала его. Но в один из июньских дней 1922 года он был арестован. Было еще совсем рано. Солнце только-только озарило своими лучами верхушки сопок, окружающих бухту Золотой Рог. Зная, что шпики так рано не выходят, Миша Демченко стал расклеивать листовки. За этой работой и застал его возвращающийся с ночной гулянки или ночного «дела» агент охранки. Миша был задержан. Затем произвели обыск в его квартире. Произвели обыск и в столовой грузчиков. Здесь у Миши в сумке нашли те же экземпляры листовок, что он расклеивал.
На неоднократных допросах его били, подвергали всевозможным пыткам. Все допытывались: с кем он связан по подпольной работе и от кого получил листовки. Миша держался стойко, перенес все изощренные пытки контрразведчиков и вызванные этими пытками физические и нравственные муки, но товарищей, комсомол и партию не выдал.
Так поступают герои!
Смело и стойко держались на допросах в контрразведке комсомольцы Миша Стишов и Таня Сударчикова. Они заявили, что в комсомоле не состоят и поэтому никакой работы там не вели.
Как ни изощрялись охранники, большего от них добиться не смогли.
Особую смелость проявила на допросах комсомолка Ксения Петина. Она без обиняков заявила:
— Я комсомолка. Работала и буду работать в комсомоле!
Проявив такую смелость, она осталась на допросах стойкой и непреклонной, не выдала никого.
Подпольная работа не была бы успешной, если бы не имела опоры среди населения. Этой опорой подпольщиков была и несоюзная молодежь.
Ася Василевская, Зоя Шишацкая, Ваня Дубинин, Борис и Маня Броневские, Макс Коган и многие другие беспартийные девушки и парни наравне с комсомольцами помогали мне в работе. Правда, они делали несложную работу: доставляли по назначению записки из нескольких слов, сопровождали и охраняли меня от шпиков при свиданиях, иногда им приходилось носить в маскированной упаковке и оружие.
Но надо было видеть, с каким удовлетворением, желанием и охотой они все это делали. И делали они это, не считаясь со временем и расстоянием.
Эта молодежь в возрасте 15—17 лет была достойна доверия.
Снова во Владивостоке
Я все еще в Харбине. Информации с фронта говорят, что 1 марта части НРА заняли станцию Бикин... Продолжают наступление по Уссурийской дороге... Подходят к Иману. Все это были вести радостные, обещающие скорый конец гражданской войны в России. Победы доставались нелегко. С беззаветной преданностью боролись на фронтах и в подполье, отдавали свои жизни за торжество дела Ленина, за торжество социалистической революции коммунисты и беспартийные большевики.
А наряду с ними под ногами путались грязные душонки, цель которых была — выждать, хапнуть. Так, во Владивостоке в 1920 году активно подвизалась довольно рыхлая фигура лет 50. Это был Леонов, бывший штейгер. Он пользовался доверием у членов Дальбюро ЦК партии и входил в состав правительства первой коалиции социалистических партий и управлял ведомством промышленности. Потом он уехал в Читу, где в 1922 году был в руководстве Амурского речного пароходства.
И вот в Харбине, это было в августе, неожиданно встречаю его на главной улице старого города. Я спешил по делу и вижу, что прямо на меня идет Леонов. Он тоже увидел меня, но неожиданно перебежал на другую сторону улицы и быстро пошел в обратную сторону. Его поступок озадачил меня. Очень хотелось узнать новости, и я догнал его. Оправдываясь, он уверял, что не заметил меня и что опаздывает на совещание. Он говорил, что ведет переговоры с китайскими коммерсантами по заключению контракта на перевозку грузов по Сунгари и Амуру. Причина, конечно, уважительная, что и говорить. Я простился с ним, дав свой адрес.
На другой день получил от К.Ф. Пшеницына телеграмму. Не дождавшись визита Леонова, я быстро собрался и выехал на пароходе по рекам Сунгари и Амуру в Хабаровск. Там мне вручили приказ и мандат от Народно-революционной армии и штаба партизанских отрядов, которыми на меня возлагались известные полномочия по связи и снабжению. В особом письме были даны поручения, для выполнения которых необходимо было вернуться в Харбин. Речь шла о снабжении НРА и партизанских отрядов продовольствием и военным снаряжением до закрытия навигации по Амуру.
По возвращении в Харбин я был целиком занят порученным мне новым делом, но все же не забыл и о Леонове. Почему-то мои мысли вновь и вновь возвращались к нему, и я при первой же возможности поехал к Эсперу Озорнину. Он меня буквально поразил. Оказывается, Леонов продал в Харбине пароходы, принадлежавшие Амурскому государственному пароходству, а деньги присвоил...
Пока я ездил в Хабаровск, выполняя срочные поручения, Народно-революционная армия и партизанские отряды с боями продолжали двигаться на юг. Давно отшумели «штурмовые ночи Спасска»; далеко остался Никольск-Уссурийский, и к 20 октября армия и партизанские отряды уже достигли подступов к Владивостоку. Штаб командарма Уборевича обосновался на станции Угольная, в 30 километрах от города.
Контрразведка белых раньше и лучше всех знала, что режиму белых наступает конец. Они зверели. Усилились беспричинные, никому ненужные аресты и насилия. Начались грабежи... В горком партии стали поступать от наших осведомителей из контрразведки тревожные сообщения о том, что озлобленные белобандиты намерены устроить расправу над большевиками и комсомольцами, находящимися в тюрьмах. Эти слухи усиленно носились и среди населения города. Так и говорили — будет Варфоломеевская ночь. Горком партии ясно представлял себе, что угроза белобандитов реальная. В тюрьме находилось более пятисот политических заключенных!
Оставалось одно: будировать вопрос о безопасности населения и заключенных от бесчинства белобандитов перед городской общественностью и консульским корпусом. Это задание горком партии поручил Н.И. Горихину.
Н.И. Горихин, активный подпольный работник во Владивостоке в 1918—1922 гг.
Николай Иванович Горихин один из тех, кто пришел в партию в первые годы борьбы за Советскую власть.
Подпольный работник во Владивостоке с 1918 года, он был стойким большевиком, обладал незаурядной энергией и решительностью.
Используя свое знакомство среди разных слоев города, Горихин быстро сгруппировал актив. Этот актив не мешкая обратился к консульскому корпусу с меморандумом, в котором, указывая, что в городе усилились бесчинства и грабежи со стороны солдат белых, просил принять меры по наведению в городе порядка.
Представители городской общественности во главе с Горихиным прежде всего направились с этим меморандумом к старшине дипломатического корпуса, американскому консулу Колдуэллу.
— Американский консул принял нас без особого восторга, — вспоминает Н.И. Горихин, — он был не в духе.
— Что я могу сделать! — кричал он, не скрывая своего раздражения.
Но все же делегация добилась от него созыва консульского корпуса. Совещание было назначено на 22 октября на крейсере «Бруклин», стоявшем на рейде бухты Золотой Рог. На совещании присутствовали почти все консулы. Присутствовал и представитель общественности города Н.И. Горихин. Однако совещание показало, что консулы были больше всего обеспокоены не бесчинствами белых. Их занимал другой вопрос: как оградить иностранных резидентов и их семьи от якобы грозящих бесчинств солдат НРА. Консул поэтому решил встретиться с командармом Уборевичем.
Консулы и Горихин остались на крейсере до утра. Утром, 23 октября, был подан паровоз с одним классным вагоном, и консулы — американский, английский, китайский и японский — выехали на станцию Угольная. С ними выехал и Н.И. Горихин.
По прибытии на станцию Угольная, Горихин пошел в вагон Уборевича. Там его встретили сам Уборевич, Смирнов, член правительства И. Слинкин и уполномоченный Дальбюро ЦК РКП (б) К. Пшеницын.
Информировав о положении в городе, Н.И. Горихин сообщил о прибытии консулов. Уборевич распорядился приготовить прием консулов, в помещении станции. Первым он принял консула США и последним — японского. Каждого из них он заверил, что с занятием города войсками Народно-революционной армии полный порядок будет обеспечен.
— А вы, — добавил он, — оградите население от бесчинств белых.
Консулы вернулись в город, а Горихин вышел из вагона на станции Первая Речка и направился в Голубиную падь. И вот, когда он поднимался по косогору к Голубинке, ему встретились Анатолий Романский, Пушкарев и связной-комсомолец. Они передали Горихину записку. Она была от товарищей из тюрьмы, где говорилось: «Над нами нависла опасность белогвардейской расправы, а товарищи не принимают никаких мер».
— Хотя я хорошо понимал настроение товарищей, находящихся в тюрьме, — вспоминает Н. Горихин, — но было очень обидно читать в записке упрек в том, что мы не принимаем никаких мер.
— Пойдем освобождать заключенных, — сказал Пушкарев.
— С кем же мы пойдем? — спрашивает Горихин и смотрит на крепко скроенного, высокого ростом Пушкарева. Он не знал, какие можно предпринять меры для спасения товарищей, томившихся в городской тюрьме.
— Нас только четверо, — сказал Романский, — но не в количестве дело. Я хорошо знаю порядки тюрьмы, знаю и многих охранников, их настроение. Попытаемся!
— Тут меня осенила блестящая мысль использовать мой мандат уполномоченного правительства ДВР во Владивостоке, — рассказывает Н.И. Горихин, — и я говорю товарищам: «Согласен. Пойдемте в тюрьму».
Когда это смелое решение идти в тюрьму приняло конкретную форму, Романский предложил пригласить с собой помощника начальника участка милиции Первой Речки. Что и было сделано. Такая предусмотрительность была не лишней, и тюремная стража, видя помощника начальника милиции и Романского, беспрепятственно впустила их в тюрьму.
— Начальник тюрьмы Санцевич принял нас предупредительно, — вспоминает Н.И. Горихин. — Я представился: уполномоченный правительства ДВР Горихин, — и растянул перед ним на письменном столе шелковое полотнище — мой мандат уполномоченного правительства ДВР во Владивостоке.
— Чем могу служить? — спрашивает Санцевич растерянно.
— Предлагаю вам немедленно освободить из тюрьмы всех политических заключенных!
Это был самый опасный момент в решении смелого поступка горсточки людей. Но у них был такой расчет, неоднократно рассказывал Горихин, что администрация тюрьмы, безусловно, знает, где находится Народно-революционая армия, но она не знает быстро меняющейся обстановки — что же делается в городе в последнюю минуту? А тут рядом стоит уполномоченный правительства!
— В принципе я согласен с вами, — отвечает Санцевич, — но нужна санкция тюремного инспектора. Без этого освободить заключенных не могу. Таков порядок.
— Ну что ж, — говорит Горихин, — пошлем за инспектором Романского.
Романский ушел, а начальник тюрьмы, по просьбе Горихина, повел их к политическим заключенным. Тогда старост политических заключенных представляли товарищи Старков, Леушин, Коробовский, Цапурин, а пятого фамилии не знаю. Горихин сообщил заключенным, что они пришли освободить их. Он также успел им сказать так, чтоб не слышал Санцевич, — если у них с освобождением ничего не выйдет, то надо идти всем на верхний этаж тюрьмы и там организовать оборону.
Снова вернулись в кабинет Санцевича. Время тянулось невыносимо долго. Романский вернулся только через час. Он сообщил, что инспектора не нашел. Тогда Горихин, снова становясь в официальную позу, говорит Санцевичу:
— Ждать нельзя, а поскольку инспектора нет, освободите заключенных без его санкции. Ответственность беру на себя, а вам выдам расписку.
Санцевич сидел, долго молчал и, наконец, заговорил:
— Освободить не могу. Вы лучше отстраните меня!
— Ну что ж, — ответил Горихин, — пусть будет по-вашему... — и дал распоряжение заместителю начальника тюрьмы Тюрину принять тюрьму.
— Как же я буду содержать в тюрьме остающихся уголовников без денег? — говорит он.
Горихин дал ему имеющиеся у него деньги. Тюрин успокоился.
Но тут выступает помощник начальника милиции и заявляет:
— Отстраните и меня!
Н.И. Горихин отстранил и его. Когда таким образом, совсем неожиданно, были разрешены все вопросы и совершилась также смена тюремного начальства, Н.И. Горихин пошел к политическим заключенным и сказал им:
— Немедленно, возможно быстрее, но без шума и, поодиночке уходите из тюрьмы. Распыляйтесь по окраинам, как можно дальше от центра города. Городские товарищи должны помогать иногородним скрываться в безопасных квартирах.
И вот, через каких-нибудь пять-десять минут заключенных как ветром сдуло.
Мария Владимировна Сибирцева находилась тогда в тюремном госпитале. За ней пошел Романский и освободил ее.
Отдав последнее распоряжение Пушкареву доставить арестованных Санцевича и помощника начальника милиции на станцию Угольная, Горихин и связной-комсомолец последними оставили тюрьму.
... Через два дня Народно-революционная армия, бывшая Пятая Красная, решила окончательно судьбу российской контрреволюции. Это та самая Пятая армия, которая выросла, окрепла и закалилась в боях на берегах Волги, участвовала в освобождении Казани, Симбирска и Самары, в июне 1919 года освободила город Уфу, разгромила колчаковские войска на Урале и погнала их на Восток.
Начав свой беспримерный в истории героический поход от берегов Волги, Пятая Красная Армия с боями прошла всю Сибирь и Дальний Восток и закончила его 25 октября 1922 года освобождением Владивостока от белогвардейцев и интервентов. На берегах Тихого океана установилась Советская власть.
Гражданская война в России закончилась. Указание партии и В.И. Ленина о сохранении за Россией Дальнего Востока и его форпоста Владивостока было выполнено.