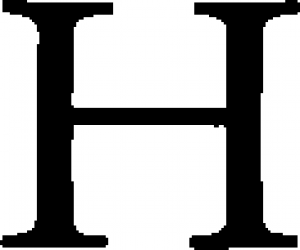
ИСАЙЯ БЕРЛИН
РУССКИЕ
МЫСЛИТЕЛИ
Isaiah Berlin
Russian Thinkers
Edited by Henry Hardy and Aileen Kelly With an Introduction by Aileen Kelly
PENGUIN Ш В CLASSICS
Исайя Берлин
Русские Мыслители
Составление: Генри Гарди, Эйлин Келли
Вступление: Эйлин Келли
Редактор: Генри Гарди
Перевод: Сергея Александровского, Вадима Глушакова
МОСКВА 2017
УДК 633(2) 522-8 ББК 94(47) Б 49
Isaiah Berlin
Russian Thinkers
Берлин, И.
Б 49 Русские Мыслители / Исайя Берлин; пер. с англ. Сергея Александровского, Вадима Глушакова, — М.: Энциклопедия-ру, 2017. — 496 с.
isbn 978-5-9905652-8-9.
Исайя Берлин родился в Риге, нынешней латвийской столице, в 1909 г. Когда ребенку исполнилось шесть лет, семья перебралась в Петроград и стала свидетельницей обеих революций—социал-демократической, а затем большевистской. В 1921-м Берлины осели на английской почве. Исайя получил образование в Школе Св. Павла (Лондон) и оксфордском Колледже Тела Христова (Corpus Christi College). Там же, в Оксфорде, Исайя Берлин стал впоследствии действительным членом научных обществ при Колледже Всех Душ (All Souls) и при Новом Колледже, профессором общественной и политической теории, а также основателем и первым президентом Вульфсонова Колледжа (Wolfson College). Умер он в 1997 году. Сэр Исайя Берлин внес огромный вклад в английское россиеведение. Великолепные переводы из Тургенева («Первая любовь» и «Месяц в деревне») считаются классическими. Среди многочисленных иных публикаций, относящихся к России, числятся «Карл Маркс» (1939; 4-е переиздание—1978), «Понятия и категории» (Concepts and Categories, 1978), «Против течения» (Against the Current, 1979), «Личные впечатления» (1980, 2 nd ed. 1998), «Уродливое древо человечества» (The Crooked Timber of Humanity, 1990), «Чувство действительности» (The Sense of Reality, 1996), «Беспристрастный взгляд на род людской» (The Proper Study of Mankind, 1997), «Корни романтизма» (The Roots of Romanticism, 1999), «Могущество идей» The Power of Ideas, 2000), «Трое критиков эпохи Просвещения» (Three Critics of the Enlightenment, 2000), «Свобода и как ее предают» (Freedom and Its Betrayal, 2002), «Свобода» (Liberty, 2002), «Советский склад ума» (The Soviet Mind, 2004) и «Политические идеи в романтическую эпоху» (Political Ideas in the Romantic Age, 2006). «Русские мыслители» впервые были опубликованы в 1978 году как сборник очерков. Спустя десятилетия эта книга вдохновила Тома Стоппарда (Tom Stoppard), написавшего по ее мотивам драматическую трилогию «Брег Утопии» (The Coast of Utopia, 2002).
УДК 633(2) 522-8 ББК 94(47)
isbn 978-5-9905652-8-9.
Copyright Isaiah Berlin 1948, 1951, 1953, 1955, 1956; © Isaiah Berlin 1960, 1961, 1972. 1978
'Herzen and Bakunin on Individual Liberty' copyright President and Fellows of Harvard College 1955
This selection and editorial matter © Henry Hardy 1978,2008
Introduction © Aileen Kelly 1978, 1998
Glossary of Names © The Isaiah Berlin Literary Trust 2008
All rights reserved
© Сергей Александровский, Вадим Глушаков, перевод на русский язык, 2017 © ООО «Энциклопедия-ру», 2017
Посвящается Дереку Оффорду и Татьяне Поздняковой sine quibus поп[1]
Содержание
7 Авторское предисловие
9 Генри Гарди
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
19 Эйлин Келли
ПРЕДИСЛОВИЕ
36РОССИЯ И 1848 ГОД
65ЕЖ И ЛИС
156 ГЕРЦЕН И БАКУНИН О СВОБОДЕ ЛИЧНОСТИ
205РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
236ГЕРМАНСКИЙ РОМАНТИЗМ В ПЕТЕРБУРГЕ И МОСКВЕ
255ВИССАРИОН БЕЛИНСКИЙ
311АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН
348НАРОДНИЧЕСТВО
390ТОЛСТОЙ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
425ТУРГЕНЕВ И ТЯЖКИЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
491Приложение
494Алфавитный указатель
Авторское предисловие
черки, собранные в этом томе, первом из четырех[2], писались — или в разное время служили предметом лекций — на протяжении без малого тридцати
лет, и оттого им присуще меньшее тематическое единство, нежели статьям, создающимся во взаимной связи. Само собою разумеется, я глубоко признателен редактору данного собрания, доктору Генри Гарди, убежденному в том, что следует извлечь мои заброшенные записи из забвения. Благодарю доктора Гарди за тщание и неукоснительную заботу, с которой он обнаруживал авторские просчеты — например, неточности, противоречия и темные места — и по мере сил устранял их. Сохранившиеся недостатки всецело и естественно остаются на моей собственной совести.
Я также в неоплатном долгу перед доктором Эйлин Келли, снабдившей данный том вступлением: в частности, за ее глубокое и сочувственное понимание обсуждаемых вопросов и моего к ним подхода. Я искренне благодарен доктору Келли за великие труды, которые она — в разгаре своей собственной работы — предприняла, выверяя и, при случае, выправляя, расплывчатые упоминания либо чересчур вольные переводы. Ее неустанная поддержка почти убедила меня в том, что, возможно, и стоило готовить эту книгу к печати ценою столь многих просвещенных и сосредоточенных трудов. Смею лишь надеяться на то, что окончательный итог работы докажет: ни время, ни силы, истраченные доктором Келли и доктором Гарди, не пропали впустую.
Многие из нижеследующих очерков возникли как публичные лекции, читавшиеся без предварительной текстовой подготовки. Печатаемые тексты основываются на слушательскихконспектах или на сделанных загодя беглых набросках — и, как я отлично сознаю, выдают свое происхождение и повествовательным слогом, и композицией.
Первоначальные редакции преимущественно пребывают неизменными: я и не пытался пересматривать их в свете чего бы то ни было, опубликованного впоследствии касаемо русской философии девятнадцатого столетия — ибо, сколько могу судить, на этом (несколько небрежно возделываемом) поле научной деятельности не выросло в последнее время ничего, способного поставить под серьезное сомнение основные тезисы моей книги. Но тут я могу ошибаться. И если так, поспешу заверить читателя: тому причиной лишь авторская неосведомленность, а отнюдь не авторская незыблемая вера в непреходящую ценность собственных суждений.
Ведь в самом деле: все объемистое собрание этих очерков— коль скоро можно говорить, будто они обнаруживают некую единую тенденцию — пронизывается недоверием к любым притязаниям на обладание непогрешимым знанием фактов или принципов, связанных с любой областью людского поведения.
Исайя Берлин
Июль 1977 г.
•
Предисловие составителя
<...> громоздкий ученый и справочный аппарат явно (впрочем, безуспешно), составлен и предназначается для того, чтобы мумифицировать одного из самых искрометных современных историков <... > — Николас Ричардсон[3].
В
о второй половине 1970-х годов я свел воедино и подготовил к изданию четыре тома, объединяющих большинство самых значительных очерков, опубликованных Исайей Берлиным и прежде не выходивших в свет как собрание сочинений[4]. Одна из этих книг перед вами. Многочисленные труды Берлина дотоле оставались рассеяны — зачастую по малоизвестным журналам, — а большей частью и не перепечатывались: только с полдюжины работ были помещены под одним переплетом и переизданы[5]. Вышедший четырехтомник сделал гораздо большее число произведений Берлина легко доступными, обнаружились писательские плодовитость, широта и глубина, изумившие немало читателей, — и автору, как он добродушно признал сам, изрядно прибавилось известности.
С тех пор я составил еще двенадцать томов, на чьих переплетах значилось «Исайя Берлин» — причем, в нескольких использовались материалы, никогда и нигде не обнаро- довавшиеся. Некоторые из этих книг, упоминающиеся ниже, кое в чем тематически связаны с данным сборником. Дальнейшее знакомство с берлинским Nachlass[6] возможно в The Isaiah Berlin Virtual Library (веб-сайт общества Isaiah Berlin Literary Trust)[7], где, среди прочего, содержатся и материалы, посвященные различным русским темам.
Книга «Русские мыслители» состоит из десяти очерков о русской литературе и философии девятнадцатого столетия. Ранее эти работы публиковались в следующих изданиях:
«Россия и 1848 год»: Slavonic Review 26 (1948)
«Еж и Лис»: в сокращении, под заглавием «Исторический скептицизм Льва Толстого» (Lev Tolstoy's Historical Scepticism, Oxford Slavonic Papers 2 (1951); переиздано с дополнениями под нынешним заглавием: London, 1953: Weidenfeld and Nicholson; New York, 1953: Simon and Schuster
«Герцен и Бакунин о свободе личности»: в кн. Ernest J, Simmons («ed.), Continuity and Change in Russian and Soviet Thought (Cambridge, Massachusetts, 1955: Harvard University Press)
«Примечательное десятилетие»: Northcliffe Lectures for 1954 («Нортклиффские лекции 1954 года»), читанные в Лондонском Университетском колледже и позднее в том же году прозвучавшие на Третьем канале Би-Би-Си. Также, под названием «Поразительное десятилетие» (A Marvellous Decade), было напечатано в Encounter 4 No 6 (June 1955), 5 No 11 (November 1955), 5 No 12 {December 1955) и 6 No 5 {May 1956)
«Русский популизм»: как вступление к кн.: Franco Vetturi, Roots of Revolution {London, 1960: Weidenfeld and Nicholson; New York, 1960: Knopf); также в Encounter 15 No 1 (July 1960)
«Толстой и просвещение»: в PEN Hermon Ould Memorial Lecture for 1960; также в Encounter 16 No 2 (February 1961) и в Mightier than the Sword (London, 1964: Macmillan)
«Отцы и дети: Тургенев и и тяжкий либеральный выбор»: Romanes Lectures for 1970: Oxford, 1972: Clarendon Press; переиздано с исправлениями в 1973-м: TVeze/ УЬг^ Review of Books (18 October and 15 November, 1973); также послужило предисловием к /шя Turgenev, Fathers and Sons, translated by Rosemary Edmonds (Hardsmondsworth, 1975: Penguin)
Я признателен вышеперечисленным издателям за разрешение перепечатать упомянутые очерки. Некоторые отрывки — главным образом переводные — Берлин, готовя настоящий том, отредактировал заново, ибо выполненные им переводы — отмеченные стремлением улучшить слог подлинника, не искажая смысла, — оказывались иногда чересчур вольными даже по меркам самого Берлина, отнюдь не склонного к педантизму. Кроме того, некоторые переводные фрагменты, кочевавшие из очерка в очерк, подверглись удалению либо заменам. В остальном же, не считая неминуемой корректуры и добавления недостававших ссылок в подстрочные примечания, первое издание этой книги воспроизвело все тексты в их изначальном виде. Даже рассуждения на одну и ту же тему, которые повторялись в очерках, поначалу выпускавшихся в свет независимо друг от друга, даже настоящее время глаголов, которыми автор описывал события, происходившие тогда же, когда он работал над своими текстами, остались нетронутыми. А в «Примечательном десятилетии», «Русском популизме», «Толстом и просвещении», как и при первых публикациях, отсутствовали перечни источников — отчасти потому, что мы не сумели распознать происхождение всех используемых там цитат.
Тот же подход избрали и к выпуску нынешней книги[8] — с одним немаловажным исключением. После 1978 года и мне самому, и другим исследователям удалось выяснить, откуда брались многие (хотя далеко не все) ранее «безродные» цитаты. Подготовка сборника к изданию в Penguin Classics дала мне долгожданную возможность добавить недоставав- шие сведения — и теперь все очерки до единого снабжены справочным аппаратом.
Буду благодарен за любые подсказки относительно тех источников, коих я не сумел раскопать и поныне[9] — хотя подозреваю, что, по крайней мере некоторые из цитат, остающихся «безродными», на самом деле суть не цитаты, а пересказы. В отдельных случаях, следуя примеру, поданному самим Берлиным, готовившим первое издание, я устранял кавычки там, где связь предполагаемой цитаты с возможным источником казалась весьма приблизительной.
Находились критики, возражавшие против подстрочных примечаний к очеркам, изначально печатавшихся безо всяких сносок. Суждение, высказанное Николасом Ричардсоном, стоит над этим предисловием в качестве эпиграфа. А Стефан Коллини упомянул о «слегка искаженном виде очерков [Берлина]», заметив: оснащение текста подстрочными примечаниями «опасно тем, что произведения, выглядевшие прежде изысканными и неповторимыми, покажутся присмиревшими и поблекшими, предстанут чуть ли не простыми плодами заурядного трудолюбия»[10]. На эту критику я ответил во вступлении к «Корням романтизма» (The Roots of Romanticism)[11], написанным Берлиным. Главный мой встречный довод заключается в том, что сам Исайя Берлин был убежденным сторонником подстрочных примечаний — он снабдил ими четыре из публикуемых здесь очерков; полагаю, снабдил бы и все остальные — веди он более тщательный учет источникам, из коих черпал материалы для работ, задумывавшихся как лекции, а для печати не предназначавшихся. И, вздрагивая при мысли о том, сколько сил и времени я истратил, отыскивая использованные автором источники, желаю избавить хотя бы других от надобности проходить через те же муки. А посему не прошу прощения за то, что оснастил примечаниями и ссылками все очерки, составившие нынешний сборник — лишь сожалею, что не сделал этого еще тридцать лет назад.
Ссылки и сноски позволят ученому читателю подробнее проследить умственный путь Исайи Берлина; мне же самому они дозволили устранить многочисленные оплошности — как в тексте, так и в примечаниях, — ибо если предисловие, написанное Берлиным, упоминает «расплывчатые ссылки и слишком вольные переводы», то это довольно слабо сказано.
Я старался чуть-чуть облегчить читателю жизнь и другими способами. Ради людей, не знакомых с нужными языками, к примечаниям прибавлены сведения об английских переводах цитируемых трудов. Многие французские фразы и отрывки, ранее оставленные непереведенными, изложены по-английски. Джейсон Фэррелл любезно снабдил нынешнюю книгу именным указателем — по образцу того, что был ранее составлен Еленой Раппопорт для сборника The Soviet Mind. Фэррелл даже заимствовал оттуда некоторые данные. Указатель содержит основные нужные сведения о людях (преимущественно русских), упоминаемых Берлиным и вряд ли известных каждому вероятному читателю. А в одном или двух случаях моими собственными, и чужими стараниями были обнаружены дополнительные данные, которые стоило сообщить читающей публике: эти сведения, помещаемые среди примечаний, заключаются в квадратные скобки, дабы сделать редакторское вмешательство очевидным.
Люди, знакомые с работами Исайи Берлина в данной области, заметят отсутствие трех важных произведений. Два из них — вступительные статьи к переводам из Герцена, упоминаемым в перечне условных сокращений (см. ниже, стр. ХХ-ХХ1Г). Эти предисловия исключены, поскольку содержание обоих, до известной степени, совпадает с содержанием двух очерков о Герцене, вошедших в эту книгу. Предисловия к книгам «С того берега» и «Русский народ и социализм» ныне включены в собрание малых очерков Берлина: The Power of Ideas (London and Princeton, 2000), а вступление к «Былому и думам» вошло в сборник Against the Current. Третье исключенное произведение —Artistic Commitment: A Russian Legacy, недоступное читателю в 1978-м, а ныне опубликованное в The Sense of Reality: Studies in Ideas and Their History (London, 1996; New York, 1997) — книге Берлина, состоящей преимущественно из работ, которые не печатались прежде.
Особое душевное родство Берлина с Тургеневым, живо обнаруженное работой «Отцы и дети», отражается также и в трех переводах из Тургенева — новелле, пьесе и автобиографическом рассказе. Переводы новеллы («Первая любовь») и пьесы («Месяц в деревне») также напечатаны в серии Penguin Classics. А рассказ «Пожар на море» был, со вступительной заметкой Берлина, опубликован под названием А п Episode in the Life of Ivan Turgenev («Случай из жизни Ивана Тургенева») в London Magazine,,July 1957, и затем переиздан вместе с новеллой как First Love and A Fire at Sea («Первая любовь и Пожар на море». London, 1982: Hogarth Press; New York, 1983: Viking).
Вероятно, читатели будут не прочь узнать и об иных произведениях, прямо или косвенно относящихся к этой же области, но в данную книгу не вошедших. Исайя Берлин провел три радиопередачи: The Man Who Became a Myth («Человек, сделавшийся мифом. О Белинском»), The Father of Russian Marxism («Отец русского марксизма. О Плеханове») и The Role of the Intelligentsia («Роль интеллигенции») — все три вошли в сборник The Power of Ideas. Имеются несколько работ о Советской России, сведенные воедино под заглавием The Soviet Mind: Russian Culture under Communism (Washington, 2004: Brookings Institution Press); это собрание содержит и библиографию остальных работ Берлина, посвященных России. Очерк Meetings with Russian Writers in 1945 and 1956 («Встречи с русскими писателями в 1945-м и 1956-м») — главным образом рассказывающий об Анне Ахматовой и Борисе Пастернаке, — отыщется в книге Personal Impressions, а его сокращенный вариант, озаглавленный Conversations with Akhmatova and Pasternak («Беседы с Ахматовой и Пастернаком») входит в книгу The Soviet Mind и в The Proper Study of Mankind (London, 1997; New York, 1998) — антологию очерков, извлеченных из предыдущих собраний.
Следует упомянуть и о недавних событиях в истории сочинений Исайи Берлина, относящихся к России.
Премьеры драматической трилогии «Берег Утопии», написанной Томом Стоппардом и посвященной судьбам русской интеллигенции, состоялись в Лондонском Королевском Национальном Театре (2002 г.), Нью-Йоркском Линкольн- центре (2006-2007 гг.) и Российском академическом молодежном тетре (Москва, 2007 г.). По словам самого Стоппарда, на создание трилогии его «вдохновило чтение «Русских мыслителей», принадлежащих перу Исайи Берлина, восхищение теми людьми, о коих он повествовал». По сути, говорит драматург, «дух сэра Исайи незримо витает над моей трилогией»1. И безусловно, «всеобъемлющий взгляд» Берлина — если заимствовать заголовок содержательного предисловия, написанного Эйлин Келли[12], — почти ощутимо лепит очертания мира, представляемого этими замечательными пьесами.
Многим людям задолжал я искреннюю благодарность — но здесь могу вернуть лишь самые крупные свои долги. Говоря о первом издании этой книги, наипервейшим делом упомяну о необъятной и кропотливой редакторской работе, предпринятой доктором Эйлин Келли: когда бы не ее глубокое знание русского языка и русской культуры девятнадцатого столетия, задача моя осталась бы невыполнимой. Донельзя обремененная в те дни собственными трудами, доктор Келли проводила долгие часы в поисках ответов на мои вопросы. Я обязан и благодарен доктору Келли безмерно. Исайя Берлин был неизменно учтив, добродушен, шел навстречу моим настойчивым и неотступным просьбам дать вторую жизнь его литературоведческой работе — на которую сам он глядел с немалым и все возраставшим скептицизмом — и делился знаниями в ответ на мои зачастую назойливые вопросы, обращавшиеся почти допросами касаемо подробностей мелких и мельчайших. Лесли Чемберлен изрядно помог подготовить к печати очерк «Герцен и Бакунин о свободе личности». Пэт Утехина, последний литературный секретарь Исайи Берлина, проработавшая дольше всех остальных, оказалась незаменимой помощницей и вдохновительницей на всех стадиях нашего сотрудничества.
Возвращаясь к нынешнему отредактированному переизданию, первым долгом почитаю от всего сердца поблагодарить Дерека Оффорда, много дней тратившего долгие часы в поисках цитируемых литературных источников, сверявшего цитаты — и являвшего при этом поистине ангельское терпение. Отнюдь не будет преувеличением сказать: без Дерека я ни за что не сумел бы подготовить настоящий том к печати в его нынешнем виде. Я столь же безмерно признателен Татьяне Поздняковой, чьи глубочайшие познания (и добрая готовность помогать) позволили непостижимым образом — там, где остальные лишь разводили руками в бессильном отчаянии, — выявить происхождение почти всех приводимых прозаических отрывков. Время от времени Татьяне содействовал Константин Глебович Исупов. Татьяна также обустроила сканирование иллюстраций к «Отцам и детям» в Российской национальной библиотеке (Санкт- Петербург). Усердие этих двоих ученых — простиравшееся далеко за вообразимые пределы исполняемых служебных обязанностей — побудило меня снабдить настоящий том посвящением, ибо редакторские труды всецело зависели от помощи надежных сотрудников.
Маршалл Шатц со всевозможным дружелюбием и без малейших жалоб содействовал мне в разрешении многих нелегких задач — особенно там, где речь заходила о Бакунине; Эндрью Дрозд, Яап Энгельсман, Ричард Фриборн,
Стеффен Гросс, Робин Гессман, Эйлин Келли, Марина Хмельницкая, Марина Козырева, Николай Сергеевич Матвеев, Елена Раппопорт, Джуди Скелтон, Роман Давидович Тимен- чик, Патрик Уоддингтон и Андрей Зорин также приходили на выручку — многие из них не единожды. В нескольких случаях мои затруднения разрешали Ник Хирн, Ричард Рэмедж, Лиза-Мария Спирина, а также их коллеги из Славянского отдела Taylorian Institution Library[13] в Оксфорде. И впрямь: ныне изрядно заржавевшее — да и прежде бывшее довольно ученическим — знание русского языка делало меня особенно зависимым от посторонней помощи при подготовке нынешнего тома, который, в известном смысле, является плодом совокупных усилий — и, справедливости ради, надлежало бы упомянуть на титульном листе не только четырех «избранных соавторов». Тем не менее за любые незамеченные редакторские оплошности отвечаю, разумеется, лишь я один.
Г. Г.
Вульфсон-колледж, Оксфорд Октябрь 2007
•
Предисловие
Всеобъемлющий взгляд
Не ищи решений в этой книге — их нет в ней, их вообще нет у современного человека. Александр Герцен. С того берега[14]
О
днажды, пытаясь разъяснить леди Оттолине Мор- релл, откуда взялся русский большевизм, Бертран Рассел заметил: хоть и чудовищно подобное владычество, да в России оно вполне уместно. «Если зададитесь вопросом: а как же надобно править людьми из романов Достоевского? — уразумеете, в чем дело»[15].
С точки зрения многих западных либералов, советская тирания выглядела неминуемым итогом образа мыслей и действий, присущего «бесам» Достоевского — радикальным русским интеллигентам. Что до степени отчужденности от окружавшего общества и, одновременно, степени воздействия на него, то радикальная русская интеллигенция девятнадцатого столетия была явлением почти sui generis[16]. Ее идейные вожаки образовывали небольшой кружок, сплоченностью своих членов и убежденностью в непогрешимой правоте своей изрядно смахивавший на религиозную секту. Ярым нравственным противостоянием существовавшему порядку, полнейшей идейной одержимостью, верой в рассудок и науку они вымостили путь к русской революции, и тем самым обрели великое историческое значение. Но слишком часто английские и американские историки пишут об этих людях со снисходительной брезгливостью, ибо учения, коих они столь пылко придерживались, были не их собственными, а заимствованными у Запада, зачастую ложно понятыми и порочно использованными, — а еще потому, что фанатическая преданность идеям крайнего порядка якобы понудила их очертя голову — подобно героям «Бесов» — ринуться к самоистреблению, увлекая за собой и собственный народ, и значительную часть остального человечества. Русская революция со всеми ее последствиями упрочила и без того твердокаменное англо-саксонское убеждение: страстная увлеченность идеями есть признак умственного и душевного расстройства.
Один могучий либеральный голос неизменно возражал против подобного взгляда на русскую интеллигенцию. Исайя Берлин — один из наиболее чтимых политических мыслителей второй половины двадцатого столетия, поборник того, что Джон Грэй определяет как «стоический и трагический либерализм» при неизбежном столкновении несовместимых воззрений, — вдохнул новую жизнь в либеральное умствование1.
Все написанное сэром Исайей пронизано верой в то, что либеральные ценности более всего способен защитить человек, лучше всех разумеющий могущество идей: в частности, чувствующий — как выразился сам Берлин — интеллектуальную и нравственную привлекательность, присущую великим деспотическим мечтаниям правых и левых. Мыслящая Англия весьма выиграла, когда Берлин противостал привычному равнодушию островитян к путям европейского умственного развития. Череда блистательных исследований, написанных Берлиным, познакомила широкую публику с некоторыми из наиболее своеобразных мыслителей, живших после эпохи Возрождения, а в очерках, образующих данную книгу, сэр Исайя открыл читателю феномен, именуемый русской интеллигенцией.
Подход Берлина к русской мысли определялся его интересом к тому, как люди «сживаются с идеями», дабы решать задачи нравственного порядка. Избегая всеобщей склонности осуждать найденные русскими ответы с высот исторической мудрости, приобретенной задним числом, сэр Исайя сосредоточил внимание на тех самых дилеммах, решения которых искала интеллигенция. Очерки Берлина о России стоят особняком, они самодостаточны и не требуют ни философского комментария, ни ссылок на источники, но все же вносят существенный вклад в основную тему всего написанного сэром Исайей по поводу истории умственного развития — и своеобразие этих произведений делается гораздо нагляднее, коль скоро их рассматривают в упомянутом, более широком, контексте.
Сочинения Берлина посвящены главным образом тому, что сам автор считает одним из основополагающих нерешенных вопросов, от коих зависят нравственность и поведение: «Все ли абсолютные ценности совместимы друг с другом? Или не существует единственного окончательного ответа на вопрос: как же следует жить? Или нет единого, объективного, всечеловеческого идеала?» В очерках о свободе, вместивших все, что сэр Исайя думал по этому поводу, он исследует исторические и психические корни и следствия монистического и плюралистического взгляда на мироздание. Он доказывает: великие тоталитарные государства, построенные на фундаменте гегельянства и марксизма, суть не ужасающие извращения, но, скорее, логические завершения стержневого принципа, исповедуемого всеми школами западной политической мысли: данная от природы сплоченность, порождаемая всеобщей и единственной целью, составляет подоплеку любых и всяческих явлений. Этот принцип, согласно суждению одних, обнаруживает себя в научных изысканиях, а согласно суждению других, в откровениях свыше и метафизических прозрениях. Будучи исследован вполне, он даст определенный и не подлежащий обсуждению ответ на вопрос: как же следует жить?
Хотя самые крайние разновидности подобной веры, объявляющие личность простым орудием абстрактных исторических сил, приводили и приводят к преступным извращениям политической практики, Берлин подчеркивает: саму эту веру нельзя отвергать как порождение больного ума. Она служит основой всей многовековой нравственности, она коренится в общечеловеческой «глубокой, неистребимой метафизической потребности», возникающей из чувства внутреннего разлада и раскола — из человеческой алчбы вернуть себе мифическую утраченную цельность. Эта жажда абсолютного — зачастую лишь стремление стряхнуть бремя ответственности за собственную судьбу и участь, переложить его на «бескрайнее, аморальное, безликое, монолитное целое— на природу, историю, общественный класс; на расу или на «суровые условия современной жизни» — либо на неукротимое развитие общества, которое поглотит и сплавит нас в необъятной своей утробе — общества, которое бессмысленно оценивать или осуждать, общества, против коего мы ведем заведомо проигранный, погибельный бой»[17].
Так полагает Берлин — именно потому, что монистические представления об окружающей действительности отвечают основным человеческим нуждам, а по-настоящему последовательного плюрализма в истории почти не сыщется. Помня о смысле, в котором Берлин использует это слово, плюрализм не должно смешивать с тем, что, как правило, зовут либеральной точкой зрения: согласно ей, все мировоззренческие крайности суть искажения истины, а ключи к общественной гармонии и высоконравственной жизни — умеренность и золотая середина. Истинный плюрализм, как его понимает Берлин, куда упрямее и умственно дерзостнее: он отвергает точку зрения, гласящую, что все нравственные противоречия можно в итоге разрешить путем синтеза, что все человеческие устремления к желательному или желанному способны мирно сосуществовать. Он утверждает: натура людская производит на свет ценности равно священные, равно высочайшие, но взаимно исключающие друг друга — и нет ни малейшей возможности учредить среди них какую бы то ни было объективную иерархию. Посему, высоконравственное поведение может ставить человека перед тягчайшим выбором — и здесь не придут на выручку никакие общепринятые критерии: доведется самому выбирать из вещей несовместимых, но равно желанных.
Эта извечная возможность нравственного колебания, в глазах сэра Исайи, — неизбежная плата за признание того, что человек свободен: право личности на самостоятельные действия (в отличие от действий, предписываемых государством, церковью либо партией) безусловно приобретает высочайшую важность, если человек уверен, что недопустимо ни оценивать разнообразие людских целей и устремлений согласно некоему вселенскому критерию, ни подчинять упомянутое разнообразие некоему трансцендентальному замыслу. Но Берлин утверждает: хотя эта уверенность изначально свойственна некоторым гуманистическим и либеральным воззрениям, итоги последовательного плюрализма столь болезненны и тревожны, столь коренным образом подрывают некоторые основные и безоговорочно принятые понятия, присущие традиционному складу западного ума, что о них редко решаются рассуждать без обиняков. В своих выдающихся работах, посвященных Джамбаттисте Вико, Никколо Маккиавелли и Иоганну-Готтфриду фон Гердеру, а также в Historical Inevitability, Берлин показывает: немногих мыслителей, говоривших о последствиях плюрализма напрямик, толковали превратно, а самобытность их всячески умаляли.
В Four Essays on Liberty[18] автор выдвигает предположение: плюралистические воззрения на мир часто суть итоги исторической клаустрофобии, наступающей во времена умственного и общественного застоя, когда людские дарования и способности, невыносимо стесненные требованием «быть, как все прочие», требуют: «больше света!»[19] Они также требуют: расширьте области личной ответственности, дозвольте нам действовать без оглядки! Но в течение всей истории господствуют монистические доктрины — и это доказывает, что люди куда более склонны страдать агорафобией: в минуты исторических кризисов, когда неизбежность выбора порождает и страхи и неврозы, человеческие существа охотно меняют сомнения и терзания, вызванные моральной ответственностью, на детерминистские убеждения — консервативные или радикальные, — дозволяющие жить «в тюремной тишине и покое, в довольстве и безопасности, [дающие] ощущение, что личность наконец-то сыскала себе надлежащее место в целом космосе»[20]. Берлин указывает: жажда уверенности и надежности испокон веку не бывала сильнее, чем в двадцатом столетии. А очерки о свободе громогласно предупреждают: нужно понимать — изощряя свою нравственную восприимчивость, «всеобъемлющий взгляд»[21] на мир, — откуда берутся наиглавнейшие заблуждения, служащие для подобных убеждений опорой.
Как и многие иные либералы, Берлин считает, что упомянутую восприимчивость возможно изощрить, изучая интеллектуальные предпосылки русской революции. Но выводы Берлина отличаются от общелиберальных. Острое нравственное чутье, дозволившее сэру Исайе получить совершенно новое представление о европейских мыслителях, и побудило его отвергнуть устоявшееся мнение, гласящее, будто все русские интеллигенты — до единого человека — были монистами-фанатиками: историческое злополучие крепко предрасполагало интеллигенцию к обоим разновидностям мировоззрения, монистической и плюралистической. Интеллигенция тем и привлекательна, что наиболее чуткие представители ее одновременно — и одинаково остро — маялись исторической клаустрофобией и агорафобией, а стало быть, с жадностью тянулись к мессианским идеям и тот же час отшатывались от них, испытывая нравственное отвращение. Итогом этого, как доказывает Берлин, был исключительно сосредоточенный самоанализ, то и дело приводивший к чисто пророческому постижению великих и жгучих вопросов, порождаемых нашей эпохой.
Причины столь крайней русской агорафобии, породившей череду хилиастически-политических учений, хорошо известны: политическая реакция, воспоследовавшая за неудавшимся восстанием декабристов (1825), вызвала глубокое отчуждение умственной элиты, образованной на западный лад, от окружавшего непросвещенного общества. Не имея практического применения своим силам и дарованиям, интеллигенты с чисто религиозным пылом устремили свой общественный идеализм к поискам истины. Они изучали историософские системы германской идеалистической философии — в то время влиявшей на Европу сильнее, чем когда бы то ни было, — ища цельного мировоззрения, способного открыть некий смысл в обставшем хаосе, нравственном и общественном, дать надежную житейскую опору.
Эта жажда абсолютного была одним из источников пресловутой упрямой последовательности, которая, как замечает Берлин, является самым поразительным свойством русских мыслителей: их привычки делать из идей и понятий выводы самого крайнего, даже абсурдного порядка — ибо останавливаться перед конечными следствиями собственных умозаключений считалось нравственной трусостью, недостаточной преданностью истине. Впрочем, за этой последовательностью обреталась и другая движущая сила, ей противоречившая. Воспитанное по-западному русское меньшинство, напитавшееся, благодаря полученному образованию и прочитанным книгам, как идеалами Просвещения, так и романтическими идеалами свободы и людского достоинства, при Николае I — во времена первобытного, гнетущего деспотизма — захворало клаустрофобией, не знавшей равных в более передовых европейских странах, а обернулась эта клаустрофобия коренной переоценкой привычно признававшихся дотоле авторитетов и догм — религиозных, политических и общественных. Как показывает Берлин в очерке «Россия и 1848 год», вышеназванный процесс лишь ускорился благодаря неуспехам европейских революций 1848 года: интеллигенция пуще прежнего разочаровалась и в западных учениях — либеральных и радикальных, — ив предлагавшихся ими социальных панацеях. Трения и озарения, порожденные иконоборством, которым двигала жажда истины, служат основной темой очерков Берлина о русских мыслителях.
В галерее живо написанных литературных портретов сэр Исайя представляет нам отдельных мыслителей — наиболее выдающихся интеллигентов — людьми, непрерывно разрывающимися надвое между сомнениями в абсолютном и стремлением обрести некую неделимую истину, раз и навсегда разрешающую вопросы высокой нравственности. Кое-кто поддался второму порыву: Михаил Бакунин начинал свою политическую карьеру знаменитым обличением владычества догмы над личностью, но заканчивал требованием беспрекословно подчиняться его собственной догме о «мужицкой мудрости»; многие из молодых иконоборцев, «нигилистов- шестидесятников», безоговорочно приняли все положения грубого материализма. Иные мыслители вели битву посерьезнее и поупорнее. Литературного критика Виссариона Белинского зачастую вспоминают как архивопиющий пример фанатической интеллигентской приверженности к последовательной логике: исходя из гегельянских принципов, он объявил, что деспотизм Николая I надлежит принимать как необходимую стадию исторического движения. Однако в трогательном очерке о Белинском сэр Исайя показывает: после мучительной внутренней борьбы тот уступил доводам собственной совести и с жаром обличил гегелевскую доктрину о прогрессе, назвав ее Молохом, коему приносятся человеческие жертвы. Ища идеала, способного устоять перед их сокрушительной критикой, многие другие русские интеллигенты поставили под сомнение и все великие школы метафизической мысли, владевшие европейскими умами на протяжении девятнадцатого столетия, и многие наиболее почитаемые постулаты прогрессивной идеологии. В очерке о популистских настроениях, царивших над радикальной русской мыслью девятнадцатого века, Берлин замечает: это движение далеко опередило свое время, вскрывая бесчеловечную, обезличивающую сущность современных ему либеральных и радикальных теорий прогресса, всецело полагавшихся на количественные показатели, централизацию и рационализацию производственных процессов.
Большинство русских мыслителей рассматривали свой разрушительный критицизм в качестве простого предварительного условия — расчистки почвы для некоего исполинского идейного строительства; Берлин же смотрит на него как на имеющий прямое отношение к нынешним дням, когда лишь последовательный плюрализм способен оградить человеческую свободу от хищных и беспощадных любителей стройной системы. Подобный плюрализм, указывал автор, получил недвусмысленное определение в идеях, проповеды- вавшихся мыслителем, чья самобытность и поныне весьма недооценивается: Александром Герценом.
Основоположник русского популизма, Герцен был известен Западу прежде всего как русский радикал-утопист, веривший в некий архаический, первобытный социализм. Два очерка, написанных Берлиным о Герцене, и предисловия к величайшим герценовским работам — «С того берега» и «Былое и думы»[22] — прочно помещают Герцена среди «трех гениальных» русских «проповедников нравственности»[23], провозглашают его автором глубоких размышлений о свободе.
Свой путь мыслителя Герцен начал поисками идеала — и обрел его в развитой форме социализма, зародыш коей существовал, по его суждению, в русской крестьянской общине. Однако Герцен утверждал: ни этот, ни какой-либо иной идеал не представляют собой единого и общеприемлемого решения задач общественной жизни, поскольку поиск подобного решения просто несовместим с уважением к людской свободе. Герцен винил современников-революционеров в консерватизме, в нежелании выступить против общего источника всех видов политического гнета — тиранической власти отвлеченных понятий над личностью. Нападки Герцена на детерминистскую философию прогресса, говорит Берлин, обнаруживали провидческое понимание того, что «один из тягчайших грехов, которые вообще способно совершить любое человеческое существо, именуется стремлением переложить нравственную ответственность со своих собственных плеч на плечи непредсказуемого грядущего порядка вещей»[24], освятить чудовищные злодеяния верой в некую маячащую вдалеке Утопию.
Берлин представляет злополучие Герцена чем-то вполне вписывающимся в нашу современность. Герцен разрывался между противоречивыми, но одинаково ценными понятиями равенства и превосходства; он признавал несправедливым наличие элиты, но ценил умственную и нравственную свободу, эстетическую утонченность и избранничество истинной аристократии. Но даже отказываясь, в отличие от прочих русских идейных вождей левого толка, принести превосходство в жертву равенству, он, вместе с Джоном Стюартом Миллем, уже понимал нечто, в наши дни сделавшееся гораздо яснее: среднее арифметическое меж этими двумя понятиями — представляемое ныне «массовыми обществами» — не вбирает в себя наилучшие свойства обоих понятий, но куда чаще, по Миллевским словам, являет некую эстетически и этически мерзостную «всеобщую посредственность»2, растворение личности в массе. Языком, не менее живым и сочным, чем язык самого Герцена, сэр Исайя поведал англоязычному читателю суть самобытной герценовской убежденности в том, что нет общих решений для задач отдельных и особых — только временные выходы из положения, кои должно искать, руководясь обостренным чувством неповторимости, присущей любым историческим обстоятельствам, и отзывчивостью к нуждам и потребностям разных личностей и разных народов.
Берлин исследовал самоанализ русских мыслителей в работах, посвященных двум писателям — Толстому и Тургеневу, — и эти труды рассеивают широко распространенное заблуждение, гласящее, будто в дореволюционной России литературное творчество и радикальная мысль существовали порознь и были взаимно враждебны. Общеизвестное отвращение Толстого и Достоевского к интеллигенции часто вспоминают, доказывая, что между великими русскими писателями, стремившимися изучать глубины людского духа, и радикальными мыслителями, которых (предположительно) занимали только внешние формы общественной жизни, лежала пропасть. Но Берлин утверждает: искусство Толстого и Тургенева можно понять, лишь если рассматривать его как производное от того самого нравственного конфликта, что тревожил и радикальную интеллигенцию. В работе о взглядах Толстого на историю — «Еж и Лис» — ив очерке о Толстом и Просвещении автор толкует отношение, в коем обретались писательский дар Толстого и его нравственная проповедь, как исполинскую борьбу монистического и плюралистического взглядов на действительность. Убийственный нигилизм Толстого сокрушал всякие поползновения любых теорий, догм и философских систем разъяснить, упорядочить или предречь запутанные и противоречивые явления истории или общественного бытия — но движущей силой этих нападок было страстное желание открыть единую и единственную истину, всеобъемлющую и неуязвимую. Оттого Толстой и находился в постоянном раздоре с собою самим, воспринимая действительность в ее разнообразии, но веря только в «одно безмерное, единое целое»В искусстве своем Толстой сумел выразить собственное несравненно острое ощущение того, что миропорядок и его феномены бесконечно разнообразны, однако в нравственной проповеди призывал к упрощению, требовал свести все к единому уровню, а именно к уровню крестьянского мышления или простой христианской этики. Несколькими наиболее психологически тонкими и проницательными абзацами изо всех, когда-либо и кем-либо написанных о Толстом, сэр Исайя дает понять: трагедия Толстого заключалась в том, что его ощущение действительности было слишком острым — и не могло сочетаться ни с единым из тех узких идеалов, что сам же Толстой проповедовал. Выводы, сделанные Герценом в его сочинениях, подтвердились неспособностью Толстого — невзирая на отчаянные старания! — примирить друг с другом противоположные и все-таки равноценные задачи и взгляды. Но именно крах, который потерпел Толстой, пытаясь угомонить внутренний свой разлад и раздор, придает ему нравственное величие, очевидное даже тем, кого нравственная проповедь Толстого или ставит в тупик, или отталкивает вообще.
Кажется, немногие писатели различны более, нежели Толстой—фанатический искатель истины, иТургенев—мастер лирической прозы, автор «ностальгических сельских идиллий»[25]. Но в очерке о Тургеневе сэр Исайя показывает: будучи по темпераменту либералом, питавшим отвращение к догматической узости, и противником крайних решений, Тургенев испытал в юности очень заметное влияние современников- радикалов — людей морально целеустремленных и противостоявших жестокости Российского самодержавия. Он полностью разделял мнение своего друга Белинского: художник не может оставаться бесстрастным наблюдателем битвы между справедливостью и несправедливостью, но, подобно всем порядочным людям, обязан всемерно утверждать и провозглашать истину. В итоге тургеневский либерализм сделался чем-то весьма отличным от тогдашнего европейского либерализма: он был куда менее уверенным и оптимистическим — зато более современным. В своих романах — этой летописи интеллигентского развития — Тургенев изображает споры и препирательства, шедшие в середине девятнадцатого столетия меж русскими радикалами и консерваторами, умеренными и крайними; он со всевозможным тщанием и нравственной чуткостью исследует сильные и слабые стороны личностей и сообществ, а также учений, коими они руководились. Берлин подчеркивает: самобытным тургеневский либерализм делало убеждение, объединявшее Тургенева с Герценом (правда, Тургенев считал, что популизм Герцена — последняя его иллюзия) и противопоставлявшее обоих и Толстому, и революционерам (правда, их целеустремленность восхищала Тургенева), — убеждение, гласившее: окончательно разрешить основные общественные неурядицы нельзя вообще.
В эпоху, когда либералы и радикалы самодовольно и само- успокоенно верили в неизбежность прогресса, когда казалось, будто политический выбор и политические предпочтения предопределены неумолимыми историческими силами — законами рыночной экономики или классовой борьбы, — на кои можно целиком переложить ответственность за итоги человеческих действий, Тургенев чувствовал всю пустоту аксиом, использовавшихся либералами, дабы оправдать несправедливость существовавшего порядка вещей; или радикалами, дабы оправдать беспощадное уничтожение этого порядка. Он предвосхитил злополучие радикала-гуманиста, живущего в двадцатом веке, — то, что один из современных нам и наиболее нравственно чутких политических мыслителей, Лешек Колаковский, определяет как непрестанную муку выбора между требованиями Sollen и Sein — долженствующего быть и существующего фактически:
Один и тот же вопрос постоянно повторяется на разные лады: как нам предотвратить превращение альтернативы Sollen — Sein в полярные противоположности: «утопизм — оппортунизм», «романтизм — консерватизм»? Бессмысленное безумие — или угодливое сотрудничество со злодейством, скрытым под маской трезвого здравомыслия? Как избежать нам погибельного выбора между Сциллой долга, выкрикивающей свои сомнительные лозунги, и Харибдой соглашательства с окружающим нас миром, превращающимся в добровольного защитника своих же наистрашнейших порождений? Как избежать подобного выбора, если бытует постулат — мы считаем его неотъемлемо важным! — гласящий: мы никогда не способны верно и точно измерить пределы того, что зовем «исторической необходимостью»? И, следовательно, мы никогда не способны с уверенностью решить, какой же именно факт общественной жизни есть проявление исторической судьбы, и какие возможности кроются в существующей действительности^.
Сказанное Колаковским об этой дилемме, глянувшей двадцатому столетию прямо в лицо, безусловно, справедливо. Но Тургеневу, мыслителю совсем иного склада, эта же дилемма глянула в лицо уже более века тому назад. Пока поборники одностороннего подхода к делу — и консерваторы и утописты — не получили технического оснащения для опытов над несметным человеческим материалом, было не столь затруднительно проповедовать школу мысли, утверждавшую, будто все злободневные общественные вопросы можно решить крайними путями — либо даже придерживаясь пресловутой «золотой середины» — раз и навсегда. Сэр Исайя говорит: в эпоху, когда и либералы и левые идеологи все еще не сомневались в справедливости своих умопостроений, Тургенев обрел более всеобъемлющий взгляд на вещи — и выразил его в своем искусстве.
Нельзя усомниться в том, кому из троих мыслителей, выступающих главными героями нижеследующих очерков, Берлин сочувствует больше всего. Как он убедительно показывает, Лев Толстой, невзирая на свое нравственное величие, выглядит едва ли не отталкивающе в те минуты, когда отвергает гуманную точку зрения, присущую его творчеству, и впадает в надменный, не допускающий возражений, догматизм. А Тургеневу, невзирая на ясный художнический взгляд, острый ум и верное чувство окружающей жизни, недоставало смелости и нравственной решительности, коей он так восхищался в радикальной интеллигенции: его колебание меж альтернативами слишком часто являлось лишь добродушной меланхолией, в конечном счете бесстрастной и отрешенной.
Истинно главным героем «Русских мыслителей» выступает Герцен. Пусть Берлин и признает не лишенными основания тургеневские слова о том, что Герцен вовек не сумел освободиться от порочной иллюзии — веры в мужицкий «овчинный тулуп»[26], — это обстоятельство нимало не снижает гер- ценовской мечты о свободе, мечты одновременно глубокой и пророческой, поскольку Герцен сознавал: «одно из величайших современных несчастий — запутаться в отвлеченных понятиях, отвернувшись от действительности»[27]. Сделавшись оксфордским профессором общественно-политической теории, Берлин заключил свою вступительную лекцию цитатой из автора, коего не назвал: «Осознавать, что ценность исповедуемых убеждений лишь относительна — и все же стоять за свои убеждения горой: вот чем цивилизованный человек отличается от варвара»[28]. В этом смысле Герцен, обладавший как острым тургеневским взглядом, так и чисто по-толстовски самоотверженной преданностью истине, выступал человеком и смелым, и цивилизованным. Ему в огромной степени был свойствен тот последовательный плюрализм воззрений, что, с точки зрения Берлина, является квинтэссенцией политической мудрости.
Часто говорят: национальная особенность русских заключается в том, что они самым крайним образом выражают некоторые всеобщие свойства человеческой природы. Для многих историческое значение русской интеллигенции сводится к одному факту: общечеловеческую жажду абсолютного интеллигенты проявили в патологически преувеличенной форме.
Очерки Берлина толкуют «вселенскость» интеллигенции на совсем иной и куда более сложный лад, они показывают: по множеству исторических причин русские интеллигенты воплотили собой не одно, а по крайности два фундаментальных и противоположных людских стремления. Интеллигентское стремление утверждать самость путем бунта против необходимости непрестанно враждовало с интеллигентским же требованием определенного и достоверного, приводя интеллигентов к ярким прозрениям в нравственные, общественные и эстетические вопросы — которые нынешний век уже признает первостепенно важными. То, что этот аспект их умственной деятельности привлекал столь малое внимание Запада, в определенной мере объясняется вопиющими пороками, присущими умопостроениям большинства тогдашних интеллигентских вожаков.
Надоедливые повторения сказанного, бессвязность, провозглашение и распространение полупереваренных чужеземных идей в работах Белинского и ему подобных — а вдобавок и память о политических бедствиях, в коих винят именно интеллигенцию, — понудили многих западных ученых вторить знаменитым словам русского мыслителя Петра Чаадаева: дескать, единственное назначение России — преподать миру некий великий урок; и, по-видимому, такого свойства, чтобы от поданного примера шарахались, точно от чумы. Но, со своим острым чутьем на качество — и без малейшего намека на снисходительность, которая сплошь и рядом сопутствует историческим приговорам, что выносятся задним числом, — Берлин различает за формальными недостатками интеллигентских сочинений достойный внимания и уважения нравственный жар — оправдание и подтверждение того, что сам Берлин долгие годы проповедовал своим английским слушателям: воодушевление, порождаемое преданностью идее, — не порок и не грех; напротив, способность силой мысли до конца исследовать политические и общественные идеалы, дабы предотвратить их крайние последствия, служит наилучшим наличествующим предохранителем против тирании идеологических систем.
В Four Essays on Liberty сэр Исайя говорит: ни разу еще ни единый философ не преуспел в доказательстве или опровержении детерминистского тезиса, гласящего: субъективное отношение к историческим событиям не влияет на них. Но его очерки, повествующие о том, как русские мыслители жили согласно своим верованиям, закаляя их повседневной нравственной борьбой, лучше любых логических доводов доказывают положение, пронизывающее все работы Исайи Берлина: человеческие существа нравственно свободны и способны (по крайней мере чаще, нежели это признают приверженцы детерминизма) влиять на события — к добру или к худу — посредством искренних убеждений либо добровольно избранных идеалов.
Россия и 1848 год
О
бычно 1848 год не считается какой-то особой вехой в русской истории. Революции 1848-го, казавшиеся Герцену жизнедатными грозами, освежившими удушливо знойный день, обошли Российскую империю стороной. Глубокие и резкие перемены в имперской правительственной политике, произошедшие после разгрома декабристов (1825) были весьма, и даже слишком, действенными: литературные бури, подобные скандалу, разразившемуся вокруг Чаадаева в 1836-м, беспечные беседы студентов-вольнодумцев, за которые пострадали Герцен и его друзья, — даже незначительные крестьянские волнения, прокатившиеся в начале 1840-х по захолустным уездам, пресекались и усмирялись без труда.
В 1848 году покой огромной и все продолжавшей расширяться империи оставался всецело невозмутимым. Исполинскую смирительную рубашку бюрократического и военного правления Николай / не изобрел сам, однако подлатал и подновил ее, затянул потуже — и, вопреки частой чиновничьей глупости и лихоимству, дело явно пошло на успешный лад. Нигде не замечалось ни малейшего признака по- настоящему независимых мыслей и поступков.
Восемнадцатью годами ранее, в 1830-м, новости, пришедшие из Парижа, вдохнули новую жизнь в русских радикалов; французский утопический социализм произвел глубокое впечатление на русскую общественную мысль; польское восстание сплотило демократов повсеместно — почти так же сплотило их столетием позже дело республиканцев, когда в Испании разразилась гражданская война. Но восстание подавили, а всех участников этого великого пожара — по крайности, открыто поддерживавших или одобрявших мятеж, к 1848 году, по сути, искоренили — причем равно решительно и в Варшаве, и в Санкт-Петербурге. Западноевропейским наблюдателям — и дружественным, и враждебным России — чудилось, будто самодержавие незыблемо. Тем не менее, 1848 год сделался поворотным пунктом и в европейском, и в российском развитии: не только благодаря определяющей и решающей роли, сыгранной в дальнейшей русской истории революционным социализмом, о рождении коего протрубил Манифест коммунистической партии, сочиненный Марксом и Энгельсом, но еще скорее, из-за воздействия, которое неудавшимся европейским революциям суждено было оказать и на русское общественное мнение, и, в частности, на русское революционное движение.
Однако в то время предвидеть подобное почти не представлялось возможным, и трезвый политический наблюдатель — схожий с Грановским или Кошелевым — был обоснованно удручен сомнениями в самой возможности даже умеренных реформ, а уж о немыслимо далекой революции не стоило и мечтать.
Маловероятно, что в 1840-х годах кто-либо — даже из наиболее отважных духом, — исключая, пожалуй, Бакунина и одного-двух петрашевцев, полагал немедленную русскую революцию вероятной. Революции, вспыхнувшие в Италии, Франции, Пруссии и Австрийской империи, устраивались более-менее организованными политическими партиями, открыто выступавшими против тамошних режимов. Эти партии состояли из интеллигентов — радикалов и социалистов — или действовали в союзе с ними; во главе этих партий стояли выдающиеся демократы, связанные с общепризнанными политическими либо общественными учениями или сектами; эти партии пользовались поддержкой среди либеральных буржуа — или получали помощь от расстроившихся и несостоявшихся национальных движений, обретавшихся на разных стадиях развития и устремлявшихся к различным идеалам.
И в ряды этих партий вливалось немало недовольных рабочих и крестьян. Ничто из вышеперечисленного не обрело в России ни очертаний, ни организованности — положение вещей нимало не походило на западное. Параллели, проводимые между русским и западноевропейским развитием, всегда обращаются поверхностными и обманчивыми; но уж если заниматься уподоблениями, то русский девятнадцатый век лучше сравнивать с европейским восемнадцатым. Противостояние русских либералов и радикалов, начавших набираться храбрости и поднимать головы в середине 1830-х— начале 1840-х, когда миновали суровые репрессии, последовавшие за разгромом декабристов, несравненно больше походило на партизанскую войну, что вели французские энциклопедисты и вожаки германского Aufklarung[29] против Церкви и абсолютной монархии, нежели на борьбу массовых организаций или народные движения в Западной Европе девятнадцатого столетия.
Русские либералы и радикалы 1830-х и 1840-х годов — независимо от того, ограничивались они изучением вопросов эстетических и философских, подобно участникам кружка, созданного Станкевичем, или, подобно Герцену и Огареву, занимались вопросами политическими и общественными, — пребывали одинокими lumieres[30], малочисленной, застенчивой умственной элитой; они собирались, они спорили, они влияли друг на друга в гостиных и салонах Москвы или Санкт-Петербурга — однако не имели всенародной поддержки; за ними не стояли ни обширные движения политического или общественного толка, будь это хоть политические партии, хоть, на худой конец, не оформившаяся, но повсеместная буржуазная оппозиция, подобная той, что предшествовала Великой французской революции. Тогдашние разобщенные и рассеянные русские интеллигенты не опирались на средний класс — его не имелось, — да и на крестьянскую подмогу им рассчитывать не доводилось. «... В народе есть потребность на картофель, но на конституцию ни малейшей; ее желают образованные городские сословия, которые ничего не могут сделать», — писал Белинский своему другу
Павлу Анненкову в 1847-м[31]. Тринадцать лет спустя на слова Белинского эхом отозвался Чернышевский — со свойственным ему стремлением преувеличивать: «Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма»[32]. И тогда, и ранее это навряд ли было справедливо по отношению к большинству западноевропейских стран, однако довольно точно определяло отсталость, царившую в России.
Покуда экономическое развитие Российской империи не породило промышленных и трудовых неурядиц, покуда не возникли буржуазия и пролетариат западного образца, демократическая революция оставалась мечтой; а когда упомянутые условия сделались действительностью, когда общественная жизнь ускорилась в последние десятилетия девятнадцатого века, революция не слишком замедлила свой приход. «Русский 1848-й» грянул в 1905-м — к этому времени западная буржуазия утратила и свою революционность, и даже воинственное стремление к реформам; полувековая русская отсталость сама по себе явилась могучим фактором, вызвавшим и окончательный, бесповоротный раскол меж либеральным и авторитарным социализмом в 1917 году, и воспоследовавшее убийственное расхождение русских и европейских путей.
Вероятно, Ф.И.Дан оказался прав, предполагая, что именно такое расхождение подразумевал Герцен, обратившийся к Эдгару Кинэ и воскликнувший: «... вы [пойдете] пролетариатом к социализму, мы социализмом к свободе»[33]. Различная степень тогдашней политической зрелости — российской и западной — живо и ярко определяется во вступлении к «Письмам из Франции и Италии», сочинявшихся изгнанником Герценом в лондонском пригороде Путней (Патни). Речь идет о западно-европейской революции 1848 года:
Либералы —. эти протестанты в политике — в свою очередь страшнейшие консерваторы, они за переменой хартий и конституций, бледнея, разглядели призрак социализма и перепугались; удивляться нечему, им тоже есть что терять, есть чего бояться. Но мы-то совсем не в этом положении, мы относимся ко всем общественным вопросам гораздо проще и наивнее.
Либералы боятся потерять свободу — у нас нет свободы; они боятся правительственного вмешательства в дела промышленности — правительство у нас и так мешается во все; они боятся утраты личных прав — нам их еще надобно приобретать.
Чрезвычайные противоречия нашей несложившейся жизни, шаткость всех юридических и государственных понятий делает, с одной стороны, возможным самый безграничный деспотизм, крепостное состояние, военные поселения, с другой — обусловливает легкость переворотов Петра I, Александра II. Человек, живущий en garni[34], гораздо легче переезжает, нежели тот, кто обзавелся домом.
Европа идет ко дну оттого, что не может отделаться от своего груза, в нем бездна драгоценностей, набранных в дальнем опасном плавании, — у нас это искусственный балласт, за борт его — и на всех парусах в широкое море!
Мы входим в историю, деятельно и полные сил, именно в то время, когда все политические партии поблекли, стали анахронизмом и указывают — с упованием одни, с отчаянием другие — на приближающуюся тучу экономического переворота. Вот и мы, глядя на соседей, перепугались грозы и, как они, не находим лучше средства, как молчать об опасности.
Я видал действительно барынь, которые во время грозы закрывали ставни, чтоб не видеть молнии; но не знаю, насколько это отвращает удары.
Полноте бояться, успокойтесь, «я нашем поле есть громоотвод — общинное владение землею/[35]
Иными словами, полнейшее отсутствие элементарных прав и свобод, «темное семилетие», наставшее после 1848-го, не только не вызвали в русских мыслителях отчаяния и безразличия, но дали многим из них понятие о полнейшей противоположности между их собственной страной и относительно либерально устроенной Европой — которая, вполне парадоксальным образом, положила основание грядущему русскому оптимизму. Европа внушала сильнейшую надежду на неповторимо счастливое и славное будущее, предназначавшееся исключительно для России.
Герценовский анализ фактов был всецело справедлив. Русской буржуазии, можно сказать, не существовало; журналист Полевой и чрезвычайно красноречивый литературный чаеторговец Боткин, приятель Белинского и Тургенева, — даже сам Белинский — служили заметными исключениями; общественных условий для решительных либеральных реформ, не говоря уже о революции, не имелось. Но у этого обстоятельства, столь горько оплакивавшегося либералами — Кавелиным и Белинским, — наличествовала и весьма примечательная добрая сторона. Европейская международная революция разразилась и погасла; ее крах вызвал меж идеалистически настроенными демократами и социалистами горькое разочарование и отчаяние. В некоторых случаях люди цинически избирали отступничество, в других — искали утешения либо в усталой отрешенности, либо в религии, а кое-кто вливался и в ряды политических реакционеров — довольно схожим образом поражение русской революции 1905 года вызвало у интеллигенции желание каяться и породило духовные ценности «Вех». На русской почве Катков записался в националисты-консерваторы, Достоевский обратился к православию, Боткин отвернулся от радикализма, Бакунин подписал неискреннее «покаяние»; а вообще говоря, само то, что Россия не перехворала революцией и не испытала соответствующего осложнения — разочарования — привело к последствиям,, чрезвычайно отличавшимся от пережитых Западной Европой.
Важнейший факт: страстное стремление к реформам, революционный пыл, вера в возможность перемен, вызываемых общественным мнением и воздействием, агитация и, как считают некоторые, заговорщичество ничуть не увяли и не ослабели — напротив, окрепли. Но доводы в пользу политической революции, чей крах на Западе был столь вопиющим, явно сделались менее убедительны.
На протяжении следующих тридцати лет недовольные, мятежные русские интеллигенты обратили внимание на внутренние особенности собственной страны; а затем, отвергнув готовые решения, заимствованные у Запада и никак не желавшие искусственно прививаться к российскому древу, принялись создавать собственные доктрины и вырабатывать способы действий, тщательно приспособленные к решению особых задач, стоявших только и единственно перед русским обществом.
Они готовы были учиться — более, нежели просто учиться: сделаться самыми преданными и прилежными последователями наиболее передовых мыслителей Западной Европы. Но учения Гегеля и германских материалистов, Милля, Спенсера и Конта, отныне следовало видоизменять, приспосабливать к специфически русским нуждам. Базаров, герой тургеневских «Отцов и детей», воинствующий позитивист, материалист и поклонник Запада, пустил — причем не без известной застенчивой гордости — куда более глубокие корни в русскую почву, нежели разночинцы 1840-х, руководимые истинно космополитическим идеалом; куда более глубокие корни, чем те, что пускали, например, вымышленный Рудин или предполагаемый прообраз Рудина — Михаил Бакунин, бывший пан-славистом и германофобом.
Меры, взятые правительством дабы предотвратить проникновение «революционной заразы» в пределы Российской империи, несомненно, сыграли решающую роль в предотвращении самой возможности революционных вспышек; а всего важнее, что «нравственный карантин» ослабил влияние западного либерализма, понудил русских интеллигентов уйти в себя и замкнуться, еще более затруднил спасительное бегство прочь от маячивших «больных вопросов» к западным панацеям, которые интеллигенция пыталась отыскать ощупью.
Последовало решительное сведение внутренних счетов, нравственных и политических: поскольку российские надежды уже не способны были угнаться за поступью западного либерализма, прогрессивное русское движение делалось все более самоуглубленным и непримиримым. Наиважнейший и самый поразительный факт: среди поборников прогресса не случилось внутреннего развала, но как революционное, так и реформистское мышление, хотя и гуще окрасившееся национализмом, зачастую заметно мрачнело. Оно предпочитало (хотя не без оглядки) шероховатые, противные эстетическому чувству, преувеличенно материалистические, грубые, утилитарные формы — и оставалось оптимистически- самоуверенным, вдохновляясь преимущественно свежайшими писаниями Белинского, а не Герцена. Не замечалось — даже в годы наинизшего упадка, в «семилетнюю ночь», наступившую после 1848-го, — ни бесцветной вялости, ни безразличия, столь заметных в тогдашней Франции и Германии.
Но купили это воодушевление ценой глубокого раскола с интеллигенцией. «Новых людей» — Чернышевского и левых популистов — отделяет от либералов, как западных, так и отечественных, гораздо более широкая пропасть, нежели зиявшая прежде. В годы репрессий (1848-1856) демаркационные линии стали куда заметнее; на тех рубежах меж славянофилами и западниками, которые ранее легко можно было пересекать из стороны в сторону, воздвиглись непреодолимые крепостные стены; добрососедство и взаимное уважение меж двумя этими лагерями — «... мы, как
Янус или двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»[36], — что делали совершенно и всецело учтивыми яростные препирательства радикалов, подобных Белинскому и Герцену, с Катковым, Хомяковым и братьями Аксаковыми — а, случалось, и порождали обоюдную искреннюю приязнь, — старинное добрососедство и уважение исчезли. Когда Герцен и Чичерин повстречались в Лондоне (1859), Герцен видел пред собою не оппонента, но врага — и вполне обоснованно. Еще более мучительный процесс поляризации шел в самом радикальном стане. Раздоры меж умеренными издателями и авторами «Колокола» и санкт-петербургскими радикалами в 1860-е годы обострились. Невзирая на остававшееся наличие общего противника — имперского полицейского государства, — прежняя солидарность непоправимо распалась. Чернышевский встретился с Герценом в Лондоне — и встреча обернулась натянутой, неловкой, почти формальной.
Пропасть между четко обозначившимися и окончательно противоставшими друг другу левым и правым крылом неудержимо расширялась — несмотря на то, что левые глядели на западные идеалы куда более критически, нежели ранее, и, подобно правым, искали спасения в исконно русских обычаях и специфически русском подходе к «больным вопросам», теряя веру в рецепты всеисцеляющих снадобий — рецепты, составленные из либеральных и социалистических доктрин, завезенных в Россию с Запада.
Оттого-то, когда, в конце концов, прямое западное влияние опять сказалось в ортодоксальном марксизме русской социал-демократии 1890-х годов, революционная интеллигенция не была сломлена крахом либеральных европейских надежд, грянувшим в 1849-1851 годы. Ее верования и принципы сохранились незапятнанными именно благодаря правительственным преследованиям; интеллигенты избежали опасности сделаться, подобно своим былым западным единомышленникам, уступчивыми и податливыми в итоге чересчур успешных компромиссов, порожденных и сдобренных разочарованием. Как следствие, в эпоху почти повсеместного уныния, постигшего социалистов, русское левое движение сохранило свои идеалы и боевой дух. Оно порвало с либерализмом на правах сильного, а вовсе не отчаявшегося. Оно создало и выпестовало собственную весьма решительную, радикальную аграрную доктрину — и было войском, готовым двинуться вперед. Некоторые факторы, способствовавшие этой тенденции — независимому развитию русского радикализма, каким он родился в бурные 1848-1849 годы, — небесполезно припомнить.
Царь Николай I до скончания дней своих остро мучился воспоминанием о мятеже декабристов. Он рассматривал себя как правителя, предназначенного Божьим Промыслом к тому, чтобы спасти свой народ от ужасов атеизма, либерализма и революции. Будучи самодержцем не только по названию, а и по сути, он определил главнейшую цель своего царствования: истребить любое и всякое политическое разномыслие, любую и всякую оппозицию. Но все же, и строжайшая цензура, и проницательнейшая политическая полиция после двадцати лет сравнительного спокойствия склонны в некоторой степени ослабить бдительность; в тогдашнем случае долгое затишье было потревожено лишь польским восстанием, а серьезных внутренних заговоров не замечалось нигде; правительству не грозили опасности большие, нежели несколько малых и сугубо местных крестьянских возмущений, нежели два-три кружка, созданных студентами-радикалами, нежели кучка западников — профессоров и писателей, — нежели случайный приверженец католичества, подобный Чаадаеву, или человек, действительно перешедший в католичество, на манер чудаковатого Владимира Печерина, преподававшего дав- негреческий язык в университете, а впоследствии примкнувшего к Конгрегации Святейшего Искупителя (Ордену редемптористов). Как итог, в середине 1840-х гг. либеральные журналы — например, «Отечественные записки» и «Современник» — набрались храбрости и начали печатать не прямо враждебные правительству статьи — при существовавшей цензуре и под неусыпным присмотром генерала Дуббельта, заведовавшего Третьим отделением, об этом и речи быть не могло, — но статьи, прямо относившиеся к образу жизни и событиям в Западной Европе или Оттоманской империи. Сочинялись упомянутые статьи в на первый взгляд бесстрастной манере, но содержали — для способных читать между строк — расплывчатые намеки или подспудные упреки, адресованные государственному режиму. Всего привлекательнее прогрессивным мыслителям казался, разумеется, Париж — всемирное средоточие всего передового и свободолюбивого, обитель социалистов и утопистов — Леру и Кабэ, Жорж Санд и Пьера Прудона, — сердце революционной живописи и литературы, город, коему со временем, несомненно, надлежало повести человечество к свободе и счастью.
Салтыков-Щедрин, принадлежавший к типичному либеральному кружку 1840-х годов, говорит в знаменитом отрывке из своих воспоминаний:
«В России все казалось поконченным, запакованным и за пятью печатями сданным на почту для выдачи адресату, которого зараньше предположено не разыскивать; во Франции — все как будто только что начиналось <...>. Но в особенности эти [русские] симпатии [к Франции] обострились около 1848 года. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались ((Историей десятилетия" Луи Блана <...>. Луи-Филипп, и Гизо, и Дюшатель, и Тьер — все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, нежели Л.В. Дуббельт)»\
Русская цензура в тот период явно еще не достигла предела своей суровости; временами сами цензоры склонялись к робкому либерализму правого толка; да зачастую им и не
'За рубежом (1881 г.). См.: М.Е.Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений. М., 1965-1977. XIV, 112-113.
приходилось тягаться с «вероломными» историками и журналистами ни в хитроумии, ни, тем паче, в беспредельном упорстве — а стало быть, в печать неизбежно просачивались «опасные мысли». Рьяные сторожевые псы самодержавия, издатели Булгарин и Греч, по сути, служившие тайными агентами Жандармского корпуса, то и дело подавали рапорты своим хозяевам, указывая на подобные просмотры. Но министр народного просвещения граф Уваров, изобретатель пресловутого патриотического лозунга «Православие, самодержавие, народность», человек, коего навряд ли возможно заподозрить в либеральных склонностях, отнюдь не желал прослыть мракобесом-реакционером и смотрел сквозь пальцы на не слишком вопиющие печатные проявления самостоятельной мысли. По меркам западным, цензура была исключительно сурова; письма Белинского, к примеру, недвусмысленно свидетельствуют: цензоры немилосердно уродовали его статьи; но все же, в Санкт-Петербурге либеральные журналы исхитрялись уцелеть — и одно это в глазах людей, помнивших годы, непосредственно следовавшие за 1825-м, и знавших нрав Государя, заслуживало удивления. Положенные свободе пределы оставались, разумеется, чрезвычайно узкими; самым впечатляющим русским социальным документом той поры явилось открытое письмо Белинского к Гоголю, обличавшее гоголевскую книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», — но и его опубликовали полностью лишь после 1917 года.
Удивляться нечему: письмо представляло собою из ряда вон выходившую, исступленную атаку на режим, содержало отъявленную ругань, адресованную Церкви, общественному устройству, императорской и чиновничьей власти. Белинский титуловал Гоголя предателем свободы и цивилизации, предателем и национального духа, и нужд его порабощенной, беспомощной страны. Эта общеизвестная филиппика, положенная на бумагу в 1847-м, потихоньку распространялась в рукописных копиях вдали от Москвы или Санкт- Петербурга. Главным образом именно за прочтение этого письма вслух среди малого собрания недовольных Достоевского два года спустя приговорили к смерти и чуть не казнили. В 1843-м подрывные французские учения, по словам Анненкова, обсуждались жителями столицы безбоязненно: полицейский чиновник Липранди обнаруживал запретные западные тексты преспокойно стоявшими на полках у книготорговцев. В 1847-м Герцен, Белинский и Тургенев встретились в Париже с Бакуниным и другими русскими политическими эмигрантами — их новый нравственный и политический опыт нашел отголосок в радикальной русской печати; в этом же году обозначилась и наивысшая (относительно) точка цензурного терпения и попустительства. Революции 1848-го положили всему этому конец на несколько следующих лет.
Знакомая повесть, ее можно сыскать у Шильдера[37]. Узнав об отречении Луи-Филиппа и провозглашении Французской республики, увидев свои наихудшие предчувствия касаемо неустойчивости европейских режимов сбывающимися, император Николай решил действовать незамедлительно. Согласно рассказу Гримма (почти наверняка апокрифическому), едва лишь услыхав зловещие парижские новости, Государь отбыл во дворец престолонаследника, будущего царя Александра //, где, по случаю Прощеного воскресенья, правили бал. Ворвавшись в бальный зал, император повелительным жестом остановил танцевавших, воскликнул: «Господа, седлайте коней: во Франции провозгласили республику!» — и, сопровождаемый несколькими придворными, вышел вон. То ли выдуман сей драматический случай, то ли нет — Шильдер в него не верит, — однако общая атмосфера тогда представлена в этом рассказе вполне верно. Примерно в это же время князь Петр Волконский поведал В.И. Панаеву, что царь был исполнен решимости объявить Европе упреждающую войну — и помешала этому лишь нехватка денег. Тем не менее, для охраны и защиты «западных губерний», то есть Польши, отрядили многочисленные подкрепления.
Польша, злополучная страна, истерзанная не только свирепыми карательными мерами, последовавшими за восстанием 1831 года, но и такими же мерами, принятыми после крестьянского мятежа в Галиции (1846), вела себя смиренно. И все же, польскую свободу привычно прославляли, а русское самодержавие столь же привычно поносили на каждом либеральном банкете и в Париже, и где угодно. Варшава, пригнетенная сапогом Паскевича, не отзывалась на это никак, однако царю повсюду мерещилась измена. И впрямь, одной из главных причин, по коим поимка Бакунина числилась чрезвычайно важной, служила уверенность царя в том, что Бакунин был тесно связан с польскими эмигрантами (чистая правда) и что они готовили новое польское восстание, в котором Бакунину предстояло участвовать (полная чушь). Впрочем, бакунинские прилюдные высказывания — весьма резкие — могли давать известные основания для подобных опасений.
Похоже, во время своего заключения Бакунин понятия не имел об этой навязчивой царской идее, а посему и не подозревал о том, чего от него ждут. Он даже не упомянул о несу- ществовавшем польском заговоре в своем покаянии, составленном с выдумкой — и даже чересчур подробном. Вскоре после берлинских волнений вышел царский манифест, объявлявший: волны мятежей и хаоса, по счастью, не докатились до неприступных рубежей Российской империи, а Государь сделает все возможное, дабы остановить распространение политической чумы; Государь убежден: все верноподданные россияне сплотятся в эти дни, дабы отвратить опасность, грозящую престолу и Церкви. Канцлер, граф Нессельроде, обустроил размещение в Journal de St Petersbourg[38] умного и тонкого комментария к царскому манифесту, дабы косвенно смягчить слишком воинственный тон последнего. Что бы там ни подумала Европа, но в России этот комментарий, похоже, никого не обманул — известно было: Николай начертал манифест собственноручно и прочел его барону Корфу со слезами на глазах. Кажется, Корф тоже едва не пустил слезу и незамедлительно уничтожил черновик, составить который было ему поручено, как не выдерживавший сравнения с царским текстом.
Наследник престола, Александр, прочитавший манифест вслух перед собранием гвардейских офицеров, разволновался донельзя; князь Орлов, начальник Третьего отделения, также был глубоко тронут[39]. Этот документ вызвал всеобщий всплеск любви к Отечеству — правда, похоже, что воодушевление оказалось кратким. Царская политика в известной степени отвечала народным чаяниям — по крайности, шла в ногу с надеждами высших классов и чиновничества. В 1849-м русские войска под командованием Паскевича усмирили венгерскую революцию; русское влияние сыграло главную роль при подавлении революций, вспыхнувших в иных провинциях Австрийской империи и Пруссии; российское могущество в пределах Европы достигло своего зенита, порождая небывалую прежде смесь ужаса и ненависти в сердце каждого иноземного либерала или поборника вольности и прав.
Для тогдашних демократов Россия стала почти тем же, чем в наше время становились фашистские государства: архивра- гиней свободы и просвещения, обителью тьмы, жестокости и гнета, землей, которую чаще и яростнее всех поносили ее собственные сыновья-изгнанники; зловещей державой, коей прислуживали несметные соглядатаи и доносчики; страной, тайно прикладывавшей руку к любым политическим событиям, неблагоприятным для расширения европейской свободы — как национальной, так и личной. Эта волна либерального негодования укрепила Николая I в убеждении: собственным поданным примером — ничуть не меньше, нежели предпринятыми действиями, — российский Государь избавил Европу от разложения политического и нравственного. Николай никогда не сомневался в том, что понимает свой долг ясно и верно, а исполнял его безжалостно и методически, не внимая ни лести, ни брани.
Воздействие революции на внутренние российские дела было немедленным и сильнейшим. Все замыслы земельных реформ — в частности, все предложения облегчить участь крепостных крестьян, как барских, так и «царских», — не говоря уже о предложениях отменить крепостное право, на которые император одно время глядел вполне сочувственно, — в одночасье пошли прахом. Долгие годы считалось общепонятным — и не только в либеральных кругах: сельскохозяйственное рабство есть не только общественное, а и экономическое зло.
Граф Киселев — Николай доверял ему и пригласил занять должность «главнокомандующего сельскими вопросами» — крепко придерживался такого взгляда, и посему даже помещики и чиновники-реакционеры, всячески вставлявшие палки в колеса положительным реформам, несколько лет остерегались выступать в защиту порочного крепостного права. Но теперь мыслям, изложенным Гоголем в злосчастных «Выбранных местах из переписки с друзьями», уже вторили два-три школьных учебника из числа одобренных министерством народного просвещения. Учебники пошли дальше самых крайних славянофилов и начали изображать крепостное право состоянием, предначертанным свыше и покоившимся на тех же незыблемых основах, что и прочие патриархальные русские обычаи, — чем-то на свой лад не менее священным, нежели единовластие Царя, помазанника Божия. Прервалась и работа над намечавшимися реформами земств. Империи грозила «гидра революции»[40], оттого-то, как весьма часто случалось в русской истории, внутренних врагов надлежало карать с примерной суровостью. Первым шагом на этом пути стало ужесточение цензуры.
Непрерывный поток тайных доносов, исходивший от Булгарина и Греча, возымел, в конце концов, свое действие. Похоже, барон Корф и князь Меншиков почти одновременно составили памятные записки, перечисляя случаи цензурного попустительства либо невнимания, указывая на опасный либеральный тон, задаваемый повременной печатью. Император воскликнул: я поражен тем, что на сие не указывалось прежде! Немедля образовался комитет под председательством князя Меншикова. Комитету предписывалось исследовать работу цензоров и ужесточить существовавшие требования и правила.
Редакторов «Современника» и «Отечественных записок» вызвали на заседание комитета и сурово отчитали за «общую порочность» публикуемого. «Записки» сменили тон; их редактор-издатель Краевский в 1849 году напечатал статью, бывшую bien pensantex, обличавшую Западную Европу и все дела ее, а заодно расточавшую правительству лесть, угодливую до степени, неслыханной даже в тогдашней России — даже в верноподданной булгаринской «Северной пчеле» очень редко сыскалось бы подобное. Что до «Современника», то его самый деятельный автор, Белинский — человек неподкупный и неустрашимый, — безвременно умер в 1848-м[41]. Герцен и Бакунин жили в Париже, Грановский же был чересчур мягок и чересчур несчастен, чтобы протестовать. Из крупнейших русских литераторов лишь Некрасов продолжал борьбу — едва ли не в полном одиночестве, являя невероятную гибкость и тонкость в общении с чиновниками. Оставаясь тише воды, ниже травы в течение долгих месяцев, он исхитрился уцелеть и даже продолжал печататься, являя собою живое звено, связывавшее опальных радикалов 1840-х годов с новым, более фанатическим поколением, испытанным и закаленным правительственными преследованиями, продолжавшим сражаться в 1850-е и 1860-е годы.
На смену меншиковскому исправно явился новый тайный комитет (император имел привычку доверять особо важные дела различным тайным комитетам, которые, не ведая о засекреченном существовании своих же соратников, зачастую орудовали наперекор друг другу), возглавляемый Бутурлиным, а затем Анненковым, и получивший известность как «Комитет второго апреля». Обязанностью нового комитета была не предварительная цензура (ею по-прежнему занимались цензоры, подотчетные Министерству народного просвещения), но пристальное изучение уже напечатанных произведений и статей, дабы докладывать о любых замеченных следах вольномыслия самому Императору, заботившемуся о соответствующих карательных мерах. С жандармерией этот комитет поддерживал связь через вездесущего Дуббельта. Члены его отличались нерассуждающим и неубывающим служебным рвением; они знать не желали о других учреждениях и департаментах, а однажды, переусердствовав, осудили и запретили сатирическое стихотворение, одобренное самим Царем[42]. Просеивая и провеивая каждое слово, напечатанное отнюдь не многочисленными повременными изданиями, комитет поистине успешно задушил все виды политической и общественной критики — подавил едва ли не все, кроме дежурных восхвалений, адресованных Государю и Православной Церкви.
Это уж было чересчур даже для Уварова: сославшись на нездоровье, министр народного просвещения вышел в отставку. Преемником Уварова сделался ничем особым не знаменитый дворянин, князь Ширинский-Шихматов[43]. Он вручил государю памятную записку, говорившую: несомненно, одна из главных причин общественного недовольства — свобода философских построений, дозволенная в российских университетах. С этим государь согласился, назначил князя директором канцелярии министерства народного просвещения и строго наказал ему улучшить университетское преподавание: вообще следовало строже придерживаться заповедей и наставлений православной веры, а в частности, искоренять опасные философические уклоны и пристрастия. И дух и букву этого средневекового предписания исправно соблюли: последовала «чистка» образования, затмившая даже пресловутое «очищение» Казанского университета, что десятью годами ранее учинил Магницкий. 1848-1855 годы сделались мрачнейшим часом в ночи тогдашнего русского обскурантизма. Даже холуй Греч, едва ли не лопавшийся от стремления угодить властям, — человек, чьи письма, отправленные из Парижа в 1848-м, хулят любые наимягчайшие либеральные реформы Второй республики с презрением, коего, пожалуй, не выказывал и сам Бенкендорф, — даже это презренное существо чуть ли не с горечью сетует в своей автобиографии[44], составленной в 1850-е годы, на глупость новейшей двойной цензуры. Вероятно, самое живое и точное описание этого литературного «белого террора» содержится в известном отрывке из воспоминаний писателя-народника Глеба Успенского:
Не шевелиться, хоть и мечтать; не показать виду, что думаешь; не показать виду, что не боишься, показывать, напротив — что «боишься», трепещешь — тогда как для этого и оснований-то никаких нет> — вот что выработали эти годы в русской толпе. Надо постоянно бояться <... > — вот что носилось тогда в воздухе, угнетало толпу, отши- боло у нее ум и охоту думать. <... > Ни одной светлой точки не было на горизонте. «Пропадешь!» — кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери... И все ежилось и бежало от беды в первую попавшуюся норух.
Сказанное Успенским подтверждается — пожалуй, всего живее — поведением Чаадаева. В 1848-м этот замечательный человек, более не признаваемый «безумцем», по-прежнему обитал в Москве. Разгром журнала «Телескоп» лишь прибавил Чаадаеву славы. Несчастья не сломили мыслителя. Его гордость, самобытность, независимость, обаяние и блеск его бесед — а всего более репутация мученика, пострадавшего за свободомыслие, привлекали и завораживали даже политических противников. Чаадаевский салон посещали как русские, так и выдающиеся зарубежные гости, свидетельствующие: пока не грянул 1848-й, Чаадаев не скрывал своих симпатий к Западу, высказывая их неукоснительно и (учитывая политическую атмосферу) потрясающе свободно. Непримиримые славянофилы, особенно поэт Языков[45], то и дело нападали на Чаадаева, а однажды чуть ли не прямо донесли на него жандармам. Но известность и общественный вес Чаадаева были столь велики, что Третье отделение оставило писателя в покое, и он по-прежнему еженедельно принимал у себя в салоне знаменитых людей, русских и иностранцев. В 1847-м он резко высказался против гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями», а в письме к Александру Тургеневу осудил их, сказав, что у злополучного гения развивается мания величия. Либералом — тем паче революционером — Чаадаев не был: скорее, он являлся романтиком-консерватором, почитателем Католической Церкви и западного жизненного уклада; он аристократически противился славянофильской одержимости православием и Византией. Чаадаев принадлежал не к левым, а к правым — но все же выступал убежденным и бесстрашным обличителем режима. Всего больше окружающих восхищали его индивидуализм, несгибаемая воля, незапятнанная чистота и сила характера, гордое нежелание гнуть спину перед властями. А в 1849 году этот паладин западной цивилизации внезапно пишет Хомякову: Европа объята хаосом и нуждается в русской подмоге отчаянно. Чаадаев с немалым воодушевлением говорил о решительной смелости императора, сокрушившего венгерскую революцию. Это можно, разумеется, отнести на счет ужаса перед народными восстаниями, свойственного большинству тогдашних мыслителей, но этим история не заканчивается. В 1851-м Герцен опубликовал за границей книгу, содержавшую страстный панегирик Чаадаеву[46]. Едва лишь услыхав новость, Чаадаев отправил шефу жандармов письмо, где говорилось: я с раздражением и негодованием узнал, что столь отъявленный негодяй расточает мне хвалы. Далее следовали преувеличенно верноподданные строки о Царе, орудии Божьего Промысла, ниспосланном восстановить надлежащий всемирный порядок. Племянник Чаадаева (бывший ему близким другом) спросил: «Pourquoi cette bassesse gratuite?1» Чаадаев ответил кратко: «Милый мой, шкура у человека лишь одна»[47].
Подобное циническое самоуничижение со стороны самого гордого и свободолюбивого из тогдашних россиян — трагическое свидетельство тому, что затянувшиеся репрессии подействовали и на тех мятежных аристократов из прежнего поколения, которые чудом избежали Сибири либо виселицы.
В такой атмосфере и расследовали знаменитое дело петрашевцев. Кружок Петрашевского любопытен главным образом как единственный серьезный заговор, начавшийся под непосредственным влиянием западных идей, прижившихся к тому времени в России. Услыхав известие о петрашевцах, Герцен писал: оно «было маслиной, принесенной голубем в Ноев ковчег»[48] — первым проблеском надежды после потопа. Об этом деле писали впоследствии многие петрашевцы — среди них был и Достоевский, за участие в кружке отправленный в Сибирь. Достоевский, не выносивший впоследствии никакого радикализма и социализма (да и антиклерикализма вообще), явно пытался затушевать свое участие в кружке петрашевцев и создал прославленную карикатуру на революционный заговор — «Бесов». Барон Корф, бывший членом следственной комиссии по делу Петрашевского, говорил позднее: заговор не был ни столь серьезным, ни столь обширным, сколь его изображали — все, преимущественно, сводилось к «идейному заговору»[49]. В свете позднейших разысканий — особенно после публикации советским правительством трехтомного собрания соответствующих документов3 — этот отзыв можно считать несколько сомнительным, но, конечно, полновесный заговор наличествовал навряд ли: просто известное число недовольных молодых людей регулярно устраивало собрания в двух или трех различных домах и обсуждало возможность реформы. Справедливо и то, что, невзирая на приверженность самого Буташевича-Петра- шевского к идеям Фурье (рассказ о маленьком фаланстере, что Петрашевский построил в пределах своей усадьбы для крестьян — чуть ли не сразу же назвавших это здание бесовским и поджегших его, — остается непроверенным), эти кружки не объединялись никакими определенными и общепринятыми принципами. Например, Момбелли только и желал создать учреждения взаимной помощи — не столько для рабочих и крестьян, сколько для зажиточных людей вроде него самого; Ахшарумов, Европеус и Плещеев придерживались учения о христианском социализме, а единственное преступление А. П. Милюкова, по-видимому, заключалось в переводе на русский язык сочинений Ламеннэ. Александр Баласогло был добрым и впечатлительным молодым человеком, подавленным ужасами русского общественного устройства — не больше и не меньше, нежели, к примеру, сам Гоголь, — и желавшим реформ, улучшений мягко популистского свойства, подобных тем, которые предлагались романтически настроенными славянофилами, отдаленно схожих с мечтами таких английских авторов, как Вильям Моррис и Коб- бетт, тосковавших по идеализированному Средневековью. И впрямь: энциклопедический словарь Петрашевского, содержавший «крамольные» статьи, подаваемые под видом научных сведений, больше всего напоминает знаменитую грамматику, написанную Коббеттом. Но все же встречи петрашевцев отличались от случайных собраний таких радикальных литераторов, как Панаев, Корш, Некрасов и даже Белинский. По крайности, некоторые члены кружков намеренно и определенно сходились обсуждать способы подстрекательства к противоправительственному восстанию.
Идеи эти могли считаться неосуществимыми, могли заключать в себе много фантастического, заимствованного из учения французских утопистов и прочих «научно несостоятельных» источников, но целью их была не реформа, а свержение режима и создание революционного правительства. Из того, что Достоевский говорит в «Дневнике писателя» и других записях, становится ясно: Спешнев, например, по темпераменту и устремлениям был истинным агитатором-революционером, верившим в заговоры ничуть не менее, чем не любивший его Бакунин, и посещал собрания петрашевцев с определенной практической целью. Спешнев изображен в «Бесах» под именем Ставрогина — и упомянутые свойства его натуры всячески подчеркиваются автором.
Очень похоже, что Дуров, Григорьев и двое-трое других тоже верили: революция способна разразиться в любую минуту; они сознавали: организовать массовое движение нельзя, но уповали, подобно Вейтлингу, подобно германским коммунистам из рабочих и — кажется — подобно Бланки, на создание малых профессиональных революционных ячеек — революционной элиты, умеющей орудовать сноровисто и беспощадно, умеющей захватить власть, едва лишь ударит нужный час, когда угнетаемые общественные элементы взбунтуются и сокрушат хилое войско придворных и бюрократов, стоявшее меж русским народом и свободой как единственная препона. Вне сомнения, здесь было много пустой болтовни: в тогдашней России не существовало ничего даже отдаленно схожего с революционной ситуацией. И все же намерения петрашевцев были не менее определенны и жестоки, чем намерения Бабефа и его приятелей, а конспирация — единственным практически приемлемым образом поведения под властью крепкого и стойкого самодержавия. Несомненно, Спешнев был коммунистом, и влияли на него не только сочинения Александра-Теодора Дезами, но, вероятно, и ранние работы Маркса — например, анти-прудо- нистская Misere de la philosophic^. Баласогло говорит в своих показаниях[50]: среди прочего, кружок Петрашевского привлек его тем, что, в общем, петрашевцы чуждались либеральных разглагольствований и беспредметных словопрений, разбирая конкретные вопросы и ведя статистические исследования ради последующих прямых действий. Презрительные слова Достоевского о склонности былых сообщников «полиберальничать» очень похожи на попытку обелить себя самого.
На деле — весьма вероятно — Достоевского этот кружок приманил именно тем же, чем привлек Баласогло: серьезной и накаленной атмосферой, отличной от панибратски-либеральной, веселой, дружески-легкой атмосферы литературных вечеров у Панаева, Соллогуба или Герцена, где судачили о словесности и философии, — и где, похоже, к Достоевскому относились довольно снисходительно, а он весьма страдал от этого. Петрашевский же был человеком беспощадно серьезным; кружки, как основной, так и другие, отпочковавшиеся от него, еще более тайные — а заодно и «родственные», — к примеру, тот, в котором состоял Чернышевский-студент, — хорошо знали, чего намеревались добиться. Заговор открылся в апреле 1849-го, петрашевцы отправились под суд и в ссылку.
Меж 1849-м и кончиной Николая I в последние месяцы Крымской войны не отмечалось ни проблеска либеральной мысли. Гоголь умер нераскаянным реакционером, но Тургенев, отважившийся в опубликованном некрологе расхвалить ушедшего сатирического гения, подвергся немедленному аресту. Бакунин сидел в тюрьме, Герцен жил за границей, Белинский умер, Грановский безмолвствовал, тосковал и склонялся к славянофильству. Столетие Московского университета справили в 1855 году уныло и тускло. Даже славянофилы, хоть и отрицались либеральной революции и всех дел ее, хоть и продолжали неустанно бороться против западных влияний, а ощутили тяжкую длань государственных репрессий: братья Аксаковы, Хомяков, Кошелев и Самарин оказались, как десятилетием ранее Иван Киреевский, под полицейским подозрением. Тайная полиция и особые комитеты надзора считали опасными любые и всяческие «идеи» — в частности, идею национализма, заступавшегося за угнетаемые славянские народы Австрийской империи, поскольку в этом заступничестве усматривали недовольство и принципами престолонаследия, и многонациональными империями. Битва правительства с различными оппозиционными партиями еще не была войной идеологической, подобной длительной борьбе, развернувшейся в 1870-е и 1880-е между левыми и правыми: либералами, ранними народниками и социалистами с одной стороны, и такими реакционными националистами, как, например, Страхов, Достоевский, Майков — а прежде всего, Катков и Леонтьев — с другой. В 1848-1855 гг. правительство и «партия официальных патриотов» выказывали враждебность к мысли вообще, а потому и не пытались обзавестись интеллигентными сторонниками; если интеллигенты примыкали к ним добровольно, то на этих союзников глядели чуть ли не с презрением — однако использовали их, а, случалось, и награждали. Коль скоро Николай I не пытался одолеть идеи посредством иных идей, то лишь оттого, что недолюбливал и мысль, и умствование вообще; Государь не слишком доверял даже собственным чиновникам-бюрократам, ибо чувствовал: по роду занятий им требуются хотя бы зачаточные мыслительные способности, необходимо нужные при любой сознательной и организованной работе.
«Тем, кто пережил это, казалось, будто из темного тоннеля вовек не отыщется выхода, — писал Герцен в 1860-х. — И все же итоги и последствия тех лет никоим образом не сочтешь всецело отрицательными»[51]. Подмечено тонко и верно. Революция 1848 года потерпела крах, дискредитировала революционную интеллигенцию Европы, столь просто и легко усмиренную силами, восстановившими законность и вернувшими порядок, вызвала глубочайшее разочарование, неверие в само понятие прогресса, в возможность получить свободу мирным путем, а равенство приобрести посредством увещеваний — или вообще, какими бы то ни было цивилизованными способами, дозволенными людям, исповедующим либеральные убеждения. Даже Герцен никогда не оправился вполне от крушения своих идей и надежд. Бакунин пребывал в растерянности; старшее поколение либеральной интеллигенции, московской и петербургской, рассеялось и рассыпалось: кто перешел в консервативный лагерь, кто искал прибежища в деятельности, от политики далекой. Но, прежде всего, крах революций 1848 года породил в самых молодых и сильных духом русских радикалах незыблемое убеждение: по-настоящему договориться и ужиться с царским правительством нельзя. Вот почему во время Крымской войны довольно много ведущих интеллигентов сделались едва ли не пораженцами — причем отнюдь не только радикалы да революционеры. «Записки» Александра Кошелева, напечатанные берлинским издательством в 1880-е годы[52], говорят: многие друзья автора — националисты и славянофилы — полагали, что поражение пошло бы России на великую пользу. Кошелев подробно повествует о всеобщем безразличии к исходу военных действий: признание, выглядевшее в эпоху публикации, при наивысшем подъеме пан-славянских стремлений, гораздо более потрясающим, нежели выглядело бы даже в годы самой Крымской кампании.
Несгибаемое упрямство царя ускорило нравственный кризис, окончательно разделивший твердокаменных оппозиционеров с оппортунистами: оппозиционеры еще больше спрятались в свой черепаший панцирь; впрочем, это можно сказать касаемо обоих лагерей. И славянофилы, отвергавшие все западное — подобно Аксакову и Самарину, и материалисты, безбожники и поборники западных научных идей — подобные Чернышевскому, Добролюбову и Писареву, все глубже погружались в чисто русские национальные и общественные вопросы, особенно в крестьянский вопрос. Обсуждали невежество крестьянина, его нищету; особенности общинной жизни и их исторические корни, экономическое будущее деревни.
Либералы 1840-х искренне сострадали крестьянским бедам или возмущались ими: крепостное право долго выступало острейшей социальной проблемой, повсеместно признавалось великим злом. Но сколь бы ни волновали русских либералов новейшие общественные и философские веяния, долетавшие с Запада, им не хотелось тратить время на подробное и скучное исследование истинных условий сельской жизни, множества неизученных социальных и экономических сведений, столь поверхностно изложенных де Кюстином — или, позднее и обстоятельнее, Гакстгаузеном. Тургенев до некоторой степени пробудил интерес к повседневному крестьянскому быту, издав реалистические «Записки охотника». Григорович тронул и Белинского, и Достоевского своими трагическими, однако, на позднейший читательский вкус, безжизненными и слащавыми описаниями мужицкого обихода в «Деревне» и «Антоне-Горемыке», опубликованными в 1847-м. Но это было всего лишь поверхностной рябью. После 1849 года, когда Европу объяла реакция, а Россия оказалась насильственно отчуждена от Запада, когда издалека доносился только слабый и жалобный голос Герцена, русские интеллигенты, озабоченные общественными вопросами и выжившие при безвременье, посвятили свои острые и бесстрашные аналитические умы изучению истинных условий, в коих жило подавляющее большинство соотечественников. Десятилетием-двумя ранее России ощутимо грозила опасность навеки превратиться в интеллектуальную колонию, умственную иждивенку Берлина или Парижа — но теперь, очутившись в изоляции, Россия оказалась вынуждена выработать свой собственный взгляд на общество и политику.
Резкая перемена в критике 1860-х и 1870-х годов—грубый, материалистический, «нигилистический» тон — объясняется не только изменениями промышленных и общественных условий, породившими новый класс и новые повадки и в Европе, и в России, а—по крайности, ничуть не меньше—тюремными стенами, в коих Николай I замкнул жизни своих мысливших подданных. Последнее обстоятельство привело к резкому разрыву с утонченной цивилизованностью минувших лет, с былым равнодушием к политике; шкуры стали дублеными повсеместно, политические и общественные различия обострились. Пропасть между правыми и левыми — учениками Достоевского и Каткова, последователями Чернышевского и Бакунина — типических радикальных интеллигентов, какими они являлись в 1848-м, расширилась и углубилась донельзя. Со временем выступила на сцену многочисленная и все разраставшаяся армия профессиональных революционеров, осознававших — даже чересчур хорошо осознававших — чисто русские особенности стоявших перед ними задач и подыскивавших чисто русские решения. Насильственно отсеченные от общеевропейского развития (с коим, правда, их история имела очень мало общего), увидевшие банкротство европейских борцов за свободу, пришедшее после 1848-го, они черпали силу в той самой суровой дисциплине, что родилась меж русскими революционерами благодаря, косвенным образом, европейскому краху. С тех пор русские радикалы пришли к убеждению: идеи и агитация, начисто не подкрепленные материальной силой, заведомо обречены провалу. Радикалы приняли эту аксиому и отвергли сентиментальный либерализм, избежавши расплаты за свое освобождение — горького личного разочарования и беспомощной досады, — а эта расплата оказалась непомерна для многих западных радикалов-идеалистов. Русские радикалы выучились на чужом примере, не угашая собственного внутреннего огня. Опыт, накопленный обеими сторонами в борьбе, длившейся долгие темные годы, стал решающим фактором, сделавшим дальнейшее русское революционное движение непреклонным и непримиримым.
Еж и Лис Очерк о взглядах Толстого
на историю
Посвящается памяти Джаспера Ридли Странное сочетание: мозг английского аптекаря и душа индийского буддиста. — Э.-М. де Вогюэх
I
С
реди отрывков, уцелевших из произведений греческого поэта Архилоха, имеется стих, говорящий: «Лис — он во многом хитер; а вот еж—лишь в одном, да великом»[53]. Ученые спорят о правильном толковании этих загадочных слов, могущих означать всего-навсего, что лис, хоть и весьма хитер, отступает перед единственным оборонительным оружием ежа. Но, толкуя эти слова образно, пожалуй, обнаружишь: они определяют одно из глубочайших различий между писателями и мыслителями—не исключаю, что и между человеческими существами вообще. Ибо зияет бездонная пропасть между теми — стоящими по одну из ее сторон, — кто соотносит все окружающее только со своим цельным, всеобъемлющим взглядом; с одной системой воззрений, менее или более последовательной и гибкой, в рамках коей они разумеют, мыслят и ощущают; цельным, вселенским, упорядочивающим принципом, исключительно в рамках коего и обретают значение все ими пережитое и сказанное, — и стоящими по другую сторону: теми, кто преследует множество целей, зачастую разобщенных и даже несовместимых, кое-как взаимно связанных (коль скоро они взаимно связаны вообще) лишь de facto, случайными узами психологии либо физиологии; не соотносящихся ни с каким принципом, ни нравственным, ни эстетическим. Жизнь, действия, идеи этих вторых скорее центробежны, чем центростремительны; их мысли, разбросанные или расплывчатые, блуждают по многим высям и безднам, цепляются за основную суть великого разнообразия переживаний и предметов, принимая их такими, каковы они есть, не стараясь, ни сознательно, ни бессознательно, заключить их в рамки некоего неизменного принципа, либо изгнать за рамки этого принципа — всеобъемлющего, иногда несовершенного, противоречащего себе самому, временами фанатического, но цельного внутреннего зрения. Первая разновидность мыслителей и художников — ежи, вторая — лисы; и, если не настаивать на строгой классификации, то можно, без особой боязни погрешить против истины, сказать, что, с такой точки зрения, Данте относится к первой категории, а Шекспир — ко второй; Платон, Лукреций, Паскаль, Гегель, Достоевский, Ницше, Ибсен, Пруст — все они, в разной степени, ежи; а Геродот, Аристотель, Монтэнь, Эразм, Мольер, Гете, Пушкин, Бальзак, Джойс — лисы.
Не спорю: подобно всем чересчур упрощенным классификациям схожего свойства, эта дихотомия, коль скоро налегать на нее безоглядно, сделается искусственной, схоластической и, в конечном счете, бессмысленной. Но даже если и не подмога она серьезному критику, не стоит ее отвергать как поверхностную либо легкомысленную: подобно всякому распределению по разрядам, заключающему в себе хоть маковую росинку истины, она предлагает вам или точку зрения, с которой можно наблюдать и сравнивать, или отправную точку для настоящих исследований. Так, нам вполне очевиден вопиющий контраст меж Пушкиным и Достоевским; знаменитая пушкинская речь Достоевского, несмотря на яркий слог и глубину чувства, редко воспринимается проницательным читателем как проливающая свет на пушкинский гений — скорее, на самого Достоевского: именно потому, что она превратно представляет Пушкина — этого архи-лиса, величайшего в девятнадцатом столетии — как человека, схожего с Достоевским, отъявленным ежом; она преображает — в сущности, искажает — Пушкина, выставляет его ревностным пророком, несущим великую вселенскую весть; но идея пророчества — и впрямь служившая средоточием вселенной, в коей обитал сам Достоевский, была безмерно далека от множества разнообразных областей, где витал пушкинский гений — переменчивый и многоликий, словно Протей.
Не кажется вздорным утверждение: вся русская литература простирается меж этими двумя исполинами — на одном полюсе Пушкин, а на другом — Достоевский; и те, кому изыскания такого рода кажутся полезными или занимательными, до известной степени могут определять природу таланта, присущего другим русским писателям, соотнося их работу с творчеством этих великих антиподов. Вопрос о том, в каком отношении к Пушкину и Достоевскому обретаются Гоголь, Тургенев, Чехов, Блок приведет — по крайности, уже приводил и приводит — к плодотворным и поучительным критическим выводам.
Но когда мы являемся к графу Льву Николаевичу Толстому и задаем этот же вопрос ему: принадлежит он к первой или ко второй литературной разновидности? — монист он или же плюралист? — единый взгляд у него на мироздание или же множественный? — цельна ли его натура или состоит из элементов разнородных? — то ясного и немедленного ответа не получаем. Странным образом, вопрос кажется не вполне уместным и не столько рассеивает мрак, сколько сгущает его.
И нас вынуждает осечься вовсе не скудость наличных сведений: Толстой поведал о себе и своих воззрениях больше любого иного русского — да и почти любого иного западноевропейского — писателя; его искусство не назовешь чрезмерно сложным для понимания ни в каком общепринятом смысле: во вселенной Толстого нет сумрачных уголков, его повести наполнены дневным светом; он истолковал и свою прозу, и себя самого; разъяснил и свои произведения, и способы, коими они создавались: разъяснил более связно, более сильно, ясно и здравомысленно, чем любой иной писатель. Так лис он или еж? Который из двоих? Отчего столь неожиданно трудно сыскать ответ? Подобен ли Толстой Шекспиру или Пушкину более, нежели Данте либо Достоевскому? Или не схож ни с теми, ни с другими, а посему ответа не сыщется вовсе — ибо задаваемый вопрос несуразен? Что за непонятная препона мешает нашим разысканиям?
В настоящем очерке я не пытаюсь ответить на задаваемый вопрос, ибо тут понадобилось бы полновесное критическое исследование всего наследия, оставленного Толстым — и художественного, и философского. Оттого и ограничусь таким предположением: трудности могут возникать — по крайней мере, частично — благодаря тому, что сам Тол- той отнюдь не пребывал в неведении касаемо собственной загадки, и старательно запутал ответ. Осмелюсь выдвинуть гипотезу, говорящую: по природе Толстой был лисом, но считал себя ежом; одно дело — его литературный дар и творчество, другое дело — его убеждения и вытекающее из них толкование своего же творчества.
Впоследствии идеалы Толстого привели и его самого, и тех, кто поддался гениальной толстовской способности убеждать, к систематически неверному истолкованию того, чем занимались или должны были заниматься и сам Толстой, и другие. Никто не может пенять на Толстого: мол, оставил читателю толику сомнения касаемо своих мыслей по этому поводу: толстовские взгляды на сей предмет подробно излагаются во всех его дискурсивных произведениях — дневниках, записанных друзьями и почитателями obiter dicta[54], автобиографических заметках и очерках, трактатах на общественные и религиозные темы, литературно-критических статьях, письмах к частным и официальным лицам. Но конфликт между тем, чем Толстой был на деле, и тем, во что он верил, нигде не проявляется столь отчетливо, как во взглядах Толстого на историю, коим посвящено немало самых блистательных и парадоксальных толстовских страниц. Данный очерк — попытка разобраться в исторических доктринах Толстого, рассмотреть и соображения, понудившие писателя придерживаться именно этих, а не иных взглядов, и отдельные возможные источники упомянутых соображений. Говоря короче, я пытаюсь принимать отношение Толстого к истории с той степенью серьезности, которой сам Толстой ожидал от читателей, — хотя и с несколько иной целью: мне хочется поглядеть, какой свет они проливают на одного-единствен- ного гениального человека, а не на участь и судьбу человечества, взятого в целом.
п
В целом историческая философия Толстого не удостоилась внимания, заслуживаемого ею, — ни как воззрение, представляющее самостоятельный интерес, ни как событие в истории человеческой мысли, ни даже как один из элементов собственного толстовского развития[55]. Те, кто видят в Толстом главным образом романиста, иногда рассматривали исторические и философские рассуждения, рассыпанные по страницам «Войны и мира», лишь как несуразные перерывы рассказа, как досадное стремление безо всякой нужды уклоняться в сторону, характерное для этого великого, но чересчур упрямого и самоуверенного писателя, как неуклюжую, доморощенную метафизику, почти — либо начисто — лишенную самостоятельной ценности, глубоко безвкусную и всецело чуждую общему замыслу и строю эпопеи. Тургенев, находивший и личность и творчество Толстого отталкивающими — хотя в позднейшие годы он легко и охотно признавал, что писатель Толстой гениален, — возглавлял ругателей. В письмах к Павлу Анненкову[56] Тургенев говорит о «шарлатанстве» Толстого, зовет его исторические изыскания — на которые «публика» простодушно «попалась» — «кукольной комедией» и «фокусом», коими «автодидакт», не имевший настоящих познаний, неумело разбавил свой роман. Тургенев торопится прибавить: конечно, все выкупается блистательным гением Толстого-художника, — но тут же следует и порицание: Толстой, мол, «непременно оседлает какую-нибудь палочку, придумает какую-нибудь одну систему, которая, по-видимому, все разрешает очень просто, как например исторический фатализм, да и пошел писать! Там, где он касается земли, он, как Антей, снова получает все свои силы... »[57].
Те же ноты звучат и в знаменитом, трогательном призыве, обращенном Тургеневым со смертного одра к старинному другу и врагу: Тургенев молит его, «великого писателя Русской земли», сбросить одеяние пророка и вернуться к истинному призванию — «литературной деятельности»[58]. Флобер, вопреки собственным «воплям восторга» над страницами «Войны и мира», ужасается тоже: «Use repete et ilphilosophise»*, пишет он Тургеневу, от которого ранее получил французский перевод «Войны и мира» — шедевра, в то время почти безвестного за пределами России. В том же духе Василий Боткин — философствующий чаеторговец, близко друживший и сотрудничавший с Белинским, а к Толстому относившийся очень хорошо, — пишет Афанасию Фету:
«[Знатоки словесности] находят, что умозрительный элемент романа очень слаб\ что философия истории мелка и поверхностна, что отрицание преобладающего влияния личности в событиях есть не более как мистическое хитроумие; но помимо всего этого художественный талант автора вне всякого спора. Вчера у меня обедали и был также Тютчев, — и я сообщаю отзыв компании» К
Тогдашние историки и военные специалисты, из коих по крайности один человек и сам сражался в 1812 году, с негодованием сетовали на фактические неточности[59], а впоследствии приводились убийственные доказательства тому, что автор «Войны и мира» фальсифицирует исторические подробности[60] — скорее всего, преднамеренно, прекрасно помня про наличие оригинальных источников и заведомое отсутствие каких-либо сведений, этим источникам противоречащих, — фальсифицирует, по-видимому, не столько в художественных, сколько в «идейных» целях.
Единодушие находивших в романе огрехи — с одной стороны исторические, а с другой художественные, — похоже, задало тон всем позднейшим оценкам «идейного» содержания «Войны и мира». И если Шелгунов, по крайней мере, почтил роман прямым нападением на сознательную авторскую покорность общественным невзгодам, определив ее как «философию застоя»[61], то прочие либо вежливо обходили ее вниманием, либо рассматривали как характерную причуду, относя на счет сочетавшихся в авторе общеизвестной русской склонности проповедовать (что пагубно для произведений искусства) с бездумным, слепым увлечением самыми общими философскими представлениями, которое бывает присуще юным интеллигентам, живущим на отшибе от главных очагов цивилизации. «По счастью, автор гораздо больше художник, нежели мыслитель», — заметил критик Николай Ахшарумов[62], и три с лишним четверти века ему вторит большинство пишущих о Толстом — ив России, и за границей; и до, и после большевицкой революции; вторят и «реакционные», и «передовые» критики; и видящие в Толстом главным образом писателя-художника, и рассматривающие Толстого в качестве пророка и наставника — или мученика, или влиятельного общественного деятеля, или человека, получуждого обществу, или полупомешанного. Исторические теории Толстого равно нелюбопытны и Вогюэ и Мережковскому, и Стефану Цвейгу и Перси Лаббоку, и Бирюкову и Э.-Дж. Симмонсу — не говоря уже о людях помельче. Историки русской мысли[63] склонны приклеивать Толстому ярлык «фаталиста» и переходить к более интересным историческим построениям Леонтьева либо Данилевского.
Критики более смиренные, или наделенные большей осторожностью, выражаются сдержаннее и говорят о толстовской философии с трепетным почтением; даже Деррик Леон, изучающий тогдашние толстовские воззрения бережней и тщательней, чем большинство биографов, сперва дотошно и досконально излагает рассуждения Толстого о силах, властвующих историей, — в частности, разбирает вторую часть обширного эпилога, коим «Война и мир» завершается, — и затем идет по стопам Эйлмера Мода, не стараясь ни оценить толстовских воззрений, ни соотнести их с жизнью Толстого и образом его мыслей; однако и подобная малость — редчайшее исключение из правила[64]. Опять же: те, кого привлекает в основном Толстой-пророк и Толстой- наставник, сосредоточиваются на позднейших его убеждениях, которых учитель придерживался, уже «обратившись», уже прекратив считать себя в первую очередь писателем и сделавшись наставником роду людскому, предметом поклонения и паломничества.
Обычно жизненный путь Льва Толстого делят на два различных отрезка: сначала он — автор бессмертных шедевров, впоследствии — проповедник личного и общественного обновления и возрождения; сначала он — писатель- аристократ, нелегкий, даже несколько недоступный для понимания, раздираемый противоречиями гениальный романист; впоследствии — мудрец: догматик, причудник, максималист — но обладающий огромным влиянием, особенно в пределах собственной страны, — некое «всемирное учреждение», обладающее исключительной важностью. Время от времени пытаются доказать, что корни позднего толстовского периода уходят в начальную жизненную пору, откуда, якобы, потянулись многочисленные ростки дальнейшей жизни, посвященной самоотречению; и этот поздний период часто рассматривают как более важный; имеются философские, богословские, этические, психологические, политические и экономические работы, исследующие все грани поздней толстовской личности.
Но тут, безусловно, возникает парадокс. Толстой питал страстный, почти болезненный интерес к истории, к вопросам исторической истины — и до, и после работы над «Войной и миром». Никто из читавших его дневники и письма — да и, само собой разумеется, «Войну и мир» — не усомнится: во всяком случае, сам автор видел в этих вопросах сердце живого повествования — точнее, стержень, на который нанизывается весь роман. «Шарлатанство», «поверхностность», «слабость разумения» — уж кого-кого, да не Льва Толстого честить подобными эпитетами. Пристрастность, прихотливость — возможно, и надменность; вероятно, и несдержанность; нравственное и духовное несовершенство — об этом сам Толстой ведал намного лучше, нежели враги его; но вот умственная расхлябанность, критическая невзыскательность, склонность к пустословию, готовность очертя голову оседлать конька откровенно бессмысленной доктрины в ущерб реалистическому описанию либо анализу жизни; одержимость какой-либо модной теорией, чья пустота разом ясна и Боткину и Фету — но, увы, не Толстому! — эти и подобные утверждения кажутся несуразными донельзя.
Ни единому вменяемому человеку — по крайности, в двадцатом столетии — ив голову не придет подвергать сомнению умственную мощь Толстого — или его поистине устрашающую способность насквозь пронизывать мысленным взглядом хранительные покровы, коими, благопристойности ради, облекается окружающее общество — или тот едкий скептицизм, за который князь Вяземский приклеил «Войне и миру» ярлык «нетовщины»1, опередив тем самым и Вогюэ, и Альбера Сореля, непринужденно говоривших несколько позже о «нигилизме», присущем Льву Толстому.
Здесь явно что-то не ладится: Толстой непримиримо отвергал — с точки зрения не-исторической, да и, по сути, анти-исторической — всевозможные попытки объяснить или оправдать людские действия или характеры в рамках общественного либо личного развития, и ссылаясь вдобавок на некие уходящие в минувшее «корни»; это отрицание шло бок-о-бок со страстным изучением истории, длившимся всю жизнь и приведшим к художественным и философским свершениям, породившим столь неожиданно бранные отзывы со стороны обычно разумных и сочувственных критиков — и здесь кроется нечто, весьма достойное внимания.
ш
История привлекла внимание Толстого еще в юности. Похоже, Толстой не столько интересовался прошлым как таковым, сколько желал доискаться первопричин, уразуметь: почему и как события принимают именно тот, а не иной оборот; он оставался недоволен привычными объяснениями, не разъясняющими ничего, оставляющими пытливый ум неудовлетворенным; он был склонен сомневаться, ставить под подозрение — а коль скоро понадобится, и отвергать — все, что не давало исчерпывающих ответов на вопросы, не докапывалось до самой сути дела — и любой ценой. Этого взгляда Толстой придерживался до конца земных дней, и навряд ли подобный взгляд свойствен беззаботному «шарлатану». Этому взгляду сопутствовала неискоренимая любовь к осязаемому, эмпирическому, поддающемуся проверке — и подсознательное недоверие к отвлеченному, неощутимому, сверхъестественному: короче сказать, обнаружилась ранняя склонность к мышлению научному, позитивистскому, не приемлющему романтизма, отвлеченных определений, метафизики.
Всегда и всюду он искал «неопровержимых» фактов — того, что может осознать и выверить обыкновенный человеческий разум, не отравленный сложными, запутанными теориями, оторванными от осязаемой действительности, не обремененный потусторонними тайнами — будь они богословскими, поэтическими или метафизическими. Толстого мучили великие вопросы, встающие перед молодежью любого поколения: о добре и зле, о происхождении вселенной со всеми ее обитателями и о цели мироздания, о причинах всего творящегося вокруг — однако ответы, предлагавшиеся метафизиками и богословами, казались Толстому бессмысленными, хотя бы из-за слов, коими их облекали: слов, не имевших внешнего отношения к повседневности и обыкновенному здравому смыслу; а уж обыкновенного-то здравого смысла Толстой придерживался упрямо и цепко, полагая его — еще прежде, нежели сам осознал это, — единственно реальным и надежным. История, только история, только сумма определенных событий, имевших место во времени и пространстве, — сумма действительного опыта, накопленного действительно жившими на земле мужчинами и женщинами — в их отношении друг к другу и к действительной, трехмерной, эмпирически воспринимаемой среде нашего физического обитания, — лишь это заключало в себе истину, материал, из коего было возможно созидать настоящие ответы: ответы, которые от желающего уразуметь их суть не требовали бы ни особого шестого чувства, ни иных особых свойств, не присущих обычным людям.
Сказывался, конечно, дух эмпирического исследования, двигавший великими мыслителями восемнадцатого столетия, борцами с богословием и с метафизикой; причем и призем- ленность Льва Толстого, и его неспособность обманываться призраками естественно превратили молодого человека в приверженца и последователя упомянутых философов — даже прежде, нежели он познакомился с их учениями. Подобно мольеровскому господинуну Журдэну, «мещанину во дворянстве», Толстой говорил прозой, не подозревая об этом — и оставался врагом трансцендентализма от начала и до конца жизни.
Он родился и рос, когда повсюду правило бал гегельянство, стремившееся все на свете свести к понятиям исторического развития, но числившее этот процесс во многом неподвластным эмпирическому исследованию. Тогдашний историзм, несомненно, повлиял на юного Толстого — равно как и на всех его любознательных современников; но метафизическое содержание историзма он отвергал инстинктивно, и в одном из писем назвал гегелевские писания белибердой пополам с банальностями. Лишь история — сумма эмпирически доступных сведений — служила ключом к загадке: отчего случившееся случилось именно так, а не иначе, приняло именно тот, а не иной оборот; и, следовательно, лишь история способна была пролить свет на основные этические вопросы, одолевавшие и мучившие Толстого не меньше, чем любого мыслящего русского, толстовского современника.
Что делать? Как должно жить? Для чего мы здесь? Кем становиться, как действовать? Изучение исторических связей меж событиями и поиск эмпирических ответов на эти «проклятые вопросы»[65] слились воедино в уме Толстого — как весьма живо свидетельствуют его ранние дневники и письма.
В ранних дневниковых записях находим упоминания о толстовских попытках сопоставить «Наказ» Екатерины Великой[66] с теми местами из Монтескье, на которых, по словам Императрицы, этот наказ основывался[67]. Он читает Юма и Тьера4, а заодно Руссо, Стерна и Диккенса[68]. Он поглощен размышлениями о том, что философические принципы возможно понять лишь изучив их частные исторические проявления[69]. «Составить истинную правдивую Историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь»[70]. Или вот: «Нас забавляют более листочки дерева, чем корни»[71] — подразумевается, что, все же, такой взгляд на мироздание поверхностен. Впрочем, наряду с этим зарождается острое разочарование, ощущение: история, которую пишут историки, посягает на нечто, заведомо недостижимое для нее, — вместе с метафизической философией тщится объять необъятное, сделаться наукой, способной прийти к неопровержимым выводам.
Поскольку люди не в силах разрешить философских задач при помощи рассудка, на подмогу призывают историю. Но «... История есть одна из самых отсталых наук и есть наука, потерявшая свое назначение». Причина в том, что история не ответит — ибо не способна ответить — на великие вопросы, терзавшие и терзающие каждое новое людское поколение. Пытаясь обнаружить ответы, люди накапливают знания о фактах, следующих друг за другом с течением времени, однако факты — лишь нечто второстепенное, лишь побочный продукт, изучение коего (здесь-то и кроется ошибка!) превращается в самоцель. Опять же: «История не откроет нам, какое и когда было отношение между науками и художествами и добрыми нравами, между добром и злом, религией и гражданственностью, но она скажет нам, и то неверно, откуда пришли Гунны, где они обитали и кто был основателем их могущества и т. д.». По свидетельству Назарьева, бывшего Толстому другом, тот сказал зимой 1846 года: «История <...> есть не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колотовой, — в 1572 году?»[72]
История не вскрывает причин; история лишь являет нам пустую череду событий, коим нет объяснения. «Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте»[73]. А спустя полстолетия, в 1908 году, Толстой объявляет Гусеву: «История хороша бы была только совершенно истинная»[74].
Утверждение, что историю можно.— и должно — поставить на основу научную, стало в девятнадцатом веке избитым; но ряды тех, кто под «наукой» понимал исключительно естественные науки — а затем задавался вопросом: возможно ли сделать историю наукой именно в этом узком смысле? — весьма редки. Всех убежденнее и непреклоннее оказался Огюст Конт, шедший по стопам своего наставника Сен-Симона и старавшийся превратить историю в социологию — с невообразимыми последствиями, о коих спокойнее промолчать. Не исключаю: изо всех мыслителей Карл Маркс — единственный, кто принял эту программу серьезнейшим образом и сделал самую смелую (правда, едва ли не самую безуспешную) попытку обнаружить общие законы, правящие историческими событиями; а опирался Маркс на выглядевшее в те дни заманчивым сходство с биологией и анатомией, столь блистательно преобразованными в новых эволюционных построениях Дарвина. Подобно Марксу — о котором, работая над «Войной и миром», он, по-видимому, еще и не слыхал, — Толстой вполне ясно разумел: коль скоро история есть наука, то безусловно возможно открыть и сформулировать истинные законы истории — и, сочетая их со сведениями, полученными путем эмпирического наблюдения, историк сумеет предсказывать будущее (да и заглядывать в прошлое) не менее уверенно, нежели, скажем, геолог или астроном. Но Толстой видел гораздо лучше Маркса и марксистов: на деле ничего подобного не достигнуто — и объявлял об этом с обычным своим догматическим простодушием, и подкреплял свои слова доводами, выстроенными так, чтобы доказать: подобная цель не достижима вообще; и ставил точку, замечая: осуществись эти научные упования — людская жизнь, какой мы знаем ее, прекратилась бы: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни [то есть произвольной деятельности, обусловленной сознанием того, что воля свободна]»[75].
Однако Толстого угнетала не просто мысль о «ненаучной» природе истории — сколь ни изощряй приемы исторического исследования, а не выведешь из них надежных законов такого свойства, какое требуется даже самым неразвитым естественным наукам. Толстой размышлял над тем, что не может оправдать в собственных глазах явно произвольного отбора исследуемых данных и ничуть не менее произвольного предпочтения, отдаваемого одним сведениям перед другими — этим, как он считал, неминуемо грешат любые исторические сочинения. Толстой сетует: условия, предопределяющие течение общечеловеческой жизни, весьма разнообразны; историки же вычленяют из них лишь одну отдельно взятую сторону, скажем, политическую или экономическую, и представляют наиважнейшей, и зовут ее главной движущей силой общественных перемен; а разве нет религии, духовных влияний, да и множества иных факторов, — буквально бессчетных! — воздействующих на любые события? Поневоле согласишься: все ныне существующие исторические труды, возможно, являют собою то, что Лев Толстой определяет словами «не более 0,001 процента элементов, действительно составляющих настоящую историю народов». История, как ее обычно пишут, склонна представлять «политические» — общественные — события наиважнейшими, а события духовные — «внутренние» — обычно остаются незамеченными; но^ prima facie\ именно эти — «внутренние» события — служат самым действительным, самым непосредственным опытом, доступным человеческому существу; они — ив конечном счете лишь они — истинная сущность бытия; и посему историки, привычно копающиеся в политических вопросах, пишут поверхностную чушь.
На всем протяжении 1850-х годов Толстого обуревало желание создать исторический роман, а одной из главных целей писателя было противопоставить «истинную» сущность жизни — и личной, и общественной — с «неистинной» картиной, что является на обозрение в исторических работах. Там и сям на страницах «Войны и мира» — вновь и вновь — мы видим недвусмысленное сравнение «реальности» — событий, происходивших на деле, — с кривым зеркалом, которое эти события отразит позднее, дабы отпечатлеть их в официальных отчетах, предлагаемых публике, — или в памяти самих же участников: их свежие первоначальные воспоминания ретушируются предательским [неизбежно предательским, ибо непроизвольно рационализирующим и формализующим] рассудком. Толстой все время ставит героев «Войны и мира» в положения и условия, где вышесказанное не вызывает сомнений.
Николай Ростов видит при Аустерлице великого полководца князя Багратиона едущим со своими адъютантами к деревне Шенграбен, от которой надвигается неприятель; ни сам Багратион, ни его штаб, ни офицеры, скачущие к нему с депешами, ни кто-либо иной не понимают, и не могут понимать в точности, ни что именно творится, ни где именно творится, ни почему творится; и хаос боя никоим образом не проясняется ни в действительности, ни в русских офицерских умах оттого, что явился Багратион. И все же одно приближение командира воодушевляет подчиненных; его смелость, его спокойствие — уже одно его присутствие — создают иллюзию, чьей первой жертвой делается сам Багратион; а именно: ему тоже кажется, будто происходящее непонятным образом связано с его талантом, его расчетами; будто его властная воля влияет на течение битвы — а это, в свой черед, несомненно поднимает общий боевой дух окружающих. Донесения, исправно составленные позднее, неминуемо припишут все действия и передвижения, удачи и неудачи, победу или разгром русских войск лишь ему и его распоряжениям, хотя любому понятно: к течению и к исходу боя Багратион имел меньшее касательство, нежели скромные, безвестные солдаты, что — хорошо ли, плохо ли, но, по крайности, впрямь сражались как могли — то есть палили из ружей, убивали, ранили, шли в атаку, пятились и т. д.
Князь Андрей тоже сознает это — яснее всего при Бородино, где получает смертельную рану. Однако разуметь истину князь начинает раньше, когда еще старается заводить знакомства с людьми, по внешней видимости правящими российскими судьбами; затем он постепенно убеждается: главный советник императора Александра, знаменитый реформатор Сперанский, и его сотоварищи, и даже сам Александр последовательно обманываются, полагая, будто их деяния, их слова, памятные записки, рескрипты, решения, законы и так далее служат некими движущими силами, вызывающими исторические перемены, определяющими участь отдельных людей и целых народов; а в сущности, все это не значит ничего — идет лишь бессмысленная суета в пустоте. И Толстой приходит к одному из прославленных своих парадоксов: чем выше стоят военные или государственные мужи на ступенчатой пирамиде власти, тем дальше должны обретаться они от основания пирамиды, состоящего из тех обыкновенных мужчин и женщин, чья жизнь и образует истинную суть истории; а, следовательно, тем ничтожнее делается влияние слов, произносимых высокопоставленными лицами — и действий, ими производимых, — на ход этой истории.
В общеизвестных строках, повествующих о Москве 1812 года, Толстой замечает, что, судя по российским подвигам и свершениям, последовавшим за сожжением Москвы, можно было бы заключить: «все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. <...> Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего»1,2. И тот, кто занимался привычными повседневными делами, оставаясь чужд героическим порывам либо мыслям о ярко освещенной исторической сцене, где каждый исполняет назначенную роль, оказывался всего полезнее отечеству и ближнему; а те, кто старался постичь общий ход событий и творить историю, те, кто совершал немыслимые подвиги, либо, очертя голову, жертвовал собой, оказывались бесполезнейшими. Хуже всех, в глазах Толстого, были неугомонные словоблуды, винившие друг друга в том, «в чем никто не мог быть виноват» — ибо «в исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания.
Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью»3. Пытаться «понять» что- либо посредством рассудка значит обречь себя на провал. Пьер Безухов бродит, «потерянный», по Бородинскому полю, ища хоть чего-нибудь, напоминающего расхожие представления о битве — о войне, какой изображают ее историки либо живописцы. А видит лишь ничем особым не примечательную сумятицу и смятение — отдельных человеческих существ, лихорадочно и наобум заботящихся о людских своих нуждах. Но это, по крайней мере, нечто определенное, не искажаемое теориями и абстракциями; оттого Пьер и ближе к истине, подлежащей ходу событий — насколько вообще способен ее уразуметь человек, — нежели те, кто полагает, будто история движется в согласии с неким перечнем постигаемых законов и правил. Пьер видит лишь череду случайных несчастий — причины и последствия коих, как правило, скрыты от людей и непредсказуемы: череду не связанных друг с другом происшествий, образующих очаги, что становятся переменчивыми узорами, лишенными всякого сколько-нибудь различимого порядка. И заявлять, будто сумел обнаружить узоры, поддающиеся анализу и укладывающиеся в «научные формулы» — значит лгать.
Наиязвительнейшие насмешки Толстого и самая едкая его ирония достаются мнящим себя и выступающим «официальными специалистами» по делам человеческим: западным военным теоретикам, генералам Пфулю, Беннигсену и Пау- лучи, дружно мелющим вздор на Дрисском военном совете: одни — поддерживая, другие — отвергая предлагаемую стратегию или тактику; эти вояки — самозванцы и плуты, ибо нет и не будет на свете никакой теории, объемлющей беспредельное разнообразие вероятного людского поведения, бесконечное множество крохотных, неощутимых причин и следствий, порождающих взаимную связь и взаимодействие людей и природы — то, что история тщится запечатлеть. Все, кто притворяются, будто способны это необъятное множество обрамить «научными» законами, — либо отъявленные шарлатаны, либо слепые поводыри слепцов. Наисуровейший приговор, соответственно, припасен для теоретика-гроссмейстера: великого Наполеона, который и сам верит, и других завораживает своей верой в то, что он, Наполеон, постигает происходящее, и управляет им — благодаря сверхчеловеческому разумению, или вспышкам наития, или иным образом отыскивая правильные ответы на вопросы, задаваемые историей. Чем громче такие заявления, тем бесстыднее ложь, а стало быть, Наполеон — самое жалкое и презренное изо всех действующих лиц великой трагедии.
Именно тут и кроется великое заблуждение, разоблачать которое берется Толстой: нельзя считать, будто личность способна собственными силами и попечением понимать события и направлять их в нужное русло. Считающие так чудовищно ошибаются. И ведь бок-о-бок с этими площадными лицедеями, пошлыми и пустыми людьми — наполовину поверившими самообману, а наполовину сознающими свое шарлатанство, говорящими и пишущими отчаянно и бесцельно, дабы соблюдать приличия и держаться поодаль от угрюмых истин, — совсем рядом с этой расписной ширмой, скрывающей зрелище людской немочи, никчемности и слепоты, простирается настоящий мир и струится поток жизни, видимый и внятный тем, кто не чужд мелочам вседневного существования. Когда Толстой противопоставляет эту «живую жизнь» — истинный, обыденный опыт отдельных личностей — панорамному виду, предлагаемому фокусниками от истории, Толстой прекрасно понимает, где здесь настоящее бытие, а где крепко — временами даже изящно — сколоченные, да неизменно плоские театральные декорации.
Начисто не схожий с Вирджинией Вульф почти ни в чем, Толстой, пожалуй, первым изрек общеизвестное обвинение, адресованное полвека спустя английской писательницей «площадным пророкам» ее собственного поколения — Бернарду Шоу, Герберту Уэллсу и Арнольду Беннетту, — коих она окрестила незрячими материалистами, зачаточного понятия не имевшими об истинной сути бытия, путавшими внешние случайные события и никчемные стороны существования, лежащие за пределами отдельно взятой людской души — так называемую общественную, экономическую и политическую действительность, — с единственными истинами: личным опытом, частными взаимоотношениями личностей; цветом, запахом и вкусом; звуками и движениями; ревностью, любовью, ненавистью, редкими озарениями; судьбоносными минутами; обыденной последовательностью происшествий и впечатлений, лишь для одного-единственного человека и важных, — со всем тем, что зовется «настоящей» жизнью.
В чем же заключается тогда задача историка? Нужно ли описывать лишь наиважнейшие грани бытия, относящиеся к личному опыту, к частной людской жизни «с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей»[76] — и только? Именно к этому Толстого постоянно призывал Тургенев — и Толстого, и всех прочих писателей, но Толстого наипаче, — ибо в этом его истинный гений сказался бы всецело, ибо в этом и была его судьба, судьба великого русского писателя; и как раз этого-то он яростно отрицался даже в зрелые годы — покуда не наступила завершающая, религиозная фаза толстовского развития. Ибо довелось бы не отвечать на вопрос о том, чту существует в мире, о том, отчего и как оно возникает и минует, но решительно повернуться ко всему этому спиной — подавляя свое желание уразуметь образ окружающей общественной жизни, взаимного человеческого влияния, влияния природы на человека — и смысл всего этого.
Подобный художественный пуризм — его проповедовал в свое время Флобер, — подобная поглощенность анализом и описанием опыта, отношений, житейских трудностей и внутренней личной жизни (впоследствии тот же метод отстаивали и применяли Андрэ Жид и его литературные последователи, французские и английские) — казался Толстому тривиальным и ложным. Толстой не сомневался: именно тут его искусство достигло непревзойденного совершенства, именно за это искусство им восхищаются — и отверг такое искусство напрочь.
Письмо, написанное Толстым во время работы над «Войной и миром», с горечью говорит: не сомневаюсь, публике всего больше понравятся сцены общественной и личной жизни, дамы и господа с их мелкими интригами, забавной болтовней и живо изображенными мелкими причудами[77]. Но здесь видны только привычные «цветы» — отнюдь не «корни» жизни. Цель Толстого — дойти до сути; а потому он должен узнать, из чего состоит, в чем заключается история — и повествовать лишь об этом. Разумеется, история — не наука; обществоведение, посягающее на звание науки, — надувательство; настоящие исторические закрны отнюдь не открыты, а нынешние расхожие понятия — «причина», «случайность», «гений» — ничего не разъясняющие слова, фиговый листок, прикрывающий невежество. Отчего события, чью совокупность мы зовем историей, происходят именно так, а не иначе? Некоторые историки утверждают: события порождаются действиями отдельных личностей, но ведь это не ответ — этим не объясняется, как именно действия превращаются в «причины» событий, которые они, якобы, «вызывают» или «порождают».
Нижеследующие ядовито-иронические строки, написанные Толстым, суть пародия на тогдашние гимназические учебники — столь обобщающая, что уместно привести ее полностью:
«Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек; у него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже дурно управляли Францией. И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце 18-го столетия в Париже собралось десятка два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции был гениальный человек — Наполеон.
Он везде всех побеждал, то есть убивал много людей, потому что он был очень гениален. И он поехал убивать для чего-то африканцев, и так хорошо их убивал и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться. И все повиновались ему. Сделавшись импера- торому он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил. В России же был император Александр, который решился восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном. Но в 7-м году он вдруг подружился с ним, а в 11-м опять поссорился, и опять они стали убивать много народа. Н Наполеон привел шестьсот тысяч человек в Россию и завоевал Москву; а потом он вдруг убежал из Москвы, и тогда император Александру с помощью советов Штейна и других, соединил Европу для ополчения против нарушителя ее спокойствия. Все союзники Наполеона сделались вдруг его врагами; и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и сослали его на остров Эльбу у не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважениеу несмотря на тоу что пять лет тому назад и год после этого все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIIIy над которым до тех пор и французыу и союзники только смеялись.
Наполеон жеу проливая слезы перед старой гвардиейу отрекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные государственные люди и дипломаты (в особенности ТалейраНу успевший сесть прежде другого на известное кресло[78] и тем увеличивший границы Франции) разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми или несчастливыми. Вдруг дипломаты и монархи чуть было не поссорились; они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга; но в это время Наполеон с батальоном приехал во ФранциЮу и французыу ненавидевшие егоу тотчас же все ему покорились. Но союзные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с французами. И гениального Наполеона победили и повезли на остров Еленыу вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милыми сердцу и с любгшой им Францией, умирал на скале медленной смертью и передал свои великие деяния потомству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали опять обижать свои народы».
Далее Толстой говорит:
«<...> Новая история подобна глухому человеку, отвечающему на вопросыу которых никто ему не делает. <...> первый вопрос: <...> какая сила движет народами? История как будто предполагает, что сила эта сама собой разумеется и всем известна. Но, несмотря на все желание признать эту новую силу известною, тот, кто прочтет очень много исторических сочинений, невольно усомнится в том, чтобы новая сила эта, различно понимаемая самими историками, была всем совершенно известна}».
И продолжает: политические историки, пишущие на подобный лад, не растолковывают ничего; они попросту относят события на счет некоей «власти», которую выдающиеся личности якобы имеют над остальными — но отнюдь не сообщают нам, что, собственно, значит понятие «власти» — а в этом-то и кроется вся разгадка. Ибо вся загадка исторического развития прямо связана с упомянутой «властью», данной иным людям над остальными людьми; но что же зовется «властью»? Как человек приобретает ее? Можно ли передавать ее от человека к человеку? Ведь речь наверняка идет не о чисто мышечной силе? И не о чисто нравственной? Да неужто обладал Наполеон либо той, либо другой?
Толстой полагает: всемирная история, в отличие от национальной, лишь распространяет указанное понятие, не проясняя его; вместо одной страны или народа описываются многие, но, следя за игрой таинственных взаимодействующих «сил», мы по-прежнему не разумеем: отчего и отдельные человеческие существа, и целые народы покоряются другим? — отчего начинаются войны и одерживаются победы? — отчего безобидные люди, почитающие убийство злодеянием, воодушевленно и гордо уничтожают ближних во дни войны, да еще и стяжают при этом славу? — отчего происходят великие переселения племен: иногда с востока на запад, а иногда наоборот? Особенно Толстого раздражают историки, что ссылаются на господствующее влияние великих людей либо идей. Нам говорят: великие люди — типичные представители движений, происходивших в том-то столетии; следовательно, изучайте характер подобного человека: он «объяснит» вам и суть самого движения. А как характеры Дидро и Бомарше «объясняют» наступление Запада на Восток? Или как перепиской Грозного с Курбским «объясняется» русское продвижение к западу? Но тут уж историки культуры беспомощны, а посему торопятся упомянуть неопределенное дополнительное воздействие, именуемое «силой» идей или книг — хотя мы по-прежнему пребываем в неведении касаемо того, что же значат «сила» и прочие подобные слова. Но как могли бы Наполеон, или госпожа де Сталь, или барон Штейн, или царь Александр — или все они совокупно, да еще и Жан-Жак Руссо впридачу! — «понудить» французов к тому, чтобы обезглавливать и топить друг друга? Неужто сие нарицают «объяснением»?
Кстати, о важности, которую историки культуры придают идеям: общеизвестно, что люди склонны безудержно расхваливать товары, коими торгуют, а люди умственного труда торгуют именно идеями. Кроме того, всяк кулик свое болото хвалит — и ученые мужи всего лишь тщатся раздуть значение собственной работы, представить ее «силой», главенствующей в мире и правящей им. Мрак вокруг этого вопроса, по словам Толстого, еще более сгущают политические теоретики, моралисты, метафизики. Знаменита, например, идея «Общественного договора» (многие либералы торгуют ею вразнос), гласящая о совокупной воле многих (иначе говоря, власти), вручаемой и вверяемой одному человеку, либо собранию людей — но что это за действие: «вручать и вверять»? Оно может обладать значением правовым или этическим, относиться к понятиям дозволенного или запретного, к области прав и обязанностей, добра и зла; но фактического объяснения тому, каким образом правитель приобретает — словно товар! — достаточную «власть», позволяющую достигать известных целей, отнюдь не дает. Историки говорят: наделенный властью становится властелином; но сия тавтология слишком невнятна. Что значит «власть», и как ею «наделяют»? И кто наделяет ею? И что происходит при этом?[79] Процесс, по-видимому, весьма отличается от чего угодно, исследуемого естествознанием. Наделение властью, вручение власти — действие, но действие непостижимое: вручение власти, приобретение власти, использование власти вовсе не сходны с поглощением пищи, откупориванием бутылки, размышлением, хождением. Мы по-прежнему остаемся в потемках: obscurum per obscurius[80].
Уничтожив правоведов, моралистов и политических философов — а среди них и своего любимого Руссо, — Толстой берется уничтожить либеральную историческую теорию, утверждающую: что угодно может перемениться в зависимости от непримечательного внешне, случайного события. Так возникли страницы, где Толстой упрямо старается доказать: Наполеон ведал об истинном ходе Бородинской битвы ничуть не больше распоследнего из французских солдат, а посему и простуда императорская, приключившаяся накануне сражения — историки любят всячески раздувать это обстоятельство, — не играла сколько-нибудь заметной роли. С великой настойчивостью Толстой твердит: потомкам (а уж историкам — особенно) кажутся многозначительными лишь те приказы и распоряжения, последствия которых случайно совпали с ходом дальнейших военных действий; а великое множество иных, столь же блистательных приказов и распоряжений, казавшихся не менее важными и значительными тем, кто отдавал их во время боя, преданы забвению: ибо из-за неблагоприятного поворота событий не были выполнены — да и не могли быть выполнены, — а посему выглядят ныне исторически незначащими.
Сокрушив героические взгляды на историю, Толстой с еще большей яростью громит обществоведение: научную социологию, заявляющую, будто раскрыла исторические законы, коих вообще обнаружить не могла, поскольку число причин, способных переменить ход любых событий, несметно и непостижимо. Нам ведомо чересчур мало фактов, и мы отбираем их наугад, согласно собственным субъективным склонностям. Нет сомнения: будь мы всеведущи — могли бы, подобно Лапласовскому идеальному наблюдателю, предугадывать устремление каждой капли из тех, что составляют исторический поток; но, разумеется, мы жалкие невежды, и области нашего знания исчезающе малы по сравнению с областями непознанного и (страстно утверждает Лев Толстой) вообще непознаваемого.
Свобода воли всего лишь иллюзия — правда, от нее не отмахнешься, но, по словам великих философов, она остается иллюзией, порожденной только неведением об истинных причинах творящегося вокруг. Чем больше нам известно насчет обстоятельств, сопутствовавших тому или иному случаю, чем большее время отделяет нас от свершившегося, тем труднее выгнать вон из головы мысль о его последствиях; чем крепче гнездится некий исторический факт в миропорядке, нами обитаемом, тем меньше способны мы вообразить себе вероятный ход дальнейших событий при любом ином первоначальном обороте дела. Нам кажется: ничего другого и быть не могло: полагать иначе означало бы разом расшатать едва ли не весь окружающий миропорядок. Чем теснее мы связываем действие с его контекстом, тем менее свободным, менее ответственным выглядит действующее лицо, тем менее склонны мы осуждать или просто порицать его. Да, мы вовеки не сумеем ни определить всех причин, управляющих движением бытия, ни соотнести все людские поступки с обстоятельствами, их вызывающими, — но из этого еще не следует, что действия произвольны: просто мы никогда не постигнем, как же именно были они предначертаны.
Основополагающий тезис Толстого — кое в чем он довольно сходен с теорией неизбежного «самообмана» буржуазии, выдвигавшейся толстовским современником, Карлом Марксом; только Маркс говорит лишь об одном общественном классе, а Толстой почти обо всем человечестве — утверждает: есть природный закон, определяющий людскую жизнь отнюдь не в меньшей степени, чем жизнь самой природы; но человек не смеет осознать и признать этот неумолимый процесс, и пытается считать его чередой происшествий, порождаемых свободным выбором, дабы возложить ответственность за поступки и события на лиц, коим человечество приписывает геройские добродетели или геройские пороки, — таких людей именуют «великими». Что значит «великие люди»? Это заурядные человеческие существа, невежественные и тщеславные до того, что берут на себя ответственность за жизнь общества, это личности, скорее готовые принять на себя вину за все жестокости, несправедливости и невзгоды, оправдываемые их «величием», нежели признать собственное ничтожество и бессилие среди космического потока, струящегося своим путем — независимо и от воли «великих людей», и от исповедуемых ими идеалов. Такова основная мысль толстовских страниц (написанных великолепно), где изложению действительного хода событий сопутствуют или рассказ о том, сколь неминуемо, несуразно и эгоцентрически толкуют происходящее люди, надмеваю- щиеся чувством собственной значительности, или чудесные строки, повествующие о ясных минутах озарения, когда истинный удел человеческий становится понятен героям, достаточно смиренным, чтобы ощутить собственное ничтожество и бессилие. В этом, среди прочего, и состоит назначение философских абзацев, где Толстой — еще яростнее, чем Спиноза, но с подобными же намерениями — срывает покровы с любых и всяких лженаук.
Имеется и особо яркое уподобление: всякий великий человек подобен барану, коего пастух особо и заботливо откармливает, — ибо впоследствии «именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо»[81]. Поскольку баран исправно жиреет — а возможно, и оттого, что вдобавок носит бубенчик и до поры до времени шагает во главе отары, — он легко способен вообразить себя избранным вожаком, вождем стада, счесть, будто прочие овцы движутся в известном направлении лишь подчиняясь его бараньей воле. Так баран полагает сам, и не исключено: так же полагает и стадо. Но ведь он избран и отмечен отнюдь не ради того, чтобы исполнять роль, которую сам себе приписывает, но ради грядущего убоя — цели, преследуемой существами, чьих намерений не постичь ни барану, ни остальным овцам. Наполеон для Толстого — точно такой же баран; и Александр, до известной степени, тоже — равно как и все без исключения великие исторические личности. И впрямь, один проницательный литературовед[82] указывает: иногда Толстой чуть ли не пренебрегает историческими свидетельствами, а зачастую преднамеренно искажает факты — дабы подкрепить свой излюбленный тезис.
Одно из ярких тому свидетельств — образ Кутузова. Пьер Безухов, например, или Платон Каратаев — герои вымышленные, и Толстой имел неотъемлемое право наделять их всеми чертами, восхищавшими авторскую душу: и смирением, и свободой от бюрократической, научной либо иной другой рационалистической слепоты. Но Кутузов — лицо историческое; тем поучительнее проследить шаги, посредством коих автор преображает лукавого, стареющего, слабого сластолюбца, придворного лихоимца и чуть ли не лизоблюда из ранних набросков «Войны и мира» (Толстой опирался на достоверные источники) в незабываемое олицетворение русского народа — во всей простоте его, и всей природной мудрости. Дойдя до знаменитого эпизода — одного из наиболее трогательных во всемирной словесности, — где Толстой описывает, как будят Кутузова, стоящего лагерем в Лета- шевке, и сообщают ему, что французская армия отступает, мы уже успели позабыть обо всех исторических сведениях и обретаемся в мире воображаемом, в исторической и эмоциональной атмосфере, не оправданной чьими-либо свидетельствами, почти полностью придуманной, однако во имя общего замысла необходимой Толстому. А завершающий апофеоз Кутузова начисто антиисторичен, вопреки неустанным заверениям Толстого о неколебимой приверженности святому делу истины.
В «Войне и мире» Толстой обращается с фактами по усмотрению, высокомерно и бесцеремонно, ибо им всецело властвует стремление разделить и противопоставить первостепенно важный и все же обманчивый всечеловеческий опыт: понятие свободной воли, чувство ответственности и частную повседневную жизнь — действительному бытию: неумолимому историческому детерминизму—непосредственно, разумеется, не ощущаемому нами, однако осознаваемому как истина благодаря неопровержимым теоретическим построениям. Это, в свой черед, ведет к мучительному внутреннему разладу— многостороннему для самого Толстого, — разладу меж двумя системами ценностей: общественной и частной. С одной стороны, если переживания и непосредственный опыт, на коих, в конечном счете, зиждутся житейские ценности, признаваемые всеми, включая историков, суть не более, нежели огромные заблуждения, то во имя истины, об этом следует объявлять безжалостно и во всеуслышание; а ценности и толкования, порождаемые упомянутыми заблуждениями, должно обличать и развенчивать. В известном смысле, Толстой пытается это проделать — особенно философствуя, как на страницах, являющих читателю исполинские сцены общественного бытия или батальные картины, посвященные передвижению народов или метафизическим рассуждениям. Но, с другой стороны, Толстой занимается и совершенно обратным, противопоставляя панорамному виду общественной жизни куда большую ценность личного опыта, противополагая конкретную и многоцветную действительность частного людского существования блеклым абстракциям, предлагаемым учеными либо историками — особенно последними, «от Гиб [б] она до Бокля»[83], коих он столь сурово развенчивает: оба принимали собственные пустые понятия за действительные факты. И все же, первенством частного опыта, людских отношений и добродетелей обусловливаются те взгляды на жизнь, то ощущение личной ответственности, та вера в свободу и возможность непроизвольного действия, которым посвящены лучшие страницы «Войны и мира» и которые суть именно те заблуждения, что следует искоренить, дабы стать лицом к лицу с истиной.
Ужасающую сию дилемму вовеки не решить окончательно. Случалось, Толстой колебался — например, истолковывая свои намерения в работе, опубликованной прежде, нежели заключительная часть «Войны и мира» вышла в свет[84]. Человек в некотором смысле свободен «совершить действие или воздержаться от него, как скоро действие это касается [его] одного...» Он способен «по одной своей воле» поднять и опустить руку. Но личность, взаимодействующая с Другими, уже не свободна и вливается в общий безудержный поток. Свобода реальна, однако ограничивается рамками заурядных поступков. Временами гаснет и этот слабый лучик надежды, ибо Лев Толстой объявляет, что нельзя признать и малейших исключений из вселенского закона: или каузальный детерминизм властвует всецело, или его не существует вообще, и царствует хаос. Человеческие поступки могут выглядеть независимыми от связей человека с обществом, и все же они отнюдь не свободны, они — составная часть общественного бытия. Наука не в силах уничтожить ощущение свободы, без коего нет ни нравственности, ни искусства, но способна его отрицать. «Власть» и «случайность» — лишь названия, порожденные невежеством касаемо причин и следствий, но ведь причины и следствия существуют независимо от того, чувствуем мы их наличие или нет. По счастью —нет; ибо ощущай мы это бремя, едва ли возможно было бы действовать вообще; с утратой иллюзии остановилась бы жизнь, текущая только благодаря нашему блаженному неведению. Но жизнь течет по-прежнему: нам вовеки не обнаружить всех причинно-следственных цепочек, заправляющих миропорядком; число причин бесконечно велико; сами причины исчезающе малы, а историки отбирают несуразно малое их количество и приписывают все на свете произвольно выбранным причинным крохам. Как поступала бы идеальная историческая наука? Применяла бы исчисление, посредством коего эти «дифференциалы» — величины, стремящиеся к нулю, исчезающе малые человеческие и не-человеческие действия и поступки — интегрировались бы; таким образом, исторический континуум больше не искажался бы дроблением на случайные, произвольные сегменты[85]. Толстой излагает способ исчисления «бесконечно-малыми единицами» с предельной ясностью, привычно используя простые, живые, точные слова. Анри Бергсон, составивший себе имя теорией действительности как потока, искусственно дробимого естественными науками, а посему искажаемого, лишаемого и непрерывности, и жизненности, развивал очень сходную мысль и несравненно дольше, и запутаннее, и неправдоподобнее — да еще и без нужды жонглировал учеными терминами.
Это не мистический и не интуитивистский взгляд на жизнь. Наше неведение о ходе бытия коренится не в изначальной непостижимости первопричин, а лишь в их множественности, в крохотности мельчайших единиц, в нашей собственной неспособности разглядеть, услышать, запомнить, отметить и сопоставить достаточное количество имеющихся данных. В принципе, всеведение доступно даже эмпирическим существам — а вот на практике недостижимо для них. Лишь это — и ничто иное, более глубокое либо интересное, — источник людской мании величия, всего нашего безумного самообмана. Коль скоро в действительности мы лишены свободы, а жить не можем без убеждения, что свободны, — как же быть? Толстой приходит не к ясным выводам, а только к точке зрения, отчасти подобной взглядам Берка: лучше признать, что происходящее в окружающей жизни мы разумеем лишь по мере наших скромных сил, подобно прочим, обычным людям — простым и бесхитростным, не испорченным теориями, не ослепленным пылью, что вздымают именитые ученые мужи, — нежели представления, продиктованные здравым смыслом, а вдобавок еще и проверенные долгим опытом, отвергать ради лже-наук, воздвигнутых на песке никчемнейших данных, способных лишь заманивать и вводить в заблуждение. Таково отношение Толстого ко всем разновидностям оптимистического рационализма, к естественным наукам, либеральным теориям прогресса, германскому военному гелертерству, французской социологии — к любому и всякому самоуверенному и безоглядному помы- канию обществом. Вот почему Толстой изобрел Кутузова, руководившегося простым, русским, естественным чутьем, презиравшего и не замечавшего германских, французских и итальянских военных, — изобрел и возвел в достоинство народного героя, каковой титул Кутузов, отчасти благодаря своему литературному портрету, написанному Толстым, сохраняет поныне.
В 1868 году, едва лишь напечатали заключительную часть «Войны и мира», Ахшарумов заметил: герои Толстого — действующие лица, а не простые пешки в руках неведомой судьбы[86], авторская же теория хоть и остроумна, да негодна. Это стало общим суждением и русских, и большинства зарубежных критиков. Русская левая интеллигенция набросилась на Толстого за «равнодушие к народу», за пренебрежительный отзыв обо всех «благих» общественных порывах как о смеси невежества с навязчивой и глупой идеей, за аристократический цинизм, с коим Толстой именует жизнь топким болотом, не подлежащим осушению; Флобер и Тургенев (мы уже видели это) полагали, будто склонность философствовать — своего рода литературная беда; единственным критиком, принявшим толстовскую доктрину всерьез и пытавшимся возразить разумно, стал историк Кареев[87]. Терпеливо и мягко он указывал: весьма и весьма любопытно существованию общественного муравейника противопоставить частную, истинную жизнь, да все же Толстой делает из этого нежданные, произвольные выводы.
Верно: человек есть и мыслящий атом, ведущий собственную сознательную жизнь «для себя», и в то же время — бессознательное действующее лицо некоего исторического движения: сравнительно ничтожная частица огромного целого, включающего в себя чрезвычайно большое число подобных же частиц. «Война и мир», пишет Кареев, есть историческая поэма на философскую тему о двойственности человеческого бытия[88] — и Толстой совершенно прав, утверждая, что историю вершат не сочетания столь туманных понятий, как «власть» или «умственная деятельность», используемых простодушными историками; по мнению Кареева, лучше всего
Толстому удается опровержение присущей метафизически настроенным авторам склонности приписывать желаемые следствия наличествовавших причин таким абстрактным — либо идеализируемым — сущностям, как «герои», «исторические силы», «нравственные силы», «национализм», «рассудок» и т. д.; в итоге пишущий совершает сразу два смертных греха: изобретает несуществующие понятия, дабы их посредством пояснить действительные события, — и дает полную волю собственным, или национальным, или классовым, или метафизическим предпочтениям.
Пока что не посетуешь. Прямо говорится: Толстой обнаружил булыиую проницательность — «больший реализм», — нежели большинство историков. Был он прав и требуя «интегрировать бесконечно-малые единицы истории». Сам Толстой сделал именно это, создавая героев и персонажей своей эпопеи, незаурядных именно до той степени, до коей, согласно своим характерам и поступкам, они «вбирают» в себя несметных прочих — тех многих, кто совокупными силами «двигают историю». Это и есть интегрирование бесконечно-малых единиц — разумеется, не научными, но «художественно- психологическими» средствами.
Прав был Толстой, шарахавшийся от абстракций, да отвращение завело его чересчур далеко: в итоге Толстой уже отрицал не только то, что история относится к естественным наукам — подобно, скажем, химии (впрочем, тут он рассуждал верно), — а то, что история вообще является наукой, определенным родом деятельности, которому свойственны собственные понятия и обобщения; а будь оно так и впрямь — любым и всяким историческим исследованиям пришел бы конец.
Прав был Толстой, говоривший: безликие «силы» и «цели», о которых писали прежние историки, всего лишь мифы — и опасно обманчивые мифы; но, задавшись вопросом: что же понудило некое сообщество личностей (а в конечном счете, разумеется, лишь они одни реальны) вести себя тем или иным образом? — то, будучи вынуждены предварительно анализировать психику всякого отдельно взятого члена этого сообщества, дабы затем «интегрировать» полученные итоги, мы вообще утратили бы возможность рассуждать об истории либо обществе. Однако именно так мы принялись поступать — и не без пользы; по мнению Кареева, отрицать, что социальные наблюдения, исторические предположения, основывающиеся на фактах, и тому подобные исследовательские приемы приводят ко множеству открытий, означало бы отрицать наличие критериев, дозволяющих отличать исторические истины от заблуждений — критериев менее или более надежных, — а уж это явилось бы чистейшим предрассудком, махровым обскурантизмом.
Кареев утверждает: несомненно, общественные формы создаются людьми, но эти же формы — образ человеческой жизни — в свой черед влияют на родившихся в очерченных ими рамках; отдельная воля может не выступать всевластной, однако она отнюдь не вполне бессильна, — и есть воли, превосходящие своей действенной силой другие. Наполеон, вероятно, не полубог — но и не простой эпифеномен процесса, что шел бы тем же точно путем и без его участия; «значительные люди» менее значительны, чем полагают они сами либо недалекие историки, — но эти люди и не простые тени: помимо частной жизни, кажущейся Толстому единственно важной, у них есть и общественные задачи, а кое у кого еще имеется и сильная воля, дозволяющая иногда преображать жизнь целого общества.
Представление Толстого о неумолимых законах, действующих неотвратимо вне зависимости от людских помыслов или желаний, само по себе является гнетущим мифом; законы суть лишь статистические вероятности (по крайней мере, в науках общественных), а отнюдь не жуткие, неумолимые «силы» — понятие, говорит Кареев, которое сам Толстой называл непроницаемо темным в иных случаях и по иным поводам, если оппонент выглядел чересчур простодушным, или слишком хитроумным, или обретался под влиянием нелепой, надуманной метафизики.
Но уверять, будто люди (если они отнюдь не творцы истории) — лишь «ярлыки» (особенно «великие люди»), поелику история творит себя сама; будто лишь бессознательное существование общественного улья, человеческого муравейника обладает истинным значением, ценностью и «реальностью» — что же это, коль скоро не этический скептицизм, отрицающий историю и утверждающий догму? С какой стати нам его принимать, если эмпирические свидетельства и опыт указывают в иную сторону?
Встречные кареевские доводы весьма разумны — перед нами самая здравая и ясно высказанная изо всех отповедей на исторические утверждения Толстого. Но все же, в известном смысле Кареев недоглядел. Толстой отнюдь не только затем вскрывал и выставлял напоказ ошибки историков, опиравшихся на те или другие метафизические схемы, либо старавшихся объяснить слишком уж многое, исходя из одного- единственного элемента истории, особо дорогого автору (тут Кареев с Толстым согласен вполне), — и не только затем отрицал саму возможность обществоведения, то есть эмпирической науки социологии (тут Кареев считает суждение Толстого опрометчивым), чтобы построить какую-нибудь собственную теорию-соперницу. У толстовского интереса к истории гораздо более глубокие истоки, нежели отвлеченное любопытство к методам, применяющимся историками, нежели стремление философски возразить против определенных приемов и способов исторического исследования.
Похоже, интерес коренится в чем-то более личном: в горьком внутреннем противоречии меж накопленным жизненным опытом — и убеждениями; меж воззрениями на жизнь — и теоретическими представлениями о том, каковыми надлежит стать и жизни, и ему самому, Льву Толстому, дабы подобные воззрения были выносимы вообще; меж непосредственно получаемыми извне сведениями, коих Толстой, будучи слишком честен и слишком разумен, оставлять незамеченными не смел, — и потребностью истолковать их таким образом, чтобы не вернуться к детским несуразностям всех предшествовавших взглядов.
Ибо наиглавнейшее убеждение, которое темперамент и ум понуждали Толстого свято сохранять всю жизнь, гласило: все предыдущие попытки создать рациональную теодицею — пояснить, как и отчего то, что случилось, случилось именно так и тогда; и почему лучше или хуже было этому случиться, или не случиться вообще, — все подобные поползновения были несуразной бессмыслицей, низкопробным надувательством, и достало бы одного резкого, правдивого слова, дабы их развеять.
Русский литературовед Борис Эйхенбаум, написавший наилучшую из критических работ о Толстом, существующих на любых языках, развивает в ней следующий тезис: тяжелее всего пригнетал Толстого недостаток положительных убеждений; а знаменитое место в «Анне Карениной», где брат Левина заявляет, что у него—у Левина то есть—положительной веры нет, и даже коммунизм, обладающий искусственной «геометрической» симметрией, предпочтительнее беспросветного скепсиса, присущего Левину и ему подобным, — это знаменитое место повествует о самом Льве Николаевиче, подвергавшемся таким же нападкам со стороны брата, Николая Николаевича[89]. То ли буквально этот эпизод автобиографичен, то ли нет — а почти все, написанное Толстым, в разной степени автобиографично, — а предположение Эйхенбаума выглядит, в общем, резонным. По природе Толстой не был ясновидцем; многочисленные земные предметы и положения представали ему во всем разнообразии: он схватывал отдельную суть каждого и понимал ее отличие от сути остальных с отчетливостью совершенно исключительной. Любая утешительная теория, пытавшаяся слить воедино, сопоставить, «синтезировать», обнаружить скрытую подоплеку и тайные внутренние связи, недоступные невооруженному глазу, но, тем не менее, обеспечивавшие всеобщее единство явлений и предметов — тот факт, что составные части миропорядка, в конечном счете, срастаются друг с другом накрепко, — этот идеал неделимого целого, да и прочие подобные учения, Толстой без труда и не без презрения разносил в пух и прах. Гений Толстого умел воспринимать особенности неповторимые — почти не поддающиеся определению свойства, делавшие данный предмет единственным в своем роде, отличным от всех остальных. Тем не менее Толстой жаждал универсального принципа, объясняющего все — то есть обнаруживающего сходство или родство, либо единое назначение, либо неделимость внешне кажущегося разнообразным — взаимно исключающих друг друга предметов и происшествий, той всевозможной всячины, из коей слагается мироздание[90]. Подобно всем очень проницательным аналитикам, обладающим очень живым воображением и очень зорким взглядом, — аналитикам, прилежно рассекающим или дробящим в порошок, дабы добраться до неистребимого стержня или ядра, и оправдывающим сию разрушительную работу (воздержаться от коей они все равно бессильны) убежденным утверждением, что искомые стержень либо ядро наличествуют и впрямь, Лев Толстой продолжал хладнокровно и презрительно сокрушать хлипкие построения своих соперников как недостойные разумных людей, упорно уповая на то, что отчаянно искомое «истинное» единство вскоре объявится — всего-то сперва и нужно разгромить шарлатанов и мошенников: хилую рать историков, философствовавших в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях. И чем назойливее тревожило Толстого подозрение, что, возможно, самоотверженные поиски напрасны, что ни ядра, ни стержня, ни общего объединяющего принципа не сыскать вовеки, тем яростнее гнал эту мысль прочь — посредством все более изощренных и беспощадных литературно-философских расправ над новыми и новыми самозванцами, когда-либо притязавшими на владение истиной. Когда Толстой удалился от литературных трудов и посвятил свое время сочинениям полемическим, упомянутая склонность окрепла, ибо на задворках сознания скреблась раздраженная мысль: никакого окончательного решения не сыщется вовеки, поскольку его нет,—и Толстой с обновленной яростью накинулся на ложные учения, сулившие душевный покой, но, согласно Толстому, оскорблявшие человеческий ум1. Чисто умственный гений Толстого по части подобных убийственных действий был чрезвычайно велик, исключителен; всю свою жизнь Толстой искал твердыни, способной устоять перед его осадными орудиями, подкопами, стенобитными таранами; писатель мечтал остановиться перед несокрушимым препятствием, желал, чтобы яростно выпускаемые толстовские снаряды оказались бессильны против неприступных укреплений. Выдающаяся рассудительность и учтивые методы Кареева, мягкость его академических увещаний слишком уж отличались от последнего, непроницаемого, нетленного и неколебимого каменного ложа истины, на коем лишь и возможно было бы строить надежное истолкование бытия — то самое, что Лев Толстой желал обрести всю жизнь.
Бледное «положительное» учение об исторических переменах, излагаемое в романе «Война и мир», — лишь его и принесли Толстому долгие и отчаянные поиски; а поскольку оборонительное толстовское оружие было неизмеримо слабее наступательного, то историческая философия Толстого — теория «бесконечно-малых единиц», подлежащих «интегрированию», — неизменно кажется неестественной и жидкой среднему читателю романа, человеку сдержанно критикующему и умеренно чуткому. Посему большинство писавших о «Войне и мире» — и сразу после того, как эпопея вышла из печати, и в последующие годы — склонны разделять мнение Ахшарумова: мол, гений Толстого — гений писателя, созидателя вселенной, более живой, нежели сама жизнь; а теоретические умствования — пускай даже сам автор и числил их наиважнейшими составными частями книги, — по сути, не проливают добавочного света ни на природу и ценность самого произведения, ни на творческий процесс, его породивший. Это началось еще прежде, нежели появились критики- психологи, утверждающие, будто автор зачастую и не знает об источниках собственного творчества, будто движущие пружины гениальности ему неведомы; будто процесс литературного труда в изрядной степени подсознателен, а цель, якобы намеренно поставленная писателем перед собою, — всего-навсего обработанные его рассудком, но едва ли сколько-нибудь осознававшиеся мотивы и методы, сопряженные с творческим актом, и, как следствие, разговоры о задачах и целях зачастую просто вводят в заблуждение людей, беспристрастно изучающих искусство и литературу, особо пристальное внимание уделяя «научному» — то есть натуралистическому — анализу их истоков и развития.
Что ни думай насчет общей верности подобных суждений, а в эдаком подходе к Толстому наличествует некая историческая ирония — ибо едва ли не точно так же трактовал он академически строгих историков, насмехаясь над ними чисто по-вольтеровски. И, пожалуй, крепко сказывается высшая справедливость: видимо, в собственных философствованиях Толстого неравное соотношение критических и конструктивных сторон обусловлено тем, что толстовское ощущение действительности (то есть действительности, воплощаемой лишь отдельными людьми да взаимными их отношениями) помогало писателю разносить вдребезги все крупные теории, этому ощущению чуждые, — но само по себе не оказывалось надежным настолько, чтобы опираться на него, создавая летописи более удовлетворительные. И нет оснований полагать, будто сам Лев Толстой когда-либо задумывался о том, что здесь-то и таился корень «двойственности», неспособности примирить и свести воедино две раздельные жизни, коими живет человек.
Неразрешенное противоречие меж толстовским убеждением, будто действительны только частные стороны людской жизни, и толстовским же учением, гласившим: недостаточно анализировать лишь их, дабы пояснить ход истории (то есть поведения обществ и народов), идет рука об руку, на уровне более глубоком и личном, с противоречием меж толстовскими дарованиями — писательскими и человеческими — и толстовскими идеалами: тем, чем он время от времени полагал себя самого, и тем, во что он всегда и неизменно верил, чем всегда и неизменно стремился стать.
Дозволим себе снова припомнить наше деление художников на лисов и ежей: Толстой воспринимал действительность в ее разнообразии — собранием отдельных сущностей, которое он обозревал всесторонне и в которое проникал взором яснее и глубже чуть ли не кого бы то ни было иного; но верил он лишь в некое неделимое исполинское целое. Ни единый из когда-либо живших авторов не обладал столь мощным разумением жизненной многогранности — различий, противоречий, столкновений меж людьми, предметами, обстоятельствами, причем каждая сущность представляется как начисто неповторимая, запечатлевается с образной прямотой и точностью, не встречающимися у прочих писателей нигде. Никому еще не удавалось превзойти Толстого, описывая некий особый вкус или все оттенки некоего ощущения — степени его «колебаний», приливы и отливы, мельчайшие перемены (Тургенев это высмеял, сочтя всего лишь толстовским «фокусом»); внутренние и внешние качества и «осязаемость» взгляда, мысли, обжигающего чувства — равно как и особых обстоятельств, и целого исторического периода, частной жизни отдельных лиц, семейств, общин, целых народов.
Знаменитые жизненность и достоверность каждого предмета и каждого человека в мире, возникшем под толстовским пером, порождены этим поразительным умением представлять каждую частицу миропорядка во всей ее отдельно взятой сути, во всей ее многомерной полноте; и никогда как простую единицу, пускай даже сколь угодно яркую, обладающую неким потоком сознания, — и все же лишь единицу, чьи грани сглажены, очертания расплывчаты: простую тень, фигуру, набросанную импрессионистом, не зовущую читательский ум к размышлениям и не зависящую от них; Толстой неизменно пишет вещественный предмет, зримый одновременно издалека и вблизи, при естественном и неизменном дневном свете, под любыми возможными углами зрения; предстающую в совершенно определенном временном и пространственном контексте: нечто, в полном объеме и всесторонне предъявляемое чувствам или воображению — с чеканной резкостью каждой мелкой черты.
Но вот верил Толстой в совершенно противоположное. Он стоял за цельный всеохватывающий взгляд; он проповедовал не разнообразие, но простоту; не умножение уровней сознания, а сведение их к некоему единственному уровню: в «Войне и мире» — к уровню, присущему человеку добропорядочному, цельной, непосредственной, открытой душе; а позднее — к уровню мужицкого мировосприятия, или упрощенной христианской этики, оторванной от богословских или метафизических сложностей; к некоему простейшему, квази-утилитарному критерию, который недвусмысленно связует и сплетает все на свете, дабы все можно было взаимно сопоставлять и мерить на один простой аршин. Гений Толстого заключается в умении с восхитительной точностью воспроизводить не поддающееся воспроизведению, в почти чудотворной способности вызывать и сполна воплощать непередаваемые особенности каждого отдельно взятого лица, предмета либо явления — и мы не просто читаем их описание, но остро ощущаем их присутствие; для того Толстой и пользуется метафорами, впитывающими природу и свойства отдельных переживаний как таковых, для того и избегает он общих слов, соотносящих описываемое с прочим подобным, а частные отличия — «колебания» ощущений — оставляющих незаметными, дабы выделить черты, присущие всем и вся. Но этот же писатель отстаивает — нет, весьма яростно проповедует! — особенно в завершающей, религиозной фазе развития своего — прямо обратное: необходимость искоренить все, не укладывающееся в некие очень общие, очень простые рамки, в то, что нравится либо не нравится мужикам, или в то, что Евангелие провозглашает добром.
Это вопиющее противоречие меж данными опыта, от которых Толстой не мог отказаться и которые всю жизнь, конечно же, полагал единственно верными, — и его глубоко метафизической верой в существование системы, к коей они должны относиться, явно или скрыто; это столкновение инстинктивных суждений с теоретическими убеждениями — то есть литературного дарования с философскими взглядами — отражает неразрешенный Толстым конфликт между реальностью нравственной жизни, с присущим ей чувством ответственности либо вины, с ее радостями, печалями, достижениями — но увы, все это лишь иллюзии, — между нею и законами, что безраздельно правят мирозданием: если даже нам известна лишь исчезающе малая их часть, и если все ученые либо историки, заявляющие, будто постигли эти законы и следуют им, суть обманщики и лжецы, — увы, лишь эти законы и суть реальность. Рядом с Толстым и Гоголь, и Достоевский, чьей душевной неуравновешенности очень уж часто противопоставляют толстовское «здравомыслие», выглядят личностями вполне цельными, связно рассуждающими, а на мир глядящими открыто и прямо. Но именно из бурных толстовских противоречий выросла эпопея «Война и мир»; ее восхитительная, блистательная стройность не должна ослеплять нас: глубокая пропасть разверзается всякий раз, когда Лев Толстой припоминает — верней сказать, напоминает себе — или не успевает позабыть — о том, что делает и ради чего.
IV
Теории очень редко вырастают из пустынной почвы. Поэтому вопрос о корнях толстовских исторических воззрений вполне уместен. На всем, написанном Толстым по историческим поводам, остался оттиск самобытной авторской личности — драгоценное свойство, в коем отказано большинству пишущих на отвлеченные темы. Толстой писал о вопросах исторических как любитель, а не знаток-специалист, но припомним: он принадлежал к миру великих свершений, к правящему классу родины своей и эпохи своей — и ту, и другую Толстой знал и понимал превосходно; обитал он в среде, густо насыщенной идеями и теориями; работая над «Войной и миром», изучил горы источников (хотя, как доказали несколько русских литературоведов[91], меньшие, нежели полагают обычно); Толстой немало путешествовал и встречался со многими выдающимися людьми тогдашних Германии и Франции.
Ни широкая начитанность Льва Толстого, ни влияние, оказанное на него прочитанным, не вызывают сомнений. Всем ведомо: Толстой был очень многим обязан Руссо, именно у него — пожалуй, ничуть не меньше, нежели у Дидро и деятелей французского Просвещения, — переняв аналитический, антиисторический подход к общественным вопросам; в частности, стремление рассматривать их через призму неизменных и вечных понятий — логических, нравственных и метафизических, а не доискиваться их сути, как советовала германская историческая школа, используя категории развития и приспособления к изменяющейся исторической среде. Толстой оставался почитателем Руссо, и даже на склоне лет называл «Эмиля» наилучшей из когда-либо написанных книг о воспитании[92]. Видимо, Руссо и упрочил — если вообще не породил — в Толстом склонность все больше идеализировать почву и земледельца: простого крестьянина, ставшего, с толстовской точки зрения, чуть ли не столь же обширным вместилищем «естественных» добродетелей, сколь и «благородный дикарь», восхваляемый Руссо. По всему судя, Руссо изрядно укрепил в Толстом кондового, грубого мужика — глядящего с недоверием и неприязнью на богатых, могущественных — и просто-напросто счастливых; склонного к твердокаменному благонравию — и вспышкам истинного вандализма, к случайным взрывам слепой, истинно русской злобы по поводу западной изысканности и утонченности, — а заодно и к тому безудержному восхвалению «добродетелей» и простых вкусов, «здоровой» и беспорочной жизни, воинствующего, анти-либерального варварства, что составляло отдельный, особый вклад, внесенный Жан-Жаком Руссо в кубышку якобинских идей. Вероятно, сказывается воздействие Руссо и в славословиях, которые Толстой расточал семейной жизни, и в толстовских утверждениях, что сердце превыше головы, что нравственные достоинства ценнее умственных или эстетических. Это уже подмечалось; это и верно, и поучительно — да только не имеет касательства к толстовской исторической теории: чересчур мало следов чего-либо ей подобного сыщется в трудах Руссо, глубоко чуждого историческим изысканиям. И впрямь: везде, где Руссо пытается вывести право отдельных людей властвовать остальными, исходя из теории наделения властью, изложенной в «Общественном договоре», Толстой презрительно отметает сказанное французом.
Мы несколько приблизимся к истине, вспомнив, что на Толстого влияли его современники славянофилы — романтики и консерваторы. С некоторыми из них — особенно Погодиным и Самариным — Толстой был близок, и в середине 1860-х годов, работая над «Войной и миром», безусловно, разделял их враждебность тогдашним расхожим ученым теориям — и метафизическому позитивизму Огюста Конта и его последователей, и более материалистическим воззрениям Чернышевского и Писарева; доктринам Бокля, Милля и Герберта Спенсера — вообще к британской эмпирической традиции, разбавленной французским и германским научным материализмом, приверженцами коей были, на различные лады, все эти весьма различные люди. Славянофилы (особенно, по-видимому, Тютчев, чьи стихи столь глубоко восхищали Толстого), кажется, сумели развенчать в его глазах исторические теории, бравшие пример с естествознания — а уж его-то Лев Толстой, ничуть не меньше, чем Достоевский, числил неспособным вразумительно разъяснить, чем занимаются люди и ради чего страдают. Естествознание было никчемно хотя бы потому, что напрочь не замечало «внутреннего», духовного опыта, считая человека лишь одушевленным предметом, которым играют силы, властвующие всеми прочими составными частями и частицами материального мира; ловя французских энциклопедистов на буквально понятом слове, естествознание пыталось изучать поведение людского общества способами, коими изучают муравейник либо улей — а потом сетовало: дескать, выведенными из наблюдений законами не объяснишь поведения живых мужчин и женщин.
Кроме того, славянофилы, романтические поклонники средневековья, возможно, укрепили природный толстовский анти-интеллектуализм и анти-либерализм — наравне с глубоко скептическим и пессимистическим взглядом на могущество иррациональных побуждений, движущих людскими поступками, одновременно властвующих человеческим существом и вводящих его в самообман: короче сказать, врожденный консерватизм убеждений, очень рано сделавший Толстого глубоко подозрительным для радикальной русской интеллигенции 1850-х и 1860-х годов, начавшей раздраженно рассматривать его как всего лишь графа, армейского служаку и реакционера, чуждого их среде, по-настоящему вообще не просвещенного и не revoke[93] — невзирая на самые дерзкие толстовские обличения тогдашней политической системы, на ереси Толстого, на его сокрушительный нигилизм.
Но, хотя и Толстой, и славянофилы боролись против общего врага, их положительные воззрения резко различались. Славянофилы вывели свое учение главным образом из германского идеализма (хотя и расточали неискренние похвалы Гегелю и его толкователям) — в частности, из шел- лингианского утверждения, что истинное знание добывается посредством не рассудка, но некоего самоотождествления с центральным принципом вселенной — душой миропорядка; здесь речь идет о самоотождествлении, свойственном художнику или мыслителю в минуты божественного вдохновения. Некоторые славянофилы видели в этом наитие свыше, родственное откровениям православной веры, мистическим традициям Русской Православной Церкви, — и свои взгляды они завещали русским поэтам-символистам и философам последующего поколения. От всего этого Толстой отстоял далеко — на другом полюсе. Он верил: всякое знание добывается лишь посредством прилежного эмпирического наблюдения, и такое знание всегда неполно и несовершенно; простые люди зачастую ведают истину лучше образованных: правда, лишь оттого, что глаза, коими они глядят на себе подобных и природу, не застланы туманом пустых теорий, а вовсе не оттого, что эти люди суть боговдохновенны. Все написанное Толстым настолько пропитано едким здравым смыслом, что разом развеивает метафизические фантазии и своевольные стремления к эзотерическому опыту, к поэтическим или богословским толкованиям жизни, служившим сердцевиной славянофильского мировоззрения, заставлявшим славянофилов (подобно западным романтикам, ополчавшимся на фабричную промышленность) и ненавидеть повседневную политику и экономику, и исповедовать мистический национализм. Кроме того, славянофилы преклонялись перед историческим методом, числили его единственно способным раскрыть истинную природу — проявляющуюся лишь по мере неощутимого ее развития во времени — как отдельных учреждений, так и фундаментальных наук.
Ни на что из этого нельзя было ждать сочувственного отклика от крайне трезвомыслящего, крайне приземленного
Льва Толстого — особенно Толстого-реалиста, вошедшего в зрелый возраст; если крестьянин Платон Каратаев имеет нечто общее с добрыми поселянами, любезными славянофильским (и вообще панславинистским) идеологам — простая деревенская мудрость противопоставляется бессмыслицам велемудрого Запада, — то Пьера Безухова из ранних набросков «Войны и мира», кончающего земные дни как сосланный в Сибирь декабрист, и вообразить себе нельзя сыскавшим после всех духовных метаний и поисков последний приют и утешение в некоей метафизической системе взглядов — и уж тем паче в лоне Церкви, православной или иной. Славянофилы насквозь видели пустое самодовольство западных наук, общественных и психологических; это было Толстому по вкусу; а вот положительное славянофильское учение оказалось ему нелюбопытно. Толстой отрицал непроницаемые тайны, отрицал туманы давности, отрицал всякую попытку изъясняться тарабарщиной: страницы «Войны и мира», ядовито повествующие о масонах, весьма характерны — и эти взгляды Толстой сохранил на всю жизнь. Эти взгляды только укрепились интересом к сочинениям Прудона, коего Толстой, когда тот жил изгнанником, посетил в 1861 году; смутный иррационализм и пуританство Прудона, его ненависть ко власть имущим и к буржуазным интеллигентам, его руссоизм и общая резкость высказываний явно понравились Толстому. Более нежели вероятно: заглавием толстовской эпопеи повторяется заглавие La Guerre et la paixxy опубликованной Прудо- ном в том же году.
Если классические германские идеалисты не влияли на Толстого прямо, то по крайности одним германским философом он восхищался. И вовсе нетрудно понять, почему он счел Шопенгауэра привлекательным: этот мудрец- отшельник рисовал унылую картину немощной человеческой воли, отчаянно бьющейся о незыблемые вселенские законы, повествовал о тщете всех страстей человеческих, о бессмысленности рассудочных философских систем, о поголовной неспособности постичь иррациональные силы, движущие чувствами и поступками, о страданиях, которым подвержена всяческая плоть — и которые делают желательным полнейший квиетизм, полнейшее душевное спокойствие, дозволяющее уменьшить уязвимость людскую, поскольку, отрешившись от страстей, человек уже не станет отчаиваться, не может оказаться унижен либо душевно ранен. Это прославленное учение отражало позднейшие взгляды самого Толстого: человек страдает, ибо требует чересчур многого, ибо неразумно честолюбив и безрассудно переоценивает свои способности. От Шопенгауэра же могла достаться Толстому и склонность резко подчеркивать противоречие меж иллюзией свободной воли человеческой и действительностью железных законов, правящих мирозданием, — особенно повествуя о муках, неминуемо чинимых упомянутой иллюзией, поскольку рассеять ее нельзя.
В этом, и для Шопенгауэра и для Толстого, — наиглавнейшая трагедия жизни людской; о, если бы люди осознали, сколь мало подвластно даже самым разумным и самым одаренным из них, сколь мало им известно о множестве факторов, упорядоченное движение коих и есть мировая история, — и, прежде всего, поняли, сколь самонадеянно и глупо заявлять, будто различаешь некий вселенский порядок — лишь оттого, что настойчиво убеждаешь себя в его наличии; а ведь на самом деле нам виден только бессмысленный хаос — хаос, наивысшая форма коего, тот микрокосм, в котором ярче и сильнее всего отражается беспорядок человеческой жизни, есть война.
Известно: по литературной части больше всех Толстой задолжал Стендалю. В знаменитой беседе с Полем Буайе (1901) Толстой сказал: я особенно признателен Стендалю и Руссо — и прибавил: я узнал о войне все, читая «Пармскую обитель», описание битвы при Ватерлоо, где Фабрицио бродит по полю боя, «не понимая «ничего»». Далее Толстой сказал: в справедливости этих взглядов на войну — «без героического блеска», без «прикрас», — этих взглядов, изложенных впервые братом Николаем, я убедился на собственном опыте, участвуя в Крымской кампании[94]. Ничто в литературе не восхищает повоевавших, закаленных солдат больше, чем «Севастопольские рассказы», толстовские очерки о том, какими предстают сражения их непосредственным участникам.
Несомненно: своими непредубежденными взглядами Толстой во многом был обязан Стендалю, о чем заявлял честно. И все же, маячит за Стендалем иная фигура — еще непредубежденней, еще беспощадней: человек, от которого и сам Стендаль вполне мог (по крайней мере, отчасти) перенять свой новый метод истолкования общественной жизни; прославленный писатель, чьи работы наверняка были Толстому известны, кому Толстой задолжал больше, нежели принято думать: потрясающее сходство между взглядами обоих немыслимо приписать ни случайному совпадению, ни загадочному воздействию Zeitgeist[95]. Фигура эта — знаменитый Жозеф де Местр; а всеобъемлющую повесть о его влиянии на Толстого — уже, правда, подмеченном несколькими исследователями толстовского творчества и, по меньшей мере, одним из критиков де Местра[96] — еще предстоит написать.
v
Первого ноября 1865 года, в разгаре работы над «Войной и миром», Толстой записывает в дневнике: «Читаю Maistr'a»[97], а 7 сентября 1866 года обращается к издателю Бартеневу, своему неустанному помощнику, с просьбой прислать «архив Maistr*а» — то есть переписку и заметки. У Толстого были весьма веские причины читать этого ныне сравнительно забытого автора. Граф Жозеф де Местр, савойский роялист, впервые прославился под конец восемнадцатого столетия как сочинитель трактатов, обличавших революцию. Хотя его привычно числят правоверным католическим писателем- реакционером, столпом Бурбоновской реставрации и поборником дореволюционного status quo — в частности, папской власти, — де Местр являл собою нечто гораздо большее. Он исповедовал необычайно мрачные, мизантропические взгляды на природу отдельных людей и целых обществ; он с неподдельным ироническим презрением поносил все человечество — скопище неисправимо злобных дикарей, считал неизбежной непрерывную бойню, полагал войны чем-то предначертанным свыше, утверждал, что людские дела и поступки в огромной степени определяются страстью к самоуничтожению — которая куда больше, нежели естественная общительность или искусственные договоры, приводит к возникновению армий и республиканских, управляемых народом государств. Жозеф де Местр подчеркивает: если хотите вообще сберечь цивилизацию и порядок — необходимы абсолютная власть, карательные меры и непрерывные репрессии. И содержание, и тон его сочинений ставят де Местра ближе к Ницше, д'Аннунцио и поборникам нынешнего фашизма, нежели к почтенным тогдашним роялистам, — ив свое время изрядно задели за живое как французских легитимистов, так и приверженцев Наполеона. В 1803 году государь де Местра, король Пьемонта-Сардинии — пострадавший от Наполеона, временно живший изгнанником в Риме, а вскоре вынужденный возвратиться на Сардинию — отрядил графа своим полуофициальным посланником при Санкт-Петербургском дворе. Жозеф де Местр, наделенный изрядным светским обаянием и особой чуткостью к окружающей обстановке, произвел огромное впечатление на высшее русское общество, представ ему изысканным придворным, остроумцем и проницательным знатоком политики. В Петербурге он оставался с 1803-го по 1817-й, его блестящие, зачастую сверхъестественно проницательные, пророческие письма — дипломатические депеши и частные послания друзьям, — наравне со множеством разрозненных заметок о России и русских, которые де Местр отправлял и своему правительству, и своим друзьям-советчикам из числа российских дворян, образуют неповторимо ценный источник сведений о жизни и суждениях кругов, правивших Российской империей накануне, во время и сразу после наполеоновского нашествия.
Оставив по себе несколько богословско-политических трудов, Жозеф де Местр умер в 1821 году, но полное академическое издание его сочинений — особенно знаменитых Les Soirees de Saint-Petersbourg\ написанных по образцу платоновских диалогов и повествующих о природе управления людьми, о мере правительственной ответственности, об иных политических и философских вопросах, — а также Correspondance diplomatique[98]i\ частных писем — появилось только в 1850-х и начале 1860-х гг., стараниями сына, Родольфа и других. Нескрываемая ненависть де Местра к Австрии, его анти-бонапартизм — вместе со значением Пьемонтского королевства, росшим и до, и после Крымской войны, — естественно увеличили в те годы интерес к его личности и философии. Начали выходить в свет работы о де Местре, по поводу коих горячо спорили русские литераторы и историки. У Толстого были Soirees, имелась частная и дипломатическая переписка де Местра — экземпляры доныне хранятся в яснополянской библиотеке. По крайности, совершенно ясно: Толстой широко использовал названные книги, трудясь над «Войной и миром»[99]. Памятный эпизод со вмешательством Паулуччи в прения русских военачальников на Дрисском совете заимствован из письма де Местра почти буквально. И беседа князя Василия о Кутузове с нп homme de beaucoup de merite[100] в салоне Анны Павловны Шерер явно основывается на другом письме де Местра, где можно сыскать все французские фразы, коими пересыпан этот разговор. Сверх того, существует в одном из ранних толстовских набросков пометка на полях: «У Анны Павловны J. Maistre», относящаяся к рассказчику, излагающему красавице Элен и восхищенному кружку слушателей дурацкую побаску о встрече Наполеона с герцогом Энгиенским на ужине у знаменитой актрисы m-lle GeorgeОпять же, привычка старого князя Болконского переносить свою постель из одной комнаты в другую, вероятно, заимствована из рассказанного де Местром о такой же привычке графа Строганова. Наконец, имя де Местра упоминается в самом романе, меж именами тех, кто полагал, что «бессмысленно было желание взять в плен императора, королей, герцогов» наполеоновской армии, «людей, плен которых в высшей степени затруднил бы действия русских»[101], создал дипломатические трудности. Жихарев, чьи воспоминания Толстой, как известно, использовал, встречался с де Местром в 1807 году и отзывался о нем восторженно[102], кое-что из общей атмосферы этих мемуаров чувствуется в толстовских строках, отведенных выдающимся французским эмигрантам, посещавшим салон Анны Павловны Шерер, описанием которого открывается вся эпопея, равно как и в остальных упоминаниях о тогдашнем высшем петербургском свете. Все отзвуки и параллели тщательно перечислены изучающими Толстого литературоведами — сомневаться в объеме толстовских заимствований отнюдь не доводится.
Среди упомянутых параллелей имеются и более важные. Де Местр утверждает: легендарная победа последнего из Гора- циев над Куриациями (подобно всем победам вообще) коренилась в неосязаемом понятии боевого духа—и Толстой говорит, вослед савояру, о высочайшей важности, присущей этой неведомой величине: боевому духу, определяющему исход баталий, — неощутимому «духу», руководящему и рядовыми бойцами, и командирами. Это подчеркнутое внимание к непостижимому и непредсказуемому — насущная и неотъемлемая составная часть общего иррационализма, свойственного де Местру, который утверждал: разум людской — ничтожное орудие по сравнению с могущественными силами природы, и рассудочные пояснения человеческих действий и поступков редко поясняют что-либо вообще. Де Местр настаивал на том, что лишь иррациональное — именно потому, что не поддается объяснению и, следовательно, остается неуязвимым для критической рассудочной деятельности, — способно быть и долговечным, и крепким. В качестве примеров де Местр приводит такие иррациональные установления, как престолонаследие и супружество: они жизнеспособны и существуют из века в век — а такие рассудочные установления, как монархия выборная и «свободное» внебрачное сожительство, быстро и безо всяких очевидных «причин» рушились повсюду, где насаждались. Де Местр воспринимает жизнь как свирепую битву во всех слоях — меж растениями и животными ничуть не меньшую, нежели меж отдельными людьми и целыми народами; битву, от коей не дождешься ни малейшей выгоды и пользы, но порождает ее некая первобытная, главенствующая, загадочная, кровожадная алчба самоистребления, посеянная в человеке свыше. Этот инстинкт гораздо мощнее слабых рассудочных потуг человеческих добиться мира и счастья (впрочем, здесь обнаруживается сокровеннейшее стремление отнюдь не людского сердца, но лишь карикатуры на сердце—либерального интеллекта) посредством планирования общественной жизни, что ведется без учета разрушительных сил, рано или поздно — причем, неизбежно — заставляющих хлипкие людские построения рассыпаться, точно карточные домики.
Жозеф де Местр полагал: поле сражения — типическое и полнейшее соответствие бытию во всех его проявлениях; он потешался над генералами, считавшими, будто по-настоящему распоряжаются перемещениями войск и управляют ходом битвы, — он заявлял: никто из находящихся в истинном разгаре побоища не имеет и зачаточного понятия о происходящем вокруг:
«On parle beacoup de batailles dans le monde sans savoir ce que c'est; on estsurtoutassezsujeta les considerer comme des points, tandis quelles couvrent deux ou trois lieus de pays: on vous dit gravement: Comment ne savez-vous pas ce qui syest passe dans ce combat puisque vous у etiez? tandis que c'est precisement le contraire qu'on pourrait dire assez souvent. Celui qui est a la droit sait-il ce qui se passe a la gauche? sait-il seulement ce qui se passe a deux pas de luif Jeme represente aisement une de ces scenes epouvantables sur un vaste terrain couvert de tous les apprets du carnage, et qui semble s'ebranler sous les pas des hommes et des chevaux; au milieu du feu et des armes? feu et des instruments militaires, par des voix qui commandenty qui hurlent ou qui s'eteignent; environne de mortsf de mourantSy de cadavres mutiles; possede tour a tour par la crainte, par Vesperance, par le rage, par cinq ou six ivresses differ^ntesque devient Vhomme* que voit-il* que sait-il au bout de quelques heuresf que peut-il sur lui et sur les autres? Parmi cette foule de guerriers qui ont combattu tout le jour; il nyy en a souvent pas un seuly et pas тёте le general, qui sache ou est le vainqueur. II ne tiendrait qu'a moi de vous citer des batailles modernes, des batailles fameuses dont la memoire neperira jamaisy des batailles qui ont change la face des affaires en Europe, et qui nfont eteperdues que parce que tel ou tel homme a cru quelles Vetaient; de maniere quen supposant toutes les circonstances egalesy et pas une goutte de sang de plus versee depart et dyautrey un autre general aurait fait chanter le Те Deum chez lui, et force Vhistoire de dire tout le contraire de ce quelle dira»\
И далее: «N'avons-nous pas fini тёте par voir perdre des batailles gagneest <...> Je crois en general que les batailles ne se gagnent ni ne se perdent point physiquement»x. И сызнова, в том же ключе: «De тёте ипе armee de 40 тис. hommes est inferieure physiquement а ипе агтёе de 60000: mais si la premiere a plus de courage, dyexperience et de discipline, elle pourra battre la seconde; car ella a plus dyaction avec moins de masse, et cyest que nous voyons a chaquepage de Vhistoire»[103].
И, наконец: «С'est Vopinion qui perd les batailles, est c'est Гopinion qui les gagne»[104]. Победу приносит не мышечная, а духовная сила — боевой дух.
«...Qu'est се qu'ипе bataille perdue? <...> C'est ипе bataille qu'on croit avoir perdue. Rien nyest plus vrai. Un homme qui se bat avec un autre est vaincu lorsquil est tue ou terrasse\ et que Vautre est debout; il n 'en est pas ainsi de deux armees: Vune nepeut etre tuee, tandis que Vautre reste en pied. Les forces se balancent ainsi que les morts, et depuis surtout que I'invention de la poudre a mis plus d'egalite dans les moyens de destruction, une bataille ne se perd plus materiellement: c'est-a-dire parce qu'ily a plus de morts d'un cote que Vautre: aussi Frederic II, qui s'y entendait un peu, disait: Vaincre, c'est avancer. Mais quel est celui qui avance f c'est celui dont la conscience et la contenance font reculer Vautre»[105].
Нет и быть не может никакой военной науки, поелику «c'est Vimagination qui perd les batailles»[106] и «реи de batailles sont per dues physiquement- vous tires, je tire <...> le veritable vainqueur; comme le veritable vaincu, c'est celui qui croit I'etre»[107].
Толстой говорит, будто урок этот ему преподал Стендаль; но и слова об Аустерлице, вложенные автором в уста князя Андрея, — «мы проиграли, поскольку очень рано решили, будто проиграли»[108], — и отнесение русской победы над Наполеоном на счет русской жажды выжить и уцелеть звучат отголоском написанного де Местром, а не Стендалем. Это близкое сходство взглядов де Местра и Толстого и на отдельные сражения, и на целые войны, как на нечто хаотическое, неуправляемое, во многом подобное людской жизни вообще — равно как и презрение обоих к простодушным доводам, коими историки академического склада объясняли человеческую жестокость и яростное желание воевать, — особо выделил выдающийся французский историк Альбер Сорель, читая в Ecole de Sciences Politiques[109]7 апреля 1888 года[110] ныне почти забытую лекцию. Проводя параллель меж де Местром и Толстым, он заметил: хотя де Местр и теократ, а Лев Толстой «нигилист», но оба они числили первопричины событий загадочными — и, среди прочего, обращающими людскую волю в ничто. «От тео- крата, — пишет Сорель, — до мистика, а от мистика до нигилиста расстояние меньше, нежели от бабочки до гусеницы, от гусеницы до куколки, а от куколки до бабочки»[111]. Толстого, подобно де Местру, всего больше занимают первопричины; Толстой задается примерно теми же вопросами, что и де Местр: «Expliquez pourquoi се qu'il у a de plus honorable dans le monde, au jugement de tout le genre humain sans exeption, est le droit de verser innocemment le sang innocent*»1, так же отвергает рациональные или натуралистические ответы; подчеркивает неощутимые психологические, духовные — а временами «зоологические» — факторы, управляющие событиями: подчеркивает их, пренебрегая статистическим анализом военной мощи, будучи весьма сходен в этом с де Местром, отправлявшим депеши и реляции своему правительству в Кальяри.
Толстовские страницы, повествующие о массовых людских передвижениях — то ли о битвах, то ли об исходе русских из Москвы, то ли об отступлении французов из России, могли бы показаться едва ли не обдуманными иллюстрациями к де-Местровской теории насчет природы великих событий — никем не рассчитанных, да и никакому расчету не поддающихся. Но сходство меж де Местром и Толстым еще глубже. И савойский, и русский граф ополчаются — и неистово ополчаются — на либеральный оптимизм касаемо людской доброты, людского здравомыслия и несомненной ценности материального прогресса: оба яростно опровергают утверждение, что рассудок и наука способны, якобы, сделать человечество счастливым и добродетельным на веки вечные.
Первая великая волна оптимистического рационализма, поднявшаяся вослед Религиозным войнам, вдребезги разбилась о свирепость Великой французской революции, пришедшего за нею политического деспотизма, общественного и экономического злополучия; в России подобную же волну раздробила череда карательных мер, взятых Николаем /, дабы сначала обезвредить последствия декабристского восстания, а затем — едва ли не четверть века спустя — влияние, оказанное европейскими революциями 1848-1849 гг.; прибавьте к этому еще материальное и моральное воздействие, произведенное сокрушительно проигранной Крымской войной. В обоих случаях на сцену выступила грубая сила, изрядно потрепавшая добросердечных идеалистов и расплодившая суровый реализм всех мастей — среди прочего, появились материалистический социализм, авторитарный неофеодализм, махровый национализм и другие непримиримо антилиберальные движения. А в случае с де Местром и Толстым, невзирая на их глубочайшие и непреодолимые различия — духовные, общественные, культурные и религиозные, — разочарование вылилось в острейший скептицизм по поводу любых научных методов, недоверие ко всяческому либерализму, позитивизму, рационализму; к любым и всяким попыткам отделить церковь от государства — в Западной Европе сие стремление крепло и делалось влиятельным; и де Местр и Толстой намеренно подчеркивали «неприглядные» стороны человеческой истории, от которых чувствительные романтики, историки-гуманисты и оптимистически настроенные теоретики общественного развития отворачивались весьма упорно.
И де Местр, и Толстой отзывались о политических реформаторах (в одном любопытном случае, об одном и том же отдельно взятом их представителе, русском государственном деятеле Сперанском) с одинаково едкой и пренебрежительной иронией. Подозревали, что де Местр нешуточно приложил руку к падению и ссылке Сперанского, а Толстой усматривает — глазами князя Андрея — ив бледном лице прежнего императорского любимца, и в его пухлых руках, и в его суетливых, самодовольных повадках, и в неестественности и никчемности всех его движений своеобразные отличительные признаки человека призрачного, либерала, чужеродного действительности; Жозеф де Местр мог бы лишь рукоплескать подобному отношению. Оба говорят об интеллигенции презрительно и враждебно. Де Местр видит в ней не просто уродливое скопище живых мертвецов, павших жертвами исторического процесса — то есть жуткое знамение, посылаемое Промыслом, дабы устрашить человечество и побудить его вернуться в лоно старинной католической веры, — но общественно опасную стаю, тлетворную секту искусителей и развратителей юношества: любой разумный правитель обязан противодействовать их разлагающему влиянию.
Толстой же говорит о них скорее с презрением, нежели с ненавистью, представляет интеллигентов злополучными, заблудшими, слабоумными тварями, одержимыми некой манией величия. Де Местр числит интеллигенцию тучами общественной и политической саранчи, зовет ее гибельной гнилью, заведшейся в сердце христианской цивилизации — наисвященнейшего нашего достояния, сберечь которое возможно лишь героическими усилиями Папы Римского и его Церкви. А Толстой рассматривает интеллигентов как спесивых простофиль, изощренных пустомель, слепых и глухих к действительности, доступной пониманию более простых сердец, — и время от времени крушит интеллигенцию наотмашь, со всей лютой беспощадностью угрюмого старого мужика, не признающего над собою ничьей власти и, после долгих лет безмолвия, берущегося поучить уму-разуму безмозглых, болтливых городских мартышек: всезнаек, распираемых желанием без умолку трещать обо всем подряд, — заносчивых, беспомощных, пустых.
Оба автора отметают любое толкование истории, не ставящее во главу исторического угла вопрос о природе могущества, мощи, власти; оба пренебрежительно отзываются о попытках пояснить ее рационалистически. Де Местр потешается над французскими энциклопедистами: над хитро- мудрыми, но поверхностными их работами, над изящными, но пустыми определениями—чуть ли не в точности так же, как столетием позже насмехался Лев Толстой над наследниками энциклопедистов — учеными обществоведами-социологами либо историками. Оба открыто исповедуют веру в глубокую мудрость неиспорченных простых людей — правда, язвительные де-Местровские obiter dicta касаемо беспросветной дикости, лихоимства и невежества русских не могли прийтись Толстому по душе (ежели, разумеется, он вообще читал эти замечания).
И де Местр, и Толстой рассматривают западный мир как в известном смысле «загнивающий», подвергающийся быстрому распаду. Это воззрение, по сути, породили на заре девятнадцатого столетия римско-католические контрреволюционеры — оно было составной частью их взгляда на Французскую революцию как на Божью кару, ниспосланную отпавшим от христианской веры — в частности, от Римско- Католической Церкви.
Из Франции этот взгляд, порицавший приверженцев обмирщения, многими извилистыми путями — в частности, будучи распространяем журналистами и академически мыслившими читателями их статей — распространился до Германии и России (в Россию он приходил и напрямик, и через переводы с немецкого), где сыскал себе благодатную почву среди тех, кому посчастливилось не ведать революционных потрясений, — местному amour propre[112] льстила мысль о том, что, уж во всяком случае, родная-то страна еще способна шествовать по пути, ведущему к вящей славе и могуществу, а Западу, изничтоженному отречением от своей старинной веры, только и оставалось разлагаться не по дням, а по часам — и духовно, и политически. Нельзя сомневаться: эту школу собственной дальнейшей мысли Толстой перенял от славянофилов и прочих русских шовинистов ничуть не в меньшей степени, чем непосредственно от де Местра, но следует заметить: упомянутое убеждение чрезвычайно сильно в обоих наших беспристрастных, аристократических наблюдателях, — оно и определяет обе их поразительно близкие точки зрения. Aufond оба они мыслили пессимистически донельзя — и, нещадно разрушая общепринятые тогдашние иллюзии, отпугивали современников, даже если те нехотя признавали правоту сказанного.
Пускай Жозеф де Местр был фанатическим поборником папства и освященных временем общественных учреждений, а Лев Толстой в ранних своих работах не обнаруживал склонности к радикализму, — все равно читательское нутро чуяло: оба писателя — нигилисты, ибо гуманистические ценности девятнадцатого века разлетаются под их руками вдребезги. Оба искали некоего спасения от собственного неизбежного и безответного скептицизма в обширной и неуязвимой истине, способной оборонить их от последствий их же собственных природных склонностей и темперамента; де Местр — в Церкви, Толстой — в неиспорченном сердце людском и простой братской любви: чувстве, если и посещавшем его, то лишь изредка, — в идеале, являвшемся Толстому и нещадно гнавшему прочь его художественный дар: Толстой обычно принимался писать бесцветным, простодушным, суконным языком, болезненно трогательным, болезненно неубедительным, откровенно далеким от собственного толстовского опыта.
Но сходство это не следует преувеличивать: верно, и де Местр, и Толстой придают наивысшую мыслимую важность войне и столкновениям, однако де Местр — как и Прудон впоследствии[113] — прославляет войну, объявляет ее таинственной и божественной; а Толстой не выносит ее и считает объяснимой, в принципе, только с учетом несметных мельчайших причин — пресловутого исторического «дифференциала». Де Местр верил во власть — иррациональную силу, верил в необходимость подчинять человечество, в неминуемость преступлений, в чрезвычайную важность инквизиторского розыска и наказания. Он рассматривал палача в качестве краеугольного общественного камня — ведь не случайно же Стендаль назвал де Местра Vami du bourreau\ а Ламеннэ говаривал: для де Местра имеются лишь две реальности — преступление и наказание, ибо «чудится, будто письменным столом служил ему эшафот»2. Мироздание казалось де Местру скопищем диких тварей, терзающих друг друга на клочки, убивающих ради удовольствия убивать — люто и кровопролитно: тут он видит естественное проявление любой и всяческой жизни. Толстой далек от подобного ужаса, злодеяния и садизма3, и он —расе\ Альбер Сорель и Вогюэ! — отнюдь не мистик ни в каком смысле этого слова: Толстой не страшится подвергать сомнению что угодно и верит: некий простой ответ не может не отыскаться, — не надобно лишь упорствовать, истязая себя его поисками по неведомым и далеким краям: ответ искони лежит прямо у наших ног.
Де Местр поддерживал иерархический принцип, верил в аристократию, готовую к самопожертвованию, героизму, послушанию — и строжайше правящую массами, беспрекословно подчиняющимися своим общественным и религиозным наставникам. А посему де Местр советовал и дело российского просвещения препоручить ордену иезуитов: по крайности, скифских варваров обучили бы латинской речи, священному языку человечества — священному уже оттого, что в нем воплотились все предрассудки и все поверья предыдущих веков — или, точнее, верования, выдержавшие испытание историей и опытом, единственно и способные воздвигнуть неприступную крепостную стену — преграду, оберегающую от страшного, растлевающего натиска безбожников, либералов и вольнодумцев. Прежде всего, де Местр считал естественные науки и светскую литературу зачумленными игрушками в руках людей, не получивших спасительной прививки от них; крепкими хмельными напитками — поначалу опасно возбуждающими, а под конец уничтожающими любое непривычное к ним общество.
Толстой же всю жизнь противоборствовал откровенным обскурантам и тем, кто намеренно подавлял жажду познаний; суровейшие слова Толстого адресованы в последней четверти девятнадцатого века русским государственным деятелям и публицистам — Победоносцеву, его друзьям и приспешникам, — претворявшим в жизнь именно эти максимы великого католического реакционера. Автор «Войны и мира» явно терпеть не мог иезуитов — особенно раздражало Толстого то, что при императоре Александре I они успешно обращали в католичество русских светских дам — припомним: последние события в жизни жены Пьера, никчемной Элен, могли бы чуть ли не прямо связываться с миссионерской работой де Местра среди петербургской аристократии; имеются все основания предположить: иезуитов изгнали, а самого де Местра, по сути, отозвали из России, когда сам Государь посчитал их вмешательство и чересчур явным, и чересчур успешным.
Ничто поэтому не потрясло бы и не рассердило Толстого больше, чем осознание своей огромной близости к этому проповеднику тьмы, поборнику невежества и холопства. И все же, среди всех писавших о вопросах общественных, де Местр наиболее близок Толстому тоном своих сочинений. Оба держатся одинаково сардонического, почти цинического неверия в возможность улучшить общество рациональными средствами, в действенность добрых законов или распространяемых научных сведений. Оба говорят с одинаково злой иронией о любом новомодном толковании бытия, о любой панацее от общественных зол — особенно о заранее рассчитанном общественном благоустройстве согласно какой- либо выведенной человеком формуле. У де Местра открыто, а у Толстого менее явно, сказывается глубоко скептическое отношение ко всяческим знатокам, ко всяческим хитроумным приемам действий, ко всяческим символам безбожной веры и к потугам добросердечных, однако, увы, идеалистически мыслящих личностей улучшить общественную жизнь; та же неприязнь обнаруживается и ко всем, проповедующим идеи, верящим в отвлеченные принципы: оба — и де Местр, и Толстой — обретаются под воздействием Вольтера, хотя и брезгливо отвергают вольтеровские взгляды. Оба, в конечном счете, полагаются на какое-то стихийное начало, скрытое в душах людских — причем, де Местр недвусмысленно обличает Руссо как лже-пророка, но Толстой рассматривает Руссо менее однозначно.
Оба, прежде всего, отметают понятие личной политической свободы — гражданских прав, обеспечиваемых некой безликой правовой системой: де Местр — оттого, что считает любое стремление к личной свободе — политической, экономической, общественной, культурной либо религиозной — признаком упрямого своеволия и тупого непослушания; оттого, что поддерживает освященное традицией даже в самых неразумно темных и гнетущих формах его — ибо только из него родится энергия, дарующая жизнеспособность, непрерывность и устойчивость общественным учреждениям; Толстой же отметает политические реформы, поскольку верит: истинное обновление приходит лишь изнури, а не извне — и что поистине полноценной внутренней жизнью могут жить лишь нетронутые, первобытные глубины человеческой массы.
VI
Но существует и еще более глубоко протянувшаяся, более важная параллель меж толстовским толкованием истории и взглядами де Местра; тут пора обратить внимание на основополагающие принципы, относящиеся к познанию минувшего. Наиболее поразительная составная часть мышления, общая для обоих этих несхожих (по сути, антагонистических) penseursx — их озабоченность «неумолимым» свойством — «поступью» — событий. И Толстой, и де Местр думают о происходящем как о густой, малопрозрачной, непостижимо сложной паутине случаев, предметов, отличительных признаков, связанных и разделяемых буквально бесчисленными, безымянными узлами — или просветами, внезапными разрывами, зримыми и незримыми. Этот взгляд на действительность заставляет все ясные, логические, научные построения — четко очерченные, симметричные схемы людской мысли — казаться приглаженными, жидкими, пустыми, «абстрактными», начисто непригодными как средства, дозволяющие описывать и анализировать все живущее или когда-либо жившее.
Де Местр относит сие на счет неисцелимого бессилия человеческих способностей к наблюдению и рассуждению — по крайности, когда они работают без помощи сверхчеловеческих источников познания: веры, откровений, преданий, а прежде всего — без мистических видений, ниспосылаемых свыше великим святым и наставникам Церкви: не подлежащего анализу, особого ощущения действительности, для коего естествознание, произвольная критика и светское безбожие убийственны. Мудрейшие меж эллинами, многие из великих римлян — а впоследствии ведущие церковные и государственные умы Средневековья, — говорит Жозеф де Местр, обладали таким даром постижения; отсюда проистекали и властное их могущество, и достоинство, и успех. Естественные враги такого дара — хитроумие и специализация; посему в романском мире столь заслуженно и презирали «экспертов и техников» — Graeculus esuriensот этих далеких, однако несомненно прямых пращуров и произошли сварливые, иссохшие фигуры позднейшей «Александрийской эпохи» — ужасающего восемнадцатого столетия, — все тогдашние ecrivasserie et avocasserie[114] — все жалкое скопище борзописцев и крючкотворов, предводительствуемое хищным, душевно и нравственно грязным, осклабившимся Вольтером, — сборище ослепленных разрушителей и самоубийц, оглохших к истинному Божью слову. Только Церковь разумеет «внутренние» ритмы, «глубоководные» всемирные течения, безмолвную поступь бытия; поп in commotione Dominusb\ не в шумных демократических манифестах, не в сорочьей трескотне конституционных формул, не в революционной лютости — но в извечном естественном порядке вещей, управляемом естественным законом. Лишь разумеющие это знают, чего достичь возможно, а чего нельзя; чего добиваться следует, а что запретно. Лишь они — лишь они владеют ключами к мирскому успеху и духовному спасению. Всеведение присуще только Богу и Ему Одному. И лишь погружаясь в слово Божие, в богословские и метафизические принципы, обретающие наипростейшее выражение свое через инстинкты или давние поверья: первобытные, однако испытанные временем способы угадать законы Божьи, дабы подчиниться им, — а не в рассудочное умствование, стремящееся подменить их самоуправным произволом личности, — мы смеем лелеять надежду сделаться мудрее. Прикладная мудрость в немалой степени есть осознание неизбежности: при существующем миропорядке нечто случившееся не могло не случиться — и, наоборот: нельзя было в настоящем или в минувшем сделать чего-либо неосуществимого заведомо; некоторые замыслы должны, попросту обречены, окончиться крахом — хотя не дашь этому никакого — ни наглядного, ни теоретического научного — объяснения. Редкостную способность понимать вышеперечисленное по праву зовут «ощущением действительности» — ощущением того, что с чем способно сопрягаться, а чему с чем не ужиться и не сосуществовать; способность эту именуют на разные лады: и проницательностью, и мудростью, и блистательным здравомыслием, и чувством прошлого, и знанием жизни, и сердцеведением.
Примерно таковы же и толстовские взгляды, но Толстой наши непомерные притязания на способность понимать события либо управлять ими зовет пустой блажью вовсе не оттого, что считает глупыми или кощунственными людские потуги обойтись без особого, то есть сверхъестественного, знания, но лишь оттого, что мы понятия не имеем про множество взаимных связей — крохотных причин, движущих событиями. Составь мы себе хоть зачаточное понятие о причинно-следственных переплетениях в их беспредельном разнообразии, мы прекратили бы превозносить и порицать, похваляться и сетовать, видеть в человеческих существах героев или злодеев — мы с надлежащим смирением покорились бы неминуемой необходимости. Но не сказать ничего сверх этого значит просто поглумиться над воззрениями Толстого. И впрямь: Толстой недвусмысленно заявляет на страницах «Войны и мира»: вся истина — в науке, в знании материальных причин, а следовательно, мы смехотворны, если делаем выводы, основываясь на скудных сведениях; тут уж мы еще хуже мужиков или дикарей, которые, будучи весьма немногим невежественней нашего, по крайности, не кичатся и притязают на меньшее; однако на деле не изложенное мировоззрение служит подоплекой «Войны и мира», либо «Анны Карениной», либо какой угодно иной книги, созданной Толстым в тот период. Кутузов мудр, а не просто сметлив, как, например, сметливы расчетливый служака Друбецкой или Билибин; он чужд низкопоклонства перед героями либо догмами, свойственного немецким военачальникам; Кутузов иной: он мудрее — отнюдь не потому, что помнит больше фактов, чем остальные, или может мгновенно перечислить больше «крохотных причин, движущих событиями», нежели кутузовские советчики либо противники — нежели Пфуль, или Паулуччи, или Бертье, или Неаполитанский король. Каратаев приносит Пьеру просветление, а масоны — нет; однако вовсе не потому, что крестьянин обладает большими научными познаниями, нежели члены московских лож; Левин становится мудрее во время полевых работ, а князь Андрей — лежа раненным на поле боя при Аустерлице; но ни в одном из упомянутых случаев не обнаруживаются новые факты или новые законы в каком бы то ни было общепринятом смысле. Напротив: чем больше фактов накапливается в голове человеческой, тем более тщетна человеческая деятельность и тем безнадежнее крах человеческий: тому доказательством участь реформаторов, окружавших Александра Первого. И этих людей, и всех им подобных спасают от поистине фаустовского отчаяния только глупость (например, хитромудрых немецких военачальников — да и любых иных «гелертеров»), либо самомнение (например, Наполеона), либо легкомыслие (например, Облонского), либо же бессердечие (например, Каренина).
Что же именно обнаруживают Пьер, князь Андрей, Левин? И чего же, собственно, ищут они? — ив чем же средоточие и вершина духовного кризиса, разрешаемого переживанием, преобразившим их жизнь? Не в отрезвляющем понимании того, сколь мало они — Пьер, Левин и прочие — сумели постичь изо всей совокупности фактов и законов, открытых всеведущему лапласовскому наблюдателю; и не в простом сократовском «знаю, что ничего не знаю». И еще меньше — в том, что обретается почти на противоположном полюсе: в новом, более точном постижении «железных законов», правящих нашей жизнью, во взгляде на природу как на машину или фабрику, в космологии великих материалистов — Дидро, Ламетри, Кабаниса — или ученых писателей середины девятнадцатого столетия, пред коими преклонялся нигилист Базаров из тургеневских «Отцов и детей»; и не в том трансцендентальном чувстве невыразимого единства всей жизни, что во все века и времена испытывали и выказывали поэты, мистики и метафизики. И все-таки, ощущается нечто; нисходит некое видение — по крайности, мимолетное озарение, мгновенное откровение, в известном смысле проясняющее и примиряющее, теодицея, оправдание — а равно и высветление — всего существующего и творящегося вокруг. Но в чем же суть наития? Толстой не говорит об этом прямо: а когда (в позднейших, открыто назидательных работах) принимается говорить, его учение предстает уже иным. Но среди читающих «Войну и мир» не сыщется человека, начисто не слышащего, что ему сообщают. И речь идет не только об эпизодах с участием Кутузова и Каратаева, или об иных квази-богословских или квази-метафизических страницах; гораздо больше относится это, например, к повествовательной, не-философской части эпилога, где Пьер, Наташа, Николай Ростов, княжна Марья предстают погрузившимися в свою новую, степенную, рассудительную жизнь с привычными повседневными заботами. Тут нам явно предлагается посмотреть: что получили эти «герои» романа — «славные люди» — теперь, после десяти с лишним бурных и мучительных лет? — они достигли некоего покоя, основанного на известной степени разумения, — однако что же они уразумели? Необходимость покоряться — но чему же? Не просто Господней воле (во всяком случае, так еще не могло быть в 1860-е или 1870-е годы, когда создавались великие толстовские романы) и не «железным законам» науки, — но вечным взаимным отношениям дел земных[115], и тому вселенскому устройству жизни человеческой, в коем лишь и возможно сыскать истину и справедливость посредством «естественного» — несколько аристотелевского — знания.
А для этого нужно в первую очередь понять: на что человеческая воля и человеческий рассудок способны и на что не способны. Как же это узнать? Не целенаправленным поиском и открытием, но ощущением — и не обязательно явным или сознательным — известных общих свойств, присущих человеческой жизни и опыту. Наиважнейшее и наиболее распространенное свойство — резкая черта, разграничивающая «поверхность» и «глубины»: с одной стороны — мир ощутимого, описуемого, поддающегося анализу; физического и душевного, «внешнего» и «внутреннего», общественного и частного — того, с чем способны иметь дело науки (хотя, во всех областях, исключая физику, науки достигли весьма скромных успехов); а с другой стороны — целый миропорядок, вмещающий и определяющий все строение людских переживаний и опыта: пределы, в коих (надобно полагать) находимся и мы сами, и все переживания наши, и весь наш накопленный опыт; и этот миропорядок всецело влияет на образ наших мыслей, действий, ощущений, переживаний, упований, устремлений; нашу манеру говорить, верить, реагировать на происходящее, существовать. Мы — разумные твари — отчасти обитаем в мире, составные части которого способны распознавать, различать, использовать как руководства к действию посредством рациональных, научных, тщательно планируемых методов; а отчасти (Лев Толстой, и де Местр, и многие другие мыслители сказали бы: по большей части) мы окунуты, с головой погружены в среду, которую, точно в той степени, в какой неизбежно принимаем ее как данность, как часть нас самих, мы не способны наблюдать извне, определять, измерять — и не способны управлять ею; мы не можем даже вполне сознавать ее наличие, поскольку она слишком глубоко пропитывает все наши переживания и ощущения, слишком плотно переплетается с тем, что мы есть — и что мы делаем, стараясь вознестись над потоком (ибо это поток) и стать доступными бесстрастному научному наблюдению, как предметы. Поток — среда, в коей мы обретаемся, — определяет наши наиболее стойкие понятия, наши мерила истинного либо ложного, действительного и мнимого, доброго и злого, основного и побочного, субъективного и объективного, прекрасного и безобразного, движущегося и покоящегося, минувшего, нынешнего и грядущего, единственного и множественного; посему ни эти, ни любые иные недвусмысленно понимаемые категории либо сущности не применимы к нему, ибо сам он — лишь расплывчатое название, приложенное к целому, объемлющему все категории, все сущности: к конечным рамкам, основополагающим предпосылкам, благодаря которым мы и существуем.
Тем не менее, хотя мы не в силах исследовать упомянутую среду, не обладая (это невозможно) неким наблюдательным пунктом за ее пределами (запредельного нет), но встречаются человеческие существа, острее ощущающие—хоть и не способные описать испытываемых ощущений — свойства и направление своей собственной и любой чужой жизни в той части ее, что «погружена вглубь», и осознающие это лучше прочих людей — либо не замечающих существования всепроницаю- щей среды («потока жизни») и оттого заслуженно именуемых поверхностными личностями, либо старающихся исследовать ее, используя орудия — научные или метафизические, — приспособленные только к изучению предметов, выступающих над поверхностью: сравнительно сознаваемой, податливой частью наших переживаний и опыта; этим способом создают несуразные теоретические построения или терпят унизительный практический крах. Мудростью зовется способность считаться с неизменяемой (по крайней мере, нашими усилиями) средой, в коей мы действуем, — ведь считаемся же мы с повсеместностью, допустим, пространства и времени, определяющих все наши ощущения и переживания, — и отметать, менее или более сознательно, всякие «неизбежные тенденции», «непостижимое», «движение бытия». Здесь не научное знание, а особая чувствительность к очертаниям обстоятельств, среди коих нам довелось очутиться; здесь умение жить, не враждуя с неким извечным условием или фактором — коих нельзя ни изменить, ни даже полностью описать или рассчитать; а также умение руководствоваться испытанными золотыми правилами — «незапамятной мудростью», обитающей, якобы, в мужицких и прочих простонародных головах — там, где правила научные попросту неприменимы. Это невыразимое ощущение космической ориентации и зовут «ощущением действительности», «умением жить».
Временами Толстой говорит так, словно наука могла бы в принципе, если не на практике, проникнуть во все и все преодолеть; будь оно так и впрямь, мы постигли бы причины всего сущего и осознали: мы не свободны, бытие наше предопределено всецело — и лишь это способны постичь даже наимудрейшие. Со своей стороны, де Местр пишет так, словно ученые мужи ведают больше нашего, благодаря своим лучшим изыскательским навыкам; но известное им остается, в некотором смысле, «голыми фактами» — предметом общенаучного изучения. Св. Фома ведал несравненно больше Ньютона, с большей достоверностью и большей уверенностью, но природа его знаний была точно той же. Но пустозвонные хвалы исследовательским возможностям естествознания или богословия остаются у обоих чистейшей формальностью: весьма отличная точка зрения выражается в положительных доктринах де Местра и Толстого. Де Местр восхваляет Св. Фому Аквинского не потому, что был он лучшим математиком, нежели д'Аламбер или Монж; а Кутузов, согласно Толстому, превосходит Пфуля и Паулуччи отнюдь не более научным, лучшим теоретическим пониманием войны. Эти великие люди мудрее, а не образованнее; их возвышает не дедуктивное либо индуктивное мышление — они просто видят миропорядок «глубже», различают в нем неразличимое для прочих; они видят, как движется бытие; что сопрягается с чем, а что с чем несовместимо напрочь; видят, что можно и чего нельзя; видят, как живет человек и чего ради; как действует он и страдает; как и почему совершает поступки — и отчего надлежит ему поступать именно так, а не иначе.
Это «умение видеть», в сущности, не приносит новых сведений о вселенной: это лишь ощущение взаимодействия постижимого с непостижимым — «очертания» сущностей вообще, или какого-либо отдельно взятого положения, или отдельно взятого людского нрава: именно того, чего никак не выведешь из природных законов, даже не выразишь, употребляя понятия, отвечающие принятым для законов природы требованиям научного детерминизма. Со всем на свете, что, согласно этим законам, поддается распределению по категориям, ученые могут работать и работают: здесь не требуется «мудрости»; отнимать у науки ее права оттого, что существует упомянутая высшая мудрость, означает вторгаться без веского повода в края, обитаемые научным знанием, и смешивать категории. Толстой хотя бы соглашается: физика действенна в отведенных ей областях — однако сам считает эти области малозначащими по сравнению с навечно остающимися за пределами научной досягаемости: с мирами общественным, нравственным, политическим, духовным — коих не разложить по полочкам, не описать, не предсказать ни единой науке, ибо чересчур велика в них доля «глубинной» жизни, не поддающейся исследованию. Проницательность, раскрывающая природу и строение этих миров, — не просто найденная на скорую руку замена, не эмпирическое pis allerx, требуемое лишь до тех пор, покуда соответствующие научно- исследовательские приемы остаются недостаточно совершенными; она служит совсем иным целям, она достигает вообще недостижимого для наук: отделяет истинное от поддельного, ценное от никчемного, исполнимое или выносимое от неисполнимого и невыносимого; и всего этого достигает она, и все приговоры свои выносит, не опускаясь до рассудочных пояснений, — ибо сами понятия «рационального» и «иррационального» приобретают смысл и применяются только в связи с нею — «произрастают из нее», — а отнюдь не наоборот. Что же суть получаемые таким путем сведения, коль скоро не окончательная почва, последний предел, атмосфера, контекст, окружающая среда (выбирайте самую выразительную метафору по собственному вкусу), где все помыслы наши и деяния ощущаются, оцениваются, судятся именно тем неминуемым образом, которым ощущаются, оцениваются и судятся?
Неотступное ощущение упомянутых пределов и рамок — этого движения событий, переменчивой мозаики свойств и качеств — как чего-то «неумолимого», вселенского, всепроницающего, не подлежащего изменению нашими силами, обретающегося вне власти нашей («власти» в том смысле, в коем развитие научных познаний вручило нам власть над природой) и лежит в основе толстовского детерминизма, толстовского реализма, толстовского пессимизма, толстовского (и де-Местровского!) презрения к вере в разум — как многоученой вере, так и чисто обывательской. Вот «они»: рамки всего, пределы всего, подоплека всего на свете — и лишь мудрецу даровано их ощутить; Пьер ищет их ощупью; Кутузов чувствует нутром; Каратаев же сливается с ними воедино.
Все герои Толстого время от времени испытывают хотя бы мимолетные озарения, заставляющие все общепринятые доводы — приводимые наукой, историей, нерассуждающим «здравым смыслом» — выглядеть столь пустыми; а доводы особо громогласные — столь постыдно лживыми. И вместе со своими героями Толстой разумеет: истина — там, а не «здесь», не в слоях бытия, доступных наблюдению, опознанию, созидательному воображению; и не в способности к микроскопически точному восприятию и анализу действительности, наивеличайшим мастером коих был в наше время Лев Толстой; но сам Толстой не встречал этой истины лицом к лицу; ибо нет у него, невзирая на отчаянные усилия, цельного, всеобъемлющего взгляда; он далеко не еж, и то, что видит он — отнюдь не едино, а всегда, во все более мелких подробностях, во всей несметной неповторимости, является с навязчивой, неизбежной, неумолимой, всепроницающей ясностью — и всегда множественно.
VII
Мы — составная часть миропорядка, превосходящего наше понимание. Мы не в силах описать его, подобно тому, как можем описать окружающие предметы или нравы других людей, несколько отстраняя их от исторического «потока», в коем все они пребывают, и от их собственной «глубинной», неизмеримой сущности, которой, согласно Толстому, профессиональные историки уделяли и уделяют столь мало внимания; поскольку мы сами живем и внутри этого целого, и посредством его, а мудры только в той степени, в какой способны поладить с ним. Ибо если — и доколе — мы не смиримся (Книга Иова и Эсхил уверяют: лишь после многих и лютых страданий), мы продолжим бунтовать и мучиться вотще и втуне — а вдобавок еще (подобно императору Наполеону) предстанем набитыми дураками. В ощущении, что нас объемлет поток—сама природа коего не терпит вызова, бросаемого ей по глупости либо спесивому самомнению: тут уж мы сами обрекаем свои дела и замыслы на провал, — в ощущении этом и являются нам единство переживаемого всеми, чувство истории, подлинное знание действительности, вера невыразимой мудрости здравомыслов (или святых), что, mutatis mutandis\ роднило Толстого и де Местра. Их реализм — схожего свойства: это естественный враг романтизма, сентиментализма и «историзма» — равно как и воинствующего «науколюбия». Их задача — не отделить малую каплю изученного или проделанного от безбрежного океана того, что (в принципе) может быть однажды изучено или проделано то ли благодаря успехам естествознания, метафизики либо исторических наук, то ли путем возврата к минувшему, то ли другими способами; оба они стремятся лишь определить извечные рубежи нашего знания и нашей силы — и провести пограничную черту, за которой уже ничто, в принципе, вовеки не может быть ни познано человеком, ни как-либо изменено им. Согласно де Местру, наша участь предопределяется первородным грехом, тем обстоятельством, что мы — люди: смертные, грешные, злобные, суетные, — и еще тем, что все наши эмпирические познания (в отличие от учения Церкви) заражены заблуждением и мономанией. Согласно Толстому, все наши познания суть неизбежно эмпирического свойства — иного не дано, — однако вовек не приведут нас к истинному разумению: только к накоплению произвольно вычлененных, отрывочных сведений; и все же это кажется ему (не меньше, чем любому из метафизиков идеалистической школы, которую Толстой презирал) и никчемным, и невразумительным, если только не проистекает из этого невыразимого, но весьма ощутимого, свыше даруемого постижения, — единственно драгоценного! — или не ведет к нему.
Временами Толстой едва ли не открыто говорит: чем больше нам ведомо о некоем людском поступке, тем неизбежнее, пред- определеннее кажется он. Отчего? Оттого, что чем больше нам известно обо всех условиях, сопутствовавших данному событию, и всех предшествовавших ему обстоятельствах, тем труднее мысленно отрешиться от них, позабыть их — и вообразить себе, что могло бы случиться, если бы не они; да вот беда: по мере того, как мы усердно, факт за фактом вытесняем из памяти цепочку заведомых исторических истин, воображению становится не просто нелегко, а невозможно работать. И ведь не загадками Толстой говорит. Мы — это мы, и обитаем в данной, исторически создававшейся обстановке, обладающей своими особыми приметами: физическими, нравственными, общественными; и обстановка предопределяет наши мысли, чувства, действия — а заодно и способность представлять себе иной возможный ход событий: нынешних, грядущих, минувших. Наше воображение — способность рассчитывать и расчислять, скажем, что случилось бы, двинься минувшее в ту либо иную минуту какой-либо иной тропой, — быстро достигает естественных пределов, пределов, порождаемых как нашей слабой способностью рассчитывать альтернативы — своего рода «шахматные варианты», — так и (добавим это, логически развивая толстовский довод) еще больше тем обстоятельством, что мысли наши, и понятия, коими они пользуются, и сами образы-символы суть то, что суть: их самих определяет сложившееся и существующее строение окружающего нас мира. Наши мысленные образы и власть вызывать их ограничены простым фактом: окружающий мир обладает именно данными свойствами, а не какими-либо иными: чересчур отличающегося от него мира нельзя (эмпирически) представить себе вообще; некоторые люди наделены более живым воображением, однако ничье воображение не беспредельно.
Мир — это система хитросплетений: представлять себе людей «свободными» значит полагать их способными при неких миновавших обстоятельствах действовать каким- либо образом, отличным от того, коим они действовали; это значит размышлять о последствиях подобных неосуществленных возможностей, о том, как именно изменился бы в итоге мир и чем он отличался бы от нынешнего. Такое мышление достаточно сложно и в случае с искусственными, чисто дедуктивными системами — шахматами, например, где число ходов невероятно велико, но конечно, а природа их совершенно понятна, поскольку заранее, искусственно, определена самим человеком — оттого и можно рассчитывать любые комбинации. Но если вы приложите этот же метод к зыбкому и многообразному строю окружающего мира, попытаетесь вычислить вероятные последствия того либо иного неосуществленного плана или несостоявшегося действия — их влияние на совокупность всех последующих событий, — основываясь лишь на том знании причинно- следственных законов и вероятностей, которым обладаете, вы убедитесь: чем большее количество крохотных причин определяется исследователем, тем более устрашающей становится его задача, тем невозможнее дедуктивно проследить результаты поочередного «вычитания» каждой из упомянутых причин — поскольку всякий полученный результат влияет на все остальное неисчислимое множество событий и предметов — не упорядоченное, подобно шахматам, четким, обдуманным сводом условий и правил. И ежели — будь то в действительной жизни, или в шахматах — вы приметесь по собственному усмотрению трактовать основные правила и понятия — непрерывность пространства, делимость времени и тому подобные, — то быстро достигнете положения, при котором символы становятся бесполезны, а мысли ваши — сумбурны и парализованы. Следовательно, чем полней наше знание фактов и взаимной их связи, тем сложнее представить себе альтернативы, иное течение событий; чем яснее и точнее понятия — или категории, — определяющие и описывающие миропорядок, тем незыблемей делается его строение, тем менее «свободными» кажутся действия. Постичь эти пределы — поставленные воображению и, в конечном счете, мышлению вообще, значит очутиться лицом к лицу с «неумолимым», целокупным мирозданием; а осознать наше с ним единство, покориться ему — значит отыскать истину и обрести покой. Это не простой восточный фатализм, и не механический детерминизм пресловутых германских материалистов тогдашней эпохи, Бюхнера и Фогта, и не
Молешотта, столь восхищавшего русских революционеров- нигилистов», бывших ровесниками Толстого; это и не жажда мистического просветления или слияния. Все это — дотошно эмпирическое, рассудочное, суровое, реалистическое мировоззрение. А эмоциональная движущая сила его — страстное стремление к монистическому взгляду на жизнь; ибо лису отчаянно хочется глядеть на мир глазами ежа.
Это поразительно близко к догматическим утверждениям де Местра: нам надлежит развивать в себе покорность историческим требованиям, ибо в них — Господень глас, глаголющий через Божьих слуг; ибо в них — Божественные установления: нерукотворные и руками людскими неразрушимые. Нам надлежит изощрять слух и внимать истинному слову Господню, внутреннему движителю мироздания; однако что это значит в отдельных случаях, как следует нам вести себя в частной жизни либо вопросах государственных или политических — об этом оба критика, порицающих оптимистический либерализм, говорят очень мало. Ответа ждать не доводится.
Ибо положительный взгляд им обоим не свойствен. Толстовский — и не в меньшей степени де-Местровский — язык приспособлен к занятиям прямо обратного свойства. Толстовский гений поднимается во весь рост, анализируя, подыскивая четкие определения, выявляя различия, вычленяя отдельные примеры, добираясь до сердцевины всякой отдельной сущности per se\ и де Местр добивается блистательных успехов, ловя на горячем и прилюдно ставя к позорному столбу — подвергая montage sur Vepingle[116] — своих противников, мелющих или творящих несуразные глупости. Оба — тонкие, прилежные наблюдатели многоразличных событий и происшествий, немедля подмечающие и нещадно высмеивающие любую попытку отображать действительность недостоверно, пояснять уклончиво или обманчиво.
Но оба знают: полная истина, коренная подоплека взаимного сопряжения и соотношения всех частей миропорядка, тот контекст, в котором лишь и может все, сказанное ими либо другими, считаться истинным либо ложным, заурядным или важным — все это обретается посредством синоптического мироощущения, выразить которое они сами не в силах, поскольку не обладают им.
Чему же научился Пьер, с чем же княжну Марью примирило замужество, чего же князь Андрей всю свою жизнь искал столь мучительно? Ответить Лев Толстой, подобно Блаженному Августину, способен только от противного — уж больно разрушителен, сокрушителен его гений. Дорогу к намеченной цели он может указывать, лишь перечисляя верстовые столбы, уводящие от нее в сторону; а истину очищает и вычленяет, лишь истребляя все неистинное — то есть все, поддающееся выражению прозрачным, аналитическим языком, соотносящимся со слишком ясным, однако неизбежно ограниченным мировоззрением лиса. Подобно Моисею, он должен остановиться у рубежей Земли Обетованной — без нее странствие Толстого бессмысленно, а вступить в обетованные пределы ему не дозволено; и все же он знает: есть Земля Обетованная! — и может поведать нам — лучше, нежели когда бы то ни было поведал кто бы то ни было иной, чем она быть не может: прежде всего, ничем, достижимым с помощью искусства, науки, цивилизации, рассудочной критики.
Так же считает и Жозеф де Местр — этот реакционный противовес Вольтеру. С яростной сноровкой и злобной радостью он разрывает на клочки любую доктрину, возникшую в новейшие безбожные века. Всех шарлатанов он разоблачает и повергает одного за другим; в арсенале де Местра собрано самое действенное оружие, когда-либо разившее либералов и гуманистов.
Но престол по-прежнему пустует; положительное учение остается слишком неубедительным. Де Местр вздыхает по Средневековью, но стоит собратьям-эмигрантам задумать разгром Французской революции — возвращение к status quo ante\ — и савойский граф объявляет их намерения детской чепухой: попыткой вести себя так, словно того, что грянуло и непоправимо переменило нас, не случалось вовсе. Пытаться повернуть революцию вспять, писал он, примерно то же самое, что вычерпывать Женевское озеро пустыми винными бутылками.
Родства меж де Местром и теми, кто по-настоящему верил в возможность хотя бы отчасти возродить минувшее, меж ним и поклонниками Средневековья: от Ваккенродера, Герреса, Коббетта — вплоть до Г.-К. Честертона; меж ним и романтиками, тосковавшими по прошлому: славянофилами, «дистрибутивами», прерафаэлитами — родства меж ними нет; ибо де Местр, подобно Толстому, верил в начисто противоположное: в «неумолимую» власть и силу текущей минуты; в нашу неспособность преодолеть сумму условий, что, накапливаясь, определяют основные категории наши; в миропорядок, коего нам никогда ни описать вполне, ни — если только мы не ощутим его неким непосредственным образом — познать.
Распря меж этими двумя видами знания: происходящим от методических изысканий—и другим, менее определенным, заключающемся в «ощущении действительности», в «мудрости», — чрезвычайно стара. Общепризнано, что у обоих имеются известные неоспоримые достоинства; самые ожесточенные стычки случались только по поводу пограничной черты, коей надлежит раз и навсегда размежевать принадлежащие им области. Ясновидцы, недвусмысленно утверждавшие, что обладают сверхнаучным знанием, подвергались нападкам противников и выслушивали обвинения в иррационализме, обскурантизме, в намеренном пренебрежении принятыми общественными стандартами достоверности ради собственных капризов или слепых предрассудков — и, со своей стороны, винили противников, честолюбивых поборников науки, в том, что они выступают с несуразными утверждениями, обещают невыполнимое, сулят недостижимое, принимаются толковать историю, или науку, или душевные движения (да при этом еще и порываются изменять и то, и другое, и третье) совершенно явно пребывая в кромешном неведении касаемо собственной сущности; усердствуют ради того, чтобы итоги их трудов либо оказывались ничтожны, либо вообще толкали человечество на непредвиденные, сплошь и рядом погибельные пути, — и все это лишь от суетного упрямства, нежелания признать, что слишком великое множество факторов, сопряженных со слишком великим множеством событий и положений, всегда остается неизвестным и начисто недоступным естествознанию. Конечно, лучше не притворяться, будто можешь рассчитать не подлежащее расчету, не делать вида, будто за пределами этого мира имеется некая Архимедова точка опоры, с коей возможно все измерить либо изменить; лучше в каждом контексте использовать наиболее, по видимости, подходящие к нему научные методы, приносящие (говоря прагматически) наилучшие итоги; лучше не поддаваться Прокрустову соблазну — а прежде всего, отличать то, что поддается вычленению, классификации, объективному исследованию, а иногда точному измерению и управлению, от наиболее незыблемых, неизменных, повсеместных, неминуемых черт и свойств, неотъемлемо присущих мирозданию нашему: от всего слишком, чересчур привычного — настолько привычного, что его «неумолимый» — и непереносимый! — нажим еле ощущается, почти не замечается нами — от всего, чего и представить себе нельзя как наблюдаемые издали предметы изучения.
Этой способностью видеть отличие пронизана мысль Паскаля и Блэйка, Руссо и Шеллинга, Гете и Кольриджа, Шатобриана и Карлейля — всех, повествующих о велениях сердца, о людской природе — нравственной и духовной, о высях и безднах, о сверхчеловеческой проницательности поэтов и пророков, об особых видах разумения, о внутреннем постижении мира, о слиянии с ним. К именно такого склада мыслителям относятся оба — и Толстой, и де Местр. Толстой объясняет все нашим неведением эмпирических причин, а де Местр — отказом от логики Фомы Аквинского и от католического богословия. Но, учитывая тон и содержание сказанного двумя великими критиками, эти открытые проповеднические заявления предстают в несколько ином свете. Оба подчеркивают, опять и опять, противоположность «внутреннего» и «внешнего»; «поверхности», лишь на которую и льются лучи наук и рассудка, противопоставляются «глубины» — «это истинное бытие человеческое». Для де Местра, как позднее для Барреса, истинное знание — мудрость — заключается в умении понимать la terre et les morts[117] (кое общение им с логикой Фомы Аквината?) и быть причастным великому неизменному движению, порождаемому связью умерших с живыми, с еще не рожденными, и с землей, на которой они пребывают; полагаю, именно это, или нечто подобное, пытались выразить — каждый на свой особый лад — и Берк, и Тэн, и множество их подражателей.
Что до Толстого, ему подобный мистический консерватизм был особо отвратителен, ибо, по видимости, уклонялся от главного вопроса — просто видоизменяя его, пряча в облаках напыщенного красноречия, — это считалось ответом. Но и Толстой под конец являет нам видение, смутно, расплывчато различавшееся Кутузовым и Пьером Безуховым, — необъятную Россию, и все то, что она может совершить или перенести, и все то, чего не может; и когда, и как — все то, чего Наполеон и советники его (чьи знания были обширны, однако здесь неприменимы) не чувствовали, а посему (хотя, возможно, разбирались в истории, науках и крохотных причинах событий получше Кутузова или Пьера) неизбежно пришли к погибели. Хвалебные гимны де Местра, пропетые сверхчеловеческой учености великих христиан, ратовавших в минувшие века, и сетования Толстого касаемо нашего научного невежества никого не должны сбивать с толку насчет истинной природы защищаемого обоими авторами: оба говорят о «глубинных течениях», о raisons de cceur[118] — коих сами они прямо не ощущали, но по сравнению с коими (в этом были убеждены оба) научное хитроумие выглядело западней и заблуждением.
Вопреки глубоким различиям — даже, можно сказать, яростному противостоянию — скептический реализм Толстого и догматический авторитаризм де Местра суть единокровные братья, поскольку оба вытекают из отчаянной веры в целостное, безмятежное мировоззрение, где все вопросы решены, все сомнения улеглись, где наконец-то достигнуты покой и понимание. Лишенные этого мировоззрения, оба посвятили все свои исполинские творческие силы — разумеется, с весьма несхожих, а зачастую и начисто несовместимых позиций — расправе над всеми вероятными его противниками или критиками. Вера, за простую отвлеченную возможность коей они сражались, была у них разной. Но равно безнадежное положение понудило обоих отдать свой писательский дар пожизненно длившейся разрушительной работе; но враги у них оказались общими; но темпераменты их были крепко схожи — и все это сделало их странными, однако несомненными союзниками в борьбе, которую оба сознательно и упорно вели до последнего своего земного дня.
VIII
При всей несхожести Толстого и де Местра — один был поборником Евангельской истины: все люди суть братья, а другой — хладнокровным приверженцем насилия, слепого самопожертвования, вечного страдания, — их единила неспособность ускользнуть от общего обоим трагического парадокса: они по природе своей были зоркими лисами, обреченными чуять громадные, de facto[119] различия, разделяющие мир, населенный людьми, и силы, его раздирающие; оба выступали наблюдателями, напрочь лишенными способности клевать на приманку множества хитроумных доводов, сплоченных философских систем и научных верований, посредством которых люди поверхностные или отчаявшиеся пытались отгородиться от обставшего хаоса и оградить от него других. Оба искали гармонической вселенной — а везде обретали только войну и разброд, сокрыть коих ни на йоту не могли никакие обманы, сколь бы тонко ни притворялись они истинами; посему, дожив до крайнего отчаяния, и де Местр, и Толстой решились отбросить устрашающее критическое оружие — оба они, а Толстой в особенности, отменно умело им владели — ради единого великого мировоззрения, неделимо простого и далекого от привычных умственных процессов до такой степени, что орудия рассудочных доводов становятся против него бессильны; быть может, поэтому от него и тянулась вдаль тропа, уводившая к покою и спасению.
Де Местр начинал, будучи умеренным либералом, а закончил тем, что укрепился в уединенной твердыне своего собственного воинствующе папского католицизма и оттуда в пух и прах разнес целый новый мир девятнадцатого столетия. Толстой начинал воззрениями на людскую жизнь и историю, противоречившими всему им изученному, всему его творческому дару, всем его склонностям — и, следовательно, едва ли скажешь, будто он исповедовал эти воззрения по-настоящему и жил сообразно им — как писатель и как человек. А в дальнейшем, уже на закате лет, он перешел к образу жизни, посредством коего старался разрешить вопиющее противоречие меж тем, во что на деле верил применительно к людям и событиям, и тем, во что он полагал себя верующим или стремился уверовать, — под конец Толстой вел себя так, словно фактические вопросы подобного рода вообще не служили основополагающими, были всего лишь пустыми занятиями, дозволяющими скоротать праздное существование, — а истинно важные вопросы выглядели совсем иначе. Вотще и втуне, ибо Музу не обманешь. Толстой был наименее поверхностным из людей; он просто не умел плавать по воле волн: его неудержимо тянуло нырнуть в глубины, увидать сокрытое в сумраке бездны; и отворачиваться от увиденного Толстой не умел — однако даже в увиденном воочию сомневался; он мог сомкнуть веки — однако не забывал, что смыкает их; устрашающее, разрушительное толстовское ощущение всего ложного свело на нет его завершающую попытку самообмана — равно как и все предшествовавшие; Толстой умер в отчаянии, пригнетаемый двойным бременем: своей умственной непогрешимостью и чувством извечной нравственной ошибки — под величайшим гнетом, сужден- ным тому, кто не может ни усмирить, ни оставить без усмирения конфликт меж тем, что происходит и существует на деле, и тем, чему должно было бы существовать и происходить.
Толстовское чувство действительности до конца оставалось чересчур душераздирающим, чтобы сопрягаться с любым из нравственных идеалов, кое-как собранных Толстым воедино из осколков, на которые ум его дробил мироздание; всю исполинскую силу своего разума и воли своей Толстой до последних минут посвящал отрицанию этого факта. Неимоверно гордый — и в то же время исполненный ненависти к себе самому, всезнающий — и сомневающийся во всем, хладнокровный — и обуреваемый страстями, высокомерно-презрительный — и склонный к самоуничижению, истерзанный переживаниями — и невозмутимый, окруженный обожающей его семьей, боготворящими последователями, согретый восхищением целого белого света — и почти всецело одинокий, Толстой — самый трагический средь великих писателей, отчаявшийся старец, коему никто уже не в силах помочь; ослепивший себя и скитающийся в окрестностях Колона.
Герцен и Бакунин о свободе личности
«Жизнь человека — великий социальный долг [изрек Луи Блан];
человек должен постоянно приносить себя на жертву обществу.»
Зачем же? — спросил я вдруг.
Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица — благосостояние общества.
Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.
Это игра слов.
Варварская сбивчивость понятий, — говорил я, смеясь.
Александр Герцен. Былое и думы[120]
С 13 лет <... > я служил одной идее, был под одним знаменем — война против всякой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. И я буду продолжать эту маленькую партизанскую войну, как настоящий казак, auf eigene Faust[121] — как говорят немцы.
Александр Герцен, письмо к Мадзини[122]
I
И
зо всех русских революционных писателей девятнадцатого столетия Герцен и Бакунин остаются наиболее привлекательными. Различий меж ними было немало, и в учениях, и в темпераменте, а объединял обоих идеал личной свободы — средоточие их помыслов и действий.
Оба посвятили свою жизнь мятежу против любого угнетения, общественного и политического, государственного и частного, явного и скрытого; но само разнообразие их дарований доныне затмевает относительную ценность герценовских и бакунинских идей, касающихся этого важнейшего вопроса.
Бакунин был одаренным журналистом, а Герцен гениальным писателем, чья автобиография остается одним из великих шедевров русской прозы. Герцен-публицист не имел равных себе в девятнадцатом столетии. Его пылкое воображение, способности внимательнейшего наблюдателя, страстная нравственность и умственный задор неповторимо сочетались с умением писать в одно и то же время возвышенно и язвительно, иронически и пламенно; с блестящей занимательностью — и с великим благородством чувства и выражения. Что Мадзини сделал для итальянцев, Герцен сделал для соотечественников: породил — по сути дела, в одиночку — обычай и «идеологию» систематической революционной агитации, основав тем самым русское революционное движение. Бакунинские литературные способности были не столь обширны, однако его личное обаяние не знало равных даже в ту геройскую эпоху народных трибунов; Бакунин оставил по себе целую школу политической конспирации, сыгравшую огромную роль в великих общественных возмущениях нашего собственного века. Впрочем, самими этими достоинствами, что принесли двоим друзьям и собратьям по оружию право на бессмертие, затмеваются выдающиеся таланты политических и общественных мыслителей, коими обладали оба.
Но если Бакунин — хоть и наделенный изумительным красноречием и ясной, умной, здравой, а временами сокрушительной критической мощью — редко говорит нечто меткое, глубокое или самобытное (в любом случае, «пережитое лично»), то Герцен, вопреки своему блеску, беззаботной непосредственности высказываний, своим знаменитым «словесным фейерверкам», выражает мысли дерзкие и оригинальные, а посему выступает политическим мыслителем (следовательно, и моралистом) первостепенного значения. Приравнивать его взгляды к бакунинским, числя их разновидностью полу-анархического «популизма», или сопоставлять с воззрениями Прудона, Родбертуса или Чернышевского, считая дополнительными проявлениями раннего социализма с аграрным уклоном, значит оставлять без внимания самый примечательный вклад Герцена в политическую теорию. Эта несправедливость заслуживает исправления. Основополагающие политические идеи, изложенные Герценом, неповторимы не только по русским, а и по европейским понятиям. Не так уж богата Россия первостатейными мыслителями, чтобы дозволить себе роскошь пренебречь одним из трех гениальных проповедников нравственности, родившихся на русской земле.
II
■т
Александр Герцен вырос в мире, где преобладали французский и германский исторический романтизм. Крах великой Французской революции подорвал доверие к жизнерадостному натурализму восемнадцатого века столь же глубоко, сколь русская Октябрьская революция ослабила в наши дни престиж викторианского либерального мышления. Главнейшим убеждением просветителей восемнадцатого века была вера в то, что первопричины общественного злополучия, несправедливости и гнета — человеческое невежество и бездумное своеволие. Считалось: точное постижение законов, правящих физическим миропорядком, раз и навсегда обнаруженных и сформулированных богоравным Ньютоном, дозволит людям в должный срок покорить себе природу; уразумев неизменяемые причинно-следственные законы природы и приспособившись к ним, люди смогут жить в обитаемом мире настолько счастливо, насколько это мыслимо вообще; как бы там ни было, человечество избежит страданий и разлада, порождаемых тщетными и невежественными попытками противостать упомянутым законам или обойти их стороной. Некоторые полагали: мир, объясненный Исааком Ньютоном, таков и есть de facto, безо всяких заметных причин — завершенная и не подлежащая толкованию действительность. Другие думали: возможно сыскать в миропорядке разумный замысел — «природное» или Божественное Провидение, руководимое верховной целью, к коей устремляется все творение; стало быть, подчиняясь Промыслу, человек не склоняется перед слепой необходимостью, но сознательно соглашается играть роль, ему отведенную в связном, постижимом и оттого оправданном процессе.
Но, принимай ньютоновскую схему как простое описание или как теодицею, она служила идеальной парадигмой любых объяснений; потребовался гений Локка, дабы указать путь, идя по которому человечество, наконец, привело бы нравственный и духовный миры в должный порядок и растолковало их себе, применяя одни и те же принципы. Если естествознание дозволило человеку лепить материальный мир сообразно желанию, то науки о нравственности дозволили бы определять свое поведение так, чтобы навеки устранить разногласия меж верой и фактами — и тем покончить с любым и всяким злом, глупостью и разочарованием. Если бы философы (то есть ученые) принялись управлять миром вместо королей, дворян, священников, вместо служащих им простофиль и мальчиков на побегушках, всесветное счастье было бы, в сущности, достижимо.
Последствиями Французской революции очарование этих идей развеялось. Среди учений, пытавшихся установить, что же именно двинулось вкривь и вкось, ведущее место занял германский романтизм — ив своих субъективно-мистических, и в националистических разновидностях, — особенно, преобладавшее гегельянство. Здесь нельзя исследовать гегелевскую доктрину в подробностях; ограничимся замечанием, что оно придерживалось догмы, гласившей: миропорядок подчиняется постижимым законам; прогресс возможен — согласно некоему неизбежному плану, причем в полном соответствии с развитием духовных сил; что ученые мужи способны открывать вышеназванные законы и разъяснять их окружающим. Приверженцы гегельянства числили наихудшей оплошностью французских материалистов предположение, что законы эти обладают механической природой, а вселенная состоит из отделяемых частиц и крох — молекул, атомов, клеток; что все можно пояснять и предрекать, изучая передвижения тел в пространстве. Люди, говорили они, отнюдь не скопища слитых воедино материальных частиц; люди — это души, либо духи, повинующиеся собственным законам, неповторимым и чрезвычайно сложным. И людские общества — отнюдь не скопища личностей: они тоже имеют внутреннее строение, напоминающее психическую организацию отдельных душ, а преследуют цели, о коих составляющие общество личности могут — с разной степенью неведения — и не знать.
А посему, знание и впрямь освобождает человека. Лишь те, кто знали бы, почему все на свете устроено так, а не иначе, и ведет себя так, а не иначе, и почему неразумно быть чем-либо иным или вести себя как-либо иначе, имели бы право сами считаться вполне разумными: то есть по доброй воле подчинялись бы законам вселенной, а не тщетно колотились головами о неуступчивую «логику фактов». Единственно достижимее цели вкраплены в структуру исторического развития, и лишь они разумны, ибо разумна структура; крах человеческий — признак неразумия, непонимания того, чего требует эпоха; какова должна быть следующая стадия разумного прогресса; каковы существующие понятия — добра и зла, справедливости и несправедливости, прекрасного и уродливого, — к коим разумное существо обязано тянуться на определенном этапе своего развития, будучи составной частью разумной структуры. Оплакивать неминуемое, поелику оно жестоко или несправедливо, жаловаться на неизбежное значит отвергать разумные ответы на вопросы «что делать?» или «как жить?» Стремиться против течения — то же самое, что совершать самоубийство, а это — чистейшее безумие.
Согласно такому взгляду, доброе, благородное, справедливое, сильное, неминуемое, разумное составляют, в конечном счете, единое целое; противоречие меж ними исключается — рассуждая логически — априорно. Что же до самой структуры, тут возможны различные мнения; Гердер рассматривалее в культурном развитии различных племен и рас, а Гегель — в развитии национальных государств. Сен-Симон различал более обширную структуру в общеевропейской цивилизации; вычленял из нее преобладающую роль технического движения вперед и ввысь; также противоборство классов, порождаемых промышленностью и хозяйством; а внутри этой структуры — важнейшее влияние исключительных личностей: людей, нравственно, умственно или художественно гениальных.
Мадзини и Мишле рассматривали ее в понятиях внутреннего, отдельно взятого, «народного духа», порывающегося утвердить принципы своей общечеловечности — причем каждый народ ведет себя здесь по-своему, — противодействуя подавлению человеческой личности слепой природой. Маркс использовал исторические понятия классовой борьбы, порождаемой и определяемой развитием производительных общественных сил.
Политические мыслители и богословы в Германии и Франции видели в ней historia sacra\ многотрудный путь, ведущий падшего человека к единению с Божеством — вершинам теократии — подчинению мирских сил Царствию Божию на земле.
От перечисленных основных учений ответвлялось множество вариантов — и гегельянские, и мистические; некоторые восходили к натурализму восемнадцатого века; разгорались яростные битвы, на еретиков нападали, непокорных крушили. Но общей для всех была вера, во-первых, в то, что Вселенная подчиняется законам и обладает структурой — то ли доступной разумению, то ли эмпирически обнаруживаемой, то ли мистически открываемой человеку; во-вторых — в то, что люди лишь составные части целого, большего и сильнейшего, нежели они сами, а стало быть, поведение личности может объясняться терминами, приложимыми к целому, но отнюдь не наоборот; в-третьих, ответы на воп-
— Примечание перевод-
— священная история. 161
рос «что делать?» можно извлечь из познаний о целях объективного исторического процесса, в коем люди волей-неволей участвуют, — цели эти неизбежно одинаковы, с точки зрения всех, накопивших истинное знание, — всех разумных существ; в-четвертых, ничто, служащее средством к достижению объективно данной космической цели, не способно быть ни злым, ни жестоким, ни глупым, ни уродливым — по крайности, «в конечном счете» либо «при окончательном анализе» (чем бы оно там ни мерещилось человеку с первого взгляда) — и, соответственно, все, противостоящее великой цели, является злым, жестоким и т. д. Мнения могли различаться: считать ли неизбежными упомянутые цели — а значит, и прогресс неминуемым, — или, напротив, люди свободны выполнять отведенные им задачи либо пренебрегать ими (на свою же неминуемую погибель) ? Но все сходились в одном: объективные цели вселенского значения обнаружить можно, и только в них заключаются единственные истинные цели всякой общественной, политической и личной деятельности; будь иначе — мир оказалось бы нельзя рассматривать как некий «космос», коему присущи настоящие законы и «объективные» требования; всякая вера, все ценности оказались бы лишь относительными, лишь субъективными игрушками прихотей и случайностей, неоправданными и не подлежащими оправданию, — а подобное немыслимо.
Против этого великого деспотического учения, этого умственного блеска, излучаемого эпохой, этого кумира, коего обнаружил, вознес на пьедестал, изукрасил несметными образами и цветами германский метафизический гений, а глубочайшие и почтеннейшие мыслители Франции, Италии и России восхвалили, Герцен восстал яростно. Он отвергал основы подобных воззрений и бранил умозаключения, из них выводимые, не просто потому, что находил их (подобно своему другу Белинскому) нравственно отталкивающими, но еще и потому, что считал их умственным лицемерием и эстетической безвкусицей, равно как и попыткой зашнуровать природу в смирительной рубашке убогого и нищего воображения, что свойственно германским филистерам и педантам.
В «Письмах из Италии и Франции», «С того берега», «К старому товарищу», в «Открытых письмах» к Мишле, Линтону, Мадзини и, разумеется, на всем протяжении «Былого и дум» Герцен четко и недвусмысленно излагал свои этические и философские убеждения.
Важнейшими из них были следующие: природа не подчиняется никакому замыслу, а история творится не согласно либретто; никакого единого ключа, никакой единой формулы и в принципе нельзя подобрать к вопросам, занимающим личность или целое общество; общие решения отнюдь не служат решениями, вселенские цели никогда не бывают настоящими, у всякой эпохи свое строение и свои вопросы; кратчайшие пути и обобщения отнюдь не заменяют опыта; свобода — живых людей в определенном месте и в определенное время — есть абсолютная ценность; минимальное пространство для свободных поступков есть нравственная необходимость для всех людей, и нельзя подавлять ее ради отвлеченных понятий или общих принципов, коими столь непринужденно потрясают великие мыслители данной или какой угодно другой эпохи — ради вечного спасения, истории, человечества, прогресса; еще менее ради государства, или Церкви, или пролетариата — великих слов, призываемых, дабы оправдать ужасающую жестокость либо деспотизм: чудодейственных заклинаний, долженствующих задушить голос людского чувства или совести. Эта либеральная точка зрения родственна истрепавшейся, но пока не исчезнувшей традиции западных учений о свободе воли; остатки их упорно цеплялись за жизнь даже в Германии — у Канта, Вильгельма фон Гумбольдта, в ранних трудах Шиллера и Фихте, — уцелели во Франции и Французской Швейцарии — среди философов-«идеологов», у Бенжамена Констана, Токвилля и Сисмонди — и оказались упорной порослью в Англии, среди радикалов-утилитаристов.
Герцен, подобно ранним либералам Западной Европы, наслаждался независимостью, разнообразием и свободной игрой личного темперамента. Он желал наибогатейшего возможного развития людских свойств, ценил непосредственность, прямоту, достоинство, гордость, страстность, искренность, манеры и повадки свободных людей; а ненавидел трусость, угодливость, покорность грубой тиранической силе или общественному мнению, произволу и насилию, не выносил заискивающей робости, преклонения перед властью, нерассуждающего почтения к минувшему, к учрежденному, к мифам и загадкам; не терпел унижения слабых сильными; сектантства, филистерства; неприязни и зависти большинства к меньшинству — и грубой надменности меньшинства по отношению к большинству.
Он желал общественной справедливости, экономической ладности, политической устойчивости — но все это было второстепенно по отношению к необходимости оберегать людское достоинство, к соблюдению высокой цивилизованности, к защите личности от нападения и насилия, к ограждению тонко чувствующих или талантливых людей от хамства отдельно взятых лиц или целых учреждений. Любое общество, что по какой бы то ни было причине отказывалось предупреждать и отражать подобные покушения на свободу, приветствуя оскорбления с одной стороны, а пресмыкательство — с другой, Александр Герцен обличал беспощадно и отвергал во всех своих книгах — какие бы социальные и экономические выгоды ни сулило (причем и честно, и вполне ощутимо!) подобное общество своим членам. Он отвергал такое общество с той же нравственной яростью, с которой Иван Карамазов отвергал обещание вечного блаженства, купленного ценой мучений, выпавших на долю невинному ребенку; но доводы, коими Герцен защищал свои мысли, тот слог, которым он описывал своего врага, ведомого автором к позорному столбу для немилосердного последующего уничтожения, имели в тоне и содержании весьма немного общего с тогдашним богословским или же либеральным красноречием.
Как остроглазого, пророчески проницательного свидетеля своей эпохи, его, пожалуй, можно сравнивать с Марксом и Токвиллем; а как проповедник нравственности, он куда интересней и оригинальней их обоих.
ш
Общеизвестно: человек стремится к свободе. Более того: говорят, будто человеческие существа наделены правами, в известной степени дозволяющими не просить, но требовать себе свободы поступков и действий. Взятые в чистом виде, утверждения эти кажутся Герцену пустыми. Их следует наполнить неким определенным смыслом, но даже тогда — если брать их как гипотезы об истинном состоянии человеческих взглядов на жизнь — они окажутся неверны; история их не подтверждает; народные массы редко желали свободы:
«Массы хотят остановить руку, нагло вырывающую у них кусок хлеба, заработанный ими <... > К личной свободе, к независимости слова они равнодушны: массы любят авторитет, их еще ослепляет оскорбительный блеск власти, их еще оскорбляет человек, стоящий независимо; они под равенством понимают равномерный гнет <... > массы желают социального правительства, которое бы управляло ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим — им и в голову не приходит»
По этому поводу было и есть чересчур уж много «романтизма для сердца» и «идеализма для ума»[123] — чересчур уж много стремления к словесной магии, чересчур уж много желания подменять вещи словами. В итоге, шли и поныне идут кровавые столкновения, множество безвинных человеческих существ погибало и погибают, будто скот на бойне, и самые чудовищные преступления оправдывались и оправдываются во имя отвлеченных понятий:
«Нет в мире народа <...> который пролил бы столько крови за свободу, как французы, и нет народа, который бы менее понимал ее, менее искал бы осуществить ее на самом деле <... > на площади, в суде, в своем доме <...> Французы — самый абстрактнейший и самый религиозный народ в мире; фанатизм к идее идет у них об руку с неуважением к лицу, с пренебрежением ближнего; у французов• все превращается в идол — и горе той личности, которая не поклонится сегодняшнему кумиру. Француз дерется геройски за свободу и не задумываясь тащит вас в тюрьму, если вы не согласны с ним во мнении <... > Тираническое salus populi[124] и инквизиторское, кровавое pereat mundus et fiat justitia[125] равно написано в сознании роялистов и демократов <... > Читайте Ж. Санд и Пьера Леру, Луи Блана и Мишле, — везде вы встретите христианство и романтизм, переложенные на наши нравы; везде дуализм, абстракция, отвлеченный долг, обязательные добродетелиу официальная риторическая нравственность без соотношения к практической жизни»ъ.
А в итоге, продолжает Герцен, все оборачивается бессердечным легкомыслием; человеческие существа приносятся в жертву пустым словам, разжигающим страсти, — но, если начать доискиваться их смысла, не значат ничего: оборачиваются некой «политической gaminerie[126]», что «долго нравилась Европе и увлекала ее»[127], — а заодно и ввергала в бесчеловечные и никому не нужные побоища. «Дуализм» для Герцена есть смешение фактов и слов, построение теорий, пользующихся отвлеченными понятиями, которые основываются отнюдь не на истинных нуждах и потребностях, появление политических программ, созданных согласно отвлеченным принципам, касательства не имеющим к истинному положению дел. Эти словесные формулы становятся ужасающим оружием в руках фанатических доктринеров, силком старающихся навязывать свои идеи человечеству — при случае, посредством жесточайшей вивисекции, во имя некоего абсолютного идеала, освящаемого каким-либо некритическим и не подлежащим критике мировоззрением — то ли метафизическим, то ли религиозным, то ли эстетическим; в любом случае, не заботящимся о настоящих нуждах живых людей — во имя своих идей революционные вожди убивают и пытают со спокойной совестью, поскольку убеждены: это, лишь это и единственно это послужит — не может не послужить — к исцелению всех общественных, политических и частных недугов.
Свой тезис Герцен развивает, идя по пути, проложенному Токвиллем и прочими критиками демократии, указывая: народные массы ненавидят талант и хотят, чтобы все мыслили, подобно им самим; народные массы глядят на независимую мысль и поведение с лютой подозрительностью:
«Подчинение личности обществу, народу, человечеству — идее — продолжение человеческих жертвоприношений <...> распятие невинного за виновных <...> Лицо, истинная, действительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятию, собирательному имени, какому-нибудь знамени. <...> Кому жертвовали <...> об этом никто не спрашивал»
Поскольку эти абстракции — история, прогресс, безопасность народа и общественное равенство — были и остаются языческими алтарями, на коих без малейшего зазрения совести приносят в жертву невинных, этим алтарям стоит уделить внимание. Герцен исследует их поочередно.
Если история неотвратимо движется в известном направлении, обладает разумной структурой и целью (вероятно, благотворной), людям следует либо приспособиться к ходу истории, либо погибнуть. Но что же это за разумная цель? Герцен ее распознать не в силах; и смысла он в истории не замечает — лишь повесть о «родовом хроническом безумии»[128]:
«Истинно, не считаю нужным приводить примеры; их миллионы. Разверните какую хотите историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы; вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, — и лс«о убедитесь в печальной на первый взгляд истине — и истине, полной утешения на второй взгляд, шо все это следствие расстройства умственных способностей. Куда ни взглянешь в давнем мире, везде безумие почти так же очевидно, /сл/с и в новом. Тут Кур- ций бросается в яму для спасения города, там отец приносит дочь в жертву, чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку, — и этого бешеного не посадили на цепь, «е свезли в желтый дом, я признали за первосвященника. Здесь персидский царь гоняет море сквозь строй, тля же л/лло понимая нелепость поступка, агла: его вряги афиняне, которые цикутой хотели лечить от разума и сознания. А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство! <...>
Как только христиан домучили, дотравили зверьми, принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из-за вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняют свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики»[129].
«История — атобиограуфия сумасшедшего»[130]. С неменьшей горечью это могло быть сказано Вольтером или Толстым. А цель истории? Мы не творим истории, мы не в ответе за нее. Коль скоро история — повесть, излагаемая идиотом, наверняка преступно оправдывать гнет и жестокость, произвол, творимый по отношению к тысячам человеческих существ ради пустых абстракций — «исторических требований», «исторических судеб», «национальной безопасности», «логики фактов». От изречений «salus populi suprema lex;pereat mundus et fiat justitia»[131] крепко разит смрадом горящей плоти, льющейся крови, тянет духом инквизиции, пыток — вообще, «торжеством порядка»[132]. Отвлеченными понятиями не только порождаются гибельные последствия — отвлеченные понятия суть жалкая попытка уклониться от фактов, не укладывающихся в заранее измышленную схему.
«Человек только тогда смотрит свободно на предмет, когда он не гнет его в силу своей теории и сам не гнется перед ним. Уважение к предмету не произвольное, а обязательное ограничивает человека, лишает его свободного размаха. Предмету говоря о котором человек не может улыбнутьсяу не впадая в кощунство <...> — фетиш, и человек подавлен иму он боится его,смешать с простою жизнию»ъ.
Фетиш становится идолом, предметом слепого, несмыс- ленного поклонения, а следовательно, таинственным кумиром, оправдывающим любые злодейства. И далее в том же ключе:
«Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Возмужалая логика ненавидит канонизированные истины <... > она ничего не считает неприкосновенныму и> если республика присваивает себе такие же правау как монархия, — презирает ее, как монархию, — нет, гораздо больше <... > Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать преступлением оскорбление величества, надобно признавать преступным salus populi»
И Герцен прибавляет: патриотизм — самопожертвование ради отечества — несомненно, благороден; однако еще лучше человеку выжить и уцелеть заодно с отечеством. Вот и вся «история». Человеческие существа «вылечатся от идеализма так, как вылечились от других исторических болезней — рыцарства, католицизма, протестантизма»[133].
Иные толкуют о «прогрессе» и готовы пожертвовать настоящим во имя будущего; заставить современников страдать ныне, дабы отдаленные их потомки были (возможно) счастливы; эти смотрят сквозь пальцы и на лютые злодейства, и на поголовную деградацию, поскольку и то, и другое — необходимо нужные средства, позволяющие достичь гарантированного грядущего благополучия.
Для рассуждающих на подобный лад — и реакционеров- гегельянцев, и революционеров-коммунистов, и спекулятивных утилитаристов, и фанатических приверженцев папства — Герцен приберегает свое самое жгучее презрение и самую ядовитую насмешку. Им отведены лучшие страницы книги «С того берега» — политического profession de foP, созданного Герценом как надгробный плач по сгинувшим иллюзиям 1848 года:
«Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: "Morituri te salutant"\ только и умеет ответить <...> горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле.
Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой другие когда-нибудь будут танцевать <...> или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязиу тащат барку <...> со смиренной надписью "Прогресс в будущем"?.. цель бесконечно далека — не цель, а уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере — заработная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства <...> Цель для каждого поколения — оно само. Природа не только никогда не делает поколений средствами для достижения будущего, но она вовсе о будущем не заботится; она готова, как Клеопатра, растворить в вине жемчужину, лишь бы потешиться в настоящем <...>
<... > £сли # человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда истории не было бы, а была бы логика... разум вырабатывается трудно, медленно, — его нет ни в природе, ни вне природы... с ним надобно улаживать жизнь как придется, потому что libretto нет. А будь libretto, история потеряет всякий интерес, сделается ненужна, скучна, смешна <... > великие люди сойдут на одну доску с театральными героями <...> В истории все импровизация, все воля, все extempore[134], впереди ни пределов, ни маршрутов нет, есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль, куда хотят, куда есть только дорога, — а где ее нет, там ее сперва проложит гений»ъ.
И Герцен продолжает: исторические и природные процессы могут повторяться миллионы лет; могут внезапно прерываться; хвост кометы способен коснуться нашей планеты и уничтожить все на ней живущее; тут и настанет конец истории. Но из этого ничего не следует; никакой морали в этом не содержится. Нет ни малейшей уверенности, что дело повернется так, а не иначе. Смерть одного- единственного человеческого существа не менее абсурдна, столь же непостижима, сколь и смерть целой человеческой расы; тут загадка, и должно принять ее — и незачем стращать ею детей.
Природа — отнюдь не гладкое, телеологическое явление, и уж, безусловно, не явление, предназначенное для счастья людского или расцвета социальной справедливости. Природа для Герцена — скопище вероятностей, сбывающихся вне какого-либо постижимого предварительного замысла. Что-то из вероятностей сбывается, что-то гибнет; в условиях благотворных они осуществляются — но могут и отклониться от пути, зачахнуть, исчезнуть. Некоторых людей это приводит к цинизму и отчаянию.
Неужто жизнь человеческая — лишь нескончаемые циклы роста и упадка, преуспеяния и краха? Неужто не имеется в ней никакой цели? Неужто усилия человеческие обречены кончаться крушениями, за коими грядет новое начало, загодя обреченное на крах, подобно всем предшествовавшим? Но думать так значит не понимать окружающей действительности. С чего бы усматривать в природе некое полезное орудие, сотворенное ради людского преуспеяния или счастья? С чего бы требовать пользы — достижения поставленных целей — от беспредельно богатого, беспредельно щедрого космического процесса? Не величайшая ли пошлость — вопрошать: а что пользы в этом изумительном цвете? — что пользы в тончайшем аромате растения? — каковы их назначение и цель, ежели все обречено сгинуть, и столь скоро? Природа плодоносит бесконечно и безоглядно: «...она идет донельзя <... > до того, что разом касается пределов развития и до смерти, которая осаживает, умеряет слишком поэтическую фантазию и необузданное творчество ее»[135]. С какой стати ожидать, что природа подчинится нашим унылым понятиям? Какое право имеем настаивать на том, что история бессмысленна, если не укладывается в предписываемые нами рамки, не преследует угодных нам целей, не исповедует наших мимолетных или ползучих идеалов? История есть импровизация, она «стучится разом в тысячу ворот <... > которые отопрутся <... > кто знает?» — «Может, балтийские — и тогда Россия хлынет на Европу?» — «Может быть». Все в природе, в истории — самоценно, и служит своей же собственной целью.
Настоящее время самодостаточно, и течет вовсе не во имя некоего неведомого будущего. Существуй все на свете ради чего-либо иного, всякий факт, событие, существо представали бы только средством для чего-то, обретающегося, в согласии с неведомым космическим замыслом, вне их самих. Неужто все мы — лишь марионетки, управляемые незримыми нитями, — жертвы загадочных сил, играющих нами в согласии с неким космическим либретто? Неужто же мы и разумеем под этим нравственную свободу? Неужто наивысшая точка любого процесса — его цель ео ipso[136]} Разве цель юности — старость? Лишь оттого, что человек родится, растет и старится? А разве цель жизни — смерть? «А какая цель песни, которую поет певица?3» Затем ли она поет, чтобы, когда пение прервется, мелодия и слова кому-то запомнились, — или затем, чтобы наслаждение, дарованное песней, пробудило в слушателе тоску по чему-то безвозвратно ушедшему? Нет и нет. Это ложный, предельно близорукий и узкий взгляд на жизнь. Цель певицы — петь. А цель жизни — жить.
Все проходит; но проходящее способно вознаградить паломника за перенесенные страдания. Гете сказал нам: нет надежности, нет безопасности — радуйся же настоящему, человече! — но человек не радуется; он отвергает и красоту, и радость, ибо вдобавок жаждет обладать еще и будущим. Так отвечает Герцен всем тем, кто, подобно Мадзини и Ко шуту, социалистам и коммунистам, призывал к неимоверным жертвам и страданиям во имя цивилизации, либо равенства, либо справедливости, либо человеколюбия — коль скоро не в настоящем, то в грядущем. Но это идеализм, или «метафизический» дуализм — светская, безбожная эсхатология.
Цель жизни — сама жизнь, цель борьбы за свободу — свобода теперь и здесь, для ныне здравствующих людей, причем каждый имеет собственные цели, ради коих движется, и сражается, и страдает; и эти собственные цели священны для каждого; сокрушать собственную свободу, отрекаться от своих упований, отказываться от своих целей во имя некоего расплывчато обозначенного и смутно различимого светлого будущего — глупость, ибо упомянутое будущее всегда ненадежно, всегда жестоко, всегда оскверняет единственные нам известные моральные ценности, попирает и топчет настоящие людские нужды и жизни, — а во имя чего? Ради свободы, счастья, справедливости — фанатических обобщений, загадочных звуков, отвлеченных понятий. А чего ради стоит добиваться личной свободы? Лишь ради нее самой, а не потому, что народное большинство желает себе свободы. Большинство людей вообще свободы не ищет — вопреки знаменитому восклицанию Руссо: дескать, все люди рождаются свободными; это, замечает Герцен (эхом отзываясь Жозефу де Местру), все едино, что заявить: «Рыбы рождаются для полета — но повсюду только плавают».
Прекраснодушные рыбьи заступники могут из кожи вон лезть, доказывая: рыбам самой природой «предначертано» летать — и все же, это неправда. А люди, как правило, не любят своих освободителей; им куда милее двигаться по старой, предками проложенной колее, сгибаясь под издавна привычным ярмом, нежели подвергаться огромному риску, создавая новую жизнь. Они даже согласны (это Герцен твердит и там и сям) платить самую чудовищную дань существующему ныне обществу, бормоча: «что ни говори, а все-таки современная жизнь получше феодализма и варварства». «Народам» никакой свободы не требуется; она желанна лишь отдельным цивилизованным личностям, ибо стремление к свободе неразрывно связано с цивилизацией.
Ценность свободы, равно как и ценность цивилизации либо просвещения — и ведь ни то, ни другое, ни третье не «естественно», а вдобавок, ни того, ни другого, ни третьего не добьешься без великих усилий, — заключается в одном факте: без свободы личность не может существовать согласно своим склонностям, применяя и развивая свои дарования, — не может жить, совершать поступки, наслаждаться, творить на бесконечно разнообразные лады, предлагаемые историей в каждый миг ее течения — миг, непостижимо отличающийся от любого иного исторического мгновения, и начисто с ними несопоставимый. Человек «не хочет быть ни пассивным могильщиком прошлого, ни бессознательным акушером будущего»[137]. Человеку хочется жить текущим днем. А нравственность его — не производное от исторических законов (коих не существует) или от объективных целей общечеловеческого прогресса (коих тоже не существует — они меняются по мере того, как меняются обстоятельства и личности). Нравственные цели требуются человеку ради них самих. «Действительно, свободный человек создает свою нравственность»[138].
Подобное осуждение общепринятых предписаний нравственности — безо всякого намека на байронические либо ницшеанские преувеличения — звучало в девятнадцатом столетии не часто; а в полный голос прогремело только в первой трети века двадцатого. Герцен крушит направо и налево: и романтических историков и гегельянцев; и, в некоторой степени, Канта; крушит и утилитариста и сверхчеловека; и Толстого и людей, обожествляющих искусство; и «научную» этику и все церкви до единой; это осуждение — и эмпирическое и натуралистическое одновременно — признает абсолютные ценности наравне и переменяющимися; не смущают Герцена ни эволюционная теория, ни социализм. И самобытно это осуждение до степени ошеломительной.
Уж если осуждать существующие политические партии, объявляет Герцен, то никак не за их неспособность удовлетворить устремлениям большинства, поскольку большинство, в любом случае, предпочитает воле — рабство, а освобождение людей, внутренне остающихся рабами, неизменно чревато варварством и анархией: «недостаточно разобрать по камешку Бастилью, чтоб сделать колодников свободными людьми»[139]. «Роковая ошибка их [французских радикалов 1848 года] состоит в том, что <... > они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились <... > Они хотят, не меняя [тюремных] стен, дать им иное назначение, как будто план острога может годиться для свободной жизни»2.
Экономической справедливости ни в коем случае не довольно — именно этого и не учитывают, себе же на погибель, социалистические «секты». Что касается демократии, она легко может обратиться «бритвой», которой «неприготовленный народ» — подобный французам, в 1848 году начавшим «всеобщую подачу голосов», «чуть не зарезался»[140], и диктатурой («петрограндизмом») этого не исправить, как ни пытайся — она приведет к еще более страшному гнету. Гракх Бабеф, разочарованный плодами Французской революции, учредил «религию» равенства — «каторжного равенства»[141]. А нынешние, современные коммунисты — что же предлагают нам они? «Коммунистическую барщину Кабэ»[142]? «Египетское устройство работ коммунистов в духе Луи Блана?»[143]? Опрятные маленькие фаланстеры Фурье, где свободному человеку нечем дышать — и где одна сторона жизни всечасно подавляется ради блага окружающих[144]? Коммунизм — всего лишь движение уравнителей, деспотизм осатаневших толп и «комитетов общественного спасения», вопиющих о «народной безопасности»: неизменно чудовищный лозунг — столь же гнусный, сколь и враг, об истреблении коего эти комитеты пекутся. Варварство омерзительно, с какой бы ни приходило оно стороны: «Кто покончит, довершит? Дряхлое ли варварство скипетра или буйное варварство коммунизма, кровавая сабля или красное знамя?..»[145]
Верно: либералы хилы, далеки от действительности, робки; либералы не разумеют нужд, присущих бедным и слабым, новому, восходящему классу — пролетариату; верно: консерваторы жестоки и тупы, жадны и деспотичны — да только не следует забывать: и священнослужители, и помещики обычно ближе к народу, и сознают его нужды лучше, чем либеральные интеллигенты, хотя их собственные намерения могут быть менее честными или благими.
Верно: славянофилы — беглецы от действительности, защитники опустевшего престола, оправдывающие скверное настоящее во имя воображаемого прошлого. Эти люди следуют зову жестоких, себялюбивых инстинктов или пустых утверждений. И все же разнузданная сегодняшняя демократия ничуть не лучше, и способна пригнетать как человека, так и свободу его даже свирепее, чем ненавистное и гнусное правительство Наполеона III.
Что за дело массам до «нас»? Массы могут выкрикнуть прямо в лицо европейскому правящему классу: «Мы были голодны — вы нам дали парламентскую болтовню; мы были наги — вы -нас послали на границу убивать других голодных и нагих»[146].
Английское парламентское правление — отнюдь не выход из тупика, поскольку, наравне с другими так называемыми демократическими учреждениями («западнями, что именуют оазисами свободы»)[147], попросту обороняет права собственников, ссылает людей за океан в интересах общественной безопасности, содержит под ружьем других людей — готовых получать приказ и, не задавая вопросов, немедля спускать курок. Немного знают простодушные демократы о том, во что верят — и о последствиях веры своей. «Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в Бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в Царство Небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно?»3 А что касается последствий — настанет в один прекрасный день истинная всемирная демократия — владычество народных масс. И тогда-то начнется нечто впечатляющее:
«Вся Европа выйдет из фуг своих, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся, народы соединятся другими группами, национальности будут сломлены и оскорблены.
Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики остановятся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук, как после Тридцатилетней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность и всякое управ- ленне. Тогда победители начнут драку за добычу. Испуганная цивилизация, индустрия побегут в Англию, в Америку, унося с собой от гибели кто деньги, кто науку, шо начатый труд. Из Европы сделается нечто вроде Богемии после гуситов.
И тут — на краю гибели и бедствий — начнется другая война — домашняя, своя расправа неимущих с имущими!
Напрасно жать плечами, негодовать и клясть. Разве вам этого не предсказал Ромье? «Или безвыходный цезаризм, или красный призрак» <...>.
<...> Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Середь грома и молний, зареве горящих дворцов, «л развалинах фабрик и присутственных мест — явятся новые заповеди, крупно набросанные черты нового символа веры.
Они сочетаются на тысячу ладов с историческим бытом; но как бы ни сочетались они, основной тон будет принадлежать социализму; современный государственный быт с своей цивилизацией погибнут — будут, /слдс учтиво выражается Прудону ликвидированы.
Вам жаль цивилизации?
Жаль ее и мне.
Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества иунижения»х.
Именно пророчества подобного рода, изрекавшиеся не кем-нибудь, но самими же отцами-созидателями «нового порядка», изрядно смущают нынешних советских критиков и официальных биографов. Как правило, подобные места или вообще не публикуют, или печатают с купюрами.
Гейне и Буркгардта тоже преследовали кошмарные видения, оба говорили о демонах, вызванных несправедливостями и «противоречиями» нового мира, сулившего не Утопию, а всеобщую погибель. Подобно им, Герцен отнюдь не питает иллюзий:
Или вы не видите <...> новых варваров, идущих разрушать? — Они готовы, они, лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, «е расправа, л катаклизм, переворот... Эта лава, эш варвары <... > идущие покончить дряхлое и бессильное, « <... > [они] ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода, от холодя, о«« ропщут над нашей головой и под нашими ногами, «л чердаках и в подвалах, в wo время как мы с вами aupremierx, Шампанским вафли запивая, толкуем о социализме. Я знаю, что это «е новость, что о«о « прежде было так, «о прежде они не догадывались, что это очень глупо»1.
Герцен более последовательный «диалектик», нежели «научные социалисты», отметавшие утопии, творимые соперниками, только ради того, чтобы лелеять собственный многовековой бред. Для сравнения с бесклассовой идиллией, представленной Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии», выберем следующие строки Александра Герцена:
«Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, « снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией»[148].
У исторического процесса не бывает «кульминации», высочайшей точки. Человеческие существа изобрели это понятие лишь оттого, что невыносимой казалась мысль о нескончаемом конфликте.
Подобные предсказания сыщутся и в свирепых пророчествах Гегеля и Маркса, также предрекавших погибель буржуазии, и смерть, и лаву, и грядущую новую цивилизацию. Но если писания обоих — и Гегеля, и Маркса — звучат несомненно злобной насмешкой, вурдалачьей радостью при мысли о том, какие необъятные разрушительные силы сорвутся с цепи, какое начнется поголовное уничтожение всех простодушных, всех глупцов и всех презренных филистеров, ни сном ни духом не ведающих о своей грядущей жуткой участи, то Герцен свободен от низменного преклонения перед зрелищем торжествующей и лютующей силы, от презрения к слабости как таковой, и от романтического уныния, в коем кроются корни всякого нигилизма и фашизма, пришедших уже позднее; Герцен отнюдь не полагает близящийся катаклизм неминуемым или славным. Он презирает либералов, затевающих революции, а затем пытающихся утихомирить их последствия; одновременно подрывающих старый порядок — и льнущих к нему; поджигающих фитиль — и старающихся предотвратить взрыв; пугающихся, когда является легендарная тварь — их «несчастный, обделенный брат»[149] — рабочий, пролетарий, требующий себе прав и не разумеющий, что если ему самому терять нечего, то интеллигентный человек легко потеряет при этом все.
Именно либералы предали парижскую, римскую и венскую революции 1848 года — не только ставши отступниками и помогая разбитым реакционерам возвратиться к власти и раздавить свободу, но сперва ударившись в бегство, а после голося: «исторические силы чересчур могучи, чтобы противиться им». Если не знаешь решения задачи, гораздо честнее признаться в этом и сформулировать ее условия более понятным образом, нежели сперва затемнять их, расписываться в немощи, идти на предательство, — а потом сетовать: история, дескать, слишком уж могущественна, куда нам против нее...Верно: идеалы 1848 года были и сами по себе достаточно пустыми — во всяком случае, Герцен считал их пустыми в 1869-м: «Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти»[150]. Грубые экономические промахи плюс «арифметический <...> пантеизм всеобщей подачи голосов», «суеверие <...> в республику» и «суеверие в парламентские реформы»[151] — вот и все, по сути дела, идеалы 1848 года.
Но либералы не боролись даже за собственные дурацкие программы. Да и в любом случае, свободы не добьешься подобными способами. Нынешние наши требования достаточно ясны, это скорее социальные требования, чем экономические; ибо в отсутствие преобразований более глубоких, простые экономические перемены, предлагаемые и проповедуемые социалистами, недостаточны, чтобы покончить с цивилизованным людоедством, самодержавием, религией, судопроизводством, правительствами, нравственностью и повседневными привычками. Устоявшаяся частная жизнь граждан тоже должна перемениться. ..
«И не странно ли, что человек, освобожденный новой наукой от нищеты и от несправедливого стяжания, — все же не делался свободным человеком, а как-то затерялся в общине? Хоть это лучше, нежели человек-машина, человек-снаряд, но все же оно тесно, неудовлетворительно. Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество — самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена»ъ.
Науке с этим не сладить (расе, Сен-Симон), и ополчаться на безудержную промышленную конкуренцию бесполезно, и бессмысленно проповедовать искоренение бедности — если все это кончится лишь слиянием личностей в единую, монолитную, гнетущую общину — в ««каторжное равенство», бывшее столь милым сердцу Гракха Бабефа.
История не предопределена. Жизнь, по счастью, течет не в согласии с неким либретто, всегда возможны импровизации, ничто не понуждает грядущее наступать согласно программе, подготовленной метафизиками[152]. Социализм отнюдь не невозможен, однако вовсе не неотвратим, а задача верующих в свободу — не дозволить ему выродиться ни в буржуазное филистерство, ни в коммунистическое рабство. Жизнь сама по себе ни хороша, ни плоха, — люди становятся тем, во что себя превращают.
Без чувства ответственности перед обществом они делаются орангутангами, а без естественного себялюбия — ручными мартышками: «Уничтожьте в человеке общественность, и вы получите свирепого орангутанга; уничтожьте в нем эгоизм, и из него выйдет смирное жоко»[153]. Однако не существует неумолимых сил, понуждающих человека становиться любой из этих обезьян. Нам не определяют целей, мы сами определяем их; посему, вдребезги топтать свободу сегодня, суля свободу завтра — ибо ее «объективно гарантируют», — значит пользоваться жестокими и подлыми заблуждениями как поводами для чудовищных беззаконий. «Когда бы люди захотели вместо того, чтоб спасать мир, спасать себя, вместо того, чтоб освобождать человечество, себя освобождать, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека»[154].
И Герцен продолжает: человек, разумеется, зависит и от окружающей общественной среды, и от эпохи — физиологически, биологически; от них же зависит и образование, человеком получаемое; зависим человек от них и на уровнях более сознательных; Герцен признает: эпоха отражается в нас, и человек «не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды» 5. Но все же наличествует возможность противостоять социальной среде и протестовать — независимо от того, действенными ли будут противостояние и протест, выльются они в формы частные или общественные. Философия детерминизма — лишь оправдание собственной слабости. Всегда сыщутся фаталисты, повторяющие: «Избрание путей истории не в личной власти; не события зависят от лиц — а лица от событий. Мы только мнимо заправляем движением, но, в сущности, плывем куда волна несет, не зная до чего доплывем»[155]. Только это неправда.
«Пути вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманьем, с личной энергией. Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать — тут взаимодействие. Быть страдательным орудием каких-то не зависимых от нас сил — как Дева, Бог весть с чего зачавшая у нам не по росту. Чтоб стать слепым орудием судебу бичоМу палачом Божиим — надобно наивную веру, простоту неведения у дикий фанатизм и своего рода непочатое младенчество мысли»1.
Делать вид, будто мы остаемся такими же и доныне, было бы нечестно. Восстают вожди, вроде Бисмарка (или Маркса), объявляющие: мы ведем свой народ или класс к неминуемому торжеству, предопределенному самой судьбой — чьими избранными орудиями такие люди себя ощутили; а во имя своей «священной исторической миссии» они рушат, мучат, порабощают. Но имя им — свирепые самозванцы.
«То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слыхали голоса, призывавшего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть — власть разума и пониманья.
Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами цивилизации»^.
IV
Ежели это приговор Бисмарку и Марксу, то еще более открыто и недвусмысленно звучит он проклятием Бакунину и русским якобинцам, пистолету Каракозова и топору Чернышевского, перед коими преклонялись молодые революционеры; проклятием террористической пропаганде Заинчевского или Серно-Соловьевича, — заодно и непревзойденно страшным действиям Нечаева, и окончательному извращению революционной доктрины, распространявшейся от своих западных истоков истинным потопом, — доктрины, согласно коей честь, сострадание, цивилизованная щепетильность числились понятиями, для революционера глубоко оскорбительными. Отсюда уже недалеко и до знаменитой фразы, брошенной Плехановым в 1903 году: «благо революции — высший закон»[156], что значило: смело подавляйте гражданские права и свободы! — и до «Апрельских тезисов», и до взгляда на «неприкосновенность личности» как на роскошь, с которой в трудную минуту можно и должно проститься.
Пропасть меж Герценом и Бакуниным непреодолима. И вялые потуги советских историков если не замазать различия, то хотя бы представить их некими необходимыми последовательными стадиями в развитии единого процесса — необходимого и логически, и исторически (поелику история и идейная эволюция повинуются «логическим законам») — потуги эти обернулись прискорбными провалами. Взгляды тех, кто, подобно Герцену (либо Миллю), ставят личную свободу во главе своего общественного или политического учения, для кого она — святая святых, отречься от коей значит сделать всякую иную деятельность — наступательную или оборонительную — бессмысленной[157], и взгляды тех, кто, напротив, рассматривает личную свободу лишь как желательный побочный продукт общественных преобразований — кои суть единственная цель всей их деятельности, — или как простую переходную стадию общественного развития, необходимую согласно историческим законам, — взгляды этих двух людских разновидностей полярно противоположны, и ни мира, ни перемирия меж ними быть не может: меж ними алеет фригийский колпак.
Для Герцена вопрос о личной свободе затмевает даже важнейшие иные вопросы: централизм или свободная федерация? — революция сверху или революция снизу? — политическая или экономическая работа? — крестьяне или рабочие? — сотрудничество с другими партиями или отказ от него, призыв к «политической незапятнанности»? — вера в неминуемость капиталистического развития или надежда на то, что его можно избежать? — и все иные великие камни преткновения, межевыми столбами разделявшие до самого 1917 года русских либералов и революционеров. Для благоговеющих перед фригийским колпаком salus populi — наивысшее мерило, перед которым надлежит развеяться любым иным соображениям. А для Герцена salus populi остается преступным принципом, наихудшей тиранией на свете;
примириться с нею значит пожертвовать свободой личности ради некой исполинской абстракции, порожденной метафизикой или религией, отвернуться от осязаемых, земных вопросов, грешить «дуализмом» — то есть отрешать принципы действия от эмпирических фактов, выводя их из некоего иного перечня фактов, открытого обладателям особого провидческого дара, шествовать по тропе, неукоснительно приводящей к людоедству — массовому сегодняшнему истреблению мужчин и женщин во имя «прогресса в будущем»[158]? «[Письма] к старому товарищу» бьют, первым делом, именно по этому пагубному заблуждению. Герцен заслуженно винил в нем Бакунина — и за пылкими фразами, отважным львиным сердцем, широкой русской натурой, весельем, обаянием и живым воображением своего друга — которому оставался по-человечески предан до конца — различал циническое равнодушие к участи отдельных человеческих существ, детское наслаждение игрой с живыми людьми во имя социальных экспериментов, страстную жажду революции ради самой революции — что, кстати, плохо вязалось с напускным бакунинским ужасом при виде своевольного насилия над безвинными либо их унижения.
Герцен угадал в Бакунине известную непритворную бесчеловечность (ее подмечали также Белинский и Тургенев) — ненависть к абстрактному: к рабству, гнету, лицемерию, нищете вообще, сочетавшуюся с плохо скрываемым равнодушием к их виду в живой жизни — вот уж где истинное гегельянство! — с чувством, что незачем порицать ходячие орудия истории, коль скоро можно воспарить к олимпийским высотам и созерцать структуру самой истории. Бакунин ненавидел царскую власть, но особого омерзения к императору Николаю не выказывал; он бы никогда не стал раздавать шестипенсовики уличным сорванцам из Твикенхэма, дабы в день императорской кончины те надрывали глотки, голося: «Царниколл подох!» — и освобождение крестьян отнюдь не воспринял как великую собственную радость. Участь отдельных людей не слишком-то его занимала; бакунинские мерила были чересчур уж расплывчаты и огромны: «сначала разрушим, а там посмотрим». Темперамента, прозорливости, щедрости, отваги, революционного пыла, стихийности — всего этого Бакунину доставало в избытке. А права и свободы отдельных людей не играли особой роли в его апокалиптическом мировоззрении.
Герценовская точка зрения по этому поводу ясна, и не менялась на протяжении всей жизни Александра Ивановича. Никакими отдаленными целями, никакими ссылками на непреложные принципы не оправдать подавления свободы, не обелить шарлатанства, насилия, тирании. Едва лишь образ жизни, согласный с нашими ныне существующими нравственными устоями, в обстановке известной и привычной, — а не той, какой она могла бы стать, или должна бы стать, или непременно станет, — едва лишь этот образ жизни рушится, немедля открывается дорога к истреблению личной свободы и всех завоеваний человеколюбивой культуры. С неподдельным ужасом и отвращением видит и обличает Герцен воинствующую, хамскую бесчеловечность молодого поколения русских революционеров — бесстрашных, но бессердечных; «народных заступников», полных яростного негодования, но враждебных и цивилизации и свободе, поколение Калибанов — «этого сифилиса нашей революционной блудни»[159]. Молодежь отплатила Герцену систематической клеветой, звала его «мягкотелым» аристократическим дилетантом, хилым либеральным миротворцем, предателем революции, никчемным пережитком прошлого. Герцен ответил язвительным и точным словесным портретом, набросанным с этих «новых людей».
Молодое поколение, пишет он, говорит старому: «Вы лицемеры — мы будем циниками; вы были нравственны на словах — мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими — мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, — мы будем толкаться, не извиняясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести — мы за честь себе поставим попрание всех приличий <... >»[160].
Своеобразная историческая ирония: Герцен, ценивший личную свободу больше счастья, больше промышленной производительности, больше справедливости, Герцен, гневно отвергавший организованное планирование, экономическую централизацию, государственную власть — ибо все они могли подрезать крылья человеческой фантазии, лишить ее свободного полета, отнять неограниченную широту и разнообразие личной жизни в просторной, богатой, «открытой» общественной среде — этот Герцен, видеть не могший немцев (особенно «русских немцев и немецких русских»[161], обитавших в Петербурге), поскольку их рабство было не «арифметическим» (как в Италии и России) — то есть не охотным подчинением, уступкой численно превосходящим силам реакции, но «алгебраическим» — то есть составной частью «внутренней формулы» немецкой, самой сущностью немецкой природы[162], — вот этот самый Герцен, благодаря случайной фразе, которую снисходительно обронил однажды Ленин, обретается ныне в святая святых советского пантеона — помещенный туда правительством, чью родословную разумел глубже и чьего прихода к власти страшился больше, чем даже Достоевский, — правительством, чьи слова и дела суть непрерывные оскорбления всему, во что Герцен верил, и чем он был.
Вне сомнения, вопреки многочисленным своим призывам к определенности, вопреки отрицанию отвлеченных принципов, Герцен временами бывал и сам изрядным утопистом. Он страшился толпы, не любил бюрократии — вообще организаций, — однако верил в возможность учредить правление на основе справедливости и счастья не только для избранных, но для всех подряд — если не в западном обществе, то, по крайней мере; в России; этому немало способствовал герценовский патриотизм: Александр Иванович верил в русскую народную душу, столь доблестно пережившую и византийский застой, и татарское иго; выстоявшую и под германским шпицрутеном, и под чиновничьим кнутом — и, невзирая на все невзгоды, оставшуюся нетронутой русской душой. Герцен идеализировал русских крестьян, деревенскую общину, свободные артели; правда, сходным же образом верил он и в природную доброту и нравственное благородство парижских мастеровых; верил он и в римское простонародье — и хотя все чаще звучали в строках Герцена «Грусть, скептицизм, ирония — <... > три главные струны русской лиры»[163], не сделался он ни циником, ни скептиком. Русский популизм обязан беспочвенному герценовскому благодушию больше, нежели всякому иному источнику, из коего черпал.
Но, по сравнению с бакунинскими доктринами, воззрения Герцена — образец реалистической трезвости. У Бакунина и Герцена было немало общего: оба с одинаково острой неприязнью глядели на марксизм и его основоположников, оба не видели проку в замене одной разновидности деспотизма другой, оба не верили в «достоинства» пролетариата как такового. Но Герцен, по крайности, занимается настоящими политическими проблемами: несовместимостью неограниченной личной свободы с общественным равенством, или с минимальной общественной организованностью, или с любой властью; необходимостью рискованного плавания между Сциллой индивидуалистической «атомизации» и Харибдой коллективного гнета; прискорбным неравенством и противоречием между многими, равно благородными, гуманными идеалами; отсутствием «объективных», извечных, вселенских, нравственных и политических мерил, оправдывающих либо принуждение, либо сопротивление оному; миражами целей, обретающихся в далеком будущем, и невозможностью обойтись без них начисто. Бакунин же — ив различные гегельянские фазы своего развития, и в анархический свой период, жизнерадостно отметает подобные вопросы и уплывает к радужным далям революционной фразеологии: с тем самым смаком и беспечными словесными играми, что были характерны для его мировоззрения — мальчишеского и, по сути, легкомысленного донельзя.
v
Бакунин, как единодушно свидетельствуют и враги его, и друзья, без остатка посвятил свою жизнь борьбе за свободу. За свободу он боролся и делом и словом. Крепче всякого иного европейца стоял он за непрерывный мятеж против любого государственного управления в любом виде, за непрерывный протест от имени всех униженных и оскорбленных представителей любого народа или класса. Сила его неопровержимых, ясных, убийственных доводов изумительна — даже в наши дни еще не получила должной оценки.
Его доводы против богословских и метафизических представлений, его нападки на все западное христианство — с общественной, политической и нравственной точек зрения, — его проклятия тирании — будь она государственной или классовой; или осуществляйся особыми общественными слоями, приобретшими власть — будь они священнослужителями, военными, бюрократами, демократическими представителями, учеными, банкирами, «революционной элитой» — написаны блестяще: этот слог и поныне являет собой образец красноречивой полемической прозы. С огромным талантом и великим воодушевлением он продолжил задиристую традицию воинствовавших радикалов из числа philosophes1 восемнадцатого столетия. Бакунина разделял с этими философами и жизнерадостность — и все их слабости: подобно учению просветителей, положительные бакунинские доктрины сплошь и рядом являют собою череду звонких банальностей, на живую нитку связанных меж собой эмоциями либо риторическим наитием, а не прочно скрепленных свежестью мыслей. Положительное учение Бакунина еще слабее просветительского. Например, положительным бакунинским вкладом, внесенным в определение свободы как понятия, стали слова: «Tous pour chacun et chacun pour tous»[164].
Эта гимназическая прибаутка, звучащая эхом «Трех мушкетеров», сияющая радужными красками исторического романа, больше говорит о настоящем Бакунине с его неугомонным легкомыслием и безудержной мечтательностью — о человеке, мало чем смущавшемся в действиях и словах, — больше, нежели словесный портрет пламенного освободителя народов, написанный последователями и язычески почитавшийся издалека многими молодыми революционерами, которых необузданное бакунинское красноречие довело до Сибири либо эшафота.
В самой изощренной и простодушной манере восемнадцатого столетия, вообще не размышляя (вопреки своему гегельянскому воспитанию и пресловутому диалектическому искусству) о том, совместимы ли эти понятия (и что они значат вообще), Бакунин сливает воедино все добродетели, делает из них единую невероятную смесь: тут и справедливость, и человеколюбие, и доброта, и свобода, и равенство («свобода каждого — во всеобщем равенстве и посредством всеобщего равенства»[165] — еще один пустой бакунинский лозунг), и науку, и рассудок, и здравый смысл, и ненависть к привилегиям и монополиям, к угнетению и эксплуатации, к тупости и нищете, к слабости, неравенству, несправедливости, снобизму — все это представляется неким цельным, прозрачным, определенным идеалом, средства к достижению коего обретаются прямо под рукой, — да люди, на беду, слишком слепы или порочны, чтобы воспользоваться ими. Свобода воцарится «на новых небесах и новой земле — новый чарующий мир, в котором все разногласия сольются в единое гармоническое целое»1 — в эдакую демократическую вселенскую церковь людской свободы.
Подхваченный волнами подобной радикальной болтовни, звучавшей в середине девятнадцатого столетия, человек чересчур хорошо ведает, чего нужно ждать. Пересказываю другой бакунинский пассаж: я не свободен, ежели ты не свободен в свой черед; моя свобода обязана «отражаться» в свободе окружающих — и неправ индивидуалист, мыслящий: предел моей свободе кладется твоей свободой —- ибо одна свобода лишь дополняет другую — и обе необходимо нужны друг другу — и друг другу не помеха[166]. «Юридическая и политическая концепция»[167] свободы — неотъемлемая часть преступного словоблудия, что ставит знак равенства меж обществом и ненавистным Государством — и тем лишает людей свободы, ибо натравливает личность на общество; здесь-то и кроется фундамент всецело порочной теории общественного договора, согласно коей люди обязаны жертвовать частью своей изначальной, «природной» свободы, дабы сосуществовать гармонически.
Но это глубокое заблуждение, поскольку лишь в обществе двуногие прямостоящие делаются людьми — и людьми свободными: «лишь коллективный, общественный труд вызволяет [человека] из-под ига <...> природы», и без этого быть не может свободы «ни нравственной, ни умственной»[168]. Свобода не приходит к отшельнику, свобода есть одна из форм сосуществования. Стало быть, я свободен и я человек только в той мере, в которой свободны и человечны другие мне подобные. Моя свобода беспредельна, поелику такова же свобода окружающих; наши свободы взаимно отражаются, точно в зеркалах — и доколе остается хоть один раб, я не свободен, я не человек, и ни достоинства, ни прав не имею.
Свобода—состояние не физическое, и не общественное — а умственное: она заключается во всеобщем взаимном признании личной свободы каждого; и рабство есть состояние умственное, оттого-то и рабовладелец является рабом не меньшим, чем его живая двуногая собственность[169]... Бойкая гегельянская трескотня подобного рода — писания Бакунина изобильны ею — лишена даже приписываемых гегельянству положительных черт: она исхитряется повторять многие наихудшие заблуждения, свойственные мысли восемнадцатого столетия — вплоть до того, что так же точно смешивает сравнительно ясное понятие личной свободы, определяемое от противного: «если другие люди не принуждают человека заниматься тем, чем не хочется — человек свободен», с утопическим и, пожалуй, невнятным определением свободы от «законов» — понимаемых не как государственные, а как законы природы или даже людского общежития. Отсюда следует вывод: коль скоро быть свободным от Природы нельзя — это абсурдно, — и коль скоро я есмь то, что есмь — частица Природы, а стало быть, и отношения мои с другими человеческими существами — тоже составная часть Природы, значит, равно абсурдно просить себе свободы у других людей — надлежит искать «свободы», состоящей в «гармонической солидарности» с окружающими.
Бакунин восставал на Гегеля и клялся в ненависти к христианству; однако речь его — заурядное смешение гегелевского и богословского слога. Предположение, будто все добродетели совместимы — нет, взаимно порождены и связаны меж собой; что свобода одного человека никогда не вступит в воинствующее противоречие со свободой другого — если оба этих человека разумны (а стало быть, не могут стремиться к исключающим друг друга целям); что неограниченная свобода не просто способна сочетаться с неограниченным равенством, но и немыслима без него; нежелание попытаться всерьез проанализировать сами понятия свободы и равенства; убеждение, что лишь устранимые — легко ли, тяжко ли — глупость и порочность людская не дозволяют естественной доброте и мудрости людской почти мгновенно создать на земле поистине райскую жизнь — по крайности, как только будет уничтожено и без остатка выкорчевано тираническое Государство, с его свирепой и дурацкой законодательной системой, — все упомянутые простодушные заблуждения, понятные и приемлемые в восемнадцатом столетии, но беспощадно критиковавшиеся в умудренном девятнадцатом веке, и составляют всю суть бакунинских проповедей urbi et orbi} — в особенности, пламенных речей, которые Бакунин адресовал очумело затаившим дыхание рабочим- часовщикам из Ла-Шо-де-Фона и Долины Сент-Имье.
Мысль бакунинская почти неизменно проста, неглубока и прозрачна; стиль страстен, прям и сумбурен: в риторических доводах автор взмывает с вершины на вершину; временами Бакунин растолковывает, чаще назидает или спорит; обычно говорит с иронией, иногда с искрометным задором, всегда весело, всегда занимательно; его всегда легко читать — автор не часто ссылается на факты или сведения, работы его лишены самобытности, серьезности, определенности. Слово «свобода» возникает на каждом шагу.
Временами Бакунин говорит о ней возвышенным, почти богословским слогом, восклицая: влечение к мятежу — стремление бросить вызов — есть одна из трех основных «движущих сил» в развитии человечества; он изрыгаёт хулу на Бога и превозносит сатану — первого мятежника, «истинного друга свободы».
Именно в таком «преисподнем» ключе, словами, напоминающими начальные строки революционных песен, Бакунин заявляет: единственный истинно революционный элемент в России (да и где угодно) —лихой мир отчаянных голов, разбойников и душегубов, которым терять нечего, — и сокрушат они старый мир, и потом из его пепла новый появится: сам собою, словно феникс[170]. Бакунин уповает и на отпрысков разорившихся помещичьих семей: на всех, свое томление и негодование изливающих в яростных нападках на душную общественную среду.
Подобно Вейтлингу, он призывает и подонки преступного сброда, и — особенно — всех недовольных мужиков, «Пугачевых и Разиных», подняться, подобно современным Самсонам, и сокрушить «храм насилия и произвола». В более благодушные минуты он призывает всего лишь бунтовать против отцов и классных наставников: дети должны свободно избирать себе дорогу в жизни; «нам не нужны ни полубоги, ни рабы»[171], нам нужно общество равных, — а для этого следует, прежде всего, упразднить университетское образование, порождающее в людях ощущение умственного превосходства и приводящее к неравенству еще более обидному, чем насаждаемое аристократией и плутократией. Временами он требует «железной диктатуры»[172] в течение «переходного периода» от порочного сегодняшнего общества, с его «кнуто-германской»[173] армией и полицией, к безгосударственному грядущему обществу, не связанному никакими путами.
Временами он говорит: любые диктатуры неминуемо стремятся увековечить себя — и диктатура пролетариата лишь новая, отвратительная разновидность угнетения одного класса другим. Он глаголет: все «навязанные» законы, придуманные человеком, должны быть немедля похерены; однако дозволяет существовать законам «социальным» — «природным» и не «деспотическим», — причем властно требует их соблюдать[174], словно «социальные» законы незыблемы, неизменны и обретаются вне человеческого влияния.
Немного сыщется самодовольной чепухи, порожденной рационалистами восемнадцатого столетия, которой там и сям не встретится в бакунинских писаниях. Уже провозгласив мятеж людским правом — и долгом, — уже объявив срочное насильственное свержение любой государственной власти настоятельной необходимостью, Бакунин восторженно заявляет: верую в абсолютный исторический и социальный детерминизм — и одобрительно цитирует слова бельгийского статистика Кетлэ: «Преступления готовит само же общество, а преступники — лишь необходимые орудия, которыми общество эти преступления совершает»[175]. Вера в свободную волю иррациональна — поскольку Бакунин, подобно Энгельсу, полагает: «свобода есть <... > неизбежный конечный итог естественной и социальной необходимости»[176]. Окружающая людская — равно как и природная — среда лепит нас полностью; и все-таки, нужно бороться не за человеческую независимость от «законов природы и общества», но от любых законов, «политических, уголовных и гражданских», навязываемых человеку окружающими «вопреки его личным убеждениям»[177].
Это завершающее бакунинское определение свободы — наиболее сложное; а что желал он сказать подобной фразой — гадайте сами. Явствует лишь одно: Бакунин — противник любых ограничений, налагаемых на кого угодно, где угодно и в каких угодно условиях. Мало того: подобно Гольбаху и Годвину, он считает, что довольно устранить искусственные ограничения, наложенные на человечество слепо соблюдаемыми обычаями, или неразумием, или «корыстным пороком» — и все мгновенно станет на должные места: справедливость и добродетель, счастье и наслаждение — и свобода! — немедля и повсеместно пустятся в дружную победную пляску. Искать в бакунинских высказываниях что-либо разумнее и основательнее этого — занятие неблагодарное[178]. Бакунин использовал слова не для творческих, а для чисто поджигательских целей — и был по части поджигательской великим мастером: даже ныне его словеса не утратили способности воспламенять людские умы.
Подобно Герцену, Бакунин терпеть не мог нового правящего класса: дорвавшихся до власти Фигаро — Фигаро- банкиров и Фигаро-министров, Фигаро, не способных сбросить лакейскую ливрею, накрепко приросшую к их коже[179]. Он любил свободных людей и неукротимые личности. Ненавидел духовное рабство больше всякого иного порока. И, подобно Герцену, глядел на немцев как на безнадежно холопский народ — причем говорил об этом часто и глумливо:
«Правда, что англичанин или американец, говоря: "я — англичанин"я — американец* говорят этим словом: вя — человек свободныйнемец же говорит: "я — рабу но зато мой император сильнее всех государей, и немецкий солдат, который меня душит, вас всех задушит<... > у каждого народа свои предпочтения — немцы без ума от своей государственной дубины» К
Бакунин чуял всякий гнет безошибочно, всей душой он восставал против любой учрежденной власти и любого навязанного порядка, безошибочно распознавал человека властолюбивого, кем бы тот ни был: императором Николаем I, Бисмарком, Лассалем или Карлом Марксом (последний был в глазах Бакунина трижды властолюбив: как германский подданный, гегельянец и еврей)[180]. Но Бакунин отнюдь не серьезный мыслитель, не проповедник нравственности, не психолог; от него не нужно ждать ни теорий общественного развития, ни политических доктрин: примечайте его мировоззрение и темперамент.
Из его сочинений любого периода не извлечь ни единой связной идеи — в них лишь пламень воображения, напор и поэзия, а еще неудержимая тяга к сильным ощущениям, к напряженной жизни, к разрушению всего мирного, уединенного, опрятного, упорядоченного, мелкого, филистерского, привычного, умеренного — всей однообразной, обыденной житейской прозы. Его мировоззрение и учение были крайне легковесны, да в общем, и сам он понимал это хорошо — и добродушно посмеивался, будучи уличен[181]. Бакунин хотел поджечь как можно больше и елико возможно скорее; мысль о любом и всяком хаосе, насилии, мятеже веселила его безмерно.
Когда в знаменитой «Исповеди» (написанной за тюремной решеткой и адресованной Царю) он говорит, что сильнее всего на свете ненавидит спокойную жизнь, что с наибольшим пылом всегда стремился к чему-нибудь — чему угодно — фантастическому: к неслыханным приключениям, вечному движению, действию, битве; что задыхается в безмятежных окружающих условиях, — он лишь подытоживает и содержание, и отличительные особенности своих сочинений.
VI
Вопреки prima facie[182] сходству — общей ненависти к русскому правительству, общей вере в русского крестьянина, вопреки теоретически федералистским и прудонианско- социалистическим убеждениям, вопреки своей ненависти к буржуазному обществу и презрению к мещанским добродетелям, вопреки своему антилиберализму, воинствующему атеизму, взаимной дружеской привязанности, общности социального происхождения, вкусов и образования — различия меж обоими друзьями были весьма глубоки.
Герцен (хотя это редко признают даже величайшие почитатели его) — самобытный мыслитель: независимый, честный и неожиданно глубокий. Во времена, когда все вокруг толковали о панацеях, обширных системах и простейших решениях, проповедовавшихся то выучениками Гегеля, Фейербаха и Фурье, то мистически настроенными обществоведами — христианами или неохристианами; когда утилитаристы либо приверженцы Средневековья, печальные романтики либо нигилисты, вразнос торговавшие «научной» этикой и «эволюционной» политикой, разношерстные коммунисты либо анархисты предлагали мгновенное исцеление общественным недугам и рисовали человечеству далекие смутные утопии — социальные, экономические, теософские,
— Примечание
— на первый взгляд; здесь: внешнему. 201
метафизические — Герцен сохранил в чистоте свое ощущение действительности.
Он разумел: общие и отвлеченные понятия — «свобода», «равенство» и т. п. — должны излагаться и ясно, и точно, и применительно к существующей обстановке, иначе они, в наилучшем случае, только растревожат поэтическое воображение и переполнят людей благородными чувствами; а в наихудшем — оправдают безумства и преступления. Он постиг—и для его эпохи это было гениальным открытием, — что сами вопросы вроде «в чем же смысл жизни?» или «чем объяснить, что события, по большей части, совершаются именно так, а не иначе?» или «каковы же главная цель, главная структура, главное направление истории?» в немалой степени звучат нелепо.
Он осознал: такие вопросы наделены смыслом только будучи определенно сформулированы и заданы применительно к определенным целям и задачам определенных людей в определенных обстоятельствах. Постоянно требовать «конечных» целей значит не понимать, что такое цель; спрашивать: «А какая конечная цель песни, которую поет певица?» значит интересоваться чем-то иным, нежели песни либо музыка. Ибо люди поступают и действуют именно так, а не иначе, во имя собственных задач и целей (сколь бы ни твердо и сколь бы ни спорно Герцен их ни считал сопряженными с целями — или же равнозначными задачам — других), священных для каждой личности: целей, ради коих человек и жить готов, и умереть. Оттого и отстаивал Герцен столь серьезно и страстно личную свободу и независимость каждого; он понимал, во что верит, — потому так болезненно и реагировал на всякую попытку подменить или затуманить эти вопросы метафизической или богословской риторикой либо демократической болтовней.
В его глазах наивысшей ценностью обладают отдельно взятые цели отдельных лиц, и попирать их — всегда и неизменно преступление, потому что нет и быть не может ни принципа, ни ценности выше и дороже целей отдельно взятого лица; и посему не существует принципа, именем коего дозволяется насилие над личностью, унижение или уничтожение личности — единственного творца всех принципов и ценностей. Если всем до единого не отвести неотъемлемо некой минимальной области, в которой человек волен действовать, как ему заблагорассудится, то уцелеют лишь принципы и ценности, предписываемые богословскими, метафизическими или научными системами, претендующими на владение конечной истиной касательно человеческого места, обязанностей и целей во вселенной. Подобные претензии Герцен считал шарлатанскими — все до единой. Именно эта особенная разновидность не-метафизического, эмпирического, «эвдемонистического» индивидуализма и делает Герцена заклятым противником всех систем и всех попыток задушить свободу во их имя: будь то во имя утилитарных соображений, либо авторитарных принципов, либо мистически открывающихся целей, либо почтения к неодолимым силам, либо «логике фактов» — либо во имя чего-либо с этим схожего.
Что же, хотя бы отдаленно подобное взглядам Герцена, способен предложить Бакунин? Бакунин, с его азартом, его логикой, его красноречием, его желанием и способностью подкапывать, поджигать и разносить вдребезги — то по-мальчишески игриво, то извращенно и бесчеловечно; Бакунин, с его странным сочетанием аналитической остроты ума и необузданного эксгибиционизма; Бакунин, с непревзойденной беззаботностью несущий в заплечном мешке все пестрое наследие восемнадцатого столетия — и не дающий себе труда проверить: а все ли его излюбленные идеи способны ужиться друг с другом (уж «диалектик»-то об этом позаботился бы) ? — а сколько из них устарело и опорочило себя? — или было безумно с самого начала? — сей Бакунин, присяжный приверженец абсолютной свободы, не завещал потомству ни единой идеи, которую стоило бы рассматривать из чистого любопытства; не сыщете у Бакунина свежей мысли — даже свежего чувства! — лишь забавные диатрибы, приподнятое настроение, игриво-злобные зарисовки, — да еще эпиграмма-другая из числа тех, что ложатся на читательскую память.
Остается историческое лицо — «русский медведь», как он любил себя называть, — нравственно беспечное, умственно безответственное существо, человек, любивший себе подобных отвлеченной любовью и готовый, подобно Робеспьеру, шагать по колено в крови; он высится верстовым столбом на тропе цинического терроризма и безучастности к участи отдельных людей — всего того, что, будучи сполна осуществлено, и сделалось главным вкладом, который пока что внесло наше собственное столетие в политическое мышление. И эту бакунинскую особенность: этого Ставро- гина, прячущегося в Рудине, точно матрешка в матрешке, — эту фашистскую струнку, эти замашки Аттилы, «петрогран- дизм», зловещие свойства, столь далекие от славного «русского медведя» — или die grosse Lise[183] — подметил не только Достоевский, намеренно преувеличивший бакунинские недостатки и сделавший их карикатурными, но и сам Герцен, который вынес им наисуровейший приговор в «[Письмах] к старому товарищу» — вероятно, самых поучительных, пророческих, трезвых и трогательных очерках из всех, что вообще были написаны за целый девятнадцатый век и говорили о вероятном будущем людской свободы.
Замечательное десятилетие
:•
Рождение русской интеллигенции
I
И
заголовок — «Замечательное десятилетие» — и тема этого очерка заимствованы из большой работы, где Павел Анненков, русский критик и литературный историк, живший в девятнадцатом веке, повествует о своих друзьях через тридцать лет после того, как разворачивались описываемые им события. Анненков был приятным, разумным и предельно хорошо воспитанным человеком, исключительно чутким и надежным другом. Правда — что греха таить, не выступал он очень уж проницательным критиком, да и образование имел не слишком широкое — просто любитель учености, европейский странник, стремившийся встречаться с выдающимися людьми, жадный до впечатлений и наблюдательный вояжер.
Очевидно, что вдобавок ко всем остальным своим качествам Анненков обладал значительным личным обаянием — столь большим, что сумел очень понравиться Карлу Марксу, от коего получил по крайности одно письмо, числящееся у марксистов немаловажным — оно посвящено Прудону. Анненков оставил нам чрезвычайно живое описание внешности молодого Маркса и его умственной свирепости в беседе и споре — восхитительно беспристрастную, ироническую зарисовку: вероятно, лучший из уцелевших словесных портретов, когда-либо с Маркса написанных.
Впрочем, возвратившись в Россию, Анненков утратил интерес к Марксу — настолько уязвленному и разобиженному этим «отступничеством» знакомца, на которого марксова личность, как уверенно полагал Маркс, произвела неизгладимое впечатление, что в последующие годы наставник мирового пролетариата крайне резко отзывался о праздношатающихся (flaneurs) русских интеллигентах, увивавшихся за ним в Париже 1840-х годов, однако в итоге не выказывавших никаких серьезных намерений. Впрочем, изрядно изменив Карлу Марксу, Анненков оставался верным другом своих соотечественников — Белинского, Тургенева и Герцена — до скончания земных дней. И о них-то пишет Анненков интереснее всего.
«Замечательное десятилетие» — анненковский рассказ о жизни кое-кого из ранних представителей — собственно, созидателей — русской интеллигенции. Между 1838-м и 1848-м годами все они были молоды, одни еще продолжали учиться в университетах, другие только что окончили курс. Тема книги выходит за рамки чисто литературные или психологические, ибо эти ранние русские интеллектуалы положили начало явлению, имевшему, в конечном счете, всемирные последствия — и общественного, и политического свойства. Крупнейшим из них, как мне кажется, по справедливости надлежит числить пресловутую Октябрьскую революцию. Эти revokes, эти ранние русские интеллектуалы послужили нравственными камертонами для разговоров и действий, тянувшихся до конца девятнадцатого столетия, продолжавшихся в начале двадцатого и приведших к решающему взрыву в 1917 году.
Правда, грядущая Октябрьская революция (никакое иное событие не обсуждали дольше в течение века, ей предшествовавшего, — даже Великую Французскую революцию; ни о чем ином не размышляли усерднее) пошла отнюдь не тем путем, который предрекало большинство писателей и говорунов. Однако, вопреки распространенной склонности многих мыслителей — подобных, например, Толстому и Карлу Марксу — считать интеллигентские беседы и споры почти ничего не значащими, общие идеи оказывают огромное влияние. Похоже, это уразумели нацисты, сразу же и старательно принимавшиеся уничтожать умственный цвет захваченных ими стран — ибо гитлеровцы числили интеллигентов среди самых опасных личностей, способных преградить им дорогу: здесь, можно сказать, историю истолковали верно. Как ни рассматривай воздействие мысли на людскую жизнь, бесполезно было бы отрицать, что идеи — в частности, философские, — распространявшиеся в начале девятнадцатого столетия, весьма и весьма изрядно определили ход последующих событий. Без мировоззрения, одним из источников и проявлений коего служит, к примеру, господствовавшее в те дни гегельянство, многого из приключившегося позднее могло бы не произойти — или, по крайности, многое произошло бы иначе. Следовательно, рассуждая исторически, главное значение вышеупомянутых писателей и мыслителей состоит именно в том, что они положили начало идеям, впоследствии вызвавшим коренные и сильнейшие потрясения не только в самой России, но и далеко за ее пределами.
Но заслужили вышеупомянутые люди и гораздо лучшую известность. Очень трудно вообразить себе русскую литературу середины девятнадцатого века (в частности, великий русский роман) возникшей в какой-либо иной атмосфере, нежели особая, ими созданная и прославленная. Произведения Тургенева, Толстого, Гончарова, Достоевского и других, менее крупных прозаиков, пронизаны духом эпохи — той либо иной общественной среды с присущим ей идейным содержанием — даже больше, чем «социальные» романы Запада. К этой теме я намерен вернуться позже.
Наконец, они изобрели социальную критику. Мое утверждение может показаться слишком дерзким и даже абсурдным, однако под социальной критикой я не разумею обращения к мерилам, предполагающим взгляд на литературу, как на нечто, обладающее — или обязанное обладать — сугубо назидательными свойствами; не говорю и о критике, созданной литераторами-романтиками — особенно германцами, — которая считает героев либо злодеев своего рода «химически чистыми» человеческими типами, — и лишь в этом качестве изучает их; не завожу речи и о том критическом подходе (французы, например, используют его с мастерством особым и непревзойденным), что старается воспроизвести процесс художественного творчества, изучая и анализируя главным образом общественную, духовную и умственную среду, окружавшую автора, его родословную или денежные дела его, — а не чисто художественные приемы, одному этому писателю свойственные, и не душевный склад его, своеобразный и неповторимый; впрочем, до известной степени русские интеллигенты грешили тем же.
В этом смысле социальная критика, разумеется, бытовала и прежде — и западные литературные обозреватели занимались ею куда профессиональнее, дотошнее и глубже. Но я имею в виду иную социальную критику — метод, по сути дела заново изобретенный великим русским обозревателем Белинским: ту критику, при коей границу меж искусством и жизнью преднамеренно оставляют неясной; ту критику, что свободно расточает хвалу и хулу, выражает любовь и ненависть, восхищение и презрение, вызываемые и художественной формой произведения, и его героями; и личными особенностями автора, и содержанием написанного им романа; а мерила, используемые при подобном подходе к словесности — случайно ли, намеренно ли, — совпадают с теми, что применяются в ежедневном обиходе к окружающим человеческим существам: о литературных героях судят, словно о живых людях из плоти и крови.
Конечно, такой критический метод сам подвергался критике — часто и помногу. Ему вменяли в вину смешение искусства с жизнью, пренебрежение чистотой искусства. Возможно, тогдашние русские критики и впрямь были виновны в подобном смешении, а возможно, и не были; но, что ни говори, а они утвердили новый взгляд на повесть и роман — взгляд, производный от их собственного мировоззрения. Впоследствии это мировоззрение стали определять как присущее именно интеллигентам — и молодые радикалы 1838-1848 годов: Белинский, Тургенев, Бакунин и Герцен, столь дружелюбно изображаемый Анненковым в своей книге, являются истинными его зачинателями. «Интеллигенция» — чисто русское слово, родившееся в девятнадцатом веке и приобретшее с тех пор международную известность. Понятие и явление это — «интеллигенция», — со всеми его историческими и литературными последствиями, по-моему, составляет наивеличайший русский вклад во всемирные общественные перемены.
Понятие «интеллигент» не следует путать с понятием «интеллектуал». Интеллигентов объединяло нечто большее, нежели простой интерес к идеям; они числили себя членами своеобразного ордена — почти светски-монашеского, — целеустремленно распространявшего особое отношение к жизни; это несколько напоминало апостольское служение. С точки зрения исторической, появление интеллигенции любопытно и требует кое-каких разъяснений.
и
Большинство русских историков соглашаются: великий общественный раскол на образованных и темных людей был последствием раны, причиненной русскому обществу Петром Великим. Пылкий реформатор, Петр посылал избранных молодых людей на Запад, а когда они овладевали тамошними языками и успевали изучить различные новые искусства и ремесла, возникшие благодаря научной и промышленной революции семнадцатого столетия, приказывал посланцам возвращаться домой и возглавлять новое русское общество, которое государь поспешно, сурово и беспощадно создавал на своей феодальной почве.
Таким образом Петр Великий образовал небольшой класс «новых людей» — полу-русских, полу-чужеземцев: родившихся в России, но воспитание получивших за границей; в урочный час они сделались малочисленной олигархией правителей и бюрократов, стоявшей превыше народа, более не имевшей касательства к его по-прежнему средневековой культуре, оторванной от непросвещенного населения непоправимо. Распоряжаться огромной и непокорной страной делалось все труднее и труднее, ибо и хозяйственные, и общественные условия в России все больше и больше отличались от западных: Запад уходил вперед. Шире и шире становилась пропасть, и правившая элита вынужденно пригнетала народ все тяжелее и тяжелее. Немногочисленные властители все больше и больше чуждались людей, которыми управляли.
В течение восемнадцатого и на заре девятнадцатого столетий русское самодержавие ритмически чередовало гнет и милосердие. Так, Екатерина Великая поняла: ярмо становится избыточно тяжким, а положение вещей близится к настоящему варварству — и ослабила узду незыблемого деспотизма, стяжав заслуженные похвалы от Вольтера и Гримма. В итоге началось чересчур уж бурное брожение умов, чересчур уж громко зазвучали недовольные голоса, чересчур уж много образованных людей начали сравнивать российскую и западную жизнь — и сравнение оказалось не в пользу России. Екатерина почуяла неладное; Французская революция испугала ее окончательно; крышка захлопнулась опять. Правление снова сделалось непреклонным и гнетущим.
Состояние дел едва ли улучшилось в царствование Александра I Благословенного. Подавляющее большинство русских продолжало жить во мраке феодализма; слабое и, в целом, невежественное священство не имело особого нравственного влияния, а несметная рать верноподданных и, временами, вовсе не бестолковых бюрократов крепко держала в узде строптивых крестьян, роптавших все больше и больше. Меж угнетателями и угнетаемыми существовала тонкая смягчающая прослойка: образованный общественный класс, говоривший преимущественно по-французски и отлично сознававший, сколь невероятна была пропасть, разделявшая западную жизнь — какой она мнилась просвещенному русскому, — и жизнь рядового российского сельчанина. В большинстве своем представители этого класса весьма остро ощущали различие между справедливостью и несправедливостью, цивилизованностью и варварством — но также понимали: слишком трудно переменить окружающие условия; а вдобавок, помнили: самодержавие — опора и твердыня, которую могут опрокинуть и развалить любые реформы. Многие мыслящие русские то заканчивали циническим краснобайством на вольтеровский лад — исповедуя либеральные убеждения, однако не забывая сечь своих крепостных розгами, — то впадали в благородное, красноречивое и безысходное отчаяние.
Положение изменилось после наполеоновского нашествия, разом толкнувшего Россию прямо в Европу. Едва ли не в одночасье Россия обнаружила, что выступает великой европейской державой, осознала свою сокрушительную мощь, впечатлявшую всех и вся и принимавшуюся европейцами с немалым ужасом и превеликой неохотой — Россию рассматривали как нечто не просто равное Европе, но превосходящее чисто грубой силой.
Блистательная победа над Наполеоном и вступление в Париж были столь же важны для истории русской мысли, сколь и Петровские реформы. Россия осознала себя единой нацией — причем не простой, а великой европейской, признаваемой именно в этом качестве; Россию прекратили считать презренным сборищем варваров, кишащих за незримой Китайской стеной, «омраченных густой сению невежества»[184], неуклюже и неохотно подражающих иноземным образцам. Более того, поскольку долгая война с Наполеоном породила и огромный, длительный патриотический пыл, и — в итоге всеобщей борьбы за единое правое дело — возраставшее ощущение равенства сословий, известное число более-менее идеалистически настроенных молодых людей почувствовали: возникают новые связи меж ними и народом — связи, коих полученное ими воспитание само по себе не порождало. Рост патриотического национализма вызвал — это было неизбежным его следствием — обостренное чувство ответственности за хаос и грязь, нищету и никчемность, жестокость и общую устрашающую неразбериху, царившую в России. Всеобщая нравственная неловкость распространилась даже на самых бесчувственных и бессердечных, самых закоснелых и полуцивилизованных представителей правившего класса.
III
Имелись и другие обстоятельства, способствовавшие этому чувству совокупной вины. Одним из них, наверняка, было случайное (чисто случайное) совпадение: русский литературный романтизм оживился и расцвел одновременно со вступлением России в Европу. Среди главнейших романтических учений (родственных утверждению, что история движется согласно распознаваемым законам или правилам, а народы суть не простые человеческие скопища, но единые «организмы», развивающиеся «органически», а не механически и не произвольно) имеется заповедь, гласящая: все на свете является тем, чем является, и там, где является, и тогда, когда является, лишь постольку, поскольку все на свете служит единой вселенской цели. Романтизм развивал мысль, утверждавшую: не одни лишь отдельные личности, но целые сообщества, и не одни лишь сообщества, но целые учреждения — государства, церкви, цехи, гильдии, — короче говоря, любые объединения, даже создававшиеся с явно малозначащей, зачастую вообще мелкой житейской целью, наделяются, в конце концов, собственной душой, о наличии которой и сами навряд ли подозревают. Осознание этого наличия и должно зваться истинным просвещением.
Школа мысли, говорящая, что всякий человек, всякая страна, раса, всякое учреждение имеют собственную, неповторимую, неотъемлемо присущую цель и задачу — органическую составную часть более обширной цели, стоящей перед всемирным бытием, — и что уже простым осознанием своих задач они участвуют во всемирном движении к свету и свободе, — эта школа мысли являлась некой светской разновидностью давних вероучений и оставляла глубокий след в молодых русских умах. Вышеизложенный взгляд усваивали охотно по двум причинам: одна была вполне приземленной, политической, а другая — возвышенно духовной.
Приземленной причиной оказалась неохота, с которой русские власти дозволяли подданным ездить во Францию: эту страну считали — особенно после 1830-го — хронически революционной, склонной к непрекращающимся мятежам, кровопролитию, насилию; тяготеющей к хаосу. И напротив: Германия мирно покоилась под пятой весьма благообразного деспотизма. Естественно, молодых русских поощряли к обучению в германских университетах, где можно было основательно усвоить гражданские добродетели, долженствующие — так думали — сделать студентов еще более преданными слугами российского самодержавия.
Впрочем, итог оказался прямо противоположен ожидавшемуся. В тогдашней Германии столь махровым цветом цвело тайное преклонение перед Францией, образованные немцы столь пылко восхищались идеями вообще, а идеями французского Просвещения в частности — будучи неизмеримо более правоверными их приверженцами, нежели сами французы, — что юные российские Анбхарсисы, исправно отправлявшиеся в Германию, заражались опасным вольнодумством гораздо сильнее и страшнее, чем заразились бы им в Париже, где ранние годы царствования Луи-Филиппа текли беспечно и легкомысленно. Едва ли правительство Николая I способно было догадаться, что собственными руками роет себе глубокую яму.
Если вышеописанное обстоятельство сделалось первой причиной романтического брожения умов, то вторая причина явилась его прямым последствием. Молодых русских, либо очутившихся в Германии, либо начитавшихся немецких книг, обуяла простая мысль: коль скоро, как утверждают убежденные французские приверженцы папства и германские националисты, Французская революция и упадок, за нею последовавший, были бичом Божиим, карой, ниспосланной отступникам от исконной католической веры и обычаев, то уж русские-то, безусловно, свободны от этих грехов — поскольку, хоть и несметны другие русские пороки, а все же революцией Россию не покарали. Германские историки-романтики с особенным жаром твердили: западное общество клонится к закату из-за своего скептицизма, рационализма, материализма, презрения к собственному духовному наследию; однако немцев, избегнувших этой прискорбной доли, надлежит рассматривать в качестве народа свежего и юного, чьи обычаи не испорчены подобием давнеримского нравственного разложения — рассматривать в качестве народа поистине варварского, но прыщущего свирепой жизненной силой и готового принять выморочное наследие, выпадающее из хилых французских рук.
Русские всего лишь двинули эту школу мысли немного дальше. Они резонно рассудили: ежели юность, варварство и недостаток образования суть залоги славного и блистательного грядущего, то у России куда больше надежд на него, чем у Германии. Вполне естественно, потоки германских романтических разглагольствований о немецкой непочатой почвенной мощи, о неиспорченном немецком языке, хранящем нетронутую изначальную чистоту, о юном, полнокровном немецком народе, якобы стремящемся противоборствовать «растленным», латинизированным западным нациям, едва стоящим на ногах, обрели в России воодушевленных слушателей и последователей. Мало того, они подняли волну «социального идеализма», захлестнувшую все общественные классы — от начала 1820-х и почти до середины 1840-х годов. Единственно достойной человеческой задачей считалась борьба за идеал, коему соответствовала «внутренняя сущность» отдельно взятого человека. Это мировоззрение не могло основываться на ученом рационализме (как наставляли французские материалисты восемнадцатого столетия), — ибо думать, будто жизнью правят механические законы, значило заблуждаться.
Еще худшим заблуждением было бы предполагать, будто научные дисциплины, опирающиеся на исследование предметов неодушевленных, применимы к разумному управлению человеческими существами, к повсеместному, всемирному обустройству их жизни. Долг людской состоял в совершенно ином: понять само строение бытия, распознать его движущие силы, первоосновы всего сущего, проникнуть в мировую душу (богословское и мистическое понятие, которое последователи Гегеля и Шеллинга изукрасили рационалистическими терминами), постичь сокрытый «внутренний» замысел вселенной, уразуметь свое место в ней — и действовать соответственно.
Задачей философа было расслышать поступь истории — точнее, того, что несколько загадочно именовалось «Идеей» — и сказать, куда именно история уносит человечество. История мерещилась русским некой исполинской рекой, чей истинный бег может быть заметен и понятен только избранным, способным к сосредоточенному, отрешенному созерцанию. Сколько ни созерцай окружающий мир, а не постигнешь, в какую сторону влечет народы подспудный Drang — подводное течение. Чтобы постичь его, нужно полностью слиться с ним; еще нужно развивать и собственную личность, и окружающее общество — сообразно верной оценке духовных устремлений, присущих большему «организму», частью которого твоя личность числится. На вопрос о том, как распознать упомянутый организм — определить, что же он, собственно, собою представляет, — многочисленные метафизики, основатели главнейших романтических философских школ, отвечали по-разному. Гердер объявил: этот «организм» — духовная культура, или образ жизни; римско-католические penseurs отождествляли его с жизнью христианской церкви; а Фихте—несколько туманно, и затем Гегель—уже недвусмысленно — провозгласили его национальным государством.
Вся «органическая» школа мысли ратовала против исследовательского метода, излюбленного предшествовавшим, восемнадцатым веком, и предполагавшего химическое разложение на составные частицы — конечные, далее не делимые атомы — применительно и к неодушевленной материи, и к общественным учреждениям. Такой метод признали непригодным. Великим новым понятием сделался «рост» — новым, поскольку применяли его далеко за рамками научной биологии; дабы уразуметь, что именно понимается под «ростом», человеку надлежало обладать особым внутренним чутьем, дарующим способность проницать мысленным взором высшие слои неземного бытия, подсознательно чувствовать неосязаемые силы, благодаря которым вещь или понятие развивается так, а не иначе — не посредством простого прибавления мертвых частиц, но с помощью недоступного разуму, сокрытого действия, дарующего жизнь. Подобная восприимчивость предполагает провидческую остроту духовного зрения, особое чувство «потока жизни», «исторических сил», извечных начал, работающих в окружающей природе, в искусстве, в человеческих отношениях — иначе говоря, способность ощущать присутствие творящего, жизнедат- ного Духа, незнакомого эмпирическим наукам, способность по мере сил постигать Его сущность.
IV
Это и было стержнем политического романтизма, от Берка до наших дней, источником несчетных жарких споров, доводов, направленных и направляемых против либеральных реформ и любых попыток искоренить общественное зло рассудочными, рациональными способами — поскольку последние основываются на мировоззрении чисто механическом. Природа общества и пути его развития толковались по усмотрению. Программы, выдвигавшиеся французскими энциклопедистами и германскими последователями Лес- синга, отвергались, как Прокрустовы потуги представить общество некой амальгамой неодушевленных частиц, некой машиной — вопреки тому, что общество есть живое, трепещущее целое.
Русские оказались весьма восприимчивы к этим рассуждениям, увлекавшим одновременно и в реакционную, и в прогрессивную стороны. Верили: история и жизнь вообще подобны реке; бесполезно и опасно грести против течения или перегораживать поток плотинами; с этой рекой возможно только слиться воедино — согласно Гегелю, при помощи разнообразной, логической, разумной деятельности, свойственной Духу; согласно Шеллингу — интуитивно, при помощи воображения или некоего наития, силой коего и мерится гений человеческий: отсюда возникают мифы и верования, искусства и науки. Это уводило в консервативном направлении: следовало избегать всего аналитического, рассудочного, эмпирического — всего, основанного на естественнонаучных опытах. С другой стороны, человек мог провозгласить: я слышу родовые муки, длящиеся в земных глубинах, они сопутствуют появлению нового мира. Человек слышал — человек ведал, — что «земная кора» устарелых учреждений готова треснуть, вздымаемая глубокими и трудными вздохами Творящего Начала. Если человек искренне верил в это, значит человек, будучи разумен, готовился рискнуть и отождествить себя с делом революции — поскольку иначе революция смела бы и его самого. Все в космосе числилось «прогрессивным», все пребывало в движении. И ежели грядущее грозило окружавшей вселенной взрывом, распадом на осколки, необходимым для новой формы существования, было бы глупо не принять участия в этом насильственном и неотвратимом процессе.
По этому поводу среди германских романтиков, особенно приверженцев Гегеля, возник раскол; германцы двинулись в обоих направлениях, а за ними исправно потянулись русские — ибо Россия, по сути, всецело зависела от немецкой академической мысли. Однако на Западе подобные идеи преобладали уже долгие годы — умопостроения и теории философские, социальные, богословские, политические начали сталкиваться и вступать в непримиримые противоречия по меньшей мере начиная с эпохи Возрождения; их борьба становилась очень разнообразной и запутанной — складываясь в общий процесс богатой умственной деятельности, причем ни единая идея, ни единое суждение не могли невозбранно властвовать умами хоть сколько-нибудь продолжительное время. В России же было иначе.
Одно из огромных различий меж землями, где преобладали Православная и Католическая Церкви, заключалось в том, что первая не знала ни эпохи Возрождения, ни Реформации. Балканские народы оправдывали свою отсталость нашествием и владычеством турецких завоевателей. Но России жилось лишь немногим лучше. В России не существовало постепенно ширящегося, грамотного, образованного класса, который понемногу связывал бы воедино — и общественно и умственно — наиболее и наименее просвещенные народные слои. Пропасть, отделявшая безграмотных и невежественных мужиков от людей, умевших читать и писать, оставалась в России шире, чем в остальных европейских державах — ибо тогдашнюю Россию по праву считали европейской страной.
Очутись вы в московских и петербургских аристократических салонах, обнаружили бы: число и разнообразие обсуждающихся идей — политических и общественных — отнюдь не столь изобильно, сколь в Берлине или Париже, где интеллектуальная закваска бурлила и бродила. Бесспорно, тогдашний Париж числился великой культурной Меккой. Но даже Берлин мало чем уступал Парижу по части умственных, богословских и художественных прений — вопреки нещадной прусской цензуре.
Вообразите себе положение российских дел, всецело определяемое тремя обстоятельствами: во-первых, наличием лишенного воображения, косного, мертвого правительства, занятого преимущественно угнетением подданных, противящегося переменам — в основном оттого, что за ними вполне могли последовать перемены дальнейшие; правда, более разумные и чуткие члены правительства смутно сознавали: реформа — причем коренная — относящаяся, допустим, к упразднению крепостного права или к улучшению правосудия и образования — и желательна, и неминуема. Вторым обстоятельством было положение огромной массы российского населения — притесняемых, бедных мужиков — угрюмо и нечленораздельно роптавших, но слишком явно слабых и разобщенных, чтобы внушительно постоять за себя. И, наконец, меж двумя упомянутыми классами существовала небольшая, хорошо образованная прослойка, на которую глубоко влияли западные идеи, заставлявшие негодовать при виде окружающего; эти люди испытывали своего рода Танталовы муки, глядя на Европу и на великие новые движения — общественные и умственные, — развивавшиеся в европейских культурных средоточиях.
Разрешите повторить и напомнить, что над русской, равно как и над германской, почвой буквально витало в воздухе романтическое убеждение: каждому человеку поручается свыше нечто определенное, лишь ему назначенное, и подлежащее выполнению, — а человеку нужно только понять, какова именно его миссия. Этим порождалось всеобщее преклонение перед общественными и метафизическими идеями — возможно, в них видели этическую замену постепенно угасавшей вере: тут возможно обнаружить известное сходство с восторгом, который столетием ранее стали порождать во Франции и Германии возникавшие там и сям философские доктрины и политические утопии; люди искали новой теодицеи, незапятнанной связями с какими-либо опорочившими себя политическими или религиозными учреждениями.
А в русском образованном обществе к тому же наличествовало некое безвоздушное пространство — нравственное и умственное, — порожденное отсутствием светских традиций обучения, заложенных Ренессансом, поддерживаемое и строгой правительственной цензурой, и преобладавшей безграмотностью, и настороженной неприязнью, с коей воспринимались любые и всякие идеи, и поведением неугомонной, зачастую ошеломляюще безмозглой бюрократии. При описанных обстоятельствах кое-какие идеи, состязавшиеся на Западе со множеством иных доктрин и мировоззрений, а победоносное первенство завоевывавшие только после яростной борьбы за существование и преобладание, оседали в одаренных русских умах, сплошь и рядом делая их едва ли не одержимыми, лишь потому, что ничего лучшего и душепитательного по идейной части не отыскивалось. Обе столицы Российской империи маялись жгучей жаждой знаний — любых знаний, способных дать пищу уму; в обеих столицах процветали неслыханная искренность (временами превращавшаяся в обезоруживающую наивность) чувства, умственная свежесть, неудержимое желание участвовать во всемирных делах, тревожное осознание общественных и политических неурядиц, терзавших великую державу, — однако новые умонастроения почти неизменно оказывались бесплодными.
Имевшееся в наличии культурное богатство большей частью поступало из-за границы — навряд ли хоть одна- единственная политическая или общественная идея, бытовавшая в России девятнадцатого столетия, родилась на русской земле. Допускаю: проповедь непротивления злу оказалась чем-то истинно русским — столь самобытным изложением христианского учения, что взгляды Льва Толстого приобрели силу новой идеи. Но в остальном, осмелюсь предположить: Россия не создала ни единой свежей идеи, общественной или политической; ничего, не коренившегося в одной из доктрин, когда-либо возникавших на Западе, — преимущественно, лишь десятью-двенадцатью годами раньше первого русского знакомства с ними.
V
Вам надлежит вообразить себе крайне впечатлительное общество, обладавшее неслыханной способностью поглощать заемные идеи — идеи, долетавшие до России, словно легкий ветерок, совершенно случайно: кто-то вернулся из-за границы и привез французский трактат или сборник статей (а возможно, что некий дерзостный книгопродавец отважился и ухитрился доставить их контрабандой); кто-то посещал в Берлине лекции нео-гегельянцев, или завел дружбу с Шеллингом, или беседовал с английским миссионером, излагавшим непривычные мысли. Общество искренне волновалось, внимая какому-нибудь новоявленному краснобаю, выученику Сен-Симона или Фурье, не то листая книги Прудона, Кабэ, Леру — тогдашних «социальных мессий», наставлявших Францию; общество будоражили идеи, приписываемые Давиду Штраусу, либо Людвигу Фейербаху, либо Фелисите-Роберу де Ламеннэ, либо иному запретному автору.
Поскольку подобных книг в России насчитывалось не слишком-то много, на идеи — равно как и на обрывки идей — набрасывались неразборчиво и жадно донельзя. Европейские пророки — социальные и экономические — утверждали неколебимую веру в новое революционное грядущее, и эти «проповеди» буквально пьянили русскую молодежь.
Пока подобные доктрины распространялись на Западе, читатели и слушатели тоже иногда испытывали волнение; время от времени возникали новые партии либо политические секты, — но большинство западных европейцев отнюдь не считали эти наставления незыблемо истинными; даже те, кто числили упомянутые доктрины чрезвычайно важными и ценными, не спешили претворять их в жизнь всеми правдами и неправдами.
А русские занялись именно этим. Сперва они убедили себя: коль скоро предпосылки верны и последующие рассуждения справедливы, значит, неизбежны истинные выводы; а ежели полученные выводы призывают к известным поступкам — необходимым и благотворным, — то человек честный и серьезный долгом своим священным обязан почитать наиусерднейшее и наискорейшее действие. Хотя русских обычно рассматривают как угрюмый, загадочный, несколько религиозный народ, склонный к самобичеванию, хотелось бы сказать: по крайности там, где речь идет о просвещенной, мыслящей интеллигенции, в русских следует видеть лишь преувеличенно пылких западных европейцев девятнадцатого столетия; они вовсе не были склонны к иррационализму или невротической поглощенности самими собой — напротив: русские в высокой (возможно, избыточно высокой) степени обладали изощреннейшей рассудительностью — способностью к логическому и предельно ясному мышлению.
Правда, как только люди пытались претворять усвоенные утопические идеи в жизнь, их почти немедля осаживала и обескураживала полиция; наступало разочарование, а за ним приходила опасность предаться безучастной меланхолии или озлобиться на весь белый свет. Впрочем, это относится ко времени более позднему. Первоначальному периоду не были присущи ни мистицизм, ни поглощенность собственными переживаниями — напротив: представители тогдашней эпохи выступают рационалистами — смелыми, общительными, уверенными в себе. Кажется, это прославленный террорист Кравчинский однажды сказал: у русских уйма недостатков, но вот шарахаться вспять, видя последствия собственных умопостроений, у русских не принято. Если потрудитесь изучить разношерстную русскую «идеологию» девятнадцатого столетия — да и двадцатого тоже, — вероятно, заметите общую особенность: чем парадоксальней, чем неудобоваримей и невыносимей выглядят выводы из какого-либо учения, тем более воодушевленно и самозабвенно русские — по крайней мере, некоторые из них — означенное учение принимают и впитывают; они усматривают в этом всего лишь доказательство нравственной честности, подтверждение своей людской преданности делу истины, своей человеческой серьезности; и хотя последствия таких умопостроений могут оказаться prima facie невероятными или откровенно абсурдными, это еще не повод к тому, чтобы шарахаться от них вспять, ибо чем же это было бы, если не трусостью, не слабостью или — всего хуже! — не забвением истины во имя удобства и покоя? Герцен заметил как-то: «Мы большие доктринеры и резонеры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный <... > элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. <... > Неустрашимым фронтом идем мы, шаг в шаг, до чура и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только с истины <... > »[185]. Это характерно язвительное замечание звучит приговором кое-кому из герценовских современников — и не столь уж несправедливым.
VI
Представьте себе кружок молодых людей, живущих при окостенелом режиме Николая I — людей, жаждущих познания со страстью, пожалуй, не виданной ни в едином европейском обществе; эти юнцы хватаются за всякую новую западную идею с воодушевлением неумеренным, лихорадочно размышляя: как бы поскорее претворить ее в жизнь? Вы получите некоторое понятие о том, как выглядели первые русские интеллигенты.
Они были маленьким кружком litterateurs[186] — профессионалов и любителей, — сознававших свою неприкаянность в неприветливом и унылом мире, где с одной стороны грозили враждебные правители-самодуры, а с другой кишели беспросветно темные толпы угнетаемых несмысленных мужиков. Посему литературная молодежь рассматривала себя как некую добровольческую рать, высоко, на всеобщее обозрение возносящую стяг с девизом: разум и наука, свобода и лучшая доля.
Словно странники, заплутавшие в темной чащобе, они жались друг к другу: просто потому, что были чересчур малочисленны, слабы, искренни, правдивы — просто потому, что не походили на окружающих. Кроме прочего, они усвоили романтическое учение, гласившее: всякому человеку поручена возвышенная миссия, выводящая за пределы низких нужд и потребностей, порождаемых земным существованием; а поскольку образованы были они гораздо лучше угнетаемых меньших братьев, то и считали прямым своим долгом помогать им двигаться к свету, полагая: это и есть особое поручение, полученное нами свыше, — и, если честно выполнить порученное (как безусловно предначертано самой историей), грядущее России, всего скорее, окажется столь же славным и светлым, сколь минувшее было темным и пустым; ради этого и надлежало блюсти внутреннюю сплоченность кружка, посвятившего себя достойной задаче. Эти молодые люди составляли преследуемое меньшинство, черпавшее силы в самом преследовании; они сознательно выступали вестниками западной мысли, вестниками, коих избавил от оков невежества и предрассудков, глупости и трусости некий великий западный освободитель — будь он хоть германским романтиком, хоть французским социалистом, — некто, переменивший их мировоззрение.
Акт освобождения отнюдь не редок в европейской умственной истории. Освободитель не столько отвечает на ваши тревожные вопросы — теоретические или повседневные, — сколько преображает их сущность: освободитель кладет конец вашим прежним безысходным треволнениям и заботам, помещая вас в некую новую среду обитания, где былые задачи становятся бессмысленными, а новые имеют решение, как бы уже, в известной степени, предопределенные устройством новой вселенной, открывшейся перед вами. То есть люди, освобожденные гуманистами Возрождения или philosophes восемнадцатого столетия, не просто думали, будто на прежние их вопросы Платон или Ньютон ответят вернее, чем Альберт Великий или отцы-иезуиты, — нет, перед ними распахивалась целая новая вселенная. Вопросы, тревожившие предшественников, нежданно показались никчемными и бессмысленными.
То мгновение, когда старые оковы слетают вон и прочь, когда вы ощущаете себя созданными заново, способно определить всю вашу дальнейшую жизнь. Не скажешь заранее, кто именно явится освободителем в указанном смысле: Вольтер еще при жизни своей, вероятно, освободил больше человеческих существ, чем кто-либо иной — до или после него; Шиллер, Кант, Милль, Ибсен, Ницше, Сэмюэл Батлер, Зигмунд Фрейд освобождали себе подобных. Не исключаю: даже Анатоль Франс и даже Олдос Хаксли могли выступать освободителями.
Русских, о которых я веду речь, освободили великие германские писатели-метафизики: с одной стороны, «освободили» их от православных церковных догм, а с другой — от сухих словесных формул, изобретенных рационалистами восемнадцатого века; формулы эти были не столько опровергнуты, сколько навеки запятнаны крахом Французской революции. А «проповеди» Фихте, Гегеля и Шеллинга, расцвеченные многочисленными последователями и толкователями, составили чуть ли не новую религию. Естественным следствием нового мировоззрения стало русское отношение к литературе.
VII
Можно сказать, что к литературе — и вообще к любому искусству — существует по меньшей мере два отношения, и небезынтересно было бы их сопоставить. Предлагаю, краткости ради, одно отношение именовать французским, а другое русским. Помните: предлагаемые названия — всего лишь ярлыки, используемые исключительно для вящего удобства. Надеюсь, вы не подумаете, будто я утверждаю, что любой и всякий писатель-француз придерживается «французского» отношения к словесности, а всякий русский автор — отношения «русского». Это различие нельзя понимать буквально — ибо тогда мы тотчас же и напрочь собьемся с пути.
Почти все французские писатели девятнадцатого столетия числили себя своеобразными поставщиками продукции. Они полагали: интеллектуал и художник в ответе за отличное качество этой продукции — как перед собою самим, так и перед публикой. Коль скоро вы живописец — изо всех отпущенных вам сил производите картину елико возможно прекрасную. Коль скоро вы писатель — производите наилучшую книгу, которую только способны создать. В этом ваш долг перед собою самим — и этого же по праву ожидает от вас публика. Ежели работы ваши хороши, они получают признание, а вы пожинаете лавры. Ежели вам недостает либо вкуса, либо умения, либо простой удачи — тем хуже, и делу конец.
С точки зрения «французской», частная жизнь художника или писателя заботит публику не больше, нежели частная жизнь какого-нибудь плотника либо столяра. Если вы заказываете новые книжные полки, то вполне безразлично, какого мировоззрения придерживается стругающий их столяр, и сколько у этого столяра детей, и верен ли он жене. Сказать, что готовые лакированные полки порочны или безнравственны, поскольку работник порочен от природы, и нравственность его оставляет желать лучшего, было бы, с точки зрения французской, ханжеством и кромешной глупостью — ибо что общего у морали с почтенным столярным искусством?
Такое безразличие к умственному и душевному складу автора (сознательно мною преувеличенное) яростно отвергалось почти всеми крупнейшими русскими писателями, жившими в девятнадцатом веке — и теми, кто недвусмысленно уклонялся к общественной либо нравственной назидательности, и творцами-эстетами, верившими лишь в искусство ради искусства. «Русское» отношение к делу (по крайности, в прошлом веке) предполагало: человек един и неделим; неправда, что человек одновременно бывает сознательным гражданином и, независимо от этого, дельцом-алтынником, что две стороны единой личности могут сосуществовать порознь; что личность человеческая выглядит по-разному, выступая в качестве то избирателя, то художника, то отца семейства. Человек неделим! Слова «как художник, я чувствую одно, а как избиратель — совсем иное», неизменно лживы, а вдобавок безнравственны и бесчестны. Человек един; во всем, что ни делает он, человеческая личность участвует целиком и полностью. Долг человеческий — творить добро, говорить правду, создавать прекрасное. Говорить правду — обязанность людская, в какой бы среде ни очутился говорящий, чем бы ни занимался он. Если пишешь романы — говори правду как романист. А если ты балетный танцор — выражай правду своими телодвижениями.
Идея целостности, полнейшей самоотдачи составляет стержень романтического мировоззрения. Разумеется, и Моцарт, и Гайдн изумились бы несказанно, услыхав, что, будучи творцами, они числятся избранниками, стоящими превыше остальных людей; жрецами, всецело отдающимися служению некой трансцендентной действительности, изменить которой было бы смертным грехом. Они считали себя добросовестными умельцами — иногда вдохновенными служителями Бога или Природы, старающимися прославить Всевышнего Создателя всеми доступными способами; но в первую очередь они были композиторами, работавшими по заказу и сочинявшими елико возможно более прекрасную музыку. А в девятнадцатом веке представление о художнике-творце как о священном сосуде, непричастном толпе, обладающим особой душой и особыми правами, было чрезвычайно распространено. Зародилось оно, полагаю, главным образом среди немцев, и связывалось с убеждением: каждый человек должен отдаться определенному занятию, а художника или поэта обязывает к творчеству наиважнейший и наивысший долг — ибо художник и поэт отмечены особо, и призванию своему обязаны посвятить себя всецело; судьба человека-творца неизбежно возвышенна и трагична, ибо такой человек исполняет полученное поручение, безоглядно жертвуя собою во имя идеала. Сущность идеала сравнительно маловажна. Главное — жертвовать собою, не рассуждая, не думая о вероятных невзгодах, нимало не щадить себя, питая сияющий душевный свет и работая из чистейших побуждений. Ибо роль играют лишь эти побуждения.
Каждый русский писатель сознавал, что является на общественные подмостки глашатаем и свидетелем; а посему, даже малейший огрех с его стороны — ложь, обман, потворство своим желаниям, нерадение к делу истины — равнялся вопиющему злодейству. Если вы главным образом частный «добытчик», старающийся нажить побольше денег, то, возможно, и не подотчетны обществу столь строго. Но коль скоро держите прилюдные речи, будучи поэтом, прозаиком, историком — кем угодно! — то принимайте полную ответственность, возлагаемую на вождя и народного наставника. Ежели призвание ваше таково, помните: вы связаны своеобразной «клятвой Гиппократа»: говорить чистейшую правду и вовеки не отступаться от нее — самозабвенно отдаваясь достижению предназначенной цели.
Есть несколько «химически чистых» случаев (один из них — Толстой), когда изложенный принцип воспринимался буквально и в жизнь претворялся до последней возможности. Но Толстой, конечно, был не единственным в своем роде: подобная склонность имела широкое распространение среди других авторов. Например, даже Тургенев, обычно числящийся наиболее «западным» русским писателем, верившим в чистую и независимую природу искусства крепче, нежели, скажем, Достоевский или Толстой; автором, сознательно и всемерно избегавшим литературного морализирования, — за что его, кстати, сурово порицали русские собратья по перу: дескать, г-н Тургенев чересчур уж заботится (да еще на прискорбно западный лад) об эстетических достоинствах написанного, излишне много времени отводя работе над формой и слогом своих -Творений и пренебрегая проникновением в глубины духовной и нравственной сути создаваемых образов, — даже Тургенев, этот «эстет», незыблемо верил: общественные и нравственные вопросы являются наиглавнейшими и в жизни, и в искусстве, а понятными становятся только в их особом историческом и идейном контексте.
Однажды я поразился, прочитав слова известного литературного критика, опубликованные воскресной газетой: Тургенев, дескать, менее всех прочих авторов сознавал движущие исторические силы своей эпохи. Это прямо противоположно истине. Каждый тургеневский роман, каждая повесть недвусмысленно посвящены тогдашним общественным и нравственным вопросам, поднимавшимся в определенной обстановке и в известное время. То обстоятельство, что Тургенев был художником до мозга костей и понимал повсеместные, вселенские особенности человеческого нрава и невзгод человеческих, не должно заслонять от нас простого факта: писатель считал прямым своим долгом всенародно проповедовать объективную истину — общественную наравне с психологической — и не отступаться от нее.
Докажи кто-нибудь из современников, что Бальзак числился тайным агентом французской разведки или что Стендаль мошенничал и плутовал на парижской бирже, — несколько близких друзей, вероятно, и огорчились бы, но в целом разоблачения отнюдь не повлияли бы на творческую репутацию обоих авторов: их гениальность не подверглась бы сомнению, а художественные заслуги не померкли. Но едва ли хоть один из русских писателей девятнадцатого столетия, будучи обоснованно обвиняем в чем-либо подобном, усомнился бы даже на мгновение: литературной славе настал конец. Не представляю себе русского автора, пытающегося защититься простым доводом: как литератор, я — общественный деятель, и судите обо мне согласно достоинствам или недочетам напечатанных книг; а вот как частное лицо — я, не обессудьте, совсем иной человек. Здесь и разверзается бездна меж характерно «русским» и «французским» понятиями об искусстве и жизни — используя придуманные мною условные ярлыки. Не пытаюсь утверждать, будто любой и всякий западный писатель исповедует идеал, приписанный мною французам, а каждый русский придерживается точки зрения, которая для краткости окрещена «русской». Но, вообще говоря, считаю это разделение верным и надежным, даже когда вы добираетесь до авторов-эстетов: скажем, русских символистов, явившихся на закате девятнадцатого столетия, презиравших всякое прикладное или назидательное — иными словами, «запятнанное» — искусство, начисто равнодушных к общественным вопросам, психологическим романам, принявших западные понятия о прекрасном и доведших эти понятия до степени outr&.
Даже эти русские символисты не считали себя свободными от любых нравственных обязательств. Скорее, они полагали себя некими прорицателями, жрецами, восседавшими на таинственном пифийском треножнике, ясновидцами, коим открывался высший слой бытия, чьим туманным символом и таинственным выражением служил окружающий земной мир; и, будучи весьма далеки от социального идеализма, со всевозможным пылом — духовным и нравственным — блюли собственные священные обеты. Символисты были сопричастны тайне, свидетельствовали о ней; в этой тайне и заключался идеал, который особая, лишь творчеству присущая, нравственность не дозволяла предавать. Подобные воззрения в корне отличаются от чего бы то ни было, сказанного Флобером о верности художника своему дарованию: для Флобера эта верность составляла единственную истинную функцию творца — и являла наилучший способ сделаться настолько хорошим художником, насколько дозволяют силы.
Отношение же к искусству, приписываемое мною русским, — чисто нравственное; «русское» отношение к творчеству и жизни совершенно одинаково и, в конечном счете, лишь на нравственности и основывается. Этого отношения нельзя путать и смешивать с понятием о чисто прикладном искусстве — хотя, разумеется, кое-кто из русских и верил в него. Бесспорно, что люди, о коих я намерен рассказывать — люди 1830-х и 1840-х, — не считали, будто задачей прозы и поэзии было наставлять читателя уму-разуму. Утилитарные воззрения возобладали позднее, а исповедовали их литераторы несравненно более скучные и бесцветные, чем те писатели, что привлекают наше внимание сейчас.
Самые «типичные» русские авторы полагали: писатель первым делом человек, непосредственно и постоянно отвечающий за все, им изрекаемое — будь то в романах или частных письмах, публичных выступлениях или дружеских беседах. Такой взгляд отразился и на западных понятиях об искусстве и повседневности, существенно их изменив; он остается одним из примечательнейших вкладов, которые русская интеллигенция внесла в умственную жизнь. К добру или к худу, взгляд этот сильнейшим образом повлиял на европейское сознание.
VIII
В те дни молодыми русскими умами завладели Гегель и гегельянство. Эмансипированные юноши стремились погрузиться в философию с головой, они жаждали этого горячо и страстно. Гегель являлся, как великий новый освободитель; посему считалось нравственным долгом — категорическим долгом! — всякий поступок и всякое действие, житейское либо литературное, посвящать выражению и утверждению впитанных гегелевских истин. Такую преданность (впрочем, Дарвину, Спенсеру и Марксу изъявляли впоследствии не меньшую) трудно понять, не зная тогдашней пылкой словесности, — а особенно, литераторской переписки тех лет. Чтобы не выглядеть голословным, позволю себе процитировать несколько иронических абзацев из Герцена, великого русского публициста, проведшего вторую половину жизни за российским рубежом. В нижеследующих отрывках Герцен оглядывается на прошлое и описывает царившую в дни его юности общественную и умственную атмосферу. Как часто случается с этим несравненным сатириком, картина возникает изрядно преувеличенная — местами просто карикатурная, — однако, несмотря ни на что, успешно доносящая до нас дух миновавшей эпохи.
Сказав, что чистая созерцательность начисто несовместима с русским характером, Герцен рассуждает об участи, постигшей гегельянство, завезенное в Россию:
«...Нет параграфа во всех трех частях "Логики", в двух "Эстетики", "Энциклопедии" и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении "перехватывающего духа", принимали за обиды мнения об "абсолютнойличности и о ее по себе бытии". Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он, — так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргей- неке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал "привратником Гегелевой философии", если б они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их покупали. <...> Молодые философы приняли, напротив, какой-то условный язык; они не переводили на русское, а перекладывали целиком, да еще, для большей легкости, оставляя все латинские слова in crudo [нетронутыми, без перевода], давая им православные окончания и семь русских падежей.
Я имею право это сказать, потому что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно также да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это "птичьим языкомНикто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: "Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красотеЗамечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских» К
И Герцен продолжает:
«Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой- нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к "гемюту" или к "трагическому в сердце"»[187].
Вышеприведенные иронические высказывания вовсе незачем понимать буквально. И все же, они отлично живописуют экзальтированную — exalte — умственную атмосферу, в коей обитали друзья молодого Герцена.
А теперь дозвольте предложить вашему вниманию отрывок из Павла Анненкова — из его превосходной работы, озаглавленной «Замечательное десятилетие» и упомянутой мною в самом начале очерка. Анненков изображает тех же людей и ту же эпоху совсем иначе, и стоит процитировать его слова хотя бы ради того, чтобы сгладить впечатление от забавного герценовского шаржа, который прозрачно и весьма несправедливо намекает: вся тогдашняя умственная деятельность сводилась к никчемной белиберде, изрыгаемой смехотворным сборищем донельзя взвинченных молодых интеллектуалов. Анненков описывает жизнь в сельской усадьбе Соколово, снятой в 1845 году на все лето троими друзьями: Грановским — профессором, преподававшим средневековую историю в Московском университете, Кетчером — выдающимся переводчиком, и самим Герценом — богатым молодым человеком без особо определенных занятий, хотя формально числившимся где-то на государственной службе. Дом они сняли, дабы принимать у себя друзей и наслаждаться по вечерам учеными беседами. Анненков пишет:
«Прежде всего следует заметить, что в Соколове не позволялось только одного — быть ограниченным человеком. Не то чтоб там требовались непременно эффектные речи и проблески блестящих способностей вообще; наоборот, труженики, поглощенные исключительно своими специальными занятиями, чествовались там очень высоко — но необходим был известный уровень мысли и некоторое достоинство характера. Воспитанию мысли и характера в людях и посвящены были все беседы круга, о чем бы они, в сущности, ни ищи, что и давало им ту однообразную окраску, о которой говорено.
Еще одна особенность: круг берег себя от соприкосновения с нечистыми элементами, лежавшими в стороне от него, и приходил в беспокойство при всяком, даже случайном и отдаленном, напоминовении о них. Он не удалялся от света, но стоял особняком от него, — потому и обращал на себя внимание, но вследствие именно этого положения в среде его развилась особенная чуткость ко всему искусственному, фальшивому. Всякое проявление сомнительного чувства, лукавого слова, пустой фразы, лживого заверения угадывались им тотчас и везде, где появлялись, вызывали бурю насмешек, иронии, беспощадных обличений. Соколово не отставало в этом отношении от общего правила. Вообще говоря, круг этот, важнейшие представители которого на время собрались теперь в Соколове, походил на рыцарское братство, на воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоял, «о какому-то соглашению, никем, в сущности, «е возбужденному, поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими
IX
Не велика беда, что в дружеском кругу, описываемом Анненковым, чуть заметно веяло педантизмом — все равно, именно такие маленькие сообщества обычно кристаллизуются повсюду, где существует мыслящее меньшинство, исповедующее идеалы, которые напрочь отделяют его от окружающего мира. Подобные кружки стараются утвержда!ъ определенные понятия и мерила, нравственные и умственные, — по крайности, «среди своих». Этим-то и занимались русские интеллигенты между 1838 и 1848 годами. Они были неповторимыми в своем роде русскими людьми, не принадлежавшими к некоему определенному классу общества — хотя лишь единицы выходили из простонародья. Интеллигентам просто надлежало рождаться в более-менее «порядочных» семьях, иначе надежды получить порядочное — подобное западному — образование имелось весьма немного.
Их дружеские отношения были по-настоящему свободны от буржуазной чопорности. Богатство не впечатляло их, а бедность не смущала. К служебным и прочим подобным успехам интеллигенты были вполне равнодушны. Старались даже избегать успехов такого рода. Только немногие из них преуспевали на житейских поприщах. Зато многие отправлялись в ссылку; многие служили университетскими преподавателями под неусыпным надзором царской полиции;
'П.В.Анненков. Замечательное десятилетие (1880). «Литературные воспоминания», М., 1960; гл. 26, стр. 269-270.
многие за гроши занимались литературной поденщиной и переводами; кое-кто просто исчезал. Двое или трое покинули кружки, таких числили отступниками. Например, Михаил Катков, одаренный писатель и журналист, поначалу принадлежал к интеллигентскому движению, а затем перешел на сторону царской власти; Василий Боткин, близкий друг Белинского и Тургенева, начинал как философический чаеторговец, а с годами превратился в убежденного реакционера. Но эти случаи оставались единичными.
Тургенева изначально и впоследствии рассматривали как ни рыбу ни мясо, ни то ни се: человека, чье сердце звало его идти верной дорогой, человека, не чуждого идеалам, хорошо понимавшего, что значит просвещение, — и все же ненадежного. Разумеется, Тургенев резко возражал против крепостного права; общепризнано: его «Записки охотника» оказали большее воздействие на русское общество, нежели любая иная книга, опубликованная в России ранее: «Записки» стали для русских примерно тем же, чем позднее сделалась для американцев «Хижина дяди Тома» — только «Записки», в отличие от «Хижины», суть произведение искусства, и гениальное произведение. В целом русские молодые радикалы глядели на Тургенева как на поборника верных принципов, на союзника и друга — к несчастью, слабого, переменчивого, склонного тешиться удовольствиями за счет убеждений, способного нежданно исчезать со сцены, а потом вяло извиняться перед товарищами, коих «бросил на произвол судьбы», — но все-таки «своего»: члена интеллигентской партии, человека «с нами, а не против нас» — хотя писатель нередко совершал поступки, заслуживавшие сурового товарищеского порицания (в основном, благодаря злополучной любви к французской певице Полине Виардо: из-за нее Тургенев оказывался вынужден потихоньку продавать свои рассказы и повести реакционным издательствам — отчаянно требовались деньги, хотя бы на постоянное место в театральной ложе, а передовые левые издатели прилично заплатить не могли). Конечно, друг нестойкий и ненадежный — и все же, несмотря ни на что, убежденный друг: человек и собрат!
Среди этих людей бытовало весьма педантическое ощущение сплоченности, солидарности, рождавшее чувство истинного братства и общей цели — ничего подобного ни единое из русских сообществ не ведало. Герцен, знакомившийся впоследствии с великим множеством знаменитостей, Герцен— взыскательный и, нетерпимый, сплошь и рядом излишне язвительный, а временами и цинический судья рода людского, и Анненков, изрядно постранствовавший по Западной Европе, где также завел несметные знакомства с тогдашними светилами, — оба этих знатока души человеческой в более поздние годы признавали: нигде и никогда больше не встречали мы сообщества столь цивилизованного, задорного и свободомыслящего, столь просвещенного, непринужденного и дружелюбного; столь искреннего и разумного, столь
одаренного и во всех отношениях привлекательного.
•
Германский романтизм в Петербурге и Москве
К
ажется, все — или почти все — историки русской литературы и философии, невзирая на любые иные свои разногласия, сходятся в одном: наибольшее, преобладающее влияние на русских писателей, работавших во второй четверти девятнадцатого столетия, оказал германский романтизм. Правда, этот взгляд, как и большинство ему подобных обобщений, не вполне верен. Пускай Пушкина и причисляют к поколению предыдущему — все равно: ни Лермонтов, ни Гоголь, ни Некрасов — говоря лишь о самых заметных авторах той эпохи — не могут считаться учениками романтических мыслителей-немцев. Впрочем, германские метафизики действительно в корне изменили течение русской мысли — как справа, так и слева: мысли националистической, православной и радикально-политической наравне; романтизм сильнейшим образом сказался на мировоззрении «передового» университетского студенчества — и всей прочей молодой интеллигенции. Германские философские школы — в частности, учения Гегеля и Шеллинга (правда, «осовремененные») — и доныне еще не утратили влияния всецело.
В наследство современному человечеству эти школы оставили пресловутую, могучую политическую мифологию, взятую на вооружение одновременно правыми и левыми, дабы оправдать махровый обскурантизм и страшный гнет, ими проповедуемый и насаждаемый. И все же, великие исторические достижения философов-романтиков уже давным-давно так впитались и въелись в западную цивилизованную мысль, что нынче непросто вообразить себе, насколько новыми, свежими казались они встарь, опьяняя многие умы.
Философские труды, созданные ранними германскими романтиками — Гердером, Фихте, Шеллингом, Фридрихом Шлегелем и многими их последователями, — читать нелегко. Например, шеллингианские трактаты, служившие некогда предметами восхищения искреннего и всеобщего, подобны темным дебрям, углубляться в которые мне — во всяком случае, сейчас — не хочется: vestigia terrent\ уж больно много любознательных и отчаянных голов проникли туда, чтобы не вернуться вовеки.
Но искусство и философия той эпохи — по крайности, германские, а также восточноевропейские и русские (ибо и Восточная Европа, и Россия были, можно сказать, умственными колониями Германии) — будут непонятны, если не учитывать важного факта: вышеупомянутые метафизики — особенно Шеллинг — властно влекли мысль человеческую прочь от механистических философских категорий восемнадцатого столетия — и прямо к пояснениям и толкованиям, основанным на эстетических или биологических понятиях. Романтики—мыслители и поэты—успешно сокрушили основополагающую догму просветителей восемнадцатого века, гласившую, что единственный надежный метод исследований и толкований обеспечивается лишь победоносными науками, связанными с механикой. Французские philosophes преувеличивали пользу, а германские романтики — абсурдность приложения понятий и мерил, используемых естествознанием, к делам чисто человеческим. Но, помимо всего прочего, ею достигнутого, романтическая реакция на притязания «научного материализма» поставила под вечное сомнение способность земных наук — психологии, социологии, антропологии, физиологии — возобладать в таких областях умственной и духовной деятельности, как история, искусство, религиозная, философская, общественная и политическая мысль, воцариться там безраздельно и положить конец тамошнему возмутительному беспорядку. Если Бейль и Вольтер потешались над современными им богословами, то романтики высмеивали твердокаменных материалистов, подобных Кондильяку и Гольбаху, а излюбленным полем битвы сделалась область прекрасного, эстетика.
Если вам хочется понять, из чего рождается произведение искусства; если хочется понять, например, отчего определенные очертания и краски слагаются в определенную картину либо изваяние; отчего определенный слог или определенные словосочетания производят особо могучее воздействие на определенного читателя, наделенного особой восприимчивостью, или запоминаются этим читателем накрепко; или отчего некие звуковые сочетания, именуемые музыкой, иногда зовутся бездарными, а иногда великими, либо лиричными, либо вульгарными, либо возвышенными, либо низменными, либо характерными для того или иного народа, или для отдельного композитора — никакие общие положения, подобные тем, что используются физикой, никакие обобщенные описания, или классификации, или категории, применяющиеся науками, которые исследуют свойства звуков, или цветных пятен, или черных значков, отпечатанных на бумаге, или строение произносимых человеком фраз, ни в малейшей мере не помогут получить ответы на задаваемые вопросы.
Каковы же были ненаучные объяснения, применимые к жизни, к мысли, к искусству и религии, не поддающимся научному толкованию? Романтические метафизики обратились к путям познания, приписываемым Платоновской традиции: духовное прозрение, интуитивное чувство связей, научному анализу не подлежащих. Шеллинг (чьи взгляды на природу творческого воображения — в частности, воображения гениального — темны и туманны, однако при этом поразительно своеобразны и неожиданны) использовал понятие вселенского мистического прозрения. Он рассматривал вселенную как единый дух, огромный живой организм, душу или сущность, развивающиеся от одной духовной стадии к другой. Отдельные человеческие личности служили некими «замкнутыми средоточиями», «аспектами», «моментами» исполинской космической сущности — «живого целого», мировой души, трансцендентного Духа или Идеи, чье описание понуждает припомнить фантазии ранних гностиков. Даже скептически настроенный швейцарский историк Якоб Буркгардт говорил, что, слушая речи Шеллинга, начинал видеть неведомых, грозно близящихся существ, многоруких и многоногих. Однако выводы из этого апокалипсического мировоззрения не столь эксцентричны. Замкнутые средоточия — отдельные человеческие существа — понимают друг друга, окружающий мир и себя самих; понимают они также прошлое, и (в известной степени) настоящее, и грядущее тоже — только не тем образом, коим разумеют себе подобных. Если, к примеру, я утверждаю, будто разумею другое человеческое существо: разделяю его суждения, слежу за ходом его мыслей, «проникаю» в его умопостроения — и посему обладаю полнейшим правом судить о его характере, «внутренней» его сущности, — я приписываю себе способность делать нечто, не подлежащее, с одной стороны, сведению к определенной системе операций, а с другой стороны, к методу, позволяющему извлекать из них дальнейшие сведения, — будучи обнаружен, такой метод мог бы сделаться простым приемом, доступным любому восприимчивому ученику, более-менее механически применяющему его впоследствии. Понимание человека, идей и движений, мировоззрения, присущего отдельным личностям либо сообществам, нельзя ограничить ни социологическими классификациями по типам поведения, ни предсказаниями, вырастающими из научных опытов и тщательно упорядоченных статистических данных, относящихся к ученым наблюдениям. Нет и не бывает замены сочувствию, пониманию, проницательности, мудрости.
Сходным же образом Шеллинг учил: если желаете узнать, что именно делает произведение искусства прекрасным или что придает неповторимое своеобразие историческому периоду, — необходимо использовать методы, отличающиеся от методов научного опыта, классификации, индукции, дедукции и тому подобных приемов, свойственных естествознанию. Согласно этой доктрине, ежели вы намерены уразуметь, откуда взялся великий духовный переворот, называемый Французской революцией, или почему Гетев- ский «Фауст» глубже Вольтеровских трагедий, то применять методы психологические и социологические, в общих чертах обрисованные, допустим, Кондильяком или Кондорсэ, вполне бесполезно. Если вы не обладаете проницательным воображением, дозволяющим постичь «внутреннюю», умственную и чувственную — духовную — жизнь личности, общества, исторического периода; «внутренние цели», «суть» учреждений, народов, церквей, — вы навеки останетесь неспособны пояснить, отчего одни сочетания способны сливаться в «единства», а другие — нет: отчего известные звуки, слова или действия уместны в составе целого и отлично в него вписываются, а другие — ни в коем случае. Не играет роли: «объясняете» вы человеческий характер, или подъем общественного движения, или рост политической партии, или блеск философской школы, или расцвет мистических воззрений на действительность. И это, согласно взглядам, здесь обсуждаемым, не случайно. Действительность не просто органична, действительность целостна — иными словами, составные части ее не просто связаны случайными отношениями, не просто образуют структуру либо гармонию, в коих каждый элемент рассматривается как «неотъемлемо нужный» благодаря расположению прочих элементов — помимо этого, он «отражает» или «выражает» остальные элементы, ибо наличествует единый Дух («Идея», «Абсолют»), неповторимым аспектом или артикуляцией которого предстает все существующее — и чем явственнее аспект, чем живее и гибче артикуляция, тем «глубже» и «реальнее» вещь или понятие. Философия «верна» пропорционально тому, сколь точно описывает она фазу, достигнутую Абсолютом или Идеей на каждой стадии развития. Поэт наделен гениальностью, а государственный муж — величием лишь в той степени, в которой они питаются «духом» окружающей среды — национальной, культурной, общественной — и выражают его; здесь наличествует «воплощенное» самоосуществление вселенского Духа, пантеистически воспринимаемого как вездесущее Божество. И если произведение искусства мертво, или неестественно, или пошло — значит, оно является простой случайностью во вселенском развитии. Искусство, философия, религия — только усилия, прилагаемые «замкнутыми средоточиями», смертными людьми к ощущению и выражению «эха» космической гармонии. Земное человеческое существо ограниченно и конечно, его мировоззрение всегда останется фрагментарным — однако, чем глубже личность, тем крупнее и богаче окажется доступный ей фрагмент. Отсюда проистекает высокомерное пренебрежение, с которым подобные мыслители отзываются о «чисто» эмпирическом или «механическом», о повседневном опыте, копящемся в мире, чьи обитатели остаются глухи ко внутренней гармонии — той, без коей ничего на свете нельзя уразуметь верно.
Случалось, романтические критики полагали себя не простыми открывателями природы различных видов познания, мысли, чувства — дотоле не обнаруженной или исследованной неверно, — а созидателями новых космологических систем, новых вер, новых видов жизни: по сути, орудиями духовного искупления, используемыми вселенной для «самоосуществления». Ныне их метафизические вымыслы почти полностью — осмелюсь добавить: по счастью — забыты; но свет, вовремя пролитый ими на искусство, историю и религию, преобразил мышление всего Запада. Уделяя огромное внимание бессознательной работе воображения человеческого, роли иррациональных факторов, символов и мифов, наличию в мире не поддающихся анализу близких подобий и полных противоположностей, фундаментальных, однако неощутимых связей и различий, идущих вразрез общепринятым направлениям рассудочной, рациональной классификации, романтики зачастую совершенно свежо и весьма успешно повествовали об истоках поэтического вдохновения, религиозного опыта, политического таланта; они удачно соотносили искусство и общественное развитие, личность и массу, нравственные идеалы и факты, почерпнутые из эстетики или биологии. Их объяснения звучали куда убедительнее бытовавших дотоле — в любом случае, гораздо разумнее, чем доктрины восемнадцатого столетия, не занимавшиеся подобными темами систематически, предоставлявшие поэтам и прозаикам, склонным к мистике, лишь изредка и случайно высказываться по этим поводам.
Также и Гегель, вопреки напущенному им же философическому туману, привел в движение идеи, сделавшиеся настолько всеобщими и привычными, что мы рассуждаем в согласии с ними, даже не подозревая, что повторяем довольно старые мысли. Это справедливо, например, касаемо идеи, гласящей: история мысли — непрерывный процесс, подлежащий отдельному изучению. Существовали, конечно, и в античности, и в Средневековье изложения — обыкновенно простые catalogues raisonnes[188] — отдельных философских систем, или трактаты-монографии, посвященные отдельным мысли-
— Примечание
— комментированные каталоги. 242
телям. Но именно Гегель развил понятие об особой совокупности идей, пронизывающих и пропитывающих целую эпоху или целое общество, о воздействии этих идей на идеи дальнейшие, о множестве невидимых звеньев, коими ощущения, чувства, мысли, верования, законы — общее мировоззрение, ныне зовущееся идеологией, — одного поколения связываются с идеологией иных эпох и земель. Гегель, в отличие от своих предшественников, Гердера и Вико, старался представить это связным, непрерывным развитием, подлежащим рассудочному анализу, — и стал первым в погибельном семействе «космических историков», чья родословная тянется от Конта и Маркса до Шпенглера и Тойнби, — а также всех прочих, обретающих душевный покой, открывая необъятную воображаемую симметрию в своенравном потоке человеческой истории.
Пускай почти все гегельянство — чистая фантазия (или, скажем, крайне субъективная «поэзия в прозе»), но замечание о том, что многие проявления человеческого духа взаимно связаны, что художественная или научная мысль известной эпохи наиболее вразумительна только во взаимодействии с общественной, экономической, богословской и правовой деятельностью общества, где живут и работают художники и ученые — само понятие культурной истории как источника света, — явилось огромным шагом в истории человеческой мысли. А Шеллинг (шедший по стопам Гердера) положил основу чисто романтическому представлению о том, что поэты и живописцы способны понимать дух века глубже, а выражать его ярче и памятнее, чем академически настроенные историки, — благодаря большей чувствительности к очертаниям современной им эпохи (либо иных эпох и культур), особой чуткости, которой лишены и обученные собиратели давностей, и профессиональные журналисты, — поскольку поэт гораздо более тонкое существо, лучше отзывающееся на полупонятные факторы, пребывающие в зародыше, полного развития и зрелости достигающие только впоследствии, но уже действующие в глубине данной среды; поэт (или художник) ощущает их работу несравненно острее. Например, именно об этом и говорил Карл Маркс, утверждавший: Бальзак в своих романах изображал и жизнь и нравы не столько ему самому современные, сколько свойственные людям 1860-х и 1870-х, чьи очертания — в эпоху Бальзака еще остававшиеся вполне зачаточными — тревожили его творческую чувствительность задолго до того, как проявились полностью и средь бела дня. Романтические философы изрядно преувеличивали силу и надежность подобной интуитивной, или поэтической, проницательности; однако пылкие романтические воззрения, остававшиеся мистически-иррациональными, сколь их ни плотно окутывали квази-научно либо квази-лирически звучавшими словами, поразили в 1830-х и 1840-х годах воображение молодых русских интеллигентов и, казалось, распахнули двери в мир более благородный и спокойный, чем удручавшая действительность империи, которой правил царь Николай I.
Человека, лучше кого бы то ни было иного в России учившего просвещенную молодежь 1830-х подниматься превыше эмпирических фактов и воспарять в область чистейшего света, где все испокон веку было истинно и гармонично, звали Николаем Станкевичем; студент Московского университета, он, едва перешагнув рубеж двадцатилетия, собрал вокруг себя кружок восторженных почитателей. Станкевич был молодым аристократом, обладателем равно благородных ума и внешности, добрым идеалистом, исключительно мягким по натуре; приверженец метафизических учений, он умел излагать их ясно и доступно. Родился Станкевич в 1813-м, и на протяжении всего своего краткого земного пути (он умер двадцати семи лет от роду) оказывал очень заметное нравственное и умственное влияние на друзей. Станкевича боготворили при жизни, а после смерти чтили его память. Даже Тургенев, отнюдь не склонный к слепому обожанию кого бы то ни было, вывел Станкевича в романе «Рудин» под именем Покорского — причем без малейшей иронии. Станкевич глубоко знал немецкую романтическую литературу и проповедовал светскую, метафизическую религию, что заменила ему православное вероучение: в последнем и сам он, и его друзья разочаровались.
Он учил: верное понимание Канта и Шеллинга (впоследствии также Гегеля) дает человеку осознать, что под внешними, видимыми беспорядком и жестокостью, несправедливостью и безобразием повседневной жизни можно различить вечную красоту, вечный мир и гармонию. Художники и ученые двигались разными дорогами к одной и той же цели (чисто шеллингианская мысль), жаждая причаститься внутренней гармонии. Лишь искусство (здесь подразумеваются также философские и научные истины) бессмертно и стоит неуязвимым над хаосом окружающего эмпирического мира, над мутным и бессмысленным потоком политических, общественных и экономических событий — преходящих и подлежащих заслуженному забвению. Шедевры искусства и мысли суть нерукотворные и вечные памятники творческой мощи людской; только они и запечатлевают минуты сверхчеловеческого прозрения в некие слои высшего бытия, обретающиеся по ту сторону быстротекущего и призрачного земного существования. Станкевич верил (подобно многим — особенно множившимся после очередного общественного фиаско; а в случае со Станкевичем, пожалуй, сказалось поражение декабристов), что человеку следует не желать внешних, общественных реформ, способных лакировать жизненную поверхность, но не более того, а стремиться к реформам внутренним, к духовным переменам; все прочее приложится, ибо Царство Небесное — гегелевский трансцендентный Дух — обретается внутри самого человека. Спасение приходит к нам через самосовершенствование; дабы познать истину, действительность и счастье, неотъемлемо важно учиться у доподлинно знающих: у философов, поэтов, мудрецов. Кант, Гегель, Гомер, Шекспир, Гете были гармоническими душами, святыми и мудрецами, видевшими то, чего толпе не увидать вовек. Лишь учение, непрерывное и неустанное самообразование дает человеку надежду заглянуть в их Элизий — ту единственную действительность, где разрозненные осколки, фрагменты вновь собираются вместе и делаются первоначальным целым. Лишь умеющие достигать этого благодатного прозрения поистине мудры, добры и свободны. Гнаться за материальными, житейскими благами — любыми общественными реформами, политическими целями — значит гнаться за призраками, преследовать миражи, питать ложные надежды, готовить себе разочарование и злополучие.
Всякий русский, меж 1830-м и 1848-м годами бывший молодым идеалистом или просто не чуждавшийся ничего человеческого и страдавший при виде окружающих общественных условий, с облегчением слышал: ужасающие невзгоды российской жизни — кромешное невежество и бедность крепостных, малограмотность и лицемерие священнослужителей, продажность, никчемность, жестокость и своеволие правящих классов, мелочность, холопство и бесчеловечность купцов и лавочников — короче сказать, вся варварская система — были, согласно западным мудрецам, лишь пузырем на жизненной поверхности. Все это, в конечном итоге, представало неминуемыми и не имеющими значения свойствами призрачного земного мира; и если поглядеть на него с достаточной высоты, будет понятно: все это не тревожит глубинной гармонии. Тогдашняя метафизика изобилует музыкальными терминами. Вам говорили: если просто слушать случайные, отрывочные звуки, производимые отдельным музыкальным инструментом, их можно счесть неприятными, бессмысленными, бесцельными; но если вы знакомы со всем произведением и внимаете ему, исполняемому оркестром от начала и до конца, то разумеете: ноты, казавшиеся произвольными, сливаются с другими нотами, образуя гармоническое целое, утоляя ваше стремление к истинному и прекрасному. Это своего рода перевод прежних научных методов истолкования на язык эстетики. Спиноза и некоторые рационалисты восемнадцатого столетия учили: ежели вы будете в силах постичь устройство вселенной (одни говорили: пользуясь метафизической интуицией; другие вещали: распознавая во вселенной математический или механический порядок), то прекратите биться лбом о стену — поймете: все, существующее в действительности, неизбежно существует где нужно, когда нужно и в том виде, в каком нужно — являя собою часть разумного порядка, именуемого космической гармонией. Коль скоро вы это увидите — обретете внутренний мир и покой, ибо не сможете, будучи разумным человеческим существом, бесцельно бунтовать и роптать, созерцая неизбежный, логически обоснованный миропорядок.
Перевод вышеизложенного на язык эстетики явился преобладающим фактором в германском романтическом движении. Вместо разговоров о неизбежных связях, установленных по научному образцу, вместо логических либо математических умопостроений, применяемых к разгадке вселенских тайн, вам предлагают пользоваться новой разновидностью логики, обнажающей перед вами красоту живописного холста, глубину музыкального произведения, истину литературного шедевра. Если вы принимаете жизнь как художественное творение некоего космического Создателя, если рассматриваете миропорядок в качестве постепенно развивающегося произведения искусства — короче говоря, если отрицаетесь «научного» взгляда со всеми его последствиями и обращаетесь к метафизической, «трансцендентальной» точке зрения, то почти наверняка ощутите себя освобожденным. Ранее вы становились жертвой необъяснимого хаоса, отбиравшего покой, понуждавшего негодовать; были узником системы, которую тщетно старались преобразить и улучшить — неизменно страдая, терпя то крах, то поражение. А теперь вы по доброй воле пришли в чувство, сделались воодушевленным участником вселенского дела — и будь, что будет: как бы ни повернулись дела, они обратятся конечным благом для вселенной и, следовательно, для вас самого. Теперь вы мудры, счастливы и свободны: вы осознали вселенские цели, слились воедино с ними.
В России, при тогдашних цензурных условиях, открыто высказывать политические и общественные соображения было затруднительно; литература стала единственным средством донести — сколь угодно Эзоповым языком — подобные мысли до читателя, изложить программу, призывавшую вас игнорировать омерзительную (а после разгрома декабристов опасную) политическую сцену, сосредоточившись на самосовершенствовании — нравственном, литературном, художественном, — и предлагавшую великое утешение людям, не желавшим страдать и маяться сверх меры. Станкевич веровал в Гегеля искренне и глубоко, повторял его умиротворяющие проповеди с красноречием, шедшим от сердца, чистого и чувствительного, и от незыблемой веры, никогда Станкевича не покидавшей. Коль скоро испытывал он какие- либо сомнения, то заставлял их умолкнуть в груди, и до самого безвременного конца своего оставался человеком не от мира сего, праведником, чье присутствие вселяло в друзей духовный мир и покой, щедро расточавшиеся его изумительно цельной, прекрасной личностью; женственно мягкий, обаятельный, Станкевич буквально зачаровывал своих слушателей. Влияние Станкевича оборвалось с его смертью; он оставил по себе всего лишь несколько изящных, негромких стихотворений, горсточку случайных очерков и ворох писем, адресованных друзьям и германским философам — среди них найдутся трогательные послания и к ближайшим наперсникам, и к молодому берлинскому профессору, драматургу, в чьем даровании Станкевич усмотрел нечто, похожее на гений, ученику Гегеля (правда, имя этого автора ныне заслуженно забыто). Увы, слишком скудны имеющиеся материалы, слишком трудно судить по ним о том, каким был при жизни этот предводитель русских идеалистов.
Самым одаренным и впечатлительным из учеников Станкевича был человек совершенно иного склада, Михаил Бакунин, по-любительски увлекавшийся в те годы философией и уже стяжавший изрядную известность благодаря буйному, деспотическому нраву. Под конец 1830-х Бакунин, дотоле служивший армейским офицером, уже вышел в отставку и жил в Москве, главным образом предаваясь умственной деятельности, пополняя образование. Он обладал исключительной способностью впитывать и усваивать чужие учения, а потом излагать их воодушевленно и пылко, словно свои собственные, слегка изменяя и подправляя — как правило, к лучшему: Бакунин заставлял эти доктрины звучать яснее, проще, доступнее, а иногда и убедительнее прежнего. Не лишенный изрядной примеси цинизма, он мало заботился о вероятных последствиях читаемой проповеди, о ее воздействии на друзей и приятелей — только бы звучала внушительно! — и отнюдь не любопытствовал, воодушевляют ли его слова других людей, или заставляют падать духом, или рушат их жизни, или заставляют зевать, или превращают слушателей в фанатических приверженцев какой-нибудь полубезумной утопии. Прирожденный агитатор и пропагандист, Бакунин был в достаточной мере скептиком, чтобы не обманываться собственными бурными разглагольствованиями. Подчинять себе отдельных людей и покорять целые собрания было его metier^: Бакунин принадлежал к необычайному — по счастью, немногочисленному — разряду людей, исхитряющихся буквально гипнотизировать окружающих и превращать их в безрассудных приверженцев «общего дела» — готовых при необходимости и убить и умереть ради «общей цели», — причем сами соблазнители ясно, иронически и холодно сознают последствия своих завораживающих речей. Случалось, Бакунина упрекали в шарлатанстве (например, Герцен), а Бакунин лишь добродушно, от чистого сердца, смеялся, охотно каялся — и продолжал сеять смуту с еще, пожалуй, большей беззаботностью, чем до того. Жизненный путь Бакунина усеян жертвами — или погибшими, или обращенными в истовых последователей идеализма; сам же наставник был неизменно весел, беспечен, лжив, неотразимо обаятелен; спокойно и хладнокровно сеял он разрушение — оставаясь милым, щедрым, своенравным, чудаковатым русским помещиком до конца дней своих.
Идеями он забавлялся виртуозно и с мальчишеским удовольствием. Идеи поступали из многоразличных источников: от Сен-Симона, от Гольбаха, от Гегеля, от Прудона, от Фейербаха, от младогегельянцев, от Вильгельма Вейтлинга. Все эти доктрины Бакунин впитывал в периоды краткого, но крайне
1 Мёйег (<фр.) — ремесло, специальность, занятие. — Примечание переводчика.
усердного самообразования, — а затем излагал их пылко и притягательно, будучи неподражаем, наверное, даже в ту эпоху великих народных трибунов. Все десять лет, описываемых Анненковым, он числился правоверным фанатиком- гегельянцем и проповедовал своим друзьям парадоксальные принципы новой -метафизики день за днем и ночь за ночью — безукоризненно ясно, страстно и упорно. Он вещал о железных, неумолимых исторических законах — и о чем угодно другом. Гегель — и Станкевич — несомненно правы. Напрасно было бы восставать против железных законов или бунтовать из-за, по-видимому, порождаемых ими жестокос- тей и несправедливостей; это значило бы просто обнаруживать незрелый ум, неспособный понять, что космос устроен разумно и упорядоченно — короче говоря, это значило бы не сознавать божественной цели, достигнув коей личные страдания и разлад (если вы толкуете эти понятия надлежащим образом) неминуемо должны достичь наивысшего предела и окончиться.
Гегель учил: дух развивается отнюдь не постоянно, а благодаря «диалектической борьбе противоположностей», развертывающейся как череда резких взрывов (кажется, на этот лад работает дизельный двигатель). Подобное наставление вполне подходило темпераментному Бакунину, любившему повторять: всего ненавистнее — покой, порядок, буржуазное довольство. Простая богемность и неподготовленные, стихийные восстания чересчур уж часто позорили себя. Гегельянство же дозволяло видеть жизнь трагическую и свирепую, лишь прикрытую маской вечной рациональной системы, лишь разобранную одеяниями рассудочных оценок. Сначала обосновать необходимость подчинения жестокому правительству и безмозглой бюрократии (во имя вечного Разума), а затем при помощи тех же доводов оправдать восстание — задача парадоксальная, и Бакунин ею наслаждался. В Москве он упоенно играл своей силой, обращая мирных студентов исступленными дервишами, истерическими искателями неких эстетических или метафизических открытий. Позднее использовал те же таланты с большим размахом, возбуждая и подстрекая уж совсем, казалось бы, никчемный человеческий материал — швейцарских рабочих-часовщиков и немецких крестьян, — доводя слушателей до невероятных вспышек воодушевления, коих эти люди не ведали ни до, ни после.
В эпоху, о которой ведется речь, Бакунин сосредоточил свои зловещие способности на сравнительно скромной задаче: толковал Гегелевскую «Энциклопедию» — абзац за абзацем — восхищенному дружескому кружку. Среди его членов был другой закадычный приятель Станкевича, Николай Грановский, добрый и умный историк, учившийся в Германии, сделавшийся умеренным гегельянцем и вернувшийся в Москву, дабы читать студентам курс истории Средних веков. Он успешно использовал свой, довольно академический, предмет, чтобы вселить в слушателей почтение к западной культуре. Останавливался Грановский, в частности, на облагораживающем влиянии Римско-Католической Церкви, римского права, феодальных учреждений и установлений — рассказывал подробно, стоя лицом к лицу с нараставшим шовинизмом, всячески восхвалявшим византийские корни русской культуры: в ту эпоху это поощрялось правительством, как противоядие, обезвреживавшее опасные западные идеи. Грановский сочетал эрудицию с очень уравновешенным складом ума, его нельзя было увлечь экстравагантными теориями. Но все же, Грановский был в достаточной степени гегельянцем, чтобы верить: во вселенной имеются порядок и цель; человечество движется к свободе, хотя путь извилист и тернист — возникают препятствия, доводится отступать и часто, и неминуемо. И если на белом свете оказывалось недостаточно людей отважных, целеустремленных и сильных, человечество сползало в долгие ночи реакции, в трясины, выбираться из которых доводилось ужасной ценой. Однако, хоть медленно и болезненно, а все-таки неотвратимо, человечество шагало к идеальному государству счастья, справедливости, истины и красоты. Слушать читавшиеся Грановским в Московском университете лекции об эпохе поздних Меро- вингов и ранних Каролингов (тема, казалось бы, непроницаемо туманная) собиралось множество просвещенных слушателей. Эти лекции рассматривались и западниками и славянофилами как своеобразные политические выступления в пользу воззрений либеральных и рационалистических, — а прежде всего речь велась о вере в преобразующую силу просвещения, противопоставлявшегося мистическому национализму и церковности.
Я упоминаю о знаменитых лекциях Грановского — со всевозможным жаром приветствовавшихся друзьями и заслужившими яростное порицание консерваторов — только в качестве примера тому, в какие маскарадные одежды рядился общественный и политический либерализм на русской (а в чуть меньшей степени и на германской) почве, коль скоро желал высказаться вообще. Цензура одновременно служила и крепкими путами, и стрекалом: именно благодаря цензуре появился на свет особый, крипто-революционный литературный слог, изощрявшийся все больше и больше по мере того, как усиливался гнет; в итоге, вся русская литература превратилась, по словам Герцена, в «великий обвинительный акт <... > против русской жизни»[189].
Цензор числился официальным противником, однако, в отличие от современных своих преемников, он только запрещал — и ничего больше. Царская цензура могла предписывать безмолвие, зато никогда не пыталась диктовать университетским профессорам непременное содержание лекций; поэтам и прозаикам не указывали, что писать и как писать; композиторам не повелевали вызывать у слушателей то либо иное настроение. Цензура существовала исключительно ради того, чтобы препятствовать печатному изложению определенных опасных идей. Разумеется, она служила препятствием, иногда приводила в ярость. Но, поскольку, подобно многому в прежней России, цензура была неумелой, продажной, ленивой, зачастую глупой — или преднамеренно снисходительной, — и поскольку отчаявшийся изобретательный человек всегда мог отыскать лазейку-другую, не все крамольные высказывания удавалось пресечь действенно и вовремя. Русские писатели, принадлежавшие к радикальной интеллигенции, правдами и неправдами публиковали свои работы — причем, сплошь и рядом публиковали их почти нетронутыми. В итоге подавления, политические и общественные идеи отступали на сравнительно спокойную литературную почву. Подобное уже случилось в Германии — а в России случалось гораздо шире и чаще.
Но было бы ошибкой преувеличивать роль правительственного гнета в том, что литература вынужденно сделалась по преимуществу политической. Движение романтиков и само по себе явилось не менее могучим фактором в создании литературы, «оскверненной» идейным содержанием. Даже Тургенев, «чистейший» среди всех тогдашних авторов, однако сплошь и рядом грешивший идейностью, выслушивал, подобно Достоевскому или «материалистическим» критикам 1830-х годов, нравоучения от цензурных наставников — и, не выдержав, однажды чуть ли не всерьез вознамерился бросить литературу и сделаться профессором философии. Тургенева отговорили от этого шага; но раннее и страстное увлечение Гегелем все же заметно сказалось на последующем тургеневском мировоззрении. Гегельянство одних толкнуло к революционной деятельности, других — к реакционной, освободив и тех и других своих последователей от проповедовавшегося в восемнадцатом веке избыточно упрощенного деления людей на добродетельных и порочных, или темных и просвещенных, а событий — на добрые или скверные, а равно и от взгляда на людей и события как на что-то постижимое и предсказуемое в силу ясных, чисто механических причинно-следственных связей. И для Тургенева окружающий мир определяется постоянно преображающимися характеристиками, бесконечно сложными, нравственно и политически двойственными, непрерывно сливающимися в новые переменчивые сочетания, объяснимые только терминами, приложимыми к гибким, зачастую импрессионистским понятиям, допускающим сложное взаимодействие факторов — чересчур многочисленных и чересчур мимолетных, чтобы сводить их к научным схемам либо законам. Тургеневские либерализм и умеренность, навлекавшие на него столько порицаний, заставляли автора жить как бы «в состоянии насыщенного раствора» — или, говоря иначе, оставаться вне происходящего вокруг, сохраняя наблюдательную, ироническую отрешенность — безучастную, безупречно уравновешенную, — отрешенность агностика, невозмутимо колеблющегося меж безверием и верой, меж упованиями на прогресс и скептицизмом; перед нами наблюдатель, хладнокровно и сдержанно сомневающийся в окружающей жизни — где всякий вид обманчив, где ничто не является тем, чем мерещится, где каждое качество заражено своей противоположностью, где тропы никогда не тянутся прямо и никогда не пересекаются геометрически правильно. В глазах Тургенева (я только что изложил его понимание гегелевской диалектики) действительность ускользает из любых искусственных идеологических сетей, уклоняется от любых закостенелых догматических предположений, смеется над любыми потугами кодифицировать ее, переворачивает любые симметричные системы — и нравственные и социологические; она доступна лишь осторожным, бесстрастным, скрупулезно эмпирическим попыткам описать ее — частицу за частицей: такой, какой предстает она любознательному взору нравственно бескорыстного наблюдателя. И Герцен тоже отрицает примелькавшиеся и приевшиеся программы и системы: ни Тургенев, ни сам он отнюдь не приняли положительной гегелевской доктрины, этой исполинской космологической фантазии, этой исторической теодицеи, пошатнувшей душевное и умственное равновесие стольких современников. Зато на обоих оказала глубокое воздействие доктрина отрицательная: опровержение безоглядной веры в новые общественные науки, что столь воодушевляли мыслителей-оптимистов предшествовавшего столетия.
Я рассказал о некоторых из наиболее выдающихся, прославленных русских — молодых и передовых, — живших и работавших в конце 1830-х и на протяжении 1840-х годов; к их кружку принадлежали и другие, но объем этого очерка велит остановиться и дозволяет лишь назвать имена: Катков, начинавший как философ и радикал, а позднее ставший знаменитым, влиятельным реакционным журналистом; философ Редкин, журналист Корш и переводчик Кетчер; актер Щепкин; богатые дилетанты вроде Боткина, Панаева, Сазонова, Огарева, Галахова; великий поэт Некрасов и многие иные, меньшие фигуры, чья жизнь любопытна только литературному историку. Однако над всеми ними высится личность критика Виссариона Белинского. Пороки его образования и вкуса были притчей во языцех; внешность казалась неброской, а повествовательный слог оставлял желать много лучшего. Но Белинский сделался нравственным и литературным повелителем своего поколения. Подпавшие его влиянию сохраняли память о наставнике много лет спустя после его смерти; к добру или к худу, но влияние Белинского преобразило русскую словесность — в частности, литературную критику — почти коренным образом и, похоже, навсегда.
•
Виссарион Белинский
В
1856 году Иван Аксаков, один из двоих знаменитых братьев-славянофилов, отнюдь не сочувствовавший политическому радикализму, поведал о своей поездке по губернским городам Европейской России. Поездка задумывалась как своего рода националистическое паломничество, предпринятое, дабы утешиться и вдохновиться, окунувшись в еще не развращенную гущу русского народа и предупредить всех, нуждавшихся в таком предупреждении, об ужасах Запада и предательских силках западного либерализма. Аксакова постигло горькое разочарование:
«Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, каждому, жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю <...> Если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных,, честного доктора, честного следователя, — ищите таковых между последователями Белинского <... >»\
Влияние славянофилов было ничтожным. Приверженцы Белинского множились.
Очевидно, что мы имеем дело с крупнейшим в своем роде явлением — человеком, которого через восемь лет после его кончины, в самом нещадном разгаре правительственной борьбы с вольнодумцами, ведшейся на всем протяжении девятнадцатого столетия, идеалистически настроенная молодежь рассматривала как своего наставника и предводителя. Воспоминания молодых литераторов-радикалов 1830-х и 1840-х годов — супругов Панаевых, Тургенева, Герцена, Анненкова, Огарева, Достоевского — дружно повторяют и подчеркивают: Белинский был «совестью» русской интеллигенции, вдохновенным и бесстрашным публицистом, идеалом юных revokes, едва ли не единственным на Руси писателем, коему доставало и смелости и красноречия внятно и сурово говорить о том, что волновало многих, но чего многие то ли не могли, то ли не решались провозгласить во всеуслышание.
Мы легко можем вообразить себе упоминаемого Аксаковым «сколько-нибудь мыслящего юношу». В тургеневском романе «Рудин» есть немного иронический, но сочувственный и трогательный портрет весьма типичного тогдашнего радикала, служащего домашним учителем в сельской усадьбе. Невзрачный, неловкий, неуклюжий студент, не слишком-то умный и ничем особым не примечательный, — или давайте скажем без обиняков: недалекий, туповатый провинциал, — он чистосердечен, ошеломляюще искренен и прям, забавно простодушен. Радикалом этот студент зовется не потому, что придерживается ясных политических либо нравственных воззрений, а потому, что переполняется хоть и безотчетной, да злой враждебностью к российскому правительству, к серой звероподобной солдатне, к запуганным и скучным чиновникам- лихоимцам, к малограмотным, полунищим сельским священникам — студенту нелегко дышится в российской атмосфере, отравленной боязнью, алчностью, неприязнью к чему бы то ни было новому или жизнерадостному. Этот человек негодует, глядя на удивительную циническую готовность, с которой общество принимает и положение бесправных, полудиких крепостных, и мертвенный застой российского захолустья как нечто не просто естественное, а освященное временем и обладающее великой ценностью, чуть ли не одухотворенной красотой — как нечто, хранящее в себе своеобразную — особую, народную, в известном смысле почти религиозную — тайну. Рудин — истинная душа усадебного общества, и молодой учитель полностью покорен рудин- ской фальшиво-либеральной риторикой; он готов лобызать землю, по коей ступает Рудин; общие фразы, роняемые кумиром, студент дополняет и приукрашивает собственным воодушевлением, верой в истину и материальный прогресс. Когда Рудин, по-прежнему веселый, обаятельный и неотразимый, по-прежнему сыплющий бесцветными либеральными пошлостями, отказывается достойно встретить нравственный кризис, вяло оправдывается, ведет себя, как малодушный глупец, а из донельзя неловкого затруднения выпутывается лишь ценою мелкого и постыдного предательства, рудинский почитатель и приверженец, простодушный искатель истины, ошарашен, беспомощен и разгневан — ему непонятно: во что верить, куда глядеть? Положение, для тургеневских романов и повестей вполне типичное: каждый в итоге ведет себя чисто по-человечески, являя слабость и безответственность — подкупающую, простительную и пагубную. Домашний учитель Басистов — персонаж вполне второстепенный, однако он прямой, хотя и скромный, потомок и русского «лишнего человека»[190], и Владимира Ленского (как противоположности Евгению Онегину); у него та же закваска, что и у Пьера Безухова (противопоставляемого князю Андрею) из «Войны и мира», что и у Левина из «Анны Карениной», и у всех Карамазовых, и у Круциферского из романа Герцена «Кто виноват?», и у студента Пети Трофимова из «Вишневого сада», и у подполковника Вершинина и Барона из «Трех сестер». Домашний учитель выступает, в контексте 1840-х годов, той фигурой, что считалась одной из наиболее характерных для русского «социального» романа: растерянным идеалистом, трогательно наивным, избыточно воодушевленным, чистосердечным человеком, жертвой невзгод, которые, пожалуй, и возможно предотвратить, но которых на деле не предотвращают никогда. Временами забавный, временами трагический, сплошь и рядом растерянный неумеха и недотепа, он по природе своей не способен к притворству — по крайности, к неизлечимому притворству, — к чему бы то ни было хоть сколько-нибудь грязному или предательскому; временами он, подобно чеховским героям, слаб и горько сетует на судьбу, а временами крепок и зол, подобно Базарову из «Отцов и детей»; Басистов никогда не теряет врожденного достоинства, хранит несокрушимую нравственную силу — и по сравнению с ним обыватели-мещане, в любом обществе составляющие подавляющее большинство, кажутся одновременно жалкими и отвратительными.
А первообразом таких искренних, подчас по-детски простодушных, а подчас и яростных народных заступников, праведных мучеников, рвавшихся защитить униженных и оскорбленных, — действительным историческим воплощением этой чисто русской разновидности нравственного героизма, — служил Виссарион Григорьевич Белинский. Имя его стало величайшим русским мифом девятнадцатого столетия, по вполне понятным причинам ненавистным для сторонников самодержавия, Православной Церкви, народности; неприятным для изящных и привередливых приверженцев западного классицизма, — но, по тем же причинам, Белинский сделался идеализированным предтечей и русских реформаторов, и русских революционеров, орудовавших во второй половине века. В совершенно буквальном смысле он был одним из основоположников движения, кончившегося в 1917 году разгромом общественного устройства, которое Белинский обличал и все яростнее бранил до конца своих дней. Вряд ли хоть один радикальный русский писатель не заявлял в свое время, что числит себя учеником и последователем Белинского — и не всякий либеральный автор отрицал это. Даже столь нерешительные и робкие представители оппозиции, как Анненков и Тургенев, чтили память Белинского; даже консерватор Гончаров, служивший правительственным цензором, звал Белинского лучшим из когда- либо встречавшихся ему людей. А по-настоящему левые писатели 1860-х годов — Добролюбов и Чернышевский, открыто и громко призывавшие к революции, Некрасов, Лавров, Михайловский, — и явившиеся по их стопам социалисты и коммунисты — Плеханов, Мартов и Ленин со товарищи, — формально признавали: Белинский, наравне с Герценом, величайший герой героических 1840-х, когда, согласно устоявшемуся представлению, в Российской империи началась организованная борьба за полную общественную и политическую свободу, экономическое и гражданское равенство.
Из вышеизложенного понятно: Белинского не назовешь иначе, как поразительной фигурой в истории русской общественной мысли. Люди, читавшие воспоминания его друзей — Герцена, Тургенева и, конечно же, Анненкова, сами поймут: иначе не скажешь. А вот на Западе — причем даже ныне — Белинский сравнительно безвестен. Впрочем, всякий, хоть мало-мальски начитанный в произведениях Белинского, подтвердит: человек этот выступил отцом «социальной» литературной критики — не только в России, но, возможно, даже и во всей Европе, — самым даровитым и страшным врагом эстетического, религиозного и мистического мировоззрения. Целое девятнадцатое столетие вели русские критики битву по поводу взглядов Белинского, ломая копья из-за двух несовместимых подходов к искусству и, следовательно, к жизни. Всю свою жизнь Белинский нуждался, писал ради заработка — и, естественно, помногу. Бульшая часть его сочинений — итог работы в лихорадочной спешке, а весьма значительная часть — вообще поденщина, состряпанная «без божества, без вдохновенья». Но, вопреки всей враждебной критике, обрушившейся на Белинского еще в самом начале его собственной критической карьеры (замечу, кстати: Белинский по сей день остается предметом ожесточенных прений — пожалуй, мало кто из людей, умерших более столетия тому назад, вызывает у ныне здравствующих русских столько восторга и столько ненависти), наилучшие произведения его считаются классическими и бессмертными. В Советском Союзе почетное место среди классиков ему обеспечено государством: Белинский, неустанно боровшийся против догмы и приспособленчества, уже давно канонизирован и пожалован титулом одного из провозвестников «светлого будущего», отцов-основателей новой идеологии. А на Западе нравственные и политические вопросы, занимавшие Белинского при жизни, остаются нерешенными доныне. Одно это уже должно рождать у наших современников интерес к Белинскому.
Его жизнь была небогата внешними событиями. Белинский родился в 1810-м или 1811 -м в небогатой семье, в Свеаборге, на землях Великого княжества Финляндского, а воспитывался в городе Чембаре (Пензенская губерния). Отец его был отставным флотским врачом, получившим уездную практику и начавшим крепко закладывать за воротник. Белинский рос худосочным, чахлым, преувеличенно серьезным ребенком — преждевременно повзрослевшим, неулыбчивым, никогда не шутившим; вскоре он привлек внимание гимназических учителей своим исступленным пристрастием к литературе и угрюмой, скороспелой, всепожирающей «приверженностью истине». Отправившись учиться в Московский университет, Белинский с трудом сводил концы с концами, жил только на государственную стипендию и, после обычных незадач и невзгод, что преследовали многих небогатых и незнатных студентов, сидевших на скамье бок о бок с сыновьями вельмож и мелкопоместных дворян, оказался исключен: по причинам, не вполне выясненным и по сей день — скорее и вероятнее всего, за неуспеваемость и сочинение пьесы, обличавшей крепостное право. Эта пьеска, написанная отвратительно плохо, сохранилась — она риторична, умеренно крамольна и, как произведение словесности, целиком бездарна; все же, направленность ее была вполне очевидна для университетских цензоров, а бедный сочинитель не имел влиятельных заступников. Надеждин, либеральный молодой профессор, читавший в Московском университете курс европейской литературы, издавал «передовой» журнал и оценил бросавшуюся в глаза серьезность Белинского, его страсть к писательству; Надеждину показалось, будто в этом человеке теплится искорка дарования — и Белинский получил предложение поставлять литературные обзоры. С 1835 года и вплоть до своей смерти, пришедшей тринадцать лет спустя, Белинский непрерывно наводнял самые разные журналы потоками статей, критических обзоров и очерков. Эти произведения раскололи русское общество на враждебные станы и обратились неким евангелием для «передовой» молодежи во всех уголках великой империи — особенно для университетских студентов, сделавшихся наиболее преданными, фанатическими последователями Белинского.
Белинский был человеком среднего роста, худым, костлявым, чуть сутулым; бледное, чуть веснушчатое лицо его легко вспыхивало в минуты волнения. Страдая астмой, он быстро утомлялся и обыкновенно выглядел измученным, осунувшимся, хмурым. Порывистые, нервные движения Белинского были по-мужицки неловкими и неуклюжими, оттого-то и смущался он в присутствии незнакомцев, разговаривал резко и угрюмо. А среди своих друзей, молодых радикалов — Тургенева, Боткина, Бакунина, Грановского, — обнаруживал жизнерадостность и неугомонный задор. В пылу споров, литературных или философских, его глаза сверкали, зрачки расширялись; он метался из угла в угол, говорил без умолку — напористо, громко и быстро, — кашлял, размахивал руками. В обществе непривычном ему бывало не по себе, неуютно; Белинский помалкивал — но, если внезапно слышал утверждение, казавшееся безнравственным либо елейным, вмешивался просто из принципа; Герцен свидетельствует: в подобных случаях ни единый противник не мог устоять перед чудовищным натиском Белинского, метавшего громы и молнии. Препирательство было его природной стихией. Позвольте процитировать Герцена:
«Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленньши на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!»[191]
На обеде у некоего дряхлого и почтенного вельможи екатерининских времен Белинский из кожи вон лез, восхваляя казнь французского короля Людовика XVI. И кто-то осмелился заявить в лицо Белинскому, что государь совершенно справедливо объявил Чаадаева (это русский приверженец католицизма, обличавший варварство своей родины) умалишенным, ибо Россия — цивилизованная страна, и лишь безумный способен глумиться над вековыми, выстраданными убеждениями ее народа. Белинский тщетно тянул Герцена за рукав, шепотом требовал вмешаться; под конец не выдержал и скучным, бесцветным голосом изрек: а в еще более цивилизованных странах изобрели гильотину — для осмеливающихся вести подобные речи. Противник оша- рашенно смолк, хозяин дома всполошился, гости поспешили разойтись. Тургенев, не жаловавший крайностей и не выносивший скандалов, любил и уважал Белинского именно за это бесстрашие в обществе — которого явно, увы, недоставало самому Тургеневу.
Со своими друзьями Белинский играл в карты, отпускал дежурные шутки, вел ночные разговоры до рассвета — очаровывал и изнурял всех. Этот человек не выносил уединения. Он женился — неудачно, лишь потому, что был несчастен и одинок, — и умер от чахотки ранним летом 1848 года. Несколько позднее начальник жандармского корпуса посетовал по поводу преждевременной смерти Белинского, прибавив: «Жаль, мы бы сгноили его в крепости». Скончался Белинский то ли тридцати семи, то ли тридцати восьми лет от роду, в расцвете творческих возможностей.
Невзирая на внешнее однообразие своего существования, Белинский вел необычайно насыщенную жизнь, сопровождавшуюся острыми кризисами — нравственными и умственными, — ускорившими телесный упадок и смерть. Занятие, им избранное, занятие, без коего Белинского и представить себе нельзя, звалось литературной работой; но все же — хотя, вопреки обвинениям в отсутствии подлинного дара, критик был очень чуток к достоинствам чисто литературным: созвучиям, ритмам, словесным оттенкам, образам, поэтическим символам, и к переживаниям, ими порождаемым, — литература не служила средоточием его жизни. Средоточием была идейность; не просто в рассудочном смысле этого слова, подразумевающего под «идеями» либо суждения, либо теории, но в ином, вероятно, более знакомом — и гораздо менее определенном, — в котором идеи воспринимаются и как мысли, и как воплощенные переживания, как сознательное и равно бессознательное отношение ко внутреннему и внешнему мирам. В этом ином смысле понятие идеи становится несколько шире и естественнее для человека, упомянутую идею исповедующего, — естественнее суждений или даже принципов; в этом смысле идеи составляют истинное средоточие сложных и запутанных отношений человека и с собою самим, и с окружающим миром; идеи могут быть мелкими либо глубокими, истинными либо ложными, замкнутыми либо открытыми, слепыми поверьями либо верой, дарующей прозрение. Здесь наличествует нечто, проявляющееся в поведении, сознательном и бессознательном, в образе жизни, телодвижениях, действиях, еле заметных повадках и замашках — по крайности, не меньше, нежели в четко излагаемой доктрине либо символе веры. Вот такие-то идеи и верования—случается, их расплывчато именуют идеологией, — сказывающиеся на жизни людской и работе, вечно рождали в Белинском воодушевление, или тревогу, или ненависть, постоянно держали его в состоянии, временами равнявшемся неистовству, некоему нравственному бешенству. Если Белинский держался убеждений, он держался их исступленно, жертвуя убеждениям всей своей натурой без остатка. Если Белинский в чем- либо сомневался, он сомневался ничуть не менее исступленно и готов был заплатить любую цену за ответы на донимавшие и мучившие вопросы. Нетрудно угадать: вопросы эти касались верного, правильного отношения личности к себе самой и к другим людям, к обществу в целом; затрагивали потайные пружины человеческих поступков, действий и чувств, сокрытые жизненные цели — но всего больше творческую работу художника и нравственную основу ее.
Любые серьезные вопросы, в конечном итоге, становились для Белинского вопросами нравственными: что считать несомненно и всецело ценным, к чему надлежит стремиться вполне бескорыстно? Иными словами, это значило: как зовется то единственное, что должно знать, говорить, совершать? — за что следует всенепременно бороться и, при необходимости, погибнуть? Идеи, вычитанные Белинским из книг или услышанные в беседах, ему, во-первых, заведомо не нравились, не были по душе, не давали умственной пищи; не стоило их исследовать, анализировать; не заслуживали они отрешенного, беспристрастного размышления. Идеи, прежде всего, делились на истинные и ложные. Ложные следовало изгонять, будто злых духов. Любая книга содержит в себе идеи — даже самая, казалось бы, пустая; и критик обязан первым долгом изучать именно такие «пустые» книги. В качестве примера приведу занятный, даже, пожалуй, гротескный случай: думается, он прольет немного света на метод Белинского. Биографы и критики не упоминают об этом: чересчур уж заурядна статья, о которой пойдет речь. Занимаясь журнальной поденщиной, Белинский напечатал краткий отзыв на русское переложение «Векфильдского священника», выполненное с какого-то современного французского перевода[192]. Статья начинается в довольно обычном тоне и постепенно делается раздраженной, прямо враждебной: Белинскому не нравится шедевр, созданный Голдсмитом, ибо книга, по его мнению, искажает нравственные понятия. Критик сетует: изображая священника, Голдсмит, дескать, превозносит безучастность, благодушную глупость и никчемность, полагая их превыше качеств, присущих бойцу, реформатору, воинствующему поборнику идеи. Священник предстает простой людской душой, полной христианской покорности, бесхитростной и оттого постоянно обманываемой; эти мирные природные доброта и простота, намекает автор, во-первых, несовместимы с изворотливым умом, расторопностью и жаждой деятельности, а во-вторых, стоят несравненно выше их. Для Белинского это равнялось отъявленной и гнуснейшей ереси. Все книги воплощают собою некие точки зрения, опираются на существующие понятия — общественные, психологические, эстетические, — и опорой «Священнику», по словам Белинского, служат понятия мещанские и ложные. Голдсмит якобы прославляет людей, чуждых повседневной борьбе за существование, стоящих «с краю», нерешительных, degages\ служащих вечной добычей и поживой для предприимчивых прохиндеев; это приводит упомянутых людей к житейскому поражению — и нравственной победе. Писать в подобном духе, восклицает Белинский, значит потворствовать иррационализму вообще и, в частности, убеждению, что нужно «проходить земной путь мирно и добродетельно», — убеждению, исповедуемому средним обывателем всегда и повсеместно, — а стало быть, «Векфильдский священник» лицемерно представляет смирение как наивысшую мудрость, а неудачника — нерешительного и миролюбивого — изображает глубоким знатоком жизни. Да, можно было бы ответить: здесь наличествует абсурдное преувеличение, а критик попросту смехотворен, ибо возлагает на плечи злосчастного священника заведомо неподъемное бремя. Но перед нами — зародыш новой «социальной» критики, — не ищущей в словесности (как учили ранние германские романтики) ни идеалов, ни «типических» образов или положений, ни каких-либо этических орудий, способствующих прямому улучшению и просветлению жизни, — а лишь копающейся в авторских воззрениях да прилежно изучающей и среду, в коей обитал автор, и его эпоху, и его классовую принадлежность. Этот подход к литературному произведению означает: о содержании книги судят, оценивая ее «верность жизненной правде», «надлежащую трактовку» изображаемого, глубину, правдивость — и «конечную цель» написанного.
«Я литератор — писал Белинский, — говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь»[193]. Это звучало утверждением нравственной позиции. Когда в начале двадцатого столетия радикальный писатель Владимир Короленко сказал: «русская литература стала моей родиной»[194], он во всеуслышание заявил о том, что придерживается того же взгляда на словесность. Короленко говорил от имени движения, которое полноправно звало Белинского своим основателем, говорил о своей вере в то, что лишь литература неподвластна подлостям повседневной жизни, лишь она сулит надежду на справедливость, свободу, истину.
Идеи и книги являлись Белинскому событиями знаменательными, вопросами жизни и смерти, спасения и погибели — оттого он и отзывался о них со всесокрушающим яростным пылом. По складу своему Белинский не был ни верующим, ни естествоиспытателем, ни эстетом, ни ученым. Он был моралистом — светским и антиклерикальным вдоль, поперек и наискосок. Веру он рассматривал как ненавистное" оскорбление рассудку, богословов называл шарлатанами, а Церковь — сборищем заговорщиков. Белинский считал: объективную истину возможно сыскать в природе, в обществе, в человеческих сердцах. Импрессионистом он отнюдь не был, и не собирался ограничивать себя ни этически беспристрастным анализом, ни тщательным описанием искусства или жизни, свободным от оценок или предпочтений. Это Белинский, подобно Толстому или Герцену, почел бы мелким потворством собственным слабостям, легкомыслием или (коль скоро человек, знающий сокрытую нравственную истину, избегает заглядывать под ее оболочку) сознательным и гнусным цинизмом. Оболочка — только шелуха, если вы намерены понять, в чем заключается истинная суть жизни (а, стало быть, и во что может превратиться жизнь), отличайте вечное и неотъемлемо важное от мимолетного — даже когда оно прекрасно и привлекательно. Мало созерцать— мало даже воспроизводить — то, что Вирджиния Вульф называла «полупрозрачным покровом»[195], облекающим наши земные дни от рождения до смерти; надлежит нырнуть в глубины жизненного потока, исследовать строение океанского дна; понять, как веют ветры, как приходят приливы и отливы: не ради познания как такового, но дабы подчинить себе стихии, дабы править своим кораблем — пускай ценою бесконечных страданий и подвигов, пускай в борьбе с несметными противоборствующими силами, — ведя его к заветной истине и социальной справедливости, поскольку вам доподлинно известно (ибо кто же посмеет усомниться в этом?): истина и справедливость — единственная цель, которую стоит преследовать ради нее самой. А медлить на поверхности, растрачивать время во все более тщательных описаниях ее свойств и собственных ваших ощущений означало бы или впадать в нравственный идиотизм, или делаться расчетливо безнравственным; это равнялось бы слепоте или подлейшей лжи, в конце концов уничтожающей самого лжеца. Лишь истина прекрасна, и всегда была прекрасна; истина просто не может быть ужасающей или разрушительной, блеклой или пошлой, и обретается она отнюдь не в оболочке миропорядка, не в шелухе. Она лежит «глубже» (так учили Шеллинг, Платон и Гегель) и открывается только тем, кто взыскует исключительно истины — следовательно, запретна для безучастных, отрешенных, осторожных, а для нравственно пылких, для способных пожертвовать всем, что имеют, ради открытия и оправдания истины, для готовых освободить и себя и других от иллюзий, условностей и самообманов, которые ослепляют человечество повсеместно и скрывают от него земной долг, подлежащий исполнению. Эта вера, в ту эпоху впервые провозглашенная Белинским, и стала верой всей русской интеллигенции, нравственно и политически противостоявшей самодержавию, православию и народности — так звучал тройной девиз поборников тогдашнего государственного устройства.
Вполне естественно: Белинский, обладавший тем же темпераментом, что Лукреций или Бетховен, в отличие от западных своих современников, не был ни классически чистым знатоком Платоновых сущностей, как Роберт Ландор, ни проницательным, разочарованным пессимистом, созерцателем гениев, как Сент-Бев; он был моралистом, усердно и тщательно отделявшим зерна от плевел. Если что-либо казалось ему новым, или ценным, или важным, или просто правдивым, Белинский приводил чуть ли не в исступление и объявлял о сделанном открытии во всеуслышание, строча неуклюжие, торопливые, страстные фразы — словно промедление было смерти подобно, словно внимание публики успело бы развлечься чем-то иным. Мало того: правду следует вещать шумно и возбужденно — ибо, ежели возвестить ее спокойно, великая важность правды останется незамеченной. Следуя этому правилу, Белинский, не знавший удержу, вытащил на свет Божий и расхвалил сверх всякой меры горстку безвестных, вполне бездарных бумагомарателей, имена коих ныне заслуженно позабыты. Впрочем, он же первым отдал должное великому сияющему солнцу русской словесности, славному Александру Пушкину, он же открыл и оценил по достоинству Лермонтова, Гоголя, Тургенева и Достоевского — не говоря уже об авторах второстепенных: Гончарове, Григоровиче, Кольцове. Конечно, пушкинский гений признавали еще до того, как Белинский впервые взялся за перо; но лишь одиннадцать знаменитых очерков, написанных Белинским, обнаружили полное, истинное значение Пушкина: перед читателем не просто гениальный, блистательный поэт, но еще и в буквальном смысле созидатель русской литературы и литературного русского языка, задавший художественному слову направление и определивший место поэзии в народной жизни. Белинский создал образ Пушкина, сохраняющийся в российской словесности доныне — образ человека, ставшего для отечественной литературы тем же, чем явился для самого отечества Петр Великий, несравненный реформатор, сокрушавший старое и порождавший новое, непримиримый противник и, вместе с тем, верный сын исконных русских обычаев, который и вторгался в далекие, чуждые, дотоле неведомые области, и всячески старался сплотить наиглубочайшие, наиболее народные элементы русского прошлого. Со строгой последовательностью и страстной убежденностью Белинский пишет портрет поэта, по праву заслужившего имя вестника и пророка, искусством своим помогшего русскому обществу осознать самое себя как духовное и политическое целое: пускай даже со всеми устрашающими внутренними противоречиями, со всеми пережитками прошлого, с неопределенным положением среди остальных народов, — но и с огромной непочатой силой, с неведомым, темным, коварно манящим будущим. Приводя множество примеров, Белинский доказывает: все это заслуга Пушкина, а отнюдь не его предшественников, превозносивших только русский дух и русскую мощь — даже не изысканно цивилизованных и талантливых Гавриила Державина и Николая Карамзина, даже не пушкинского учителя — поэта-романтика, доброго, сладкозвучного и неизменно восхитительного Жуковского.
Столь неповторимое преобладание словесности над жизнью, одного человека над сознанием и воображением целого огромного народа, что населяет необъятную страну, — факт единственный в своем роде; сыскать нечто вполне похожее, пожалуй, немыслимо: ведь ни Данте, ни Шекспир, ни Гомер, ни Вергилий, ни Гете не занимают в национальном сознании места, подобного пушкинскому. И необыкновенное это явление (как его ни рассматривай и ни расценивай) в немалой, далеко еще не изученной степени — дело рук Белинского й его учеников: они первыми разглядели в Пушкине светило, под чьими животворными лучами так изумительно вызрели и расцвели русская мысль и русское чувство. Сам Пушкин, веселый, изящный, изысканный аристократ, а в свете человек высокомерный, презрительный и привередливый, находил это изобилие похвал и чрезмерным, и неловким; он говорил об угловатом и неуклюжем Белинском примерно так: «причудник сей, похоже, боготворит меня по ему лишь одному ведомым причинам»[196].
Пушкин слегка робел перед Белинским, смутно подозревал: этому человеку есть, что сказать; одно время подумывал пригласить обозревателя к сотрудничеству в издаваемом журнале «Современник», но вспомнил, что друзья находили Белинского невыносимым — и успешно уклонился от личного знакомства.
Высокомерие Пушкина, его неоднократные попытки выставлять себя аристократическим любителем словесности, а вовсе не профессиональным литератором, задевали уязвимого и обидчивого Белинского за живое — точно так же маска светского цинизма, под коей прятал настоящее свое лицо Лермонтов, оскорбила его при первой встрече с поэтом. Но Белинский позабыл пушкинскую холодность; он осознал, что за байронической личиной и язвительным цинизмом Лермонтова — за его желанием ранить и получать раны ответные — скрывается великий лирический поэт, серьезный, тонкий, проницательный критик и донельзя измученный человек, исключительно добрый и глубокий. Гений обоих этих людей заворожил Белинского — и, то ли осознанно, то ли бессознательно, собственные понятия о том, что являет собою художник слова, и каким ему надлежит быть, Белинский стремился выстраивать, опираясь на произведения Пушкина и Лермонтова — особенно Пушкина.
Всю жизнь Белинский-критик оставался учеником великих германских романтиков. Он резко порицал и отвергал дидактические, утилитарные доктрины, требовавшие прикладного искусства и бывшие в изрядном ходу среди французских социалистов: «Поэзия не имеет никакой цели вне себя, но сама себе есть цель, так же, как истина в знании, как благо в действии»[197]. Несколько выше, в этой же статье, он говорит:
«Весь мир, все цветы, краски и звуки, все формы природы и жизни могут быть явлениями поэзии; но сущность ее — то, что скрывается в этих явлениях, живит их бытие, очаровывает в них игрою жизни. <... > Кто же он, сам поэт, в отношении к прочим людям? — Это организация восприимчивая, раздражительная, всегда деятельная, которая при малейшем прикосновении дает от себя искры электричества, которая болезненнее других страдает, живее наслаждается, пламеннее любит, сильнее ненавидит; словом — глубже чувствует <... >»[198].
Или вот еще: литература есть «плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений»[199]. Белинский страстно возражал тем, кто смотрел на искусство как на простое орудие общественной борьбы — этот взгляд проповедовали тогда Жорж Санд и Пьер Леру: «Не хлопочите о воплощении идей; если вы поэт — в ваших созданиях будет идея, даже без вашего ведома; не старайтесь быть народными: следуйте свободно своему вдохновению — и будете народны, сами не зная как; не заботьтесь о нравственности, но творите, а не делайте — и будете нравственны, даже назло самим себе, даже усиливаясь быть безнравственными!..»[200]
Конечно, тут слышится эхо Августа-Вильгельма Шле- геля и его единомышленников — но все же критик никогда не отступил от своей ранней точки зрения. Анненков пишет: Белинский видел в искусстве единый и всеобъемлющий ответ на любые людские вопросы — ибо искусство заполняет пробелы, оставляемые иными, куда менее действенными видами опыта; он чувствовал: постоянное возвращение к великим классическим книгам возрождает и облагораживает читателя, ибо лишь они одни разрешают — преображая мировоззрение, доколе не обнажатся верные взаимные связи вещей и понятий, — все нравственные и политические вопросы — при условии, конечно, что книги эти суть вдохновенные и самодостаточные произведения искусства, некие самостоятельные миры, а не жалкие подделки, не тупые орудия общественной или нравственной пропаганды. Мнения свои Белинский менял часто и болезненно, и все-таки до скончания земных дней незыблемо верил: искусство — особенно литература — дарит истину ищущим истины, чем чище творческий порыв — тем художественно чище произведение, тем ярче и глубже предстает читателю истина; Белинский оставался верен романтическому учению: наилучшее, наиболее цельное искусство неизбежно является выражением не только чувств и мыслей отдельно взятого творца, но всей окружающей общественной среды, целой культуры, целого народа, чьим голосом — сознательно либо неосознанно — является художник: без этого писатель и писатель становятся никчемными и пошлыми; только и единственно будучи народными, творцы приобретают какое-либо значение. Ничто из вышеизложенного не вызвало бы славянофильских возражений;
разногласия меж Белинским и славянофилами возникали по иным причинам.
Но все же, вопреки своему историзму — общему для всех романтиков, — Белинский не относится к людям, чья главная цель и умение заключаются в прилежном критическом или историческом разборе художественных феноменов — либо в соотнесении произведений искусства и личности творца с определенной общественной средой; в анализе отдельных влияний, испытанных автором; в изучении и описании методов, которыми пользовался поэт или писатель; в поиске психологических или исторических объяснений успешному или неудачному применению тех или иных приемов работы. Правда, Белинский то и дело занимался именно этим; в сущности, он явился первым и крупнейшим из русских литературных историков. Тем не менее, он терпеть не мог копаться в мелких подробностях и отнюдь не был склонен трудиться на скрупулезно ученый лад; читал Белинский помногу и безо всякой системы — лихорадочно, исступленно читал и читал, покуда хватало сил, а потом принимался писать. Оттого написанное делалось бесконечно живым — но едва ли подобным образом сочиняются ученые трактаты. Впрочем, нападки Белинского на восемнадцатый век отнюдь не столь огульны и слепы, сколь их стараются представить недруги. Белинский безошибочно оценивал русских авторов предшествовавших поколений (к примеру, Тредиаковского, Хемницера, Ломоносова, Фонвизина и Дмитриева) по достоинству; страницы, посвященные поэту Державину и баснописцу Крылову — образцы проницательных и ясных суждений. А вот немало посредственностей и подражателей, маравших бумагу в восемнадцатом веке, раз и навсегда получили суровый и убийственный приговор.
Но гений Белинского не сводился к умению выносить подобные приговоры. Как литературный критик, он обладал неповторимыми свойствами — причем обладал ими в степени, вряд ли встречающейся меж западными критиками: поразительной свежестью и своевременностью реакции на любое и всякое литературное впечатление — будь оно произведено слогом или содержанием книги; страстностью и тщательностью, с которыми словесно живописал первоначальный характер, очертания, окраску и, прежде всего прочего, нравственное качество полученных впечатлений. Всю жизнь свою, все свое существо Белинский вкладывал в старание верно уловить сущность полученного литературного опыта, которым желал поделиться с читателем. У него была исключительная способность понимать и выражать понятое — но от прочих, ничуть не меньше одаренных в этом отношении критиков — Сент-Бева, например, или Мэттью Арнольда, его отличала совершенная прямота взгляда: меж Белинским и предметом исследования как бы не имелось ни малейших преград. Несколько современников — среди них и Тургенев — приметили в Белинском почти физическое сходство с кречетом или соколом: подобно хищной птице, он падал с высоты на изучаемого писателя и разрывал его на клочки, покуда не высказывался вполне и без обиняков. Толкования зачастую бывали многословны и утомительны, слог неровен, темен и скучен; образование Белинский получил отрывочное, случайное, а писал безо всякого изящества, почти безо всякого умения завораживать словами. Но когда он оказывался в своей стихии, когда встречал автора, заслуживавшего внимания, то — порицая или хваля, рассуждая об идеях и житейских воззрениях, о просодии либо игре слов, — он видел насквозь, умел говорить бесконечно, и говорил столь непосредственно, столь живо, с такой непрерывной и неубывающей силой доносил до читателя полученные впечатления, что воздействие слов, положенных Белинским на бумагу, вряд ли убывает и поныне — слова эти кажутся лишь ненамного менее могучими и тревожными, чем казались при жизни критика его современникам. Сам же Белинский говорил: никто не уразумеет поэта или мыслителя, если на время не погрузится с головою в его мир, не подчинится его мировоззрению, не разделит его чувств — короче сказать, не постарается полностью слиться с автором: с его опытом, верой и убеждениями. Так вот и «вживался» он в Шекспира и Пушкина, в Гоголя и Жорж Санд, в Шиллера и Гегеля — и всякий раз, меняя духовную обитель, изменял прежние взгляды: порицал то, что хвалил ранее, и хвалил то, что ранее порицал. Позднейшие критики бранили его, нарицали «хамелеоном», звали зыбкой зеркальной поверхностью, отражающей что угодно и донельзя переменчивой, честили коварным вожатым, не имеющим прочного стержня — принципов, — слишком впечатлительным, слишком недисциплинированным, бойким и многоречивым — но лишенным и определенной, устойчивой критической личности, и сколько-нибудь определенного мировоззрения. Это несправедливо; и никто из близко знавших Белинского современников ни в малой мере не разделил бы подобного к нему отношения. Если жил на белом свете человек строгих — наистрожайших — правил и принципов, беспощадно подчинивший всю жизнь свою неустанному, фанатическому стремлению к истине, человек, не способный к уступкам или приспособленчеству — даже кратковременному и поверхностному, — человек, наотрез не соглашавшийся принимать ничего, во что не верил всецело, — этого человека звали Белинским. «Как скоро убеждение человека перестало быть в его разумении истинным, он уже не должен называть его своим: иначе он принесет истину в жертву пустому, ничтожному самолюбию и будет называть "своим" ложь», — это написал Белинский[201]. Коренным образом он менял свои суждения дважды — оба раза в итоге острого и болезненного кризиса. В обоих случаях он страдал невероятно глубоко — видимо, только русские умеют по-настоящему живо передавать подобное состояние словами — и поведал о своих страданиях от начала до конца, — главным образом в письмах, самых трогательных изо всех, когда-либо написанных по-русски. Читавшие их поймут, что я имею в виду, рассуждая о героической, угрюмо-непреклонной, постоянно склонной к самоанализу честности ума и чувства, присущей Белинскому.
В течение жизни Белинский держался нескольких точек зрения; он переходил от одной к другой и брал от каждой все, что только было возможно, пока — прилагая великие, мучительные усилия — не освобождался от нее, дабы начинать борьбу сызнова. Ему так и не удалось достичь окончательного или достаточно последовательного взгляда на мир; хотя прилежные биографы стараются поделить умственное развитие Белинского по крайности на три четко обозначенных «периода», опрятно замкнутых и последовательно сменявшихся, они упускают из виду чересчур уж много фактов: Белинский непрестанно «скатывается» к своим более ранним, «отвергнутым» суждениям: последовательность Белинского — скорее нравственная, нежели умственная. Философствовать он принялся в середине 1830-х, имея от роду двадцать три года, — и рассуждал обо всем с омерзением, рождавшимся в душной атмосфере полицейского государства, что построил Николай I, — омерзением, присущим в то время любому из молодых интеллигентов, имевших сердце и совесть; он усвоил философию, которая проповедовалась молодыми московскими мыслителями Станкевичем и Бакуниным — в их кружок Белинский был вхож.
Идеализм выступал реакцией на суровый гнет, начавшийся после поражения декабристов. Молодые русские интеллигенты, коих поощряли к обучению в Германии, а не во Франции, где правил король Луи-Филипп и непрерывно бродила революционная закваска, возвращались домой, переполненные германской метафизикой. Земная жизнь, с ее низменными заботами и хлопотами — прежде всего, политическими, — казалась отвратительной, да, по счастью, ничтожной и презренной. Значение имела только идеальная жизнь, обитель духа, великие вдохновенные умопостроения, посредством которых человек освобождался от раздражающей и постылой материальной среды, от ее невыносимой грязи — и сливался с Природой и Богом. В истории Западной Европы такие возвышенные духовные достижения изобиловали, — а утверждения о том, что в России тоже имеется свое подобное, звучали праздной националистической болтовней. Русская культура (так Белинский говорил своим читателям в 1830-х) была тепличным, чужеземным растением, прижившимся на российской почве, — и, пока не появился Пушкин, русских авторов даже упоминать было бы зазорно рядом с Шекспиром, Данте, Гете и Шиллером — или хотя бы с такими великими писателями-реалистами, как Вальтер Скотт и (затаите дыхание!) Фенимор Купер. А народные русские песни и былины звучали и выглядели, по его словам, еще презреннее тех второ- и третьеразрядных подражаний французским образцам, что образовывали ничтожное собрание перепевов, носивших гордое имя русской национальной литературы.
Что до славянофилов, их пристрастие к исконным русским преданиям и обычаям, к народной одежде, к русским песням и пляскам, давним музыкальным инструментам, строгостям византийского православия, их стремление сопоставлять духовную глубину и нравственное богатство славян с духовным и нравственным упадком «загнивающего» Запада, развращенного мещанскими предрассудками и низменнейшей погоней за житейскими благами, — все это, писал Белинский, самообман и детское тщеславие. Что нам дала Византия? Южные славяне, прямые потомки ее, числятся меж самых темных, умственно мертвых европейских народов. Да вымри завтра все население Черногории, восклицает Белинский в одном из своих очерков, мир не оскудеет — и ничего не заметит. Вспомните, говорит он, хотя бы один благородный голос, прозвучавший в европейском восемнадцатом веке — хоть вольтеровский, хоть робеспье- ровский, — что могут противопоставить ему Византия либо Россия? Лишь голос Петра Великого — а этот государь душой и сердцем принадлежал Западу. Что до смиренного и набожного мужика, прославляемого славянофилами — сиволапого дикаря и болвана, якобы осиянного благодатью, — то Белинский, в отличие от славянофилов, отнюдь не принадлежавший ни к аристократии, ни к мелкопоместному дворянству, бывший отпрыском незаметного уездного лекаря, видел в земледелии не романтическое и облагораживающее, но крайне отупляющее и унизительное занятие. Славянофилы приводили его в ярость своей реакционной болтовней, попытками остановить научный прогресс, призывами вернуться к старинным и — всего чаще — давно уже не существующим порядкам и обычаям. Ничто не выглядит более жалко, чем лживый, дешевый национализм — архаические одеяния, ненависть к иностранцам, стремление свести на нет героические и великие труды, столь отважно и блистательно начатые Петром I. Подобно французским энциклопедистам восемнадцатого столетия — по духу и складу русский критик довольно крепко смахивал на них, — Белинский, в начале своего пути (и снова, уже на закате жизни), верил, что лишь просвещенный деспот, насаждающий образование, поощряющий технический прогресс и материальную цивилизацию, может спасти русский народ, погрязший во мраке варварства и невежества. Письмо, отосланное Белинским одному из друзей в 1837 году, говорит:
«Пуще всего, оставь политику и бойся всякого политического влияния на свой образ мыслей. Политика у нас в России не имеет смысла, и ею могут заниматься только пустые головы. <... >Если бы каждый из индивидов, составляющих Россиюу путем любви дошел до совершенства — тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшею страною в мире. {Далее зачеркнуто: И вот } Просвещение — вот путь ее к счастию
И далее, в том же письме:
«Петр есть ясное доказательство, что Россия не из себя разовьет свою гражданственность и свою свободуу но получит то и другое от своих царей, так, как у же много получила от них того и другого. Правда, мы еще не имеем прав, мы еще рабы, если угодно у но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россия еще дитя, для которого нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу — значит погубить его.
Дать России, в теперешнем ее состоянии, конституцию — значит погубить Россию. В понятии нашего народа, свобода есть воля, л воля — озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народу а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян, т. е. людей, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах <... >.
надежда России на просвещение, л «е «л перевороты, не на революции и не на конституции. Во Франции были две революции и результатом их конституция — и что же? В этой конституционной Франции гораздо менее свободы мысли, нежели в самодержавной Пруссии»[202].
И далее:
«гс... > Самодержавная власть дает нам полную свободу думать и мыслить, но ограничивает свободу громко говорить и вмешиваться в ее дела. Она пропускает к нам из-за границы такие книги, которых никак не позволит перевести и издать. И что ж, все это хорошо и законно с ее стороны, потому что то, что можешь знать ты, не должен знать мужик, потому что мысль, которая тебя может сделать лучше, погубила бы мужика, который, естественно, понял бы ее ложно. <...> Вино полезно для людей взрослых и умеющих им пользоваться, но гибельно для детей, а политика есть вино, которое в России может превратиться даже в опиум. <... > Итак, к чорту французов: их влияние, кроме вреда, никогда ничего не приносило нам. Мы подражали их литературе — и убили свою. <... > Германия — вот Иерусалим новейшего человечества»1.
Столь недвусмысленно и прямо не высказывалась даже русская школа националистической мысли. Во времена, когда и такие люди, как Герцен, мыслившие на западный лад, не говоря уже об умеренных либералах, вроде Грановского и Кавелина, готовы были выжидать и в известной степени даже разделяли глубокое, искреннее пристрастие славянофилов к старинным русским обычаям и порядкам, Белинский остался несгибаем. Крупнейшими достижениями своими человечество было обязано Западной Европе — в частности, ее умеренно деспотическим державам. Там, и только там кипели жизненные силы, только там существовали важнейшие каноны философской и научной истины, единственно и делавшие прогресс возможным.
Славянофилы же поворачивались ко всему этому спиной и, сколь бы достойными ни были их побуждения, оставались просто-напросто слепыми поводырями слепых, манившими в старинное болото варварского невежества и никчемности, из которого Петр Великий с такими тяжкими трудами вытащил — вернее, наполовину вытащил — свой первобытный народ: якобы, только в этом болоте и было спасение. Доктрина Белинского предстает радикальной, индивидуалистической, просвещенной и антидемократической. Советские авторы старательно откапывают любые тексты, позволяющие доказать прогрессивную роль безжалостной власти — и в ранних сочинениях Белинского пожинают богатый урожай цитат.
Тем временем Бакунин принялся усердно проповедовать Белинскому, немецким языком не владевшему, гегельянство. Вечер за вечером и ночь за ночью наставлял он критика новейшему объективизму, как впоследствии наставлял в Париже тому же самому Пьера Прудона. Под конец, после устрашающей внутренней борьбы, Белинский перешел в новую веру, индивидуализма не признававшую. До того он забавлялся идеализмом Фихте и Шеллинга (в изложении Станкевича) и напрочь отошел от политических вопросов — от грязной хаотической суеты земного мира, от ненавистного занавеса, закрывающего человеку гармоническую действительность настоящего бытия. Но теперь с этим было покончено раз и навсегда.
Белинский перебрался в Санкт-Петербург и, под влиянием новой своей «религии», написал в 1839-1840 годах две знаменитые статьи — одна разбирала поэтическое и прозаическое произведения, посвященные годовщине Бородинской битвы, а вторая обличала немецкого гегельянца, нападавшего на Гете. «Реальное рационально» — действительность разумна, — провозгласила новая доктрина. Мелкими, недальновидными детскими забавами были нападки на действительность или попытки ее изменить. Что существует — существует, ибо должно существовать. Понять существующее значит понять красоту и гармонию всего миропорядка, где все, в назначенное время, оказывается в назначенном месте — согласно законам постижимым и необходимым. Всему отводится место в необозримом миропорядке, что разворачивается перед нами, словно великое историческое полотно. И порицать существующее — лишь доказывать, что вы не приспособлены к действительности, не разумеете ее в полной мере.
А полумер Белинский не признавал. Герцен рассказывает: уж если Белинский принимал какое-либо воззрение окончательно, то «веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни пред моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные: в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста»[203]. Собственное (точнее, бакунинское) толкование гегельянства убедило его: созерцание и понимание духовно выше деятельной борьбы; как следствие, Белинский начал пылко «принимать окружающую действительность» — еще более исступленно и страстно, чем двумя годами ранее бичевал квиетистов и требовал всемерно сопротивляться произволу Николая I.
В 1838-1840 годах Белинский объявил, что сила всегда права; что сама история — поступь неотвратимых стихийных сил, она освящает окружающий нас порядок вещей; что самодержавие пришло на русскую землю в должный, урочный час и потому священно; что Россия, какова ни есть, составляет часть Божественного замысла, ведущего к идеальной цели, что правительство — воплощенное могущество и принуждение — мудрее подданных; что противиться ему было бы легкомысленно, порочно и тщетно. Сопротивление космическим силам всегда равняется самоубийству. «Действительность есть чудовище, — пишет он Бакунину, — вооруженное железными когтями и огромною пастью с железными челюстями. Рано или поздно, но пожрет она всякого, кто живет с ней в разладе и идет ей наперекор. Чтобы освободиться от нее и вместо ужасного чудовища увидеть в ней источник блаженства, для этого одно средство — сознать ее»[204]. А выше говорит: «Я гляжу на действительность, столь презираемую прежде мною, и трепещу таинственным восторгом, сознавая ее разумность, видя, что из нее ничего нельзя выкинуть и в ней ничего нельзя похулить и отвергнуть»[205]. И вот еще, в том же ключе: «Шиллер <... > был мой личный враг, и мне стоило труда обуздывать мою к нему ненависть и держаться в пределах возможного для меня приличия. За что эта ненависть?»[206] А за то, поясняет Белинский далее, что Шиллеровы «"Разбойники" и "Коварство и любовь" вкупе с "Фиеско" — этим произведением немецкого Гюго, наложили на меня дикую вражду с общественным порядком, во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе»[207].
Это отголоски сравнительно безвредных положений более раннего идеализма Фихте — но, политически рассуждая, куда более грозные; прежде говорилось: общество неизменно более право, чем отдельная личность, или же «частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до какой она выражает собою общество»[208].
Ошарашенные друзья примолкли: самый неустрашимый и самый целеустремленный изо всех радикальных вожаков сделался, с их точки зрения, отъявленным предателем. Потрясение оказалось настолько глубоким, что москвичи вообще избегали обсуждать случившееся. Белинский отлично сознавал, какое впечатление произведет его «отступничество», и прямо говорил об этом в письмах; тем не менее, выхода он отнюдь не видел. Он пришел к новым взглядам разумно и рассудочно, а коль скоро предстояло выбирать между изменой друзьям и изменой истине, следовало набраться мужества и пожертвовать своими друзьями. А мысль о чудовищной боли, которую этот выбор причинит ему самому, всего лишь подчеркивала неминуемую необходимость великой жертвы, приносимой принципам. Но даже такая покорность «железным законам» исторической поступи и общественного развития — не просто непреклонным, но справедливым, разумным, нравственно освобождающим — была отмечена, и тогда и позднее, глубочайшим отвращением к положению русского общества в целом и непосредственно окружающего общества в частности.
«Да и какая наша жизнь-то еще? — писал он Константину Аксакову в 1840 году. — В чем она, где onaf Мы люди вне общества, потому что Россия не есть общество. У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни. Скука, апатия, томление в бесплодных порывах — вот наша жизнь. Что за жизнь для человека вне общества? Мы ведь не монахи средних веков. Гадкое государство Китай, но еще гаже государство, в котором есть богатые элементы для жизни, но которое спеленано в тисках железных и представляет собою образ младенца в английской болезни»\
В чем же спасение? В послушании властям — то есть в «приятии действительности». Подобно многим пришедшим позднее коммунистам, Белинский радовался тому, что оковы, добровольно им на себя наложенные, столь тяжки, восторгался теснотой и тьмой, в которых стремился обитать; ужас и отвращение друзей лишь подтверждали величие, — а, следовательно, благородство и нравственную необходимость жертвы. Нет восторга, сравнимого с восторгом самоуничтожения.
Так миновал год — и, наконец, Белинский не выдержал. Герцен посетил его в Санкт-Петербурге; сначала царила атмосфера неловкая, почти ледяная; затем Белинского буквально прорвало: он взахлеб сообщил, что «гегельянский» год, с добровольным признанием и прославлением «черной реакции», казался тяжелым сном, жертвоприношением на алтарь не истины, а безумной логической последовательности. Заботили Белинского — и не прекращали заботить — не исторические процессы, не состояние вселенной, не торжественное всемирное шествие гегелевского Божества, но жизнь, свобода и упования отдельных людей, чьи муки нельзя ни объяснить, ни оправдать никакой возвышенной вселенской гармонией. С той минуты Белинский уже ни разу не глянул вспять. Облегчение пришло невероятное:
«Проклинаю, — пишет он Боткину, — мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностию. Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эмапципатор общества от кровавых предрассудков предания! Да здравствует разум, да скроется тьма! — как восклицал великий Пушкин! Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века! Боже мой, страшно подумать, что со мною было — горячка или помешательство ума — я словно выздоравливающий. <... > Я не сойдусь, не помирюсь с пошлою действительностью, но счастия жду от одних фантазий и только в них бываю счастлив. Действительность — это палач»[209].
И в том же году:
«г... Меня мучат две мысли: первая, что мне представлялись случаи к наслаждению, и я упускал их, вследствие пошлой идеальности и робости своего характера; вторая: мое гнусное примирение с гнусною действительностию. Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всею иск- ренностию, со всем фанатизмом дикого убеждения! <... > А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества? <...> Проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне <...> Чорт знает, а^/с подумаешь, какими зигзагами совершалось мое развитие, ценою каких ужасных заблуждений купил я истину, и какую горькую истину — чгао все «л свете гнусно, л особенно вокруг нас.»[210].
Что до шествующего гегелевского Духа, то Герцен вспоминает слова Белинского: «Вы хотите меня уверить, что цель человека — привести абсолютный дух к самосознанию, и довольствуетесь этой ролью; ну, а я не настолько глуп, чтобы служить невольным орудием кому бы то ни было. Если я мыслю, если я страдаю, то для самого себя. Ваш абсолютный дух, если он и существует, то чужд для меня. Мне незачем его знать, ибо ничего общего у меня с ним нет»[211]. В письмах Белинского есть места, где священные метафизические понятия — Вселенскость, Космический Разум, Дух, разумное Государство и так далее — порицаются, как некий абстрактный Молох, пожирающий живых людей.
А годом позднее Белинский свел счеты и с самим своим наставником:
«Все толки Г<егеля> о нравственности — вздор сущий, ибо в объективном царстве мысли нет нравственности <...> Благодарю покорно, Егор Федорыч [Гегель], — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лествицы развития> — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою <...> Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии»\
И в том же году он пытается прояснить недоразумение:
«Видишь ли, в чем дело, душа моя: непосредственно поняли мы, что в жизни для нас нет жизни, л гяя/с как, по своим натурам, жизни мы не могли жить, гяо и ударили со всех ног в книгу и по книге стали жить и любить, из жизни и любви сделали для себя занятие, работу, труд и заботу. Между тем наши натуры всегда были выше нашего сознания, и потому нам слушать друг от друга одно и то же становилось и скучно и пошло, и мы друг другу смертельно надоедали <... >.
Социальность, социальность — «ли смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живет общее, /согдя страдает личность? Что мне в том, чш гений на земле живет в небе, /согдя толпа валяется в грязи? Что мне в том, wtzo л понимаю идею, чгяо открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, /согдя л «е этим делиться со всеми, /сгяо должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними по Христе, «о ктио — л*«е чужие и враги по своему невежеству f <...> Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкою чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, л ч^гггь «е плачу, подавши грош нищей, л tfiwj оггг «ее, яя/с будто сделавши худое дело и как будто не желая слышать шелеста собственных шагов своих <...> И после этого имеет ли право человек забываться в искусстве, в знании!» \
Он проштудировал материалиста Фейербаха, сделался демократом и революционером, принялся обличать самодержавие — а также невежество и скотское существование большинства соотечественников — с яростью, возраставшей день ото дня. Спасшись бегством от наполовину понятой и всецело владевшей им германской метафизики, Белинский ощутил необычайное облегчение. Как и всегда, его реакция сказалась в действии — критик разразился крайне страстными гимнами индивидуализму. В письме к своему другу Боткину он бранит окружающих за недостаточную серьезность и отсутствие собственного достоинства:
«... Мы, несчастные анахарсисы новой Скифии. Оттого мы зеваем, толчемся, суетимся, всем интересуемся, ни к чему не прилепляясь, все пожираем, ничем не насыщаясь. <...> Мы любим друг друга, любим горячо и глубоко — я в этом убежден всею силою моей души; но как же проявлялась и проявляется наша дружба? Мы приходили друг от друга в восторг и экстаз, мы ненавидели друг друга, мы удивлялись друг другу, мы презирали друг друга, мы предавали друг друга, мы с нена- вистию и бешеною злобою смотрели на всякого, кто не отдавал должной справедливости кому-нибудь из наших, — и мы поносили и злословили друг друга за глаза перед другими, мы ссорились и мирились, мирились и ссорились; во время долгой разлуки мы рыдали и молились при одной мысли о свидании, истаевали и исходили любовию друг к другу, а сходились и виделись холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствие и расставались без сожаления.
Как хочешь, а это так. Пора нам перестать обманывать самих себя, пора смотреть на действительность прямо, в оба глаза, не щурясь и не кривя дутою. <...> Ученые профессоры наши — педанты, гниль общества <... > мы сироты <...> мы люди без отечества <... >. Обаятелен мир давности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного, потому что основа его жизни — гордость личности, неприкосновенность личного достоинства. Да, греческий и латинский языки должны быть краеугольным камнем всякого образования, фундаментом школ»[212].
Следует восторженное сравнение Шиллера с Тиберием Гракхом, а самого Белинского — с Маратом. «Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную»[213]. Белинскому дороги только якобинцы — только они чего-то стуят: «тысячелетнее царство Божие утвердится на земле <... > террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюс- тов», а «не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды»[214], — а это ведет прямиком к социализму: той до-марксистской, «утопической» разновидности социализма, которую Белинский весьма жаловал — покуда не понял, что к чему, — поскольку «утопический» социализм обещал поголовное равенство: «идея социализма <...> стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. <... > И настанет время — я горячо верю этому, настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы <... >. Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла, Христос сдаст свою власть Отцу, а Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новою землею»[215].
Именно это мистическое прозрение имел в виду Ф.М. Достоевский, писавший много лет спустя после смерти Белинского: «...Он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстановляет ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях»[216]. Белинский первым сказал Достоевскому — в те дни еще молодому и безвестному: в «Бедных людях» вы одним росчерком сделали то, что критики тщетно пытаются сделать в огромных статьях — изобразили жизнь серого и униженного мелкого чиновника, выставили ее напоказ полностью; но Белинский недолюбливал Достоевского-человека, выносить не мог Достоевского- христианина, и преднамеренно разражался в его присутствии бешеными тирадами — безбожными и кощунственными. К религии Белинский относился не лучше Гольбаха или Дидро — причем по той же причине: «в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут»[217].
В 1847 году Гоголь, чей гений дотоле восхищал Белинского, напечатал резко анти-либеральную и анти-западную книгу, призывавшую возвратиться к старинным патриархальным обычаям, к духовно обновленной стране крепостных, помещиков и царя. Чаша переполнилась. Белинский — бывший уже в последнем градусе погубившей его чахотки — лечился за границей, в Зальцбрунне, и оттуда обвинял Гоголя: дескать, вы изменили свету истины:
.. Нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.
Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. <...> Россия видит свое спасение не вмисти- цизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, л в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением Церкви, а с здравым смыслом и справедливостью <...>. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. <... > Правительство <...> хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых <... >.
Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною... Что Вы подобное учение опираете на Православную Церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более Православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. <... > И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти Его и кость от костей Его, нежели все Ваши попы> архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные.
<...> Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? <...> Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? <...> По-Вашему, русский народ — самыйрели- гиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. <...> Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противу- положных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.
<...> Бестия наш брат, русский человек!..
<...> Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. <... > И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги»х.
Это письмо Белинский прочитал своим друзьям в Париже. Анненков пишет: «Во все время чтения уже знакомого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Герцен шмыгнул, чтобы сказать мне на ухо: "Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его"»[218]. Знаменитое послание стало библией русских революционеров. По сути,
Достоевский был приговорен к смерти, а потом помилован и отправлен в Сибирь именно за то, что прочитал на собрании петрашевцев эпистолу Белинского.
Под конец жизненного пути Белинский был гуманистом, противником богословия и метафизики, радикальным демократом; чрезвычайная сила и страстность его убеждений превращала чисто литературные споры в зародыши общественных и политических движений. Тургенев сказал касаемо Белинского примерно так: имеются два писательских типа — одни писатели могут быть блистательными художниками, но обитают как бы на обочине совокупных переживаний, волнующих общество, к коему они принадлежат, а другие находятся в самой гуще этого общества, будучи «органически» связаны с его заботами и чаяниями.
Белинский знал — как знают одни лишь истинно «социальные» критики, — где именно следует искать нравственный центр тяжести в любой книге, любом суждении, любом авторе, любом движении, любом обществе. Главная забота российского общества имела окраску не политическую, но социальную и нравственную. Всякий умный и пробудившийся русский прежде всего стремился разузнать: что делать и как вести свою частную, личную жизнь? Тургенев свидетельствует: в 1840-е и 1850-е годы люди очень остро интересовались вопросами житейскими, будучи начисто равнодушны к вопросам эстетическим. Усиливавшийся гнет сделал изящную словесность единственной трибуной, с которой можно было рассуждать о «социальных» вопросах более- менее свободно.
Великое препирательство славянофилов и западников: с одной стороны, тех, кто видел в России не успевший растлиться духовный и общественный организм, связанный воедино неосязаемыми узами общей любви, естественного благочестия и почтения к власти, организм, которому навязанные извне, бездушные западные учреждения и установления принесли и продолжат приносить ужасающий вред; а, с другой стороны, тех, кто смотрел на отечество как на отсталую полуазиатскую деспотию, лишенную даже зачатков «социальной справедливости» и личной свободы, — этот важнейший спор, надвое расколовший в девятнадцатом веке просвещенную Россию, мог вестись и велся преимущественно под видом прений литературных и философических. Власти неодобрительно косились и на славянофилов, и на западников, небезосновательно считая всякое публичное обсуждение любого сколько-нибудь важного вопроса угрозой существовавшему порядку. Но... самодержавие отнюдь не создавало и не использовало действенных способов подавления свободы, столь успешно изобретенных и применяемых ныне; полуподпольное препирательство длилось, накалялось и характер принимало все более и более личный: с обеих сторон участники спора остро сознавали и свое общественное происхождение, и то, какими глазами глядят на него главные противники.
В эпоху Белинского, в 1830-е и 1840-е годы, Россия оставалась преимущественно феодальной страной. Заводской промышленности почти не имелось, некоторые области были полуколониями. Резкие сословные преграды отделяли крестьян от купечества и священников, а меж небогатыми дворянами и вельможами преграды были еще заметнее. Разумеется, даже простой человек мог восходить по общественной лестнице, достигая в итоге высоких ступеней, однако это было непросто и случалось не слишком часто. Дабы подняться вверх, человеку требовались не только талант, не только расторопность и честолюбие, но и готовность навсегда отринуть свое прошлое, нравственно и умственно слиться с высшей общественной средой, неизменно готовой принять нового достойного члена своего на равных. Самый примечательный русский ум восемнадцатого столетия, Михаил Васильевич Ломоносов, создатель изящной отечественной словесности и отечественного естествознания — «русский Леонардо» — был выходцем из темной, безвестной семьи, но поднялся к высшим общественным слоям и преобразился. В его сочинениях нет ничего неуклюжего, ни следа мужицкой речи — Ломоносов пишет чрезвычайно ярко и выразительно. Он работал с неукротимым пылом новообращенного, — а к тому же, самоучки — и, закладывая основы русской прозы и поэзии, строго следуя самым изящным, изысканным западным — то есть французским — образцам, потрудился во второй половине восемнадцатого века больше кого бы то ни было иного. До второй половины века девятнадцатого только русские общественные сливки обладали достаточным образованием, досугом и развитым, изощренным вкусом, необходимыми для творчества — в частности, литературного; правда, примерами брали светочей западной словесности, а из народных источников, из векового искусства крестьян и ремесленников, не без воображения и умения работавших в Богом забытых уголках великой Империи, черпали мало. Литературу числили занятием особо возвышенным; писали, главным образом аристократы-любители, жившие в Санкт-Петербурге и Москве, а также их протеже. В Санкт-Петербурге пребывало правительство, а Москву населяли богатые купцы и дворянство старого закала — эти люди глядели на холодную, по-европейски утонченную северную Пальмиру с неодобрением и недоверием. Все тогдашние великие и выдающиеся русские авторы, первыми вызвавшие истинное литературное возрождение — Карамзин и Жуковский, Пушкин и Грибоедов, Баратынский и Веневитинов, Вяземский и Шаховской, Рылеев и оба Одоевских, — были дворянами. Правда, немало наличествовало и «людей со стороны», принятых в писательское сообщество: например, критик и журналист Полевой, первопроходец русского литературного натурализма, родился в семье сибирского купца; лирический поэт Кольцов оставался крестьянином до конца своих недолгих дней. Однако такие исключения не могли поколебать устоявшейся литературной иерархии.
Скромник Полевой начинал, как довольно смелый frondeur\ выступавший против писательской элиты, но мало- помалу полностью усвоил методы и слог, присущие авторам- дворянам, и завершил земные дни сторонником православия и самодержавия (правда, успевшим предварительно пострадать от преследований). Кольцов оставался неизменно верен крестьянскому языку — оттого-то и прославился как «почвенный», самобытный гений, простой мужик, неиспорченный известностью, зачаровывавший утонченных салонных слушателей свежестью и непосредственностью своего дарования, трогавший благородных почитателей почти преувеличенной скромностью и злополучной своей судьбой.
Белинский разрушил эту традицию — и навсегда. Он вступил — ворвался — в вышестоящее литературное общество на собственных условиях, ничем и никому не жертвуя. Неуклюжим полуобразованным провинциалом явился он в Москву, и сохранял многие вкусы, предрассудки и повадки своего класса до конца жизни. Родился он в бедной семье, а воспитывался в серой, унылой атмосфере захолустного уездного городка. Москва до известной степени отесала и цивилизовала Белинского, но глубоко внутри он пожизненно оставался грубым обывателем — отсюда и напряженный, шероховатый, неуклюжий, напористый и воинственный слог его писаний. И заданный Белинским тон остался в русской словесности — кажется, на веки вечные. В течение всего девятнадцатого столетия подобная же задиристая грубость была отличительной чертой политических радикалов, коих раздражала хорошо воспитанная консервативная интеллигенция, чуждавшаяся политики. Революционное движение росло и ширилось, а беззастенчивые хамские высказывания то делались крикливее и оскорбительнее, то звучали приглушеннее — и оттого еще более зловеще. Постепенно грубиянство превратилось в своеобразный принцип, в оружие, применявшееся умственными sans-culottes\ против сторонников существовавшего порядка — вовсю гремела вызывающая ругань «народных заступников», то есть вожаков, повлекших за собой «униженных и оскорбленных», стремившихся как можно скорее, раз и навсегда покончить с «приторной вежливостью», под которой, по их словам, удобно скрывались никчемность, мертвечина и, прежде всего, бессердечная жестокость существовавшей общественной системы. Сам Белинский витийствовал в этом ключе, поскольку подобная резкость была ему просто присуща от рождения, поскольку был он широко начитан, однако полуобразован, поскольку чувства его не знали удержу и не обуздывались ни должным воспитанием, ни складом характера; Белинский имел обыкновение бушевать по нравственным поводам, непрерывно кипел, протестовал, возмущался произволом и неискренностью безо всякой оглядки на окружение, или место, или время. А последователи Белинского усвоили ту же манеру писать и разглагольствовать, поскольку составляли партию enrages[219] — и подобный тон сделался у глашатаев новой истины дежурным: «передовому» человеку полагалось говорить со злобой, как бы с ощущением только что полученной пощечины.
В этом смысле, истинным наследником Белинского предстает нигилист Базаров из Тургеневских «Отцов и детей». Когда Павел Петрович, отменно воспитанный и оттого ненавистный Базарову — дворянин, защищающий учтивость, почитающий Пушкина и проповедующий эстетические взгляды на жизнь (в немалой степени Тургенев согласен с Павлом Петровичем, но чувствует при этом некую «вину»), — спрашивает нигилиста: но почему, собственно, вскрытие лягушек и прочие подобные прелести анатомических исследований должно считать занятиями возвышеннейшими и важнейшими? — Базаров отвечает с намеренной грубостью и заносчивостью: а это, извольте видеть, «настоящее дело». Такие задиристые boutades[220], утверждавшие первенство и главенство материальных фактов природной и общественной жизни, стали общепринятыми боевыми кличами бунтовавшей интеллигенции — вольнодумцы почитали долгом своим не только рубить и резать в глаза неудобоваримую правду-матку, но резать ее как можно громче, как можно развязнее, как можно грубее, — безоглядно и безжалостно попирая все утонченные эстетические понятия предшествовавших поколений^ пользуясь «тактикой сокрушительного удара». Противник был, с их точки зрения, многочисленным и надежно укрепившимся; посему, дабы дело правды могло восторжествовать, надлежало до основания разрушить вражеские твердыни, сколь бы ни были те прекрасны и бесценны. Правда, Белинский не доводил беззастенчивого натиска до полной, наиболее пагубной силы (хотя уже Бакунин занялся этим всерьез) — ибо, невзирая ни на что, Белинский все же был и слишком чуток эстетически, и слишком чтил художественный гений — радикальный или реакционный, роли не играло, — и слишком неиспорчен, чтобы наслаждаться площадной грубостью из любви к ней самой. Но твердокаменное, пуританское пристрастие к «истине» — особенно к неудобоупоминаемой изнанке всего сущего, — но стремление провозглашать истину любой ценой, принося в жертву любые литературные и общественные условности, а, стало быть, избыточно часто и громогласно используя слова и понятия, рассчитанные на то, чтобы возмутить противника до глубины души и «довести до греха», — все это шло от самого Белинского, и лишь от него самого; все это изменило и манеру, и содержание крупнейших политических и творческих споров — даже идущих ныне, сотню с лишним лет после того, как Белинский умер.
В подчеркнуто вежливом, изящном, одухотворенном, веселом, отлично образованном обществе московских и петербургских литераторов он по-прежнему говорил — зачастую кричал во все горло — на собственном языке, резавшем слух окружающих, и оставался независим, напорист, неучтив — позднее такое, поведение именовали «классовой сознательностью» — до конца земных дней; именно благодаря этим особенностям Белинского и принимали, как человека донельзя неудобного: закоренелый чужак, дервиш, фанатик нравственности; существо разнузданное и угрожавшее всем общепринятым условностям, на которых искони зиждился цивилизованный литературно-художественный мир. Независимость обошлась Белинскому дорого: его грубая, неотесанная сторона получила чрезмерное развитие; сплошь и рядом критик отвешивал поэтам и писателям незаслуженно суровые приговоры, оказывался чересчур нетерпим к обычной людской воспитанности — не говоря уже об утонченности, — чересчур враждебен всему прекрасному, но «безыдейному», а временами оставался художественно и нравственно слеп — только благодаря своему нравственному догматизму. Все же личность Белинского была столь могучей, сила слов его столь огромной, а побуждения столь чисты и целеустремленны, что (как я сказал выше) сама шершавость и неряшливость его слога создали своеобразную традицию «литературной искренности». Качественно сия традиция протеста и мятежа полностью отличается от обычаев, принятых у радикалов 1840-х годов: людей, родившихся в хороших семьях, получивших образцовое воспитание — и сотрясших (а в итоге уничтоживших) классический дворянский фасад русской словесности, в ту эпоху переживавшей «золотой век». Кружок знакомых Белинского (точнее, два пересекавшихся кружка знакомых, в которых он вращался) состоял главным образом из помещичьих детей. Но в урочный час утонченные, аристократические противники самодержавия уступили место несравненно более «бешеным» разночинцам и пролетариям. Белинский — самый выдающийся и прямой предшественник этих последних.
Позднейшие писатели, принадлежавшие к левому политическому крылу, неминуемо тщились подражать наихудшим чертам Белинского, в частности, его грубой прямоте и стилистической расхлябанности, стремясь подчеркнуть собственное свое презрение к изысканным, утонченным вкусам авторов, на коих они столь яростно ополчались. Но если в 1860-е годы такие радикальные критики, как Чернышевский и Писарев, пользовались неряшливым слогом намеренно — ибо словесную корявость рассматривали в качестве оружия, избранного поборниками естествознания, материализма и пользы, врагами чистого искусства, утонченности, эстетических ценностей, равнодушия к вопросам частным и общественным, — то случай Белинского куда печальней и любопытней. Ведь Белинский отнюдь не был оголтелым материалистом, а уж утилитарности — поисков пользы во всем и везде — чуждался и подавно. Он верил в свое критическое призвание, считал его самоценным, да вот писал так же точно, как и разговаривал: бесформенными, невероятно затянутыми, неуклюжими, торопливыми, запутанными фразами — лишь постольку, поскольку иначе выражать своих мыслей не умел; для Белинского словесное неряшество было естественной и единственной средой литературного обитания.
Разрешите снова напомнить: несколько десятилетий, до Пушкина и после него, русская словесность, создаваемая и представляемая, как правило, «пробудившимися» представителями высшего и среднего сословий, черпала из иностранных — преимущественно французских и немецких — источников, а поэты и писатели были исключительно чутки к изощренности и верности слога. А Белинского, несмотря на всю его критическую проницательность, занимали главным образом вопросы общественные и моральные. Он родился проповедником — и проповедовал пылко, и отнюдь не всегда владел и управлял тоном и построением создаваемых фраз. Он писал точно так же, как и говорил: скрежещущими, иногда визгливыми предложениями; друзья Пушкина — эстеты и «арбитры изящества» — непроизвольно шарахались от этого шумного, исступленного плебея-недоучки. Белинский же, от чистого сердца и безгранично восторгавшийся их великолепными творческими достижениями, зачастую чувствовал себя с ними рядом уязвленным и униженным. Но природы своей переделать не мог, не мог переделать или изменить того, что звал истиной (как он сам ее понимал), того, чему служил, того, чего не мог оставить без внимания, что различал обычно с немалым трудом, а иногда, случалось, видел поразительно ярко. Гордость Белинского была велика, он самоотверженно служил идее; идеей была неприкрашенная истина — и, служа ей, Белинский намеревался и жить, и умереть.
Некоторые из наилучших тогдашних поэтов и писателей, друзья Пушкина, входившие в литературное общество «Арзамас», хотя и не были чужды либеральным идеям, завезенным из-за границы после войны с Наполеоном, хотя и видели восстание декабристов, оставались по преимуществу консерваторами — если не в политике, то в повседневных привычках и вкусах; они были приняты при Дворе, имели друзей среди военных, выступали патриотами. Белинский, которому все это мерещилось чуть ли не мракобесием, грехом по отношению к наукам и просвещению, твердил, что Россия научится гораздо большему у технически передового Запада, что славянофильство — романтическое заблуждение, а в крайних видах своих — мания величия и слепой национализм, что в западном искусстве, западных науках и западном укладе повседневной жизни — главная и единственная надежда извлечь Россию из отсталости. Конечно, Герцен, Бакунин и Грановский думали так же. Но ведь у них имелось образование, полученное на западный лад, им было и просто, и приятно путешествовать и подолгу жить за рубежом, завязывать общественные и личные отношения с цивилизованными французами и немцами. Даже славянофилы, звавшие Запад никчемным и загнивающим, радовались поездкам в Берлин, Баден-Баден, Оксфорд и Париж.
Умом Белинский принадлежал к самым пылким западникам, а вот сердцем оставался русским — гораздо более и болезненнее русским, нежели кто бы то ни было из образованных современников: он не владел никакими чужеземными языками и не мог дышать свободно вне российских пределов, за границей чувствовал себя несчастным и затравленным. Культуру западную Белинский находил достойной уважения и подражания, а вот западный образ жизни считал начисто непереносимым. Плывя на корабле в Германию, критик начал горько тосковать по дому, едва лишь родные берега исчезли за горизонтом; ни Сикстинская Мадонна, ни парижские прелести не утешали Белинского; проведя за рубежом один- единственный месяц, он почти лишался рассудка от тоски по России. Чисто славянские душевные свойства и обиходные повадки проявлялись в Белинском куда глубже, чем в его друзьях и современниках — то ли, подобно Тургеневу, чувствовавших себя уютно в Германии либо Париже и маявшихся на русской почве, то ли, подобно славянофилам, щеголявших в традиционной русской одежде, а потихоньку предпочитавших стихотворение Гете или трагедию Шиллера любым народным песням, летописям или былинам. Это глубокое внутреннее противоречие меж умственными настроениями и влечениями чувства — иногда почти равными силой телесным потребностям — чисто русский недуг. По мере того как девятнадцатое столетие шло своим чередом и классовая борьба становилась выраженнее и острее, противоречие, встарь мучившее Белинского, обозначилось еще больше. Марксисты, аграрные социалисты и анархисты — если только не числятся они аристократами либо профессорами университетскими — то есть в известной степени членами всемирного сообщества, — искренне и убежденно кланяются Западу, веря в его цивилизацию — прежде всего, в западные науки, западную технику, политическую мысль, становящуюся политическим действием, — но, если их вынуждают эмигрировать, находят ссылку на Запад еще невыносимее сибирской.
Герцен, Бакунин, Тургенев, Лавров были дворянами и жили за границей если не очень счастливо, то, по крайности, не тоскуя и не раздражаясь донельзя. Герцен отнюдь не жаловал Швейцарии, а Твикенхэма и Лондона вовсе не любил — однако предпочитал Швейцарию и Англию николаевскому Петербургу, а среди своих итальянских и французских друзей чувствовал себя, точно рыба в воде. Тургенев был попросту счастлив, обитая в Буживале, в усадьбе Полины Виардо. А Белинского столь же трудно вообразить себе добровольным эмигрантом, сколь доктора Джонсона или Коб- бетта. Он бушевал и неистовствовал, он проклинал самые священные российские учреждения и установления, однако страны своей покидать не собирался. И, хотя Белинский понимал, что, упорствуя, неминуемо очутится в тюрьме — а для слабого и чахоточного это наверняка означало медленную и мучительную смерть, — он даже на миг не задумывался об отъезде из Российской империи; славянофилы и реакционеры были врагами, но сражаться с ними надлежало только на отечественной почве. Белинский не способен был ни умолкнуть, ни покинуть пределы России. Головой он принадлежал Западу, а сердцем и хилым, оставляемым в небрежении телом — темной толпе мужиков и лавочников, или «бедным людям» Достоевского, или обитателям кишащего мелким людом, суетливого и жуткого мира, созданного гоголевским воображением. Говоря об отношении западников к славянофилам, Герцен писал:
«Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинокая.
У них и у нас запало с ранних лет одно сильное безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, — чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»[221].
Белинский же не разрывался надвое меж несовместимыми идеями. Он был натурой цельной — в том смысле, что собственным чувствам доверял полностью и, следовательно, вовсе не маялся ни жалостью к самому себе, ни сентиментальностью, появляющейся, когда человек испытывает чувства, коих сам в себе не уважает. Но все же донимал и его некий внутренний разлад: Белинский одновременно восхищался западными идеалами и достижениями — и презирал, если не просто ненавидел, душевный склад и образ жизни, присущие западному обывателю и среднему западному интеллектуалу. Эта двойственность чувства, порожденная историей девятнадцатого столетия — социальными и психологическими условиями, в которых образовалась русская интеллигенция, — перешла по наследству к следующему поколению радикалов и далее развивалась в Чернышевском и Некрасове, в народниках, в убийцах Государя Александра II — да и в Ленине тоже. Ленина вряд ли попрекнешь незнанием западной культуры или презрением к ней, а все-таки даже он чувствовал себя в Лондоне или Париже куда неуютней, чем в иных, более «привычных» местах европейской ссылки. Это странное сочетание любви и ненависти все еще в известной степени присуще русскому взгляду на Европу: с одной стороны — уважение, зависть, восхищение, желание соперничать с Европой и превзойти ее; с другой — душевная неприязнь, подозрительность и пренебрежение, чувство собственной неуклюжести, de tropx, неуместности, неприкаянности — заставляющее, в итоге, то пресмыкаться перед Западом, то бросать ему воинственный, задиристый вызов. Никто из бывавших в Советском Союзе не мог не приметить этого явления: комплекса умственной неполноценности, сочетающегося с ощущением духовного превосходства; на Запад глядят завистливо: там — царство сдержанности, разума, расторопности и успеха, но там также тесно и холодно, там властвуют скупые, расчетливые, замкнутые люди, не имеющие ни широты воззрений, ни подлинного душевного тепла; не знающие порывов, переполняющих человеческое сердце и бьющих через край, не способные к безоглядному самопожертвованию в ответ на вызов, бросаемый историей, — и, как следствие, обреченные вовеки не ведать, что значит настоящая жизнь.
Одной этой искренности чувства в сочетании со страстным идеализмом уже довольно, чтобы провести черту между Белинским и его учениками — изрядно превзошедшими наставника методичностью. В отличие от позднейших радикалов, Белинский не был утилитаристом, не искал низкой житейской пользы — особенно в искусстве. Да, на закате дней он призывал к более широкому прикладному применению наук и большей идейности в искусстве. Но Белинский вовсе не полагал, будто назначение и долг художника — проповедовать или пропагандировать; иными словами, «прямо служить обществу», поучая людей, «что делать», изобретая лозунги, ставя искусство на службу партийным программам. Этого требовали в 1860-х годах Чернышевский и Некрасов, этого требовали позже Луначарский и Маяковский; этого же вымогают ныне советские критики. Белинский, подобно Горькому, верил: призвание и долг поэта или писателя — говорить правду, какой она видится лишь ему одному, человеку избранному, творчески одаренному, обладающему правом толковать истину и затем говорить о ней; лишь в этом и состоит весь долг пишущего человека — поэта, прозаика, мыслителя — перед обществом.
Но вместе с тем Белинский считал: поскольку человек обитает в обществе, а общество почти полностью «лепит» его личность — постольку высказываемая истина обязана быть «социальной», а любые попытки отгородиться от окружающих, или бежать от них прочь, неминуемо оборачиваются искажением истины, изменой правде. Для Белинского человек, художник и гражданин — единое целое; пишете вы роман или стихотворение, исторический труд или философский трактат, газетную статью, симфонию, картину — вы неизбежно выражаете (по крайней мере, обязаны выражать) всю свою сущность, а не только ее искусную, талантливую сторону; как человек, вы несете нравственную ответственность за то, что создаете, как художник. Вы должны постоянно свидетельствовать об истине — единой и неделимой, — всяким поступком и каждым словом. Не бывает чисто эстетических истин и чисто эстетических канонов. Правда, красота, нравственность изначально присущи жизни, нераздельны с нею: лживое и нравственно уродливое не могут быть художественно прекрасны — и наоборот. Белинский считал, что людское существование сводится — или должно сводиться — к непрерывной и отчаянной войне между правдой и кривдой, справедливостью и несправедливостью, и ни единый человек не вправе оставаться безучастным, либо содействовать врагу — особенно творец, художник. И Белинский объявил войну признанным русским националистам, поскольку те, по его мнению, замалчивали факты, искажали их — а это шло вразрез настоящей любви к Отечеству. Он обличал и порицал казенный патриотизм, с немалой свирепостью выражений пытался формулировать скрываемую ими истину — и это сочли цинизмом. Поначалу он восторгался германскими романтиками, потом лишь их радикальным крылом, затем увлекся французскими социалистами — и его сочли крамольником. Он повторял славянофилам: внутреннее обновление и духовное возрождение вряд ли возможны, если желудок пуст, и уж никак не возможны в обществе, где мало социальной справедливости, где попираются простейшие людские права, — и его окрестили материалистом.
И жизнь его, и личность обратились мифом. Он обитал некой идеализированной, строгой, нравственно безупречной фигурой в сердцах стольких современников, что когда власти снова дозволили упоминать имя Белинского невозбранно, поэты и писатели наперебой, словно соревнуясь, начали сочинять пылкие произведения, посвященные памяти ушедшего критика. Он так определил отношение литературы к жизни, что даже авторы, исповедовавшие более-менее чистое искусство и отнюдь не сочувствовавшие подобным взглядам — например, Лесков, Гончаров и Тургенев, — поневоле признали справедливость его точки зрения; эти писатели отвергали учение Белинского в целом, однако могучее незримое присутствие ушедшего критика понуждало их «сводить с ним счеты»: подобно Гоголю и Достоевскому, они отнюдь не шли за Белинским, но, по крайности, считали нужным пояснить, почему, — и необходимость эту особенно остро чувствовал Тургенев. Гюстав Флобер увлекал его в одну сторону, а с другой стороны постоянно и грозно маячил призрак умершего друга; Тургенев тщетно пытался умиротворить обоих — и потратил немало времени, убеждая и себя самого, и русскую публику в том, что нравственно его писательская позиция вполне может быть оправдана, что ни предательства, ни виляния за ним не числится. Этот поиск надлежащего места в нравственной и общественной жизни длился, как своего рода русская литераторская традиция, вплоть до 1890-х, до самого мятежа эстетов-неоклассицистов и символистов, которых возглавили Вячеслав Иванов и Бальмонт, Анненский и Блок. Но движения эти, хоть и принесли великолепные плоды, не остались действенной силой надолго. Большевицкая революция заставила всех возвратиться к канонам, провозглашенным Белинским, и к «социальным критериям» искусства — хотя в упрощенной, изуродованной, чисто утилитарной форме.
Белинского попрекали многие — в частности, противники натурализма — и многим; на кое-какие попреки возразить почти нечего. Он был диким сумасбродом; ни воодушевление, ни серьезность, ни честность не искупают его невероятных, ни с чем не сообразных суждений. Белинский заявлял: Данте вообще не поэт; Фенимора Купера ставил на одну доску с Шекспиром; звал «Отелло» произведением варварской эпохи; пушкинскую поэму «Руслан и Людмила» честил «детской и нисколько не гениальной»[222], «Повести Белкина» и «Сказки» считал никчемными, а Татьяну из «Евгения Онегина» звал «нравственным эмбрионом»[223]. Не менее дикие замечания отпускались по адресу Расина и Корнеля, Бальзака и Гюго.
Одни объясняются раздражением, вызванным средневековыми пристрастиями славянофилов, другие — слишком бурной реакцией на суждения профессора Надеждина и его школы, считавших, что изображение темного, уродливого и чудовищного противно художественному вкусу, ибо жизнь и природа полны красоты и гармонии; а третьи — наиболее частые — лишь и возможно отнести на счет критической слепоты и глухоты. Белинский разбранил великолепного поэта Баратынского в пух и прах, на полвека вычеркнул одаренного младшего современника Пушкина, Владимира Бенедиктова, из читательской памяти — только потому, что не выносил словесного изящества, не подкрепляемого нравственным пылом. Критик начинал думать, будто ошибся, провозгласив Достоевского гением: всего скорее, Достоевский был обычным, вызывающим раздражение, верующим неврастеником, да еще и маявшимся манией преследования... Критика Белинского неровна чрезвычайно. Очерки о художественной теории содержат несколько удачных страниц, однако в целом кажутся сухими, натянутыми и созданными в рамках германских философских систем, напоминавших Прокрустово ложе, чуждых определенному, порывистому и прямому ощущению искусства и жизни, столь свойственному самому Белинскому. Он писал и говорил очень много; чересчур много сказал о слишком уж многих не связанных меж собою вещах; слишком часто витийствовал несвязно и простодушно, с произвольными преувеличениями и поспешными выводами, столь обычными для догматика-самоучки, — при этом неизменно брызгал слюной в крайнем возбуждении (точнее, в исступлении), неизменно частил, торопился, ошибался, поправлялся, запинался — сплошь и рядом выглядел жалко, — но всегда отчаянно спешил куда угодно, где битва меж истиной и ложью, жизнью и смертью кипела всего горячее. Он был тем большим сумасбродом, что искренне гордился кажущейся своей свободой от мелочности, от чопорной, прилизанной опрятности и школярской строгости, от осторожной рассудочности, всегда помнящей: следует останавливаться вовремя.
Белинский не терпел малодушных, нравственно робких, умственно благовоспитанных, чуравшихся любого кризиса, bien pensant[224] искателей компромисса — и обрушивал на них шершавые, неуклюжие, длиннейшие тирады, преисполненные бешенства и презрения. Пожалуй, Белинский был уж слишком нетерпим и нравственно однобок, он раздувал огонь собственных переживаний. Отнюдь незачем было до такой степени ненавидеть Гете за его, с точки зрения Белинского, начисто возмутительную безмятежность, или всю польскую литературу — лишь за то, что она польская и премного этим довольна. И тут не случайные огрехи, а врожденные пороки Белинского, проявлявшиеся во всем, чем он был и что провозглашал. Однако негодовать по этому поводу следует умеренно — ибо в противном случае придется осудить и положительные мысли критика. Ценность и воздействие его воззрений как раз в том и заключаются, что Белинский был начисто чужд спокойной художественной отрешенности — даже прямо отрицал ее; в литературе он искал и видел только выражение всего, что люди ощущали, мыслили и могли сказать, наблюдая общество и жизнь, их преобладающего отношения к бытию людскому и к миру; литературу он рассматривал как оправдание всей жизнедеятельности человечества — и, соответственно, глядел на нее с предельной озабоченностью и сосредоточенным вниманием. Белинский не отказывался ни от какого суждения, даже самого несуразного, покуда не «ставил опыта на себе самом», не жил согласно своему суждению и не расплачивался за это и нервным срывом, и чувством собственной непригодности — а иногда и полнейшего краха. Истину, даже видимую редко и мимолетно, даже серую и скучную, он превозносил настолько выше всего прочего, что заражал окружающих своим отношением к «святой правде» — ив конце концов преобразил российские понятия о художественной критике.
Поскольку Белинский ограничивал свою всепоглощающую страсть исключительно литературой, то есть книгами, он придавал величайшее значение всевозможным новым идеям и литературным методам, а в первую очередь, новым понятиям о взаимоотношении литературы и жизни. Будучи по природе чуток ко всему неподдельному и живому, он преобразил отечественные взгляды на призвание критика. Непреходящим итогом его трудов было изменение — коренное и бесповоротное — нравственных и социальных воззрений, присущих современникам Белинского — ведущим молодым писателям и мыслителям. Он изменил и качество, и тональность выражения русских мыслей и чувств — настолько, что роль его, как деятеля, оказавшего преобладающее влияние на общество, затмевает его литературно-критические достижения. Каждая эпоха рождает общепризнанных пророков и проповедников, порицающих ее пороки, зовущих людей к лучшей жизни. И все же самый глубоко сокрытый общественный malaise[225] обнаруживают не они, а художники и мыслители, посвятившие себя куда более трудной и болезненной задаче: созданию, описанию и анализу; это они — поэты, романисты, критики — переживают всю нравственную муку общества и превращают ее в собственный опыт; это их победы и поражения влияют на участь современников и оставляют потомкам надежнейшее свидетельство о битвах во имя грядущих поколений. Очень одаренным поэтом был Некрасов; но прежде всего был он проповедником и гениальным пропагандистом; как следствие, не он, а Белинский впервые разглядел основной российский вопрос — куда более ясно и отчетливо, нежели кто-либо иной сумеет когда-либо различить его снова. Похоже, критик ни разу не задумался о том, что возможно было бы не лезть на рожон, явить осторожность, осмотрительнее выбирать позицию нравственную и политическую, — а возможно, и отойти в сторону, стать поодаль от грома и грохота сражения, взирать на него спокойно и беспристрастно. «... В нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста»[226]. Белинский очертя голову посвятил себя служению той совершенно особой, неповторимой истине, тем совершенно особым принципам, что руководили и мыслями его, и поступками; за это следовало платить цену, все возраставшую и для него самого, и для всех его последователей; жизнь и взгляды Белинского попеременно ужасали и восхищали поколение, пришедшее вослед ему. При жизни же никто не вынес Белинскому окончательного приговора. И даже официальная канонизация критика в Советском Союзе не упокоила призраки его сомнений и мук, не угомонила его негодующего голоса.
Вопросы, разрешению коих Белинский отдал себя всецело, ныне стали более животрепещущими — и, благодаря тем революционным силам, которые сам же Белинский старательно приводил в движение, — более грозными и неотложными, нежели когда-либо прежде.
•
Александр Герцен
А
лександр Герцен — самый поразительный русский политический писатель девятнадцатого столетия. Не существует хороших жизнеописаний Герцена; возможно, потому, что его автобиография — великий литературный шедевр. В англоязычных странах о ней знают лишь немногие — и очень жаль: первую часть этой книги великолепно перевел Дж. Д. Дафф (J.D. Duff), а всю книгу, от начала до конца, хорошо передала по-английски Констанция Гар- нетт (Constance Garnett); в отличие от некоторых трудов, созданных политическими и литературными гениями, «Былое и думы» даже в переводе остается чтением захватывающим.
Кое в чем герценовские записки больше всего походят на гетевские Dichtungund Wahrheit[227]. Ибо это не собрание чисто личных воспоминаний или политических размышлений. Герцен сплавил воедино повествование о себе самом, описания политической и общественной жизни в различных странах, рассказы о бытовавших мнениях и взглядах, о людях, о юности и ранней зрелости своей, протекших на русской земле; исторические очерки, заметки о странствиях по Европе — Франции, Швейцарии, Италии, о римских и парижских событиях 1848 и 1849 годов (эти последние записи несравненны — и лучших отчетов, составленных очевидцами, просто не существует), рассуждения о политических предводителях, о задачах и конечных целях разнообразных партий. Книга изобилует меткими замечаниями, едкими наблюдениями; свежими, неприкрашенными, а иногда и язвительными портретами современников; изображает народные характеры, анализирует факты экономические и общественные, излагает содержание споров, приводит эпиграммы касаемо прошлого и будущего Европы, а также России, на которую автор уповает и за которую опасается; все это переплетено с подробным и трогательным рассказом о личной трагедии Герцена — видимо, наиболее своеобразной исповедью изо всех, когда-либо положенных на бумагу и предназначенных для печати человеком остро чувствующим и утонченным.
Александр Иванович Герцен родился в Москве, в 1812 году, незадолго до того, как столицу захватил Наполеон; Герцен был внебрачным сыном Ивана Яковлева — богатого и знатного русского дворянина, происходившего из младшей ветви боярского рода Романовых, давших России царскую династию, — человека замкнутого, тяжелого, властного, незаурядного и отлично воспитанного на западный лад; Яковлев тиранил незаконного ребенка, обожал его, отравил ему жизнь и вселял в мальчика то безмерную любовь, то жгучее омерзение к отцу. Мать Герцена, Луиза Гааг, была доброй молодой немкой из Штутгарта в Вюртемберге, дочерью мелкого чиновника. Иван Яковлев повстречал ее, путешествуя за границей, увез в Москву и сделал полной госпожой в своем доме, однако так и не женился на Луизе; а сыну своему дал фамилию Герцен[228], как бы говорившую: мальчик — дитя сердечной страсти, любимый, но все же незаконный отпрыск, не имеющий права носить отцовское имя.
То обстоятельство, что Герцен был побочным ребенком, по-видимому, изрядно повлияло на его характер и, вероятно, сделало будущего писателя строптивее и мятежнее, чем он мог бы вырасти в иных условиях. Он получил обычные воспитание и образование, полагавшиеся юному богатому дворянину, поступил в Московский университет и рано обнаружил живой, своеобразный, порывистый нрав. Герцен принадлежал (и, достигнув зрелости, постоянно твердил об этом) к тому поколению, что в России стало зваться «лишними людьми» — теми, о ком все время говорится в ранних романах и повестях Тургенева.
Эта молодежь имела собственное место в европейской культурной истории девятнадцатого столетия. Она принадлежала к потомственной аристократии, но исповедовала более свободный и радикальный образ мыслей и действий, нежели присущий ее родному классу. Есть нечто необыкновенно привлекательное в людях, всю жизнь сохраняющих манеры, повадки, привычки и блеск цивилизованной, утонченной среды, из коей они вышли. Такие люди обладают особой внутренней свободой, сочетающей непринужденность и достоинство. Кругозор их обширен и богат, а еще — прежде всего прочего — им свойственна исключительная умственная живость, которую дает аристократическое воспитание. В то же время они приветствуют все новое, передовое, мятежное, молодое, неопытное, лишь нарождающееся; они стремятся в открытое море — и неважно, лежит за горизонтом неведомая земля, или нет. К этой человеческой разновидности относятся «связующие звенья» вроде Мирабо, Чарльза Джеймса Фокса, Франклина Рузвельта — фигуры, обитающие на рубеже между старым и новым, живущие меж безвозвратно уходящим в прошлое douceur de la vie[229] и будущим, которое обманет возлагаемые на него надежды, — грозным новым веком, чей приход они сами торопили всеми правдами и неправдами. Из этого племени был и Герцен. В «Былом и думах» повествуется о том, каково жилось человеку подобного склада в душной общественной среде, не дозволявшей сыскать применения способностям и талантам;
каково было восторгаться незнакомыми идеями, то и дело приходившими отовсюду — из классических текстов и старинных западных утопий, из проповедей французских социалистов и трактатов, сочиненных германскими философами, из книг, журналов, непринужденных бесед, — и немедля вспоминать: среди окружающего общества глупо даже мечтать о том, что в отечественных пределах появится подобие умеренных и безобидных учреждений и установлений, давным-давно прижившихся и укоренившихся на цивилизованном Западе.
Обычно, такое душевное состояние приводило к одному из двух возможных последствий: либо молодой энтузиаст постепенно притихал, примирялся с действительностью, становился меланхолическим, слегка разочарованным в жизни помещиком, оседавшим в деревенской усадьбе, листавшим серьезные повременные издания, выписываемые из Петербурга или из-за границы, иногда заводившим сельскохозяйственную машину или иную хитроумную диковину, которая полюбилась ему во Франции или Англии; человеком, бесконечно твердившим о необходимости перемен, однако печально оговаривавшимся: ничего, или почти ничего, поделать нельзя, — либо такой энтузиаст полностью покорялся обстоятельствам и впадал в безысходную хандру, в черное отчаяние: делался издерганным и предавался непрестанному самоедству, медленно отравляя существование и себе самому, и всем окружающим.
А Герцен вознамерился избежать обоих этих пресловутых несчастий. Он твердо решил: уж обо мне-то не скажут, будто я жил впустую и не оставил в мире следа, будто не сопротивлялся обстоятельствам и пал духом. Навсегда покидая Россию в 1847 году, он стремился жить как можно более деятельно. Образование Герцена было дилетантским. Подобно большинству юношей, воспитанных в аристократической среде, он слишком хорошо обучился искусству беседы с кем угодно и о чем угодно, слишком хорошо умел разбираться в чем попало, чтобы должным образом сосредоточиться на одном роде занятий, устремиться к одной незыблемой цели.
Сам Герцен отлично сознавал это. Он грустно говорит о счастливчиках, мирно вступающих на определенное и почтенное житейское поприще, не ведая несметных соблазнов, маячащих перед молодыми, одаренными и зачастую идеалистически мыслящими людьми, знающими чересчур много, богатыми чрезмерно и располагающими столь необъятными возможностями, что бросают начатое, быстро наскучившее дело, принимаются за другое, избирают иной путь, опять сбиваются с него, плывут по течению — ив итоге не достигают ничего. Чрезвычайно своеобразный пример самоанализа: преисполненный идеализма, присущего тогдашнему поколению молодых русских дворян, идеализма, возникшего из «чувства вины перед народом» и, в свой черед, подогревавшего это чувство, Герцен страстно стремился сделать для своей страны что-нибудь полезное и памятное. Беспокойное стремление это сохранилось у него до конца дней. Движимый им, Герцен — как известно всякому, хотя бы поверхностно знакомому с новой российской историей, — превратился в, по-видимому, величайшего из тогдашних европейских публицистов, основал первый свободный (то есть бранивший самодержавие) русский журнал, издававшийся в Европе, — и положил начало российской революционной агитации.
Этот знаменитый журнал, «Колокол», печатал все, представлявшее тематический интерес. Герцен обличал, осуждал, высмеивал, проповедовал — сделался неким «русским Вольтером» середины девятнадцатого столетия. Журналистом он был гениальным, его статьи, блистательные, задорные и страстные, ходили по русским рукам и — разумеется, будучи официально запрещены — читались как радикалами, так и консерваторами. Ходили слухи, будто Герцена читает сам Государь — и несомненно, его читали многие придворные; в разгаре своей славы Герцен оказывал ощутимое влияние на Россию — неслыханный случай, когда речь идет о писателе-эмигранте, — обличая злоупотребления, приводя имена и, прежде всего, взывая к либеральным настроениям, отнюдь не угасшим полностью даже в средоточии российской бюрократии — по крайности, на протяжении 1850-х и 1860-х годов. В отличие от многих авторов, способных блистать лишь письменно или в ходе публичных выступлений, Герцен был сущим златоустом. Вероятно, лучшее описание того, как он говорил и беседовал, содержится в работе, чье заглавие мною позаимствовано: в «Замечательном десятилетии», написанном Павлом Анненковым, другом Герцена. Двадцать лет спустя после событий, им излагаемых, Анненков припоминает:
«Признаться сказать, меня ошеломил и озадачил на первых порах знакомства этот необычайно подвижной ум, переходивший с неистощимым остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету, умевший схватить и в складе чужой речи, и в простом случае из текущей жизни, и в любой отвлеченной идее ту яркую черту, которая дает им физиономию и живое выражение. Способность к поминутным неожиданным сближениям разнородных предметов, которая питалась, во-первых, тонкой наблюдательностью, а во-вторых, и весьма значительным капиталом энциклопедических сведений, была развита у Герцена в необычайной степени, — так развита, что под конец даже утомляла слушателя. Неугасающий фейерверк его речи, неистощимость фантазии и изобретения, какая-то безоглядная расточительность ума приводили постоянно в изумление его собеседников. После всегда горячей, но и всегда строгой, последовательной речи Белинского скользящее, беспрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово Герцена требовало уже от собеседников, кроме напряженного внимания, еще и необходимости быть всегда наготове и вооруженным для ответа. Зато уже никакая пошлость или вялость мысли не могли выдержать и полчаса сношений с Герценом, а претензия, напыщенность, педантическая важность просто бежали от него или таяли перед ним, как воск перед огнем. Я знавал людей, преимущественно из так называемых серьезных и дельных, которые не выносили присутствия Герцена. Зато были и люди, даже между иностранцами, в эпоху его заграничной жизни, для которых он скоро делался не только предметом удивления, но страстных и слепых привязанностей.
Герцен, наоборот, как будто родился с критическими наклонностями ума, с качествами обличителя и преследователя темных сторон существования. Это обнаружилось у него с самых ранних пор, еще с московского периода его жизни, о котором говорим. И тогда Герцен был умом в высшей степени непокорным и неуживчивым, с врожденным, органическим отвращением ко всему, vwo являлось в виде какого-либо установленного правила, освященного общим молчанием, о какой- либо непроверенной истине. В таких случаях хищнические, галл: сказать, способности его ума поднимались целиком и выходили наружу, поражая своей едкостью, изворотливостью и находчивостью. Он жил в Москве на Сивцевом-Вражке еще неведомым для публики лицом, но уже приобрел известность в кругу своем как остроумный и опасный наблюдатель окружающей его среды; конечно, он не всегда умел держать под спудом тайну тех следственных протоколов, гаех послужных списков о близких и дальних личностях, какие вел в уме и про себя. Люди, беспечно стоявшие с ним об руку, не могли не изумляться, л подчас и не сердиться, когда открывались те или другие части этой невольной работы его духа. К удивлению, вместе с нею уживались в нем самые нежные, почти любовные отношения к избранным друзьям, не избавленным от его анализа, но тут дело объясняется уже другой стороной его характера.
Как бы для восстановления равновесия в его нравственной организации, природа позаботилась, однако же, вложить в его душу одно неодолимое верование, одну непобедимую наклонность: Герцен веровал в благородные инстинкты человеческого сердца, анализ его умолкал и благоговел перед инстинктивными побуждениями нравственного организма как перед единственной, несомненной истиной существования. Он высоко ценил в людях благородные, страстные увлечения, как бы ошибочно они еще ни помещались, и никогда не смеялся над ними. Эта двойная, противоречивая игра его природы — подозрительное отрицание, с одной стороны, и слепое веро- ванне — с другой, возбуждали частые недоумения между ним и его кругом и были поводом к спорам и объяснениям; но именно в огне таких пререканий, до самого его отъезда за границу, привязанности к нему еще более закалились, вместо того чтобы разлагаться. Оно и понятно почему: во всем, что тогда думал и делал Герцен, не было ни малейшего признака лжи, какого-либо дурного, скрыто вскормленного чувства или расчетливого коварства; напротив, он был всегда весь целиком в каждом своем слове и поступке. Да была и еще причина, заставлявшая прощать ему даже иногда и оскорбления, — причина, которая может показаться невероятной для людей, его не знавших.
При стойком, гордом, энергическом уме это был совершенно мягкий, добродушный, почти женственный характер. Под суровой наружностью скептика и эпиграмматиста, под прикрытием очень мало церемонного и нисколько не застенчивого юмора жило в нем детское сердце. Он умел быть как-то угловато нежен и деликатен, л при случае, лгогдя наносил слишком сильный удар противнику, 3/л/ел тотчас же принести ясное, хогал и подразумеваемое покаяние. Особенно начинающие, ищущие, пробующие себя люди находили источники бодрости и силы в его советах: он прямо принимал их в полное общение с собой, с своей мыслью, чгао не мешало его разлагающему анализу производить подчас над ними очень мучительные психические эксперименты и операции»[230].
Эта яркая, сочувственная зарисовка походит на описания, оставленные Тургеневым, Белинским и прочими друзьями Герцена. А наилучшим, наиважнейшим свидетельством ее достоверности служит читательское впечатление от прозы самого Герцена — от его очерков или автобиографии, озаглавленной «Былое и думы». Впечатление, ими производимое, не выразишь даже восторженными словами доброго Анненкова.
Всего больше на молодого Герцена, учившегося в Московском университете, — да и на всю остальную образованную русскую молодежь — повлиял, разумеется, Гегель. Но будучи в ранние годы его правоверным приверженцем, Герцен превратил свое гегельянство в нечто особое, сугубо личное, весьма несхожее с теоретическими выводами, которые делали из этой прославленной доктрины более серьезные и педантически настроенные современники.
Главным образом Герцен вынес из гегельянства убеждение, что ни единая теория, ни единая доктрина, никакое отдельно взятое истолкование жизни, — а прежде всего, никакая простая, последовательная, ладно скроенная и крепко сшитая схема: ни великие механистические модели, создававшиеся в восемнадцатом веке французами, ни романтические германские умопостроения века девятнадцатого, ни учения утопистов, подобных Сен-Симону, Фурье или Оуэну, ни социалистические программы Кабе, Jlepy и Луи Блана, — просто не способны сыскать истинные решения действительных задач: по крайности, оставаясь в том виде, в каком их преподносили и проповедовали.
Герцен сделался скептиком уже по одному тому, что полагал (то ли следуя Гегелю, то ли независимо от него): никакого окончательного или простого ответа на задаваемые человечеством «жгучие» вопросы даже в принципе сыскать нельзя; если вопрос по-настоящему серьезен или мучительно болезнен, ответ попросту не может быть недвусмысленным и «опрятным». Прежде всего, он вовеки не сведется к некоему симметричному набору выводов, полученных дедуктивным способом из наличествующих очевидных аксиом.
Скептицизм этот сказывается уже на ранних, забытых герценовских очерках, написанных в начале 1840-х годов по поводу того, что Герцен именовал научным буддизмом и дилетантством; автор делит мыслящих людей на два разряда — и нещадно ополчается на оба. К первому разряду относятся беззаботные любители, за лесом не видящие деревьев и, по словам Герцена, пуще всего боящиеся растерять свою драгоценную личную неповторимость в педантичной погоне за мелкими фактами, свойственными действительности; оттого-то и скользят они всегда по самым верхам, не трудясь получить настоящие познания, оттого-то и смотрят на факты словно через некий телескоп, — а в итоге не способны изречь ничего связного, кроме звучных и необъятных обобщений, витающих без дела и без цели, подобно летящим воздушным шарам.
Второй разряд ученых — буддисты — суть люди, бегущие вон из лесу и принимающиеся лихорадочно пересчитывать деревья; они самозабвенно изучают крохотный набор несвязных фактов, рассматриваемых под все более и более сильным микроскопом. И хотя подобный человек может быть глубоким знатоком отдельной научной отрасли, он почти неминуемо — особенно если упомянутый человек немец (едва ли не все герценовские издевки адресуются ненавистным немцам — при том, что в жилах самого Герцена текла кровь наполовину немецкая), — делается невыносимо скучным, напыщенным, нерассуждающим филистером; но прежде всего, и неизменно, становится отталкивающим человеческим существом.
Эти полярные противоположности необходимо примирить, и Герцен считает: если изучать жизнь трезво и беспристрастно — «объективно», — быть может, меж двумя полюсами удастся создать «электрическое напряжение», диалектический компромисс; и, поскольку ни одна из двух упомянутых людских разновидностей не может существовать в «химически чистом виде», ни одну из них нельзя отвергать полностью, следует у каждой заимствовать ее наилучшие черты; лишь таким образом человеческие существа и сумели бы уразуметь жизнь хоть несколько глубже, чем если бы очертя голову впадали в ту или другую крайность.
Все же, идеал отрешенности, умеренности, компромисса, бесстрастной объективности, проповедовавшийся Герценом в начале его литературной работы, был чем-то напрочь несовместимым с герценовским темпераментом. И впрямь: уже вскоре Герцен разражается громогласными похвалами пристрастности. Он объявляет: знаю — этого не примут.
Существуют воззрения, коих просто не впускают в порядочное общество, — равно как и людей, чем-либо запятнавших себя навеки. На пристрастность глядят весьма неблагосклонно — в том и заключается ее отличие от, например, абстрактной справедливости. Но все же, никто и никогда еще не произносил речей, достойных внимания, коль скоро не был глубоко, самозабвенно пристрастен.
И следует весьма долгое, чисто русское порицание хладнокровию и мелочной осторожности; Герцен утверждает: нежелательно и немыслимо оставаться «объективным», отрешенным, безучастным; нельзя не бросаться в жизненный поток и не нырять поглубже. На этой стадии писательского развития Герцена в его сочинениях внезапно слышится возбужденный голос его друга Белинского.
Основополагающее утверждение, выдвигаемое Герценом в те дни, а далее непрестанно развиваемое с поразительной поэтичностью и выдумкой, гласит: отвлеченные идеи обладают ужасающей властью над человеческим бытием (намеренно упоминаю поэзию: как очень верно сказал впоследствии Достоевский, что ни говори о Герцене, а русским поэтом он безусловно был; это и обеляло Герцена в глазах желчного, но временами потрясающе проницательного критика — ибо ни воззрений герценовских, ни образа жизни Достоевский, разумеется, не одобрял нимало).
Герцен заявляет: любая попытка разъяснить человеческое поведение понятиями, свойственными любой отвлеченной идее — или подчинить человечество служению этой идее, сколь бы ни благородной была она, глаголющая о справедливости, прогрессе, народе, проповедуемая даже безупречными человеколюбцами вроде Мадзини, Луи Блана или Милля, — всегда заканчивается мучительством и людскими жертвоприношениями. Люди недостаточно примитивны; людская жизнь и взаимоотношения слишком сложны для безликих формул и прямолинейных мер; попытки «остругать» личность и втиснуть ее в рациональную схему, составленную согласно теоретическому идеалу — сколь бы ни были чисты и возвышенны побуждения новоявленных Прокрустов, — неизменно кончается ужасными умственными и душевными увечьями да все более страшной политической вивисекцией. Прогресс венчается освобождением единиц, ради которого люто порабощается подавляющее большинство; прежняя тирания сменяется новой, иногда гораздо более чудовищной — к примеру, всемирное социалистическое рабство провозглашалось избавлением для числившихся в «рабстве» у Римско- Католической Церкви.
Вот весьма типичный отрывок из разговоров Герцена с Луи Бланом, французским социалистом (коего Александр Иванович глубоко уважал); здесь видно, с каким легкомыслием Герцен высказывал даже самые глубокие свои убеждения. Беседовали мы, пишет Герцен, в Лондоне, в начале 1850-х. Однажды Луи Блан изрек: «Жизнь человека — великий социальный долг, человек должен постоянно приносить себя на жертву обществу».
«— Зачем же? — спросил я вдруг.
Как зачем [ответствовал Луи Блан]? Помилуйте: вся цель, все назначение лица — благосостояние общества.
Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.
Это игра слов.
Варварская сбивчивость понятий, — говорил я, смеясь»[231].
В этом веселом и, казалось бы, непримечательном отрывке Герцен высказывает свое главное убеждение: цель жизни — сама жизнь, а жертвовать настоящим во имя какого-то неясного и непредсказуемого будущего значит безумствовать, напрочь уничтожая ту единственную драгоценность, что имеется и у отдельного человека, и у целого общества, — значит попусту лить живую кровь и умерщвлять живую плоть на жертвеннике, воздвигнутом в капище идеализированных абстракций.
У Герцена вызывала омерзение истинная сущность проповедей, уже в ту эпоху читавшихся некоторыми из «лучших и благороднейших» людей — в частности, социалистами и утилитаристами: дескать, можно претерпеть в настоящем невыносимые и нескончаемые страдания ради несказанного грядущего счастья; можно истреблять неповинных людей тысячами, дабы облагодетельствовать миллионы — столь воинственные призывы звучали уже в то время, а впоследствии подобный боевой клич раздавался несравненно чаще. Представление о том, что человечество непременно вступит в светлое будущее, что это, якобы, предначертано ходом истории, а посему любые, самые лютые, сегодняшние злодейства оправданы — этот хорошо знакомый нам бред, порожденный политической эсхатологией, основанный на крепкой вере в неудержимый прогресс, казался Герцену смертоносной доктриной, ведущей к уничтожению человечества.
Наиглубочайшее, наиболее обоснованное — и наиболее блистательно изложенное — рассуждение Герцена по вышеупомянутому поводу содержится в томе очерков, озаглавленном «С того берега» и создававшемся Герценом как нерукотворный памятник авторскому разочарованию в европейских революциях 1848 и 1849 годов. Этот великий полемический шедевр — символ веры и политическое завещание Герцена. Тон и содержание книги хорошо представлены характерным (и знаменитым) отрывком, где Герцен восклицает: нельзя превращать целое поколение в своеобразный перегной, удобряющий почву, на коей расцветут весьма далекие потомки — что, кстати, весьма сомнительно. Цель, маячащая в отдаленном «светлом будущем», — обман и ложь. Истинная «цель должна быть ближе, по крайней мере — заработная плата или наслаждение в труде»[232].
Цель каждого поколения — оно само; каждый человек есть явление неповторимое; исполнением желаний, удовлетворением нужд порождаются новые нужды и желания, а дальше возникает новый образ жизни. Природа, говорит Герцен (возможно, под воздействием Шиллера), безразлична к человеческим существам и нуждам человеческим, природа равнодушно сокрушает их. Есть ли у истории некий план, либретто? Нет — поскольку, «будь libretto, история потеряет весь интерес, сделается ненужна, скучна, смешна». Расписаний и графиков нет, нет и космических предначертаний, а есть лишь «огонь жизни» — страсть, воля, импровизация; временами дорога существует, а временами — нет; и «где ее нет, там ее сперва проложит гений»[233].
Но, допустим, кто-то скажет: мало ли что может быть!.. Комета зацепит земной шар, геологический катаклизм пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание — вот вам и финал истории. Скажете, после этого история не самая настоящая нелепость? Разве не будет жестокой насмешкой над всеми нашими стараниями, всеми нашими слезами, кровью и потом, если история окончится необъяснимо, внезапно и страшно, благодаря начисто необъяснимому, всецело загадочному событию? Герцен отвечает: подобные соображения весьма вульгарны — ибо весьма вульгарно мыслить цифрами.
Смерть одного человека не меньше нелепа, чем гибель всего рода человеческого; это загадка, с которой мы смирились; и просто множа эту загадку на миллионы, спрашивая: что если погибнет человечество? — мы не делаем ее ни более непроницаемой, ни более пугающей. «В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможностей; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, они развиваются и будут развиваться донельзя, они готовы собой наполнить мир, но они могут запнуться на полдороге, принять иное направление, остановиться, разрушиться. <... > В сущности, для природы это все равно, ее не убудет, из нее ничего не вынешь»[234].
«...Для чего эти усилия? — жизнь народов становится праздной игрой, лепит, лепит по песчине, по камешку, л ra^wz опять все рухнется наземь, и люди ползут из-под развалин, начинают снова расчищать место да строить хижины изо мха, досок и упадших капителей, достигая веками, долгим трудом — падения. Шекспир недаром сказал, чгао история — скучная сказка, рассказанная дураком.
— Это уж такой печальный взгляду вас. <... > Вы похожи <...> на тех чувствительных людей, которые не могут вспомнить без слез, чгао влюди родятся для того, чтоб умеретьп. Смотреть на конец, л не ня самое дело — величайшая ошибка. На что растению этот яркий, пышный венчик, ня vwo этот упоительный запах, который пройдет совсем ненужно? Но природа вовсе не так скупа и не так пренебрегает мимоидущим, настоящим, оня ня каждой точке достигает всего, чего может достигнуть, идега донельзя <...>. Кто же станет негодовать на природу за то, чгао цветы утром распускаются, л вечером вянут, чгао оня розе и лилее не умеет придавать прочности кремня ? И этот-то бедный, прозаический взгляд мы хотим перенести в исторический мир! <...> на жизни не лежит обязанность исполнять ее [цивилизации ] фантазии и мысли <...> жизнь любит новое.
<... > История импровизируетсяуредко повторяется, оня пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу ворот... которые отопрутся... кто знает*»х
И далее:
«У человека есть инстинктивная любовь к сохранению всего, vwo едгу нравится; родился — гая*: хочет жить во всю вечность; влюбился — гая*: хочет любить и быть любимым во всю жизнь, хяа: в первую минуту признания. <...> Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни, — оня <... > не страхует ни жизни, ни наслаждения, не отвечает за их продолжение. <...> Оттого каждый исторический миг полон, замкнут по-своему, хяа: всякий год с весной и летом.
с зимой и осенью, с бурями и хорошей погодой. Оттого каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, о&и в носит свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежит ему, но людям этого мало, ил/ хочется, чтоб и будущее было их.
<... > Какая цель песни, которую поет певица?.. <... > Если вы, кроме наслаждения ими, будете искать что-нибудь, выжидать иной цели, вм дождетесь, когда кантатриса перестанет петь, и 3/ вяс останется воспоминание и раскаяние, vwo вместо того, чтоб слушать, вь/ ждали чего-то... Вас сбивают категории, которые дурно уловляют жизнь. Вы подумайте порядком: что эта цель — программа, чгао ли, или приказ? Кто его составил, колгу он объявлен, обязателен он или нет? Если да, — wo чгао ль/, куклы или люди, в самом деле, нравственно свободные существа или колеса в машине? Для меня легче жизнь, а следственно, и историю, считать за достигнутую цель, нежели за средство достижения»1.
И еще далее: «Мы часто за цель принимаем последовательные фазы одного и того же развития, к которому мы приучились; мы думаем, что цель ребенка совершеннолетие, потому что он делается совершеннолетним, а цель ребенка скорее играть, наслаждаться, быть ребенком. Если смотреть на предел, то цель всего живого — смерть»[235].
Это основной герценовский тезис, и политический и общественный; с тех пор он влился в поток русской радикальной мысли, как противоядие преувеличенному утилитаризму, коим противники радикалов столь часто их попрекали. Цель певицы — песня, цель жизни — бытие. Все проходит и минует, но прошедшее способно иногда и вознаградить паломника за все перенесенные страдания. Гете сказал нам: не бывает надежности, не может быть уверенности. Довольствуйся текущим днем, человече...
Но человек недоволен. Человек отвергает красоту, отвергает сегодняшние свершения — ибо человек алчет завладеть еще и будущим... Так отвечает Герцен всем, кто, подобно Мадзини и социалистам тогдашней эпохи, призывают к величайшим жертвам и страданиям во имя народа, или всемирной цивилизации, или социализма, или справедливости, или человечества, — к жертвам, если не сегодняшним, то завтрашним.
Эти призывы Герцен отвергает с негодованием. За свободу борются не ради завтрашней свободы, но ради нынешней — ради свободы для ныне здравствующих личностей, имеющих личные цели, во имя которых люди живут, сражаются и, возможно, гибнут — цели, для этих людей священные. Сокрушать их свободу, развеивать их надежды, уничтожать их цели в погоне за туманной химерой грядущего благоденствия — коего и сулить-то нельзя с уверенностью, о коем не известно ровным счетом ничего, — благоденствия, чей призрак является всего лишь плодом зыбких метафизических построений на песке; благоденствия, не гарантируемого ни логикой, ни накопленным опытом, ни какими-либо доводами рассудка, — заниматься подобным значит расписываться, во-первых, в слепоте — поскольку будущее неведомо, во-вторых, в жестокости — поскольку вершится надругательство над всеми нравственными ценностями, нам известными, поскольку неотъемлемо важные потребности людские попираются ради отвлеченных понятий — свободы, счастья, справедливости, — фанатических обобщений, загадочных звуков, обожествленных словосочетаний. Почему, собственно, свобода числится драгоценной? Да просто-напросто потому, что свобода — это свобода: самодовлеющая цель. И жертвовать ею чему-либо другому означает, в сущности, совершать людские жертвоприношения.
Исключительно важная герценовская проповедь — и за нею следует вывод: нынче нет беды худшей и зловреднейшей, чем погрязнуть в абстракциях, позабыв о действительности. Обвинение адресуется отнюдь не только западным социалистам и либералам, среди коих Герцен обитал (и, само собою, гер- ценовским врагам, священнослужителям и консерваторам), но в еще большей степени ближайшему другу, Михаилу Бакунину, упорно пытавшемуся разжечь вооруженный мятеж, сопровождаемый пытками и неописуемыми казнями, во имя темных, расплывчатых, отдаленных целей. Герцен считает одним из величайших возможных людских грехов желание снять моральную ответственность со своих собственных плеч и возложить ее на какой-то непредсказуемый грядущий миропорядок; стремление совершать сегодня во имя «светлого будущего» (а оно, всего скорее, не наступит вообще никогда) злодейства, которые любой и всякий назвал бы чудовищными, творись они из соображений эгоистических, — однако злодейства эти обеляются и оправдываются верой в далекую призрачную утопию.
При всей своей ненависти к деспотизму — особенно к российскому самодержавию — Герцен всю жизнь оставался незыблемо убежден: отнюдь не менее жуткая угроза исходит от его собственных союзников — социалистов и революционеров. Герцен убедился в этом, ибо встарь и сам он, заодно с добрым другом, критиком Белинским, верил, что простое решение мыслимо и осуществимо, что некая великая система (то есть миропорядок, предсказанный Сен- Симоном или Прудоном) породит его; что, если разумно распорядиться общественной жизнью, привести ее в порядок, создать четкую и «опрятную» социальную организацию — найдутся окончательные ответы на все жгучие вопросы, над коими бьется человечество. Достоевский однажды сказал о Белинском: его социалистические убеждения — только простейшая вера в чудесную жизнь «в неслыханном величии, <... > на новых и уже адамантовых основаниях»[236]. Поскольку и Герцену когда-то мерещились те же адамантовые основания (хотя вера Герцена отнюдь не была ни простейшей, ни безоговорочной), и поскольку все иллюзии пошли полнейшим прахом во время устрашающих общественных катаклизмов 1848 и 1849 годов — ибо идолы, коим Герцен поклонялся, почти поголовно оказались колоссами на глиняных ногах, — писатель отрекается от собственного прошлого с особенно пылким возмущением; он говорит: мы призываем народные массы подняться и сокрушить тиранию. Но массы всецело равнодушны к личной свободе и независимости, массам подозрителен любой талант: «Массы желают социального правительства, которое бы управляло ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим — им и в голову не приходит»[237]. А выше сказано: «Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку <... >»[238]. С горьким презрением говорит Герцен о монолитных, гнетущих коммунистических идиллиях, о варварском «каторжном равенстве», о «коммунистической барщине Кабе», о варварах, идущих разрушать и расчищать[239].
«Кто покончит [с нами], довершит? Дряхлое ли варварство скипетра или буйное варварство коммунизма, кровавая сабля или красное знамя?'..
<... > Коммунизм приподнял слегка, полушутя свою голову <... >, он едва взял несколько аккордов, но характер своей музыки заявил. <...> Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. <...>
<...> Современный государственный быт с своей цивилизацией погибнут — будут, как учтиво выражается Прудон, ликвидированы.
Вам жаль цивилизации?
Жаль ее и мне.
Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения»*.
Герцена ужасают угнетатели, но и освободители ужасают не меньше. Ужасают потому, что, с его точки зрения, эти люди — светские преемники средневековых инквизиторов;
потому, что всякий, проповедующий обманчиво завершенные, трафаретные схемы, всякий, стремящийся целое человечество обтянуть смирительной рубашкой, как единственно возможным спасением от любых людских невзгод, в конце концов создаст положение, для свободных человеческих существ непереносимое, — ибо другие люди, ничем не уступающие этому «освободителю», тоже хотят иметь и свободу самовыражения, и некую область применения и развития своих способностей и дарований; ибо другие люди способны ценить в окружающих искренность и неповторимость, они способны уважать и чужое — вполне естественное — желание жить, говорить и действовать свободно.
Герцен зовет повадки «освободителей» петрограндиз- мом — поведением, характерным для Петра Великого. Герцен восхищается Петром Великим. Восхищается оттого, что Петр, по крайности, сокрушил феодальную косность — осветил, как выражается Герцен, темную ночь средневековой Руси. Герцен восхищается и якобинцами — оттого, что якобинцы посмели делать хотя бы что-то, а не сидели, сложа руки. Но все же он отчетливо — чем дальше, тем отчетливее — сознает (и с поразительной ясностью говорит об этом в посланиях «К старому товарищу» — Бакунину, — написанных на исходе 1860-х): петрограндизм, замашки Аттилы, действия Комитета Общественного Спасения в 1792 году — использование методов, предполагающих наличие решений простых и радикальных, — неминуемо приводят к угнетению, кровопролитию и краху. Герцен утверждает: чем бы ни оправдывались в прежних, более простодушных веках действия, вызванные фанатической, нерассуждающей верой, — никто из живущих в девятнадцатом столетии и по-настоящему ведающих, «из чего сделано» человечество, то есть знающих всю сложнейшую натуру людскую и все безнадежно запутанное строение общественных учреждений, не имеет права действовать подобным образом.
Прогресс обязан считаться с истинным темпом исторических перемен, с истинными экономическими и общественными нуждами, поскольку раздавить буржуазию путем кровавой революции (хоть и нет на свете ничего презреннее буржуазии, а уж парижская финансовая буржуазия — алчная, скаредная, филистерская — презреннее любой иной) прежде, нежели богатый и тупой обыватель доиграет свою историческую роль до конца, значит всего лишь одно: буржуазный дух и буржуазное устройство уцелеют и воспрянут при новых общественных порядках. «...Они [революционеры] бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились; они нашли в себе силу порвать железные, грубые цепи, не замечая того, что стены тюрьмы остались. Они хотят, не меняя стен, дать им иное назначение, как будто план острога может годиться для свободной жизни»[240]. Дома свободных людей не должны возводиться архитекторами, понаторевшими только в строительстве тюрем. И кто скажет, будто история опровергла герценовские слова?
Ненависть Герцена к буржуазии была неистовой, однако Александр Иванович вовсе не желал кровопролитных катаклизмов. Он понимал, что потрясения могут грянуть, и считал их почти неизбежными — и страшился их. Буржуазия казалась писателю толпой Фигаро — только разжившихся достатком и разжиревших. В восемнадцатом столетии, восклицает Герцен, «Фигаро был вне закона, в наше время Фигаро — законодатель; тогда он был беден, унижен, стягивал понемногу с барского стола и оттого сочувствовал голоду и в смехе его скрывалось много злобы; теперь его Бог благословил всеми дарами земными, он обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством. У обоих Фигаро общее — собственно одно лакейство <... >»[241]. Сегодня Фигаро победил. Сделался миллионером. Фигаро — судья, главнокомандующий, президент республики. Фигаро правит миром. «Но осторожных правил своих Фигаро не оставил: его начали обижать — он подбил чернь вступиться за себя и ждал за углом, чем все это кончится; чернь победила — и Фигаро выгнал ее в три шеи <... >.
Добыча досталась ему — и Фигаро стал аристократом — граф Фигаро-Альмавива, канцлер Фигаро, герцог Фигаро, пэр Фигаро. <... > Буржуа <... > выдумали себе нравственность, основанную на арифметике, на силе денег, на любви к порядку»[242]. «<... > Из-под ливреи Фигаро старого виден человек, а из-под черного фрака Фигаро нового проглядывает ливрея, и, что хуже всего, он не может сбросить ее, как его предшественник, она приросла к нему так, что ее нельзя снять без его кожи»[243].
Все ничтожное и омерзительное, что существовало в восемнадцатом веке, все, против чего подымались благородные революционеры, стало плотью и кровью жалких обывателей — мещан, дорвавшихся до власти и подмявших остальное человечество. Следует набираться терпения. Просто срубать буржуазные головы, как того хотел Бакунин, означало бы породить новую тиранию и новое рабовладение — ибо мятежное меньшинство примется помыкать большинством; или еще хуже: большинство — монолитное большинство — примется помыкать меньшинством, а править бал начнет, как выразился Джон Стюарт Милль, «сплоченная посредственность» — Герцен считал это определение верным и заслуженным.
Предпочтений своих Герцен отнюдь не скрывал: ему нравились только нравственные черты, присущие свободным людям — широким, щедрым, нерасчетливым натурам. Он восхищается гордыми, независимыми противниками тирании; он восхищается Пушкиным, ибо тот был дерзок; он восхищается Лермонтовым, ибо Лермонтов отваживался и страдать, и ненавидеть; он даже одобряет славянофилов, реакционных своих противников, ибо те, по крайности, не выносят власть предержащих, ибо, по крайности, славянофилы не дозволят немцам разгуляться в России.
Он восхищается Белинским, ибо тот был неподкупен и говорил правду прямо в лицо могущественным германским ученым и политикам, целыми батальонами строившимся перед ним в боевой порядок. Социалистические догмы казались Герцену столь же удушливыми, сколь и капиталистические или средневековые.
Больше всего ненавидел он самовластие формул — подчинение человеческих существ порядкам и правилам, которые установлены путем дедуктивных выводов из неких априорных принципов, не имеющих опоры в накопленном жизненном опыте. Вот почему он так отчаянно страшился новых «освободителей». «Когда бы люди захотели, вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя; вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества!»[244]Герцен понимал, что в его же собственных непрестанных призывах к большей личной свободе содержится семя общественного распада, что две насущные общественные потребности — в организованности и в личной свободе — следует как-то примирить, отыскать меж ними точку зыбкого равновесия, дозволяющего сохранить хотя бы некую предельно ограниченную область, в коей личность может выразить себя, не рискуя немедленно погибнуть; Герцен всячески защищает то, что зовет ценностью эгоизма.
Он пишет: одна из величайших общественных опасностей — укрощение и подавление личности бескорыстными поборниками идеализма, орудующими во имя человеколюбия, во имя того, чтобы подавляющее большинство было счастливо. Новые освободители весьма изрядно смахивают на инквизиторов, стадами гнавших на костер ни в чем не повинных испанцев, итальянцев, голландцев, бельгийцев, французов, а затем расходившихся по домам — с ощущением честно исполненного долга, совершенно спокойной совестью, запахом паленой людской плоти, надолго остававшимся где-то в ноздрях, — и почивавших сном праведников, сознавая, что потрудились на славу. «Сколько невинных немцев и французов погибло так, из вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняли свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики»[245]. Эгоизма нельзя осуждать безоговорочно. Эгоизмом сверкают глаза животного. Поборники нравственности мечут громы и молнии, кляня эгоизм, — а следовало бы с толком использовать его. Поборники вящей нравственности желают разрушить великую внутреннюю твердыню людского достоинства. Они желают обратить людей слезливыми, бесцветными, сентиментальными, приторно добродетельными тварями, по собственной воле рвущимися в рабство. Но искоренить эгоизм в сердце человеческом значит обобрать человека, лишить его жизненных устоев, выхолостить самую суть человеческой личности. По счастью, это немыслимо. Разумеется, самоутверждение равняется иногда самоубийству. Нельзя в одиночку рваться вверх по лестнице, по которой уже спускается навстречу целое войско. Впрочем, так поступают консерваторы, болваны, тираны и преступники. «Уничтожьте в человеке общественность, и вы получите свирепого орангутанга; уничтожьте в нем эгоизм, и из него выйдет смирное жоко»[246].
Слишком сложны и запутаны вопросы, мучающие человечество, чтобы давать на них простые ответы. Даже русская крестьянская община, которую Герцен столь убежденно считал «громоотводом», поскольку верил, что русский мужик, по крайности, не заражен и не отравлен уродливыми городскими пороками европейского пролетариата и европейской буржуазии, — даже крестьянская община, говорит Герцен, отнюдь не спасла Россию от рабства. Большинству людей свобода не по нутру — свобода нужна только людям просвещенным. К общественному благополучию не существует надежных, «царских» путей. Нужно стараться изо всех сил — однако всегда возможны оплошность и крах.
Стержнем вышеизложенной мысли является убеждение: самые главные вопросы, видимо, неразрешимы начисто;
можно лишь пытаться разрешить их, однако ни панацеи, предлагаемые социалистами, ни какие-либо иные умопостроения не дают ни малейшей уверенности в том, что счастье или разумный порядок достижимы вообще — ив частной, и в общественной жизни. Это необычайное сочетание идеализма и скепсиса — хоть и чрезмерно страстное, однако довольно схожее с воззрениями Эразма Роттердамского, Монтеня, Монтескье — наблюдается во всех герценовских сочинениях.
Герцен писал романы и повести; большей частью они уже забыты, поскольку автор не родился романистом. Художественная проза Герцена по всем статьям уступает произведениям его друга Тургенева — но все же имеет с ними и нечто общее. Читая тургеневские романы, вы обнаружите, что и Тургенев не считал человеческие беды и невзгоды преходящими либо устранимыми. Базаров из «Отцов и детей» страдает и умирает; Лаврецкий из «Дворянского гнезда» пребывает под конец в меланхолической растерянности — не оттого, что не сделано чего-то спасительного и могшего быть сделанным, не оттого, что где-то рядом витало в воздухе готовое решение, о котором просто никто не подумал вовремя или не пожелал им воспользоваться, но потому, что, по верному замечанию Канта, «из столь кривой тесины, как та, из которой сделан человек, нельзя сделать ничего прямого»[247]. Всему виною отчасти обстоятельства, отчасти натура людская, отчасти природа самой жизни. С этим нужно считаться, это следует утверждать — и просто вульгарно, а подчас и преступно думать, будто всегда и всему отыщется надежное, окончательное решение.
Герцен сочинил роман «Кто виноват?» — о типичном любовном треугольнике: «лишний человек», из упоминавшихся мною ранее, увлекается замужней провинциалкой, чей супруг — добродетельный, однако скучный и простодушный идеалист. Роман отнюдь не хорош, сюжета пересказывать незачем, но главная мысль его чрезвычайно характерна для Герцена: положение героев, по сути своей, безвыходно. Сердце влюбленного разбито; замужняя особа заболевает и, быть может, умрет; муж обдумывает самоубийство. Может почудиться, что перед нами угрюмая, извращенно эгоцентрическая карикатура на русский роман. Это не так. Ибо книга основывается на чрезвычайно тонком, точном, а временами очень проницательном описании психологического и эмоционального состояния, к которому неприменимы теории Стендаля, методы Флобера, глубина и нравственная зоркость английской писательницы Джордж Элиот, — потому что здесь их воззрения будут выглядеть слишком литературными, покажутся порождениями навязчивых идей, этических учений, несовместимых с жизненным хаосом.
Герценовское (и тургеневское) мировоззрение основывается на том, что наиважнейшие вопросы, стоящие перед человечеством, чрезвычайно сложны и потому ответов не имеют; бессмысленно даже пытаться решать их политическими либо социологическими средствами. Но есть меж Герценом и Тургеневым различие. В наисокровеннейшей душевной глубине своей Тургенев — отнюдь не бессердечный, а просто хладнокровный, бесстрастный, временами чуть насмешливый наблюдатель, глядящий на житейские трагедии как бы издалека, меняющий углы, под коими созерцает жизнь, колеблющийся между требованиями общественными и личными, любовными и повседневными, героической добродетелью и реалистическим скепсисом, нравственностью Гамлета и нравственностью Дон-Кихота, необходимостью разумной политической организованности и необходимостью личного самовыражения; Тургенев пребывает в состоянии блаженной нерешительности, сочувственной меланхолии; он ироничен, свободен от цинизма и сентиментальности, восприимчив, скрупулезно честен, чужд предпочтениям. Тургенев не был ни вполне верующим человеком, ни законченным безбожником; религия для него — естественная составная часть бытия, подобно любви, эгоизму или чувству наслаждения. Писателю нравилось пребывать в своего рода промежуточном положении; пожалуй, он даже радовался, что не имеет достаточной силы воли для истинной веры; а поскольку Тургенев держался поодаль от житейской суеты и созерцал безмятежно, ему удавались великие, полностью законченные литературные шедевры, отчеканенные романы, повести и рассказы, написанные в мирном тоне, ретроспективно; их композиция безупречна от начала до конца. Тургенев отделял свое искусство от себя самого; чисто по-человечески он мало заботился о решениях всевозможных незадач; он обозревал бытие с необычайным спокойствием, возмущавшим и Толстого и Достоевского — и обладал изощренной зоркостью, присущей художнику, что всматривается в натуру, находясь на известном расстоянии от нее. Меж Тургеневым и его материалом — зияющая пропасть, и только благодаря наличию этой бездны возможно было тургеневское поэтическое творчество.
Герцена же, напротив, одолевала великая забота. Он искал решений ради себя самого, ради собственной частной жизни. Романы его, разумеется, неудачны. Автор слишком решительно врывается в повествование, излагая выстраданные свои взгляды. С другой стороны, автобиографические заметки, где Герцен пишет о себе самом и своих друзьях, повествует о своей жизни в Италии, Франции, Швейцарии, Англии, исполнены трепетной прямоты, непосредственности, живости — начисто недосягаемых для всех прочих прозаиков девятнадцатого столетия. Герценовские воспоминания — произведение гениальное по изобразительной и критической силе; достичь подобной искренности — абсолютной, саморазоблачающей — мог только писатель, наделенный поразительно могучим воображением и впечатлительностью, с готовностью откликающийся на все окружающее, исключительно чуткий и к благородному, и к смехотворному, на редкость свободный от всякого тщеславия и твердокаменных предрассудков. Как автор воспоминаний, Герцен равных не знает. Его записи об Англии — точнее, о собственной жизни в Англии — гораздо лучше записок Гейне или Ипполита Тэна. Убедиться в этом несложно: прочитайте хотя бы изумительный отчет о политических судебных процессах, о том, например, какими казались Герцену английские судьи, разбиравшие дело иноземных заговорщиков, устроивших в Большом Виндзорском парке дуэль со смертельным исходом. Живо и занимательно изображает Герцен и громогласных французских демагогов, и угрюмых французских фанатиков, и бездонную прорву, отделяющую это взволнованное и немного карикатурное эмигрантское сообщество от окружающей викторианской Англии — скучной, ледяной и напыщенной, типически представленной образом главного судьи в уголовном суде Олд-Бэйли — человека, смахивающего на Волка из «Красной шапочки», истукана, венчанного напудренным париком, облаченного долгополой мантией, по-волчьи остролицего, тонкогубого, зубастого; Герцен приводит резкие короткие слова, которые он роняет с притворным благодушием; личико судьи обрамлено чисто дамскими кудряшками, судья смахивает на добрую, заботливую старушку из хорошей семьи — и выдают его только маленькие, хищно сверкающие глазки да сухой, язвительный, безжалостный судейский юмор.
Герцен пишет классические портреты немецких изгнанников, коих не выносил, итальянских и польских революционеров, которыми восхищался, быстрыми набросками отображает различие меж такими народами, как англичане и французы — обе нации считают себя наивеличайшими, не уступают друг другу ни пяди, и напрочь отказываются друг друга разуметь: французы — с их стадностью, с их ясным сознанием, страстью наставлять и поучать, с их опрятно разбитыми парками, где все деревья подстрижены, — являют противоположность англичанам — с их любовью к уединению, с их романтизмом, таящимся где-то в глубине души, с их парками, порастающими густым подлеском и столь же непроходимыми, сколь и непроницаемо запутанные, чуждые логике, но глубоко цивилизованные и гуманные английские установления и учреждения. А немцы, пишет Герцен, глядят на себя самих, как на зеленые плоды того же древа, на котором румянятся и наливаются отменные плоды английские; немцы приезжают в Англию и три дня спустя «говорит "yes", вместо "ja"> и "well", там где ничего не надобно говорить»[248]. И Герцен, и Бакунин неизменно приберегают наиязвительнейшие насмешки для немцев — не столько из чисто человеческой неприязни к ним, сколько потому, что немцы, якобы, олицетворяют махровое мещанство, люто враждебное разуму и свободе, ханжеское и неотесанное; Германия — гнусная деспотия серых, тупых унтер-офицеров, эстетически она отвратительнее, чем любая прославленная и блистательная тирания благородных завоевателей — средневековых или давних. «Наше преимущество перед ними — в нашей могучей силе, в известной широте надежд. Там, где их останавливает сознание, нас останавливает жандарм. Арифметически слабые, мы уступаем; их же слабость — алгебраическая, она в самой формуле»[249]. Десятилетием позже Герцену вторит Бакунин: «Правда, что англичанин или американец, говоря: "я — англичанин", "я — американец" говорят этим словом: "я—человек свободный"; немец же говорит: "я — раб, но зато мой император сильнее всех государей, и немецкий солдат, который меня душит, вас всех задушит" <... > ...У каждого народа свои предпочтения — немцы без ума от своей государственной дубины»[250].
Столь убийственная предвзятость, побуждающая к диатрибам против целых народов и классов, — отличительная черта многих русских писателей той эпохи. Зачастую их обвинительные речи необоснованны, несправедливы — и донельзя очерняют предметы нападок, — но всегда совершенно искренни: авторы изливают неудержимый гнев на удушливую и пошлую общественную среду; сугубо честно выраженные частные мнения делают подобные тексты захватывающе интересными и поныне.
Герценовская непочтительность, герценовская ирония, герценовское неверие в окончательные решения, убеждение в том, что человек — существо сложное и хрупкое, что сама беспорядочность людского устройства есть великая ценность, что стискивать ее тесными рамками либо смирительной рубашкой значит вершить надругательство над нею — все это, и неукротимое удовольствие, с которым Герцен вдребезги разносит шаблонные схемы, общественные и политические, непрерывно изобретавшиеся насупленными, педантичными «спасителями» и «освободителями» человечества — и консерваторами и радикалами, — не стяжали писателю особой любви среди решительных и твердокаменных деятелей, имевшихся в обоих станах. Тут Герцен весьма схож со своим скептическим другом Тургеневым, не могшим — да и не желавшим — укрощать свое стремление к художественной правде, сколь бы «ненаучной» та ни казалась, обуздывать желание поведать нечто психологически верное, даже если оно и не совмещается с общепринятыми, обоснованными вдоль и поперек идейными системами. Ни тот, ни другой не считал, что, будучи на стороне прогресса либо революции, обязан всеми силами скрывать истину, или делать вид, будто истина проще, чем она есть, или что некие решения приемлемы — хотя и слепому видно: решения эти никчемны; притворяться таким образом означало бы изобильно лить воду на вражескую мельницу.
Эта отрешенность от политических партий и доктрин, эта склонность выносить полностью независимые, временами «возмутительные» суждения сделала и Тургенева и Герцена предметами яростных нападок, поставила обоих в нелегкое положение. Тургенева, написавшего «Отцов и детей», исправно бранили и справа и слева — ибо нельзя было решить, на чьей же стороне обретается сам автор. Эта неопределенность особенно раздражала «новую» русскую молодежь, поносившую Тургенева за то, что писатель слишком либерален, слишком хорошо воспитан, слишком ироничен, слишком недоверчив, — за то, что подрывает благородные идеалистические устои, постоянно меняя политические пристрастия, за то, что слишком уж копается в собственной душе, не желая разражаться боевым кличем и кидаться на врага, — вместо всего этого, твердила «прогрессивная молодежь», Тургенев непрестанно виляет, юлит и совершает мелкие предательства. Эта злоба изливалась на всех без исключения «людей из 1840-х» — в особенности, на Герцена, коего обоснованно числили самым блистательным и грозным их представителем. Герценовский ответ наглым и грубым революционерам-шестидесятникам чрезвычайно характерен. Народолюбцы нового образца нещадно и напропалую ругали писателя за тоску по прежнему обиходу и укладу, за дворянское происхождение, за богатство, за жизнь в уюте и в удобстве; попрекали Герцена и пребыванием в Лондоне, и созерцанием русской революционной борьбы издалека, и принадлежностью к поколению, праздно болтавшему в салонах, мыслившему и философствовавшему среди якобы окружавшей со всех сторон русской мерзости да нищеты, горечи да несправедливости; за нежелание искать спасения в мужицком, «серьезном» труде: сруби дерево, стачай пару сапог, сделай что-нибудь «конкретное» и ощутимое, дабы влиться в ряды страдающих масс, а не веди в светских гостиных бесконечные смелые беседы с тебе подобными — отлично воспитанными, хорошо образованными, ни на что не годными дворянами! — революционеры-шестидесятники не прощали писателю ни слабостей, ни жизни вдали от суеты, ни того, что Герцен, по их словам, намеренно закрывал глаза на «ужасы и муки» российского мира.
Противников своих Герцен разумел хорошо, и отнюдь не шел на компромиссы. Он признает: себя не переделаешь; мерзости и грязи предпочитаю чистоту; пристойность, изысканность, красоту и уют безусловно предпочитаю злобе, насилию и аскетизму; хорошую литературу ставлю выше плохой, а поэзию — выше прозы. Хоть и упрекали Герцена в цинизме и «эстетстве», писатель отказывается признавать, что лишь негодяи да прохиндеи способны добиться чего-либо, что совершить революцию, освободить страждущее человечество и построить новую, более благородную земную жизнь лишь и возможно, будучи оборванным, грязным, свирепым и беспощадным скотом, попирающим сапожищами всякую цивилизацию и все человеческие права. Герцен в подобное не верит — и не видит никакого резона верить в подобное.
Что до нового поколения революционеров, то оно вовсе не взялось ниоткуда: его зачало и породило поколение самого Герцена — своими вольнодумными салонными беседами, ведшимися в 1840-х. И молодая поросль — «сифилис нашей революционной блудни»[251] — смачно и напропалую сводила счеты с людьми 1840-х, ненавистными «белоручками». Новое поколение «назло» и «в отместку» кричало старому: «Вы лицемеры — мы будем циниками; вы были нравственны на словах — мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими — мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, — мы будем толкаться, не извиняясь; <... > мы за честь себе поставим попрание всех приличий»[252]. Повествуя о «новых людях», Герцен, в сущности, предупреждает: организованным хулиганством не добьешься ничего. Ибо, коль скоро исчезнет цивилизация, признающая различие меж добром и злом, благородством и низостью, достоинством и подлостью, коль скоро не станет людей утонченных, бесстрашных и свободно говорящих то, что находят нужным сказать, — людей, не кладущих своей жизни на громадный безымянный жертвенник, не растворяющихся в несметной, безликой, серой массе тупых варваров, идущих «разрушать и расчищать», — зачем тогда вообще нужна революция? Конечно, революция может прийти независимо от нашего желания или нежелания. Но с какой стати нам приветствовать ее? Тем паче, с какой стати нам работать ради победы варваров, которые сметут и разрушат ненавистный им старый «мир насилья» до основания, дабы на окровавленных развалинах построить свой, новый мир — уже по-настоящему чудовищную деспотию? «Великий обвинительный акт, составляемый русской литературой против русской жизни»[253] вовсе не призывает заменить прежнее филистерство новым: «Грусть, скептицизм, ирония <... > три главные струны русской лиры»[254] куда ближе к действительности, чем грубая и пошлая жизнерадостность новейших материалистов.
Упорнее всего призывал и стремился Герцен к сохранению личной свободы. Ради личной свободы и вел он с юных лет, как однажды сказал в письме к Мадзини, маленькую партизанскую войну. Сложное мировоззрение и глубина, с которой писатель понимал причины и природу идеалов, противоречащих друг другу — причем, более простых ифундаменталь- ных, нежели его собственные, — делают Герцена единственным в своем роде человеком девятнадцатого столетия. Он понимал, из чего «сделаны» радикалы и революционеры — и что до известной степени даже оправдывает их, — но в то же время разумел ужасающие выводы из их учений и предвидел жуткие последствия этих доктрин. Он полностью сочувствовал тем душевным порывам — и глубоко понимал те душевные порывы, которые придавали якобинцам их суровый и благородный блеск, наделяли их нравственным величием, возносили их высоко над окоемом старого мира, столь привлекательного для Герцена и столь беспощадно растерзанного якобинцами. Он слишком хорошо знал, что при ancien regime[255] царили нищета, гнет, подавление, страшная бесчеловечность; он мысленно слышал, как молят о справедливости задавленные слои тогдашнего общества — и одновременно ведал: если «мстителю суровому», поднявшемуся воздавать за совершенные прежде злодейства, дать волю, то новый мир окажется еще ужаснее прежнего, а миллионы людей займутся бессмысленным взаимным уничтожением. Герценовское понимание действительности — особенно понимание того, что революция и нужна, и вместе с тем обойдется невыносимо, непомерно дорого, — не имело равных ни в тогдашнюю эпоху, ни, возможно, в любую иную. Герценовское понимание важнейших нравственных и политических вопросов несравненно глубже и определеннее, чем то, что было свойственно большинству искушенных философов девятнадцатого столетия, стремившихся делать некие общие умозаключения из наблюдений над современным им обществом и рекомендовать решения, выводившиеся рациональными способами из предпосылок, что формулировались в согласии с опрятными философскими категориями и должны были, предположительно, упорядочить взгляды, принципы и виды человеческого поведения. А Герцен — писатель, чьего таланта не смогло изуродовать даже раннее увлечение гегельянством, — отнюдь не имел вкуса к сухой академической классификации, зато обладал исключительной зоркостью, дозволявшей заглядывать в самые глубины общественных и политических неурядиц; кроме того, Герцен был несравненным аналитиком, а выводы свои умел излагать безукоризненно. И разум и чувства его были на стороне революции, необходимость которой он понимал и отстаивал, он готов был согласиться с тем, что пара сапогов ценнее всех шекспировских пьес (так, в очередном припадке словоизвержения, изрек однажды критик- «нигилист» Писарев)[256], он обличал парламентское правление и либерализм, предлагавшие массам право голоса и лозунги в то время, как массам нужны были прежде всего еда, одежда и крыша над головой, — но все же не менее живо и ясно разумел, насколько эстетически — и даже нравственно — ценны цивилизации, основанные на рабстве, цивилизации, в которых меньшинство создает божественные шедевры, в которых лишь немногие избранные, обладающие свободой и уверенностью, воображением и талантами, способны и утверждать надежный, долговечный жизненный уклад, и оставлять потомству произведения, что служат своеобразными опорами, не дозволяющими нашей собственной, нынешней, эпохе развалиться на части и рассыпаться прахом.
Это занятное двоемыслие, чередование пылкой приверженности революционному и демократическому делу, пылких возражений бранящим его либералам и консерваторам со столь же пылкими нападками на революционеров, попирающих свободу личности, с выступлениями в защиту искусства и живой жизни, человеческой воспитанности, равенства, достоинства; с призывами построить общество, где существа человеческие не станут эксплуатировать друг друга и наступать друг другу на горло даже во имя справедливости, или прогресса, или цивилизации, или народовластия, или каких угодно иных абстрактных понятий — эта война, ведшаяся на два фронта (иногда и больше) везде, где могли поднять головы противники свободы, — делает Герценасамым трезвомыслящим, восприимчивым, проницательным и надежным свидетелем тогдашней общественной жизни и общественных забот. Величайшим герценовским талантом была способность видеть насквозь и понимать до конца: ему ясна была ценность «лишних людей», российских идеалистов 1840-х годов — ибо эти люди, обладавшие исключительной внутренней свободой и нравственной притягательностью, образовывали наиболее яркий, искренний, воспитанный, интересный общественный слой изо всех, известных Герцену. В то же время писатель понимал и раздраженных, суровых revokes — молодых радикалов, яростно ополчавшихся на эту прослойку, питавших отвращение к тому, что считалось у них беспечной, безответственной болтовней аристократических flaneurs, якобы знать не желавших о нарастающем гневе угрюмых крестьянских толп и пригнетаемых мелких чиновников, — людей, которым предназначено в один злосчастный день смести вон и прочь как «досужих аристократов», так и весь их мир, смести громадной волной слепого, нерассуждающего бешенства; и задача революционера — всячески подогревать и направлять лютую народную ненависть. Герцен понимал это противоречие, и воспоминания герценовские повествуют о натянутых до предела отношениях меж частными лицами и общественными классами, личностями и бытующими суждениями — как в России, так и на Западе — изумительно ярко и живо.
— Примечание
«Былое и думы» написаны без единой, недвусмысленно выраженной цели, ничего определенного и цельного не проповедуют; автор не пребывает в рабстве у каких-либо политических доктрин или формул — оттого-то перед нами великий и невянущий шедевр, герценовский «паспорт к берегам вечности»[257]. Имеются у Герцена и другие паспорта: его политические и общественные воззрения были необыкновенно своеобразны — уже по одному тому, что Герцен числитсясреди немногих мыслителей той эпохи, начисто отвергавших любые общие решения стоявших перед человечеством задач и на редкость ясно понимавших разницу между словами, сказанными по поводу слов, и словами, произнесенными по поводу живых людей и настоящих предметов. Но бессмертен Александр Иванович именно как писатель. Его автобиография — один из блистательных нерукотворных памятников русского литературного гения, стоящий вровень с великими романами Тургенева и Толстого. Это, подобно «Войне и миру», подобно «Отцам и детям», — захватывающее чтение, доныне остающееся (коль скоро не открывать неудачных старых — особенно, «викторианских» переводов на английский язык) поразительно современным по своему звучанию.
Одна из составных частей политического гения — чуткость к отличительным свойствам общества и развивающимся в нем процессам — еще пребывающим в зародыше, незримым невооруженному глазу. Такой чуткостью Герцен обладал в высокой степени, однако на грядущий катаклизм не глядел ни с дикарским восторгом Бакунина и Карла Маркса, ни с унылой отрешенностью Буркгардта или Токвилля. Он, подобно Прудону, находил уничтожение личной свободы нежелательным и не считал его неизбежным; но, в отличие от Прудона, полагал, что угроза этого уничтожения весьма велика, и отвратить ее возможно лишь упорным и людскими усилиями. Крепкая традиция свободолюбивого человеколюбия, присущая русскому социалистическому движению и окончательно пресекшаяся только в октябре 1917 года, была заложена Герценом в его сочинениях. Герценовский анализ общественных сил, проявлявшихся в тогдашнюю эпоху, людей, эти силы олицетворявших, нравственные предпосылки их слов и дел — равно как и герценовский разбор собственных убеждений — поныне остаются одним из наиболее проницательных, сильных и нравственно неопровержимых обвинений, адресованных великому злу, только в наши дни достигшему полной, «матерой» зрелости.
Народничество
ародники — не имя некой политической партии, а народничество — не название связной и последовательной доктрины: это просто радикальное движе
ние, широко распространившееся по русской земле в середине девятнадцатого столетия. Оно зародилось во время великого брожения умов, последовавшего за унизительно проигранной Крымской войной и кончиной Императора Николая I, оно стало знаменитым и влиятельным в 1860-е и 1870-е годы, привело на вершине своего развития к убийству Императора Александра И, — а потом быстро увяло. Вожаки народничества происходили из самых разных общественных слоев, имели самые несхожие воззрения и самые несопоставимые способности; народничество никогда не было чем-то помимо более-менее случайного скопления малых независимых кружков, образовывавшихся как заговорщиками, так и сочувствующими; случалось, кружки временно объединяли усилия, случалось, орудовали независимо друг от друга. Взгляды членов этих ячеек на стоявшие перед ними цели и на средства, этими целями оправдываемые, чаще всего не совпадали.
Но все же, у народников имелись и кое-какие общие фундаментальные убеждения, и достаточная сплоченность — политическая и нравственная, — а потому возможно звать народничество единым движением. Подобно предтечам — заговорщикам-декабристам 1820-х годов и людям, окружавшим в 1830-х и 1840-х Герцена и Белинского, — народники считали русское правительство и общественное устройство политически и нравственно чудовищными — варварскими, глупыми и ненавистными пережитками прошлого, — и не щадили сил ради полного их уничтожения. Вообще говоря, основные народнические идеи нимало не отличались оригинальностью. Народники разделяли демократические воззрения тогдашних европейских радикалов, а вдобавок числили социальную и экономическую классовую борьбу решающим политическим фактором; последнее теоретическое положение заимствовали не в марксистской трактовке (до 1870-х годов русские почти ничего не слыхали о Марксе), а в том виде, в каком его представляли Прудон и Герцен, а еще ранее — Сен-Симон, Фурье и прочие французские социалисты и радикалы, чьи сочинения, к тому времени, уже несколько десятков лет просачивались в Россию — легальными и нелегальными путями — понемногу, но без перерывов.
Теория, гласящая, что общественной историей движет классовая борьба — причем, стержнем теории, на который нанизывается все прочее, служит мысль: «имущие» угнетают «неимущих», — возникла в ходе западной промышленной революции, а самые характерные термины, используемые этой школой мысли, восходят к периоду первоначального накопления. Общественные классы, капитализм, жесточайшая конкуренция, пролетариат, эксплуататоры, пагубная власть непроизводительного финансового капитала, неизбежно возрастающая централизация, обезличивание любой деятельности, превращение человека в товар и последующее «отчуждение» отдельных личностей и целых обществ, постепенное вырождение — все перечисленные понятия вполне вразумительны только в контексте непрестанно ширящегося промышленного производства. Россия даже в 1850 годы была одной из наименее промышленно развитых европейских держав. Но эксплуатация и нищета издавна были среди самых привычных и общепризнанных черт общественной русской жизни, а главными жертвами системы становились крестьяне — крепостные и свободные, — чья численность примерно равнялась девяти десятым всего населения. Правда, уже возникал и промышленный пролетариат, но к середине девятнадцатого столетия численность его не превышала двух или трех процентов от общего населения Империи. Оттого угнетенными, образовывавшими низший общественный слой, и в это время по-прежнему считались преимущественно крестьяне — в большинстве своем крепостные или государственные. Народники глядели на крестьян, как на мучеников, чьи страдания и обиды они твердо вознамерились отмстить и прекратить; в мужике усматривали воплощение всевозможных почвенных добродетелей и считали, что сельская община (в огромной степени идеализированная этими «народными заступниками») служила естественным фундаментом, на коем надлежало возводить российское будущее.
Главными целями народников были социальная справедливость и равенство. Большинство убежденно твердило вслед за Герценом, чья «революционная агитация» в 1850-е годы влияла на этих людей больше какого-либо иного учения, что зародыш справедливого общества равных уже являет сельская община или «мир». «Миром» звалось добровольное крестьянское объединение, время от времени заново делившее пахотные земли; «мирской приговор» — то есть решение, вынесенное мирской сходкой, — был обязателен для всех членов общины, служившей, как заявляли народники, краеугольным камнем грядущей федерации самоуправляемых общественных образований — построенной согласно предначертаниям французского социалиста Прудона. Вожаки народничества считали: такая разновидность сотрудничества приведет к появлению в России свободной, демократической социальной системы, берущей начало из глубочайших, природных нравственных устремлений и традиционных обычаев русского — и какого угодно другого — народа; вожаки полагали: трудящиеся (этим словом обозначали всех работников подряд), будь они сельскими или городскими, сумеют построить упомянутую систему без того нещадного насилия и принуждения, что пускали в ход на промышленно развитом Западе. Поскольку система казалась единственной, способной возникнуть из коренных человеческих потребностей, из естественного людского чутья на хорошее и плохое, этой системе всенепременно предстояло принести народу справедливость, равенство и широчайшие возможности для полного расцвета любых дарований. Неминуемым следствием такого взгляда была уверенность народников: развитие крупной и централизованной промышленности «противоестественно», а потому неумолимо заставляет всех, очутившихся в индустриальных щупальцах, опускаться и утрачивать человеческий облик; капитализм называли чудовищным злом, разрушающим тело и душу; но капитализма возможно было избежать. Народники отрицали то, что прогресс — общественный и хозяйственный — безусловно связан с промышленной революцией. Они утверждали: хотя применение научных истин и методов к общественным и личным проблемам (в осуществимость этого народники верили истово) способно привести, и зачастую действительно приводит, к возникновению и росту капитализма, столь погибельное последствие отнюдь не приходит непременно.
Народники считали: наука способна улучшить жизнь, отнюдь не разрушая «природного» сельского бытия, не порождая несметного, нищего, безликого городского пролетариата. Капитализм выглядел непобедимым лишь постольку, поскольку не встречал надлежащего и достаточного сопротивления. Что бы там ни творилось на Западе, но в России «проклятие необъятности»[258] преодолимо, и возможно — как советовали Фурье и Прудон — целенаправленными усилиями сливать воедино малые самоуправляемые общины. Подобно своим французским наставникам, русские ученики люто ненавидели государственные учреждения и установления, поскольку считали их одновременно символом, итогом и главным источником несправедливости и неравенства — оружием, с помощью коего правящий класс, якобы, защищал собственные привилегии, оружием, которое перед лицом усиливавшегося сопротивления со стороны жертв, разило все жестче и разрушительнее.
Поражение либеральных и радикальных движений на Западе в 1848-1849 годах укрепило этих людей в убеждении: спасут народ не политика, и не политические партии — казалось ясным, что ни либеральные партии, ни их предводители не понимали коренных интересов угнетаемого населения своих стран и не предпринимали серьезных попыток пойти навстречу его нуждам. Подавляющему большинству русских мужиков (и европейских рабочих) требовались пища и одежда, обеспеченное повседневное существование, избавление от невежества, нищеты, болезней и унизительного неравенства. А политические права, голосование, парламенты и республики оставались бессмысленны и бесполезны для невежественных, голодных и полунагих варваров: подобные программы являлись чистейшей насмешкой над их убожеством. Народников объединяло с националистами-славянофилами (почти во всем остальном их политические взгляды не совпадали) омерзение к строго соблюдаемому классовому разделению, принятому на тогдашнем Западе, благодушно принимаемому и с жаром одобряемому соглашателями- буржуа и бюрократами, перед коими буржуазия заискивала.
Знаменитым разговором немецкого и русского мальчиков[259] сатирик Салтыков-Щедрин обессмертил этот взгляд: писатель всецело верит в русского ребенка, оборванного, голодного, катающегося в грязи и мерзости по вине «проклятого и рабовладельческого царского режима», ибо этот ребенок, в отличие от опрятного, послушного, самодовольного, упитанного, с иголочки одетого немчика, не продавал своей души за грош, полученный от прусского чиновника, и потому способен — в отличие от немчика, навсегда утратившего такую способность, — однажды обрести достоинство и выпрямиться в полный человеческий рост. Россия телесно пребывала во мраке и в оковах, но дух ее оставался вольным; российское прошлое виделось черным, однако российское будущее сулило больше, нежели прижизненная смерть, зовущаяся жизнью у цивилизованных обывателей — немецких, французских и английских, давным-давно продавших себя со всеми потрохами за сытость и достаток, отупевшими в позорнейшем добровольном холопстве до последней степени, уже напрочь позабывшими, как вообще можно стремиться к свободе.
Народники расходились со славянофилами еще и оттого, что не верили в особенное предназначение русского человека. Мистическими националистами они отнюдь не были. Они только и знали: Россия — отсталая страна, еще не достигшая той стадии общественного и хозяйственного развития, где народы западные (неминуемо или намеренно) вступили на путь неудержимой индустриализации. По большей части народники не исповедовали исторического детерминизма — следовательно, верили: страна, чьи обстоятельства столь затруднительны, может избежать похожей участи, явив надлежащее разумение и желание. Народники не видели, отчего Россия не могла бы извлекать выгоду из западной науки и техники, не платя при этом чудовищной цены, которую заплатил Запад. Они доказывали: можно избежать деспотизма, сопутствующего централизованной экономике либо централизованному правлению, создав более свободную, федеральную структуру, состоящую из самоуправляемых единиц общественного устройства — производи- тельских и потребительских.
По народническому суждению, такая организация была бы желательна, если не упускать из виду иных ценностей, не рассматривать упомянутую организацию как самоцель, если руководствоваться в первую очередь этическими и человеколюбивыми, а не экономическими и техническими — то есть «муравьиными» — соображениями. Народники говорили: защита людей от эксплуатации путем превращения их в трудовую армию — «коллектив» — безликих двуногих машин, означала бы поголовную утрату человеческого облика и равнялась бы всеобщему самоубийству. Идеи народничества сплошь и рядом были расплывчаты, меж народниками существовали острые разногласия, но и общего у них имелось немало — довольно, чтобы образовать по-настоящему единое движение. Так, они в общих чертах принимали просветительские и нравственные уроки Руссо — отвергая руссоистскую заповедь о почтении к государству. Некоторые — вероятно, большинство — разделяли веру Жан-Жака во врожденные добродетели простонародья и его же убеждение: растлевают и нравственно калечат мужиков только и единственно скверные государственные установления; вместе с Руссо эти люди презрительно и враждебно смотрели на любых и всяких «умников» и ученых, осуждали все самоизолирующиеся объединения и котерии. Народники принимали анти-политические идеи Сен-Симона, однако не сен- симоновскую проповедь централизованной технократии.
Вместе с Гракхом Бабефом и выучеником его, Буонар- роти, они были приверженцами заговоров и насилия — однако не якобинской авторитарности. Вослед Сисмонди, Прудону, Ламеннэ и прочим создателям понятия о «социальном государстве», как противоположном, с одной стороны, обществу вседозволенности, а с другой — центральной власти, будь она хоть националистической, хоть социалистической, хоть временной, хоть постоянной, проповедуемой хоть Листом, хоть Мадзини, хоть Лассалем, хоть Карлом Марксом. Временами народники вплотную приближались к воззрениям западных христианских социалистов — правда, без их религиозности, — поскольку, подобно французским энциклопедистам предшествовавшего столетия, они верили во «врожденную» нравственность и научную истину. Здесь я перечислил несколько общих крепких убеждений, дававших народникам сплотиться; но и разногласия меж «народными заступниками» были отнюдь не малыми.
Первой и главнейшей из народнических проблем было отношение к крестьянству, во имя коего народники делали все, что делали. Кому надлежало указать мужикам истинную дорогу к справедливости и равенству? Личной свободы народники не осуждали огулом, но рассматривали ее, как либеральную побаску, отвлекающую внимание от насущных общественных и экономических задач. Нужно ли особо готовить наставников, идущих вразумлять меньшую братию — оратаев земли родимой, — а при случае и подстрекать ее к неповиновению властям, к мятежу, к сокрушению старого строя — поскольку грядущие бунтовщики еще далеко не осознали всей необходимости и важности насильственных действий? В 1840-х годах на такой вопрос отвечали утвердительно Бакунин и Спешнев, фигуры, несхожие донельзя; этот же взгляд проповедовал Чернышевский в 1850-х, его пылко рекомендовали Заичневский и «якобинцы-младороссы» в 1860-х; то же самое проповедовали в 1870-е и 1880-е как Лавров, так и его соперники и противники, приверженцы профессионального, дисциплинированного терроризма: Нечаев и Ткачев; придерживались той же школы мысли и последователи этих двоих, среди которых числятся (правда, лишь в этом вопросе) не только социалисты-революционеры (эсеры), но и кое- кто из русских фанатиков марксизма — в частности, Ленин и Троцкий.
Многие опасались, что обучать подобным образом членов революционных ячеек значит создавать высокомерную элиту надменных властолюбцев, людей, согласных (в наилучшем случае) дать крестьянам не то, чего крестьянам хотелось, а лишь то, что полагали нужным самозванные народные заступники и наставники — лишь то, чего массы, по их убеждению, должны были требовать, но или позабыли об этом, или не пожелали... Вопрос начинали задавать без обиняков: не расплодятся ли с течением времени фанатики, почти безразличные к истинным нуждам и чаяниям подавляющего большинства русских людей, свирепо стремящиеся навязывать им только то, что сами фанатики — своеобразный «рыцарский орден» профессиональных революционеров, напрочь отрезанный от народной жизни полученной подготовкой и конспирацией, — предназначали народу, будучи безразличны и глухи к людским надеждам и людскому негодованию. Не кроется ли здесь опасности? Не сменится ли прежнее иго новым, еще худшим — деспотической олигархией кровожадных умников, уничтоживших дворянство, чиновничество и царя? Уверены ли вы, что новые господа не окажутся куда более страшными угнетателями, нежели прежние?
Об этом спорили даже некоторые террористы 1860-х годов — например, Ишутин и Каракозов, — и с гораздо большим жаром препиралось большинство молодых, идеалистически настроенных людей, затевавших в 1870-е и позднее «хождение в народ»: не столько ради того, чтобы поучать, сколько чтобы самим «учиться жить»; их умы вдохновлялись писаниями Руссо (вероятно, еще Некрасова и Толстого) ничуть не меньше, чем книгами непреклонных социальных теоретиков. Эта молодежь, исполненная «вины перед народом», считала себя развращенной — и окружавшим порочным обществом, и полученным либеральным образованием, порождавшим якобы глубокое неравенство, неминуемо возносившим ученых, писателей, профессоров, специалистов — короче говоря, всех разумных, ученых и воспитанных людей — слишком высоко над мужицкой массой и оттого превращавшимся в истинный рассадник несправедливости и классового угнетения; молодежь полагала: все, препятствующее взаимному пониманию отдельных людей, сообществ и народов, создающее и сохраняющее препятствия к человеческой сплоченности и братству, ео ipso[260] является злом; специализация и университетское образование воздвигают преграды меж людьми, не дозволяют личностям и сообществам «единиться», убивают любовь и дружбу, числятся среди главнейших причин, порождающих то, что после Гегеля и гегельянцев окрестили «отчуждением» целых общественных слоев, классов, культур.
Кое-кто из народников исхитрялся игнорировать, обходить изложенный «жгучий вопрос». Например, Бакунин — сам народником не бывший, но глубоко повлиявший на все народничество — призывал не доверять ни «умникам», ни специалистам: дескать, это может окончиться наигнуснейшей тиранией, владычеством ученых и педантов; тем не менее, Бакунин уклончиво избегал отвечать на вопрос: надлежит революционеру поучать других или учиться у них самому? Не ответили на вопрос ни террористы из «Народной воли», ни приспешники народовольцев. Чуть более чуткие и нравственно чистые мыслители — например, Чернышевский и Кропоткин — разумели, насколько этот выбор тяжек, и даже не старались обманываться на сей счет: каждый раз, вопрошая себя о том, по какому праву они собираются навязать либо ту, либо другую систему общественной организации мужицкой массе, росшей в совсем иных условиях — на свой лад, возможно, отнюдь не худших и порождающих ценности едва ли не большие, чем знакомые народникам, — ни Чернышевский, ни Кропоткин не давали себе ответа ясного. Положение стало еще неразрешимее, когда (в 1860-е годы и впоследствии) все чаще начал возникать вопрос дополнительный: а что делать, ежели крестьяне окажут настоящее сопротивление революционерам, замыслившим освободить их? Следует ли обманывать народные массы, или — хуже того — насильно гнать их к освобождению? Никто не спорил: в конце концов, управлять страной следует народу, а не сливкам революционного движения — но пока что было непонятно: сколь же далеко дозволено заступнику народному зайти в безразличии к желаниям и устремлениям большинства? Сколь далеко имеет он право гнать упомянутое народное большинство по путям, ненавистным народу совершенно явно?
Задача была отнюдь не академического свойства. Первых же заядлых приверженцев радикального народничества — «проповедников», учинивших достопамятным летом 1874-го «хождение в народ», — чаще всего встречали безразличием, недоверием, негодованием, а иногда ненавистью и ощутимым сопротивлением: крестьянам вовсе не требовались подобные благодетели, коих сплошь и рядом хватали и передавали в руки полиции. Народники оказались вынуждены определить собственное отношение к поставленному вопросу недвусмысленно, ибо страстно верили в необходимость оправдать свои действия доводами рассудка. Зазвучавшие ответы оказались весьма далеки от единодушия. «Активные» деятели, подобные Ткачеву, Нечаеву — и чуть менее политически мыслившему Писареву, чьи последователи вошли в историю под именем «нигилистов», — стали предтечами
Ленина в своем презрении к демократическим методам. Со времен Платона доказывалось: дух превыше плоти, разумным людям назначено править неразумными. Образованный человек не может прислушиваться к необразованной и напрочь несмысленной толпе. Массы надлежит выручать любыми и всякими доступными средствами — если потребуется, то и вопреки тупому нежеланию самих народных масс, пуская в ход обман и лицемерие, а понадобится — и грубую силу.
Но такую школу мысли, ведшую прямиком к авторитарному правлению, приняли немногие из народников. Большинство пришло в ужас, внемля товарищам, открыто проповедовавшим столь маккиавеллиевскую тактику, и сочло, что никакая — даже наичистейшая — цель не оправдывает применения чудовищных средств, ибо при этом сама цель окажется навеки опозорена.
Не меньше споров разгорелось по поводу отношения к государству. Все народники соглашались: государство воплощает собою неравенство и принуждение, оттого-то и есть оно явление злое по изначальной сути своей: не ждите ни счастья, ни справедливости, ежели государство не исчезнет. Но какова же тогда немедленная цель революции? Ткачев недвусмысленно провозглашает: до тех пор, покуда капиталистический враг не истреблен подчистую, орудие принуждения — пистолет, вырванный революционером из капиталистической руки, — ни в коем случае не должно быть выброшено вон: оружие надлежит обратить против буржуа. Иными словами: ни в коем случае нельзя уничтожать государственную машину, следует использовать ее в борьбе с неизбежной контрреволюцией — без этой машины отнюдь не обойтись, пока последний противник не будет, по бессмертному выражению Прудона, «успешно ликвидирован», и, следовательно, у человечества не минует нужда в любых орудиях принуждения. Этой доктрины, следуя Ткачеву, придерживался Ленин — куда усерднее, чем того требовала простая приверженность двуликой марксистской формуле касаемо диктатуры пролетариата. Характерно: Лавров, представлявший «центристское» течение в народничестве, олицетворявший все его колебания и весь разброд, стоял не за немедленное и полное уничтожение государства, но за постепенное уменьшение его роли до той, которую он зыбко и смутно определил, как «минимальную». Чернышевский, народник, настроенный наименее анархически, смотрел на государство, как на создателя и защитника свободных рабочих и крестьянских объединений; он исхитрялся мыслить о государстве одновременно централизованном и децентрализованном, обеспечивающем и порядок, и всеобщее усердие, и равенство — и личную свободу в придачу.
Всех этих мыслителей объединяет одно убеждение — свойства самого общего и апокалипсического: едва лишь царство зла — самодержавие, эксплуатация, неравенство — пойдет прахом в огне революции, на пепелище естественно и самопроизвольно возрастет естественный, гармонический, справедливый порядок, требующий только мягкого руководства со стороны просвещенных революционеров, дабы достичь положенного совершенства. Эту великую утопическую мечту, основанную на простодушнейшей вере в возрождаемую человеческую природу, народники разделяли с Годвином и Бакуниным, с Марксом и Лениным. Ее стержень — извращенное, безбожное представление о грехе, смерти и последующем воскресении по дороге в некий земной рай, чьи врата распахнутся, лишь если человек отыщет единственно верный путь и двинется по нему. Этот взгляд коренится в давнейших религиозных понятиях, и неудивительно, что светская, мирская «религия» крепко напоминала учение русских староверов, коим, после великого раскола, грянувшего в семнадцатом веке, Государство Российское и его правители — особенно Петр Великий — мерещились юдольным царством сатаны; стало быть, из преследуемых, ушедших в подполье старообрядцев можно было вербовать немало союзников — чем народники и занимались весьма прилежно.
Среди народников имелись немалые различия: расходились во мнениях о грядущей роли интеллигенции сравнительно с ролью крестьянства, препирались касаемо исторической важности восходящего класса капиталистов; «постепенцы» спорили с заговорщиками, отстаивали преимущества просвещения и пропаганды сравнительно с терроризмом и подготовкой к немедленному бунту.
Все эти вопросы были взаимно связаны и требовали ответов немедленных. Наисильнейший разлад среди народников начался по поводу вопроса наиболее неотложного: осуществима ли по-настоящему демократическая революция прежде, нежели достаточное число угнетенных полностью осознает свое непереносимое положение — то есть будет вообще способно разуметь его причины и разбираться в них. «Умеренные» доказывали: никакую революцию по справедливости не назовешь демократической, коль скоро ею не руководит революционное большинство. Но в этом случае не оставалось выбора: надлежало выжидать, покуда просвещение и пропаганда породят упомянутое большинство — такую тактику защищали во второй половине девятнадцатого столетия почти все западные социалисты, и марксистского, и немарксистского толка.
Возражая «умеренным», русские «якобинцы» твердили: выжидать, и при этом звать любой мятеж, который организует решительное меньшинство, безответственным терроризмом — или, того хуже, простой сменой деспотий — означает готовить катастрофу: пока революционеры медлят, капитализм развивается, и быстро; передышка позволит правящим классам упрочить свою общественную и экономическую основу, сделать ее неизмеримо крепче уже существующей; рост энергичного и процветающего капитализма приведет к тому, что сами радикальные интеллигенты — врачи, инженеры, преподаватели, экономисты, техники, — все без исключения образованные люди окажутся при выгодном деле, получат щедро оплачиваемые должности; новые буржуазные хозяева (в отличие от существующего режима) будут разумны и не станут вымогать у наемных работников никакой политической верноподданности; интеллигенция получит особые привилегии, положение в обществе и широкие возможности самовыражения — поскольку буржуазия потерпит безобидных радикалов и дарует им значительную личную свободу, — а дело революции лишится наиболее ценных исполнителей. Едва лишь те, кого свели и сплотили с угнетенными классами недовольство и неуверенность в завтрашнем дне, хотя бы отчасти удовлетворят свои потребности, революционный пыл поостынет, а надежды на коренное переустройство общественной жизни станут предельно зыбкими. Радикальное крыло революционеров яростно повторяло: наступление капитализма, что бы там ни говорил Маркс, неминуемым считать нельзя; это может быть справедливо для Западной Европы, но в России капитализм возможно остановить революционным переворотом — извести в корне, покуда не окреп и не разросся.
Признание необходимости пробудить «политическую сознательность» рабоче-крестьянской массы (это уже признали неотъемлемо важным для революции — отчасти в итоге краха, который потерпели мыслящие революционеры 1848 года, — как марксисты, так и большинство прочих «народных заступников») равнялось бы принятию программы «постепеновцев», означало бы: решающая минута наверняка будет упущена; вместо народнической или социалистической революции возникнет могучий, изобретательный, хищный, успешный капиталистический режим, грядущий на смену российскому полуфеодализму столь же решительно, сколь пришел на смену феодальным порядкам Западной Европы. А тогда — кто сочтет десятки либо сотни лет, в течение коих доведется терпеливо и покорно дожидаться революции? А если революция и грянет — кто скажет, какой порядок принесет она с собою в далеком будущем, на каком социальном фундаменте воздвигнет новое общество?
Все народники соглашались: деревенская община — идеальный зародыш социалистических ячеек, будущей общественной основы. Но разве развитие капитализма не покончит с деревенской общиной автоматически? А коль скоро капитализм уже уничтожает сельский «мир» (этого, правда, не утверждали открыто до 1880-х годов), коль скоро классовая борьба, согласно Марксу, дробит и разделяет села ничуть не меньше, чем города, то порядок действий совершенно ясен: чем сидеть, сложа руки и обреченно следя за деревенским распадом, решительные люди могут — и обязаны — остановить начавшийся процесс, уберечь сельскую общину. Социализм, утверждали «якобинцы», можно строить путем захвата власти — на этом и следует сосредоточить все революционные усилия, даже пожертвовав немедленным просвещением крестьянства: нравственным, социальным и политическим; да и просвещать можно будет куда лучше и быстрей, если революция сперва сломит сопротивление старого режима.
Эта школа мысли поразительно схожа с политическими декларациями и действиями Ленина в 1917-м и весьма — в корне — отличается от прежнего марксистского детерминизма. Дежурным становится клич: промедление смерти подобно! Кулаки пожирают сельскую бедноту, а по городам плодятся и множатся капиталисты.
Будь у правительства хоть крупица разума, говорили народники, оно пошло бы на уступки и ускорило реформы, прямо и косвенно приглашая образованных людей, ум и воля которых были нужны революции, направить свою энергию в мирное русло, пойти на службу реакционному государству; получив подобную либеральную опору, несправедливый строй уцелел бы и укрепился. «Активисты» доказывали: революции вовсе не суть неизбежны, любая революция — только плод людской воли и людского рассудка.
Если рассудка и воли недостаточно, революции не произойдет вовсе. Лишь неуверенные и колеблющиеся жаждут социальной сплоченности и «роевого» существования; истинной роскошью всегда останется индивидуализм — идеал каждого, кто крепко стоит на ногах и спокоен за свое общественное положение.
Новый класс технических работников — современных, просвещенных, бодрых людей, прославлявшихся и либералами вроде Кавелина и Тургенева, и подчас даже радикалом- индивидуалистом Писаревым, — казался «якобинцу» Ткачеву хуже холеры или тифа[261], ибо, внедряя научные методы в общественную жизнь, эти люди играли на руку новым, поднимающимся все выше, капиталистическим олигархам — и тем самым заграждали дорогу к свободе. Паллиативы смертельны, если только хирургическое вмешательство спасет пациента — они продлевают недуг и ослабляют больного до того, что, в конце концов, не поможет и операция. Следует наносить удар прежде, нежели новые умники, вероятные «соглашатели», сделаются чересчур многочисленны, чересчур зажиточны и получат чересчур уж много власти; промедление смерти подобно — сен-симоновские «сливки общества», высокооплачиваемые управители станут во главе нового феодального строя, экономически цветущего, но социально безнравственного, поскольку основанного на постоянном неравенстве.
Неравенство числили величайшим изо всех зол. Стоило какому-либо иному идеалу вступить в противоречие с пресловутой идеей равенства, как русские якобинцы тотчас требовали пожертвовать идеалом или изменить его; наипервейшим принципом, основополагающим для всякой и любой справедливости, считали равенство; никакое общество не звали справедливым, если повальное равенство его членов не достигало мыслимого предела. Ради успеха революции, по словам «якобинцев», неотъемлемо важно было искоренить троякое зло, три огромных заблуждения. Во-первых, не следовало думать, что двигателями прогресса являются лишь культурные люди. Это неверно и порочно, поскольку порождает уважение к «сливкам общества», к избранным. Во-вторых, недопустимо было впадать и в противоположное заблуждение: полагать, будто можно всему научиться у людей простых. Это не меньшая глупость. Веселые аркадские поселяне Жан- Жака Руссо — идиллическая выдумка. Народные массы невежественны, грубы, звероподобны, реакционны — и начисто неспособны осознать, что им на пользу, а что во вред. Если бы революция зависела от их умственной зрелости, от их способности к политическим рассуждениям или политической организованности, революции пришел бы верный конец. А третье, последнее заблуждение гласило: только пролетарское большинство может затеять успешную революцию. Несомненно, пролетарии способны к этому; но если Россия примется ждать появления многочисленного пролетариата, бесследно минует возможность уничтожить растленный и ненавистный государственный строй, а тем временем капитализм уже прочно устроится в седле.
И что же тут прикажете делать? Нужно побыстрее обучить людей тому, как устраивается революция — как уничтожать существующий порядок и все преграды, стоящие на пути к социальному — то есть общественному — равенству и демократическому самоуправлению. А когда все, что мешает прогрессу, будет сметено, следует созвать демократическое собрание и — коль скоро деятели революции благоволят пояснить, зачем вообще устроили ее, изложить социальные и экономические причины, революцию вызвавшие, — народные массы (даже беспросветно темные дотоле), наверняка уразумеют свое положение в степени, достаточной для того, чтобы добровольно, даже воодушевленно дозволить вожакам «организовать» народ, сколотить из него новую свободную федерацию производственных объединений.
Так рассуждали «якобинцы».
А что прикажете делать, ежели и накануне успешного coup d'etat[262] народные массы еще не дозреют до столь возвышенного понимания революции? Герцен без устали повторял этот вопрос в своих сочинениях 1860-х годов. Этот же вопрос весьма изрядно тревожил и большую часть народников. Но «активное» крыло народничества не сомневалось в ответе: вы только сбейте оковы с полоненного героя — и он выпрямится, расправит плечи, а потом до скончания веков будет жить привольно и припеваючи. Взгляды этих людей были поразительно простодушны. Они уповали на терроризм и только на терроризм, якобы дозволяющий достичь полнейшей, анархической свободы. С их точки зрения, главнейшей целью революции являлось полное и поголовное равенство — не просто экономическое и социальное, а телесное и физиологическое! — причем, народники наотрез не желали замечать вопиющего противоречия меж идеями Прокрустова ложа и абсолютной свободы. Подобный порядок предполагалось насадить поначалу с помощью силы и государственной власти, а потом государство, точно мавр, сделавший свое дело, могло бы уходить — «ликвидироваться».
Возражая на это, представители основной массы народничества говорили, что якобинские приемы приведут к якобинским последствиям; что, если цель революции — свобода, не следует применять оружие деспотизма: оно, безусловно, поработит всех тех, кого ему надлежало вызволять; что лекарство не должно быть пагубнее самого недуга. Использовать власть государственного образца, дабы сокрушить эксплуататоров и навязать новый образ жизни людям, большинство которых вообще неспособно понять, какая и откуда в нем возникла необходимость, означало бы променять царское иго на другое, новое и гораздо худшее — на иго революционного меньшинства.
Большинство народников были подлинными демократами; они считали: всякая власть растлевает, всякая власть, будучи сосредоточена, становится незыблемой, всякая централизация — зло, ибо приводит к принуждению; а посему, единственная надежда на построение справедливого и свободного общества заключается в мирном просвещении людей, коих нужно посредством разумных доводов склонять к демократическому свободолюбию и к истинам, именуемым социальной и экономической справедливостью. Чтобы получить возможность обращать крестьян в свою веру, и впрямь было бы необходимо сокрушить препятствия к свободной и разумной беседе: полицейское государство, власть капиталистов или помещиков; а для этого следовало применять силу — или мужицкий бунт, или терроризм. Но такие временные меры представлялись народникам чем-то начисто отличающимся от сосредоточения абсолютной власти в руках отдельной партии либо клики (сколь бы добродетельной ни была упомянутая партия либо клика) после того, как противника сломят и сокрушат.
На протяжении последних двух столетий народничество служит, пожалуй, самым классическим примером противоборства между свободолюбцами и федералистами с одной стороны, а якобинцами и сторонниками централизации — с другой; так Вольтер возражал Гельвецию и Руссо; так левое крыло Жиронды выступало против «Горы»; Герцен пускал в ход все те же доводы, споря с коммунистическими доктринерами предшествовавшего периода — Кабе и выучениками Бабефа; Бакунин порицал марксистское требование диктатуры пролетариата, как нечто, предполагающее, что власть отнимут у одних угнетателей и вручат иным, гораздо худшим; а народники 1880-х и 1890-х годов набрасывались на всех, кого подозревали (обоснованно ли, нет ли) в заговоре, имеющем целью уничтожение «людской стихийности» и личной свободы — будь подозреваемые хоть снисходительными либералами, дозволяющими фабрикантам порабощать пролетарские массы, хоть радикальными коллективистами, всегда готовыми превратиться в несравненно худших рабовладельцев, хоть капиталистическими предпринимателями (как написал Михайловский в известном критическом очерке о романе Достоевского «Бесы»); хоть марксистскими поборниками централизованной власти — все они были, согласно замечанию Михайловского, куда опаснее патологических фанатиков, поставленных Достоевским к позорному столбу, — озверевшими, безнравственными социальными дарвинистами, глубоко и непримиримо враждебными людскому разнообразию, личной свободе, самобытности.
Это был главный политический вопрос, разделивший на рубеже веков русских социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов; из-за этого же, несколько лет спустя, Мартов и Плеханов порвали с Лениным: по сути, весь великий раздор меж меньшевиками и большевиками (чем бы ни казался он по видимости) сводился именно к этому. В должный срок и сам Ульянов-Ленин, года через два-три после октябрьской революции, не отрекаясь от основной марксистской доктрины, выразил горькое разочарование по поводу тех самых естественных последствий, неумолимо вытекавших из марксизма, о коих ранее предупреждали противники: Ленина огорчили бюрократия и деспотический произвол партийных чинов; позднее Троцкий обвинял Сталина в тех же преступлениях. Дилемма цели и средств — глубочайшая и наиболее вопиющая неувязка, над решением которой доныне мучительно бьются на всех континентах — в частности, на африканском и азиатском — современные революционеры. То, что препирательства приняли столь недвусмысленную форму еще среди народников, делает народничество исключительно любопытным явлением — учитывая нынешние всемирные неурядицы.
Вышеупомянутые разногласия не выходили за рамки общего революционного мировоззрения — ибо, невзирая на внутренние различия, всех народников объединяла неколебимая вера в торжество революции. Вера сия проистекала из множества источников. Ее вселяли потребности и взгляды, существовавшие в тогдашнем обществе, где почти не было заводской промышленности: общество жаждало простоты и братского единения, в обществе царствовал аграрный идеализм — в конечном счете восходящий к Руссо, к той окружающей действительности, которую и теперь можно созерцать в Индии либо Африке, — что неизбежно выглядит утопическим в глазах историков и социологов, родившихся на промышленном Западе. Народническая вера явилась промежуточным итогом разочарования в парламентской демократии, либеральных убеждениях и благих намерениях буржуазной интеллигенции, последовавшего за полным провалом европейских революций 1848-1849 годов; породил ее и вывод, сделанный Герценом: Россия, в то время избежавшая революции, нимало не пострадавшая от нее, может сыскать спасение в нетронутом естественном социализме крестьянского «мира». На веру народников чрезвычайно сильно повлияли и яростные писания Бакунина, проклинавшего любую и всякую централизованную власть — особенно государственную, — и бакунинское утверждение: люди по природе своей мирны и трудолюбивы, а ожесточаются лишь когда их сбивают с пути истинного и понуждают становиться либо тюремщиками, либо узниками.
Но питали эту веру и потоки, струившиеся в противоположную сторону — ткачевские заявления о том, что якобинские «сливки», профессиональные революционеры, суть единственная сила, способная уничтожить надвигающийся капитализм — убийственному наступлению коего способствуют беззубые реформаторы, человеколюбцы и карьеристы из интеллигентов — капитализм, прячущийся под омерзительной маской парламентской демократии; в еще большей степени сказывались махровый утилитаризм Писарева и писаревские нападки на всякий идеализм и всякое любительство — в частности, на сентиментальную идеализацию простого и прекрасного крестьянина вообще, а особенно, русского мужика, на коем якобы почиет благодать, — мужика, еще не тронутого тлетворными влияниями загнивающего Запада. Поддерживая выкрики Писарева, «критические реалисты» призывали соотечественников спасаться посредством взаимной выручки и трезвой, целеустремленной расчетливости — можно сказать, повторялась кампания, развернутая встарь французскими энциклопедистами в пользу естественных наук, ремесленных навыков, специализации — только теперь еще и направленная против словесности, классического образования, истории: всего, что народные заступники объявили сибаритством и потаканием собственным прихотям. В первую очередь, «реализм» и «польза» противопоставлялись литературной культуре — убаюкавшей лучших русских людей до того, что, пока бюрократы, чиновные лихоимцы, тупые, грубые помещики и мракобесы- церковники эксплуатировали злосчастный народ, предоставляя мужикам гнить илй разлагаться, русские эстеты и либералы глядели в другую сторону.
Но самым звучным припевом служили проповеди Лаврова и Михайловского, чей индивидуализм и рационализм составили ядро народнического мировоззрения. Вослед Герцену, оба полагали: у истории нет предначертанных путей, нет «либретто»[263], ни жестокие столкновения культур, народов и классов (составляющие, с точки зрения гегельянской, самую сущность прогресса), ни борьба за право одного класса помыкать другим (согласно марксистам, это движущая сила истории) не являются чем-то неизбежным. Вера в человеческую свободу была краеугольным камнем народнического гуманизма — народники без устали твердили: цель избирается человеком, а не предписывается ему; только воля человеческая способна построить счастливую и достойную жизнь, при коей интересы интеллигентов, мужиков, рабочих и представителей «свободных профессий» возможно примирить —не сделать едиными, ибо это немыслимо, но привести хотя бы в неустойчивое равновесие, а рассудок и непрерывное попечение приспособят его к почти непредсказуемым последствиям взаимодействия людей друг с другом и с природой. Возможно, тут сыграла известную роль православная традиция примирения и общности, противостоявшая и авторитарной католической иерархии, и протестантскому индивидуализму. Сыграли роль и западные доктрины, западные пророки, западные наставники: французские радикалы, орудовавшие до и после революции, Фихте и Буонарроти, Фурье и Гегель, Милль и Прудон, Оуэн и Маркс. Но крупнейшей фигурой народничества, человеком, чей темперамент, идеи и деятельность преобладали в нем от начала до конца, несомненно, был Николай Гаврилович Чернышевский. О Чернышевском написаны вороха монографий, но его жизнь, взгляды и оказанное ими влияние доныне ожидают своего исследователя.
Своеобразным мыслителем Николай Чернышевский не был. Не обладал он ни глубиной, ни воображением, ни блистательным умом и писательским талантом Герцена, ни красноречием, ни дерзостью, ни темпераментом, ни могучей убедительностью Бакунина, ни нравственным гением и неповторимой социальной проницательностью Белинского.
Но был он человеком непреклонно честным, невероятно трудолюбивым и обладал редкой в русском народе способностью сосредоточивать внимание на осязаемых частностях. Его глубокая, стойкая, пожизненная ненависть к рабству, несправедливости и произволу выражалась не в теоретических обобщениях, не в создании социально-философских или метафизических систем, не в открытом террористическом бунте против правительства. Она вылилась в медленное, «без божества, без вдохновенья», кропотливое накопление фактов и идей — в создание примитивной, скучной, однако прочной умственной основы, на коей можно было строить подробные планы практических действий, соответствовавших тогдашней общественной среде, которую Чернышевский пожелал изменить. Чернышевский больше сочувствовал «конкретным», тщательно продуманным и разработанным — пускай даже всецело ошибочным — социалистическим планам петрашевцев (петрашевцем был и молодой Достоевский), арестованных и сосланных правительством в 1849 году, нежели великим, изобретательным построениям Герцена, Бакунина и всех их последователей.
Новое поколение росло в глухое время, наступившее после 1849 года. Молодежь увидела колебания западных либералов и даже их прямое предательство, приведшие к победе реакционных партий в 1849-м. Двенадцатью годами позже история повторилась в их собственном отечестве: те формы, что приняла отмена крепостного права, показались молодым разночинцам измывательством над всеми прежними чаяниями и расчетами. И разночинцы принимали хромой и неуклюжий гений Чернышевского — пытавшегося дать определенные ответы на определенные вопросы при помощи «конкретных» статистических выкладок, постоянно ссылавшегося на «факты»; кропотливо старавшегося указать на достижимые, практические, немедленные цели, а не рисовавшего желаемые образы грядущего, к которым отнюдь не виднелось определенных путей, — Чернышевского, писавшего бесцветно, сухо и неумело донельзя, Чернышевского, вдохновлявшего «новых людей» именно своей скучной бездарностью и отсутствием всякого вдохновения, — этот хромой и неуклюжий гений разночинцы принимали куда серьезнее, чем гений возвышенных идеалистов, благородных романтиков, дававших волю своей фантазии в 1840-е годы.
Будучи выходцем из низов (сыном приходского священника), Чернышевский ощущал естественную близость к простонародью, чье положение тщился исследовать; ощущал и стойкое недоверие — позднее превратившееся в лютейшую ненависть — ко всем либеральным теоретикам: и русским, и западным. Перечисленные качества сделали Чернышевского естественным вожаком разочарованного разночинного поколения, вполне свободного от любых «благородных» предрассудков, озлобленного крахом собственных былых идеалов, правительственными преследованиями, постыдным поражением России в Крымской войне, слабостью, бессердечием, лицемерием и никчемностью правившего класса. Эти решительные, социально ущербные, обозленные и недоверчивые молодые радикалы, презиравшие все, что хотя бы слегка отдавало словесным изяществом, «литературой», считали Чернышевского отцом родным, исповедником, — а уж ни к аристократичному, насмешливому Герцену, ни к своенравному и, в конечном счете, легкомысленному Бакунину подобного почтения не было и быть не могло.
Подобно всем народникам, Чернышевский верил, что необходимо сохранить сельскую общину и распространить существующие в ней порядки на промышленное производство. Он верил, что Россия прямо выиграет, учась на западных технических достижениях, но избегая невыносимых страданий, вызываемых промышленной революцией. Развитие человечества — хронологическая несправедливость, как однажды заметил Герцен: поскольку явившиеся позже пожинают плоды посеянного предшественниками, не платя цены, в которую тем обошелся когда-то посев[264]. «История, как бабушка, страшно любит младших внучат, — исправно вторит ему Чернышевский: — Tarde venientibus дает она не ossa, a medullam ossium[265], разбивая которые Западная Европа [так больно отбила] себе пальцы»[266]. Для Чернышевского история двигалась по спирали, гегелевскими триадами: всякое поколение склонно повторять не родительский, но дедовский опыт — и «на более высоком уровне».
Однако вовсе не исторические элементы в доктрине Чернышевского завораживали народников, которым больше всего полюбились его яростное недоверие к реформам, проводимым «сверху», его утверждение, что сущность истории сводится к борьбе классов, и — главным образом — его убеждение (сколько можно судить, заимствованное отнюдь не у Маркса, но из других социалистических источников, равно питавших и Маркса, и Чернышевского) в том, что государство было, есть и будет орудием правящего класса, а потому, независимо от желания своего или нежелания, просто не может проводить необходимых реформ, чей успех равнялся бы распаду или ослаблению существующего строя. Никакая власть не склонна кончать самоубийством. Оттого-то все попытки переубедить царя, все попытки уклониться от ужасов революции неизбежно (заключает Чернышевский в начале 1860-х) окажутся тщетными. На закате 1850-х было время, когда Чернышевский надеялся, подобно Герцену, на реформы свыше. Отмена крепостного права, какой она предстала в итоге, правительственные уступки, сделанные помещикам, излечили Чернышевского от иллюзий. Он указывал, не без веского исторического подтверждения своим словам, что либералы, рассчитывавшие повлиять на правительство своей фабианской тактикой, преуспели только в одном: подвели и крестьян, и себя самих; для начала насторожили земледельцев, приятельствуя с их господами, — а после этого правящий класс без особого труда, при всяком удобном случае напоминал крестьянам, что либералы — друзья сомнительные, и науськивал крестьянство на его же собственных защитников. Так оно вышло в 1849-м — и во Франции, и в Германии. Даже когда «умеренные» вовремя шли на попятный и призывали к решительным действиям, незнание истинных окружающих условий и незнакомство с подлинными нуждами крестьян и рабочих обычно побуждало их выдвигать утопические предложения и схемы, за которые последователи «умеренных» расплачивались ужасной ценой.
Чернышевский создал простую разновидность исторического материализма, согласно коей политические факторы предопределяются факторами социальными, а не наоборот. Вместе с Фурье и Прудоном он считал, что либеральные и парламентские идеалы попросту не включают в себя главных вопросов: крестьянам и рабочим требовались еда, одежда, обувь и крыша над головой; а право голоса, либеральная конституция, гарантии личной свободы почти ничего не значили для голодных и оборванных людей. Сперва должна грянуть социальная революция; потом, сами собою, придут и надлежащие политические реформы. В глазах Чернышевского, главный урок 1848 года сводился к следующему: все западные либералы — и храбрецы, и трусы наравне — обанкротились и нравственно, и политически, а заодно с ними обанкротились их русские ученики — Герцен, Кавелин, Грановский и прочие. Россия непременно должна идти своим путем. В отличие от славянофилов и подобно русским марксистам следующего поколения, Чернышевский утверждает, приводя целые груды экономических доказательств и подтверждений, что историческое развитие России, в частности, сельского «мира», ни в коем случае не самобытно, а течет в соответствии со всеми социальными и экономическими законами, свойственными любому обществу. Подобно марксистам (и позитивистам, последователям Огюста Конта), он считал, что подобные законы возможно обнаружить и сформулировать; но, в отличие от марксистов, Чернышевский полагал, будто, заимствуя западные технические достижения и обучая людей, обладающих закаленной, испытанной волей и рациональными воззрениями, Россия сумеет «перепрыгнуть» через капиталистическую стадию общественного развития, превратить деревенские общины и рабочие артели в сельскохозяйственные и промышленные ассоциации производителей, которые составят зародыш нового социалистического общества.
Технический прогресс, по мнению Чернышевского, не ведет к автоматическому исчезновению крестьянских общин; дикарей возможно выучить пользоваться латинским письмом и серными спичками, на основе рабочих артелей возможно создавать фабрики, не уничтожая самих артелей; крупные промышленные объединения способны положить конец эксплуатации, сохраняя преимущественно сельскую природу российской экономики[267]. Чернышевский полагал, что наука, используемая в житейских целях, сыграет решающую историческую роль, но, в отличие от Писарева, не считал частное предпринимательство — тем паче капитализм — необходимо нужным для этого условием. С молодых дней он во многом оставался фурьеристом, глядящим на свободные ассоциации сельских общин и артелей, как на основу и залог любой свободы и любого прогресса, — но в то же время, идя по стопам Сен-Симона и его последователей, был свято убежден, что без «коллективных» действий — иными словами, без общегосударственного социализма — добьешься немногого. Этих несовместимых воззрений Чернышевскому примирить не удалось, и в своих сочинениях он то и дело высказывается и в пользу развитой заводской промышленности, и против нее. Столь же неуверен Чернышевский и в том, какую роль надлежит играть (и какой роли нужно избегать) государству, развивающему промышленность и следящему за нею, и каковы должны быть обязанности управляющих огромными коллективными промышленными предприятиями, и как станут соотноситься государственный и частный сектор экономики, — а также, насколько независим должен быть демократически избранный парламент, и в каком отношении он будет находиться к государству, источнику централизованного экономического планирования и органу контроля.
Наброски социальной программы Чернышевского остались расплывчатыми или непоследовательными заметками, — сплошь и рядом, одновременно и тем, и другим. Но «конкретные» подробности, основанные на «реальном» опыте, адресовались представителям широких народных масс, обретших, наконец-то, свой достойный рупор — толкователя вседневных нужд и запросов. Заветнейшие чаяния и переживания свои Чернышевский излил на страницы романа «Что делать?» — социальной утопии, написанной из рук вон бездарно, и разом превратившейся в настольную книгу, буквально властвовавшую тогдашними русскими настроениями. Это наставительное сочинение описывает «новых людей», членов грядущего — свободного, нравственно чистого, трудолюбивого — социалистического содружества; соблазнительная искренность и нравственный пыл «Что делать?» заворожили воображение идеалистически мысливших отпрысков состоятельных семей, маявшихся чувством «вины перед народом», снабдили их отличными образцами для подражания — следуя коим, целое поколение революционеров закаляло, воспитывало себя, готовилось бросать вызов существующим условностям, обычаям и законам, а ссылку или казнь принимать с олимпийским равнодушием.
Чернышевский проповедовал наивный утилитаризм. Подобно Джеймсу Миллю и, возможно, Бентаму, он утверждал: натура человеческая в основе своей — незыблемая совокупность естественных процессов и свойств, подлежащая физиологическому анализу, а стало быть, людское счастье можно предельно увеличить посредством научного планирования и научной же «реализации планов». Придя к выводу, что художественная проза и литературная критика суть единственные средства радикальной пропаганды в пределах России, Чернышевский наводнял «Современник», журнал, который издавал совместно с Некрасовым, столь насыщенным раствором открыто социалистических доктрин, сколь возможно было под видом изящной словесности вливать в открытую печать. Ему содействовал неистовый молодой критик Добролюбов — человек по-настоящему талантливый (чего не скажешь о Чернышевском), а в страстном желании проповедовать и наставлять заходивший еще дальше Николая Гавриловича. Эстетические воззрения обоих фанатиков были сугубо утилитарными.
Чернышевский провозглашал: задача искусства — способствовать более рациональному удовлетворению людских потребностей, пропагандировать знания, биться с невежеством, предрассудками, антиобщественными устремлениями, «способствовать улучшению жизни» — в самом прямом, узком и буквальном смысле этих слов. Абсурднейшие умозаключения Чернышевский делал с радостной готовностью. Например, он пояснял: морские пейзажи ценны тем, что дают представление о море живущим вдали от него (скажем, обитателям русской черноземной полосы) и не имеющим возможности увидеть настоящую морскую гладь; говорил: Некрасов (друг и покровитель Чернышевского) — наивеличайший из русских поэтов, живых или мертвых, ибо своими стихами вызывает у читателя большее сострадание к угнетенным, нежели все предшественники или современники. Писателей, сотрудничавших с Чернышевским поначалу — воспитанных, щепетильных людей, подобных Тургеневу и Боткину, — все больше отталкивал угрюмый фанатизм народного наставника. Тургенев недолго выдержал общество этого ограниченного догматика, ненавидевшего всякое искусство. Лев Толстой презирал Чернышевского за беспросветную провинциальность, нетерпимость к чужому суждению, полнейшее отсутствие эстетического чутья и вкуса, рационализм и невыносимую самоуверенность.
Но эти же свойства — точнее, мировоззрение, породившее такие свойства, — помогли Чернышевскому естественно выдвинуться в любимые вожаки «твердокаменных» молодых людей, явившихся на смену идеалистам 1840-х. Суровые, скучные, пошлые, скрипучие, лишенные всякой задорной искорки фразы Чернышевского, его пристрастие к «конкретным» подробностям, его умение «властвовать собой», его стремление принести ближнему как материальное, так и нравственное благосостояние — да и сама совершенно серая, ничем не примечательная личность этого народного заступника, вкупе с его неутомимым, страстным, целеустремленным, кропотливым прилежанием, ненавистью к изящному слогу (и вообще к любому изяществу), несомненная искренность, полное самоотречение, грубая прямота, безразличие к потребностям частной жизни, простодушие, доброта — подлинная или показная, — обезоруживающее нравственное обаяние, педантизм и способность к самопожертвованию породили образ, позднее воспринимавшийся русскими революционерами как образец для подражания: герой и мученик. Больше любого иного публициста Чернышевский ответствен за то, что между «нашими» и «теми» пролегла окончательная пограничная черта. Всю жизнь он проповедовал и наставлял: нет и не может быть мира с «теми», войну следует вести насмерть, на всех фронтах; нейтралитета не существует; и покуда продолжается эта война, для революционера не бывает работы слишком незаметной, слишком отвратительной или слишком скучной. Личность и воззрения Чернышевского наложили отпечаток на два поколения русских революционеров — не в последнюю очередь на Ленина, восхищавшегося Чернышевским совершенно искренне.
Несмотря на подчеркнутое внимание к вопросам экономическим и общественным, общий подход к делу, общий тон и мировоззрение Чернышевского и прочих народников имеют окраску преимущественно моральную, временами извращенно «религиозную». Эти люди верили в социализм не потому, что приход социализма неизбежен, и не потому, что социализм чего-то стоит по сути своей, и даже не потому, что якобы лишь социализм рационален, — а потому, что социализм, по их суждению, справедлив. Сосредоточенная политическая власть, капитализм, крепкое централизованное государство попирают человеческие права, уродуют людей и нравственно, и телесно. Все народники были отъявленными атеистами, но в их головах как бы сливались воедино социалистические догмы и заповеди православного христианства. Они отшатывались от перспективы российской индустриализации, поскольку цену за это привелось бы заплатить чудовищную, и порицали Запад, уплативший такую цену безо всяких угрызений совести.
Экономисты-народники 1880-х и 1890-х, например, Даниельсон и Воронцов, невзирая на все свои строго экономические доводы касаемо возможности капитализма в России (кстати, некоторые их соображения кажутся куда основательнее, чем полагали противники-марксисты), руководились, в конечном счете, нравственным омерзением к простой сумме страданий, причиняемых капитализмом, — то есть нежеланием платить за индустриализацию непомерно дорого и страшно, сколь бы желанными ни выглядели итоги ее. В двадцатом веке их преемники, эсеры, тянули ту же песенку, что звучала в народнической среде от первого и до последнего дня: цель общественных движений — отнюдь не упрочить государственную власть, но облагодетельствовать народ; обогащать государство, умножать его промышленную и военную мощь за счет образования, нравственности, общего культурного уровня и здоровья граждан, разумеется, возможно — только это было бы злодейством. Эсеры сравнивали развитие Соединенных Штатов, где, по их словам, первостепенно важно было благосостояние личности, с развитием Пруссии, где личностью пренебрегали. Они стойко держались того взгляда (восходящего, по крайней мере, к Сисмонди), что душевное и телесное состояние отдельного гражданина важнее государственной мощи, а если то и другое, как часто бывает, находятся в обратном соотношении, права личности все же должно учитывать и блюсти в первую очередь. Они отвергали—как исторически несостоятельное— утверждение, что лишь могучее государство способно порождать граждан добродетельных и счастливых; отвергали они — как неприемлемое нравственно — и утверждение, что без остатка раствориться и затеряться в жизни и благосостоянии окружающего общества — мыслимый предел человеческого самоосуществления.
Вера в примат человеческих прав над любыми иными вопросами—первейший принцип, отличающий общество плюралистическое от централизованного, «социальное государство», смешанную экономику, рузвельтовский «Новый курс» — от однопартийного правления, «закрытого» общества, пятилетнего плана: вообще, от общественного устройства служащего единственной цели, поставленной выше, нежели многоразличные цели отдельных граждан или малых гражданских объединений. Николай Чернышевский был ощутимо худшим фанатиком, чем большая часть его последователей, вещавших или орудовавших в 1870-е и 1880-е годы, он гораздо крепче верил в организованность, — но даже Чернышевский не затыкал ушей, слыша отчаянные просьбы о немедленной помощи, звучавшие со всех сторон, даже Чернышевский не полагал нужным ради священнейшей и наиважнейшей для него самого цели попирать личные желания людей, всеми силами старавшихся избежать погибели. Случалось, он выступал узким и сухим педантом, но и в худшие свои дни Чернышевский не бывал спесив, напорист, бесчеловечен, без устали напоминая и читателям, и себе самому, что, всей душой стремясь прийти на выручку другим, наставники не смеют запугивать наставляемых и понуждать их к чему-либо: то, что «мы» — трезво мыслящие интеллигенты — считаем нужным для народа, может изрядно отличаться от того, чего народ желает в действительности; насильно вколачивать «наши» лекарства от общественных недугов в «их» народные глотки не разрешается.
Ни Чернышевский, ни Лавров, ни беспощаднейшие из «якобинцев», горой стоявшие за террор и жестокость, никогда не прикрывались пустыми фразами, не оправдывали своих действий — вопиюще несправедливых и попросту зверских — неумолимостью исторического процесса. Коль скоро насилие — единственное средство, дозволяющее достичь поставленной цели, то при известных обстоятельствах можно применять его; но в каждом случае насилие должно обосновываться нравственным содержанием упомянутой цели: умножением счастья, сплоченности, справедливости, укреплением мира — иначе говоря, любой из общепринятых людских ценностей, искупающих причиняемое зло, — а не разглагольствованиями: необходимо, дескать, идти в ногу с историей, не внимать угрызениям совести, отвергнуть собственные «субъективные» нравственные принципы (все равно эти понятия преходящи), поскольку сама история преобразила, будто бы, все нравственные законы и задним числом оправдывает лишь те из них, которые оказались жизнеспособны и успешны.
Настроения народников, особенно в 1870-е годы, небезосновательно можно определить как чуть ли не религиозные. Это сборище заговорщиков и пропагандистов рассматривало себя (и посторонние тоже рассматривали его) как своеобразный рыцарский или монашеский орден. Первое условие для присоединявшихся к движению гласило: принеси в жертву «делу» — то есть и отдельно взятой народнической ячейке, и революции в целом — всю свою жизнь. Однако ни понятие партийной диктатуры, ни право партийных вождей полностью распоряжаться жизнью каждого из участников народничества — и уж тем паче предписывать им обязательные убеждения — в тогдашнюю доктрину еще не входили: это противоречило бы всему народническому духу. Единственным судьей человеческих поступков оставалась человеческая совесть. Пообещал подчиняться вожакам — стало быть, дал священную клятву, но распространяется она только на чисто революционные задачи партии, а не за их пределы, и становится недействительна, если все определенные цели, поставленные партией перед собой и своими членами, уже достигнуты; а конечная партийная цель — революция. И, если революция удалась, каждый народник волен в дальнейшем жить и поступать по собственному усмотрению, ибо дисциплина — только временная мера, а не самоцель. Это народники, в сущности, создали понятие о партии, как о собрании профессиональных заговорщиков, напрочь отрекшихся от личной жизни, подчиненных свирепой дисциплине: о партии, как «ядре» движения, состоящем из матерых профессионалов — в отличие от простых «сочувствующих» или «попутчиков»; так получилось по тогдашним особым российским условиям, настоятельно требовавшим надежной конспирации, а не благодаря вере в иерархию, как желанную или даже просто допустимую форму общественной жизни. Заговорщики не ссылались на космические процессы, коими, будто бы, оправданы любые и всякие революционные действия, ибо детерминистами они отнюдь не были, а верили в свободу выбора.
Хотя, исторически рассуждая, позднейшая ленинская концепция революционной партии и партийной диктатуры во многом выросла из прежней идеологии этих дисциплинированных и натасканных мучеников, мировоззрение ленинское было совсем иным. Молодежь, хлынувшая в деревни и села достопамятным летом 1874-го — лишь для того, чтобы столкнуться с непониманием, подозрительностью и, зачастую, нескрываемой враждебностью мужиков, изумилась бы и возмутилась до глубины душевной, услыхав, что является простым орудием истории, а посему все действия пропагандистов надлежит судить по иным нравственным законам, нежели общепринятые.
Народничество потерпело крах. Социализм попросту «отскакивает от русской массы, как горох от стены»[268], сказал знаменитый террорист Кравчинский в письме к революционерке Вере Засулич в 1878-м, через четыре года после того, как изначальная волна воодушевления улеглась. «Они же слушают наших людей, словно священников»[269] — с почтением, ничего не понимая, ни в чем не изменяясь к лучшему.
В столицах шум, гремят витии, Кипит словесная война, А там, во глубине России, — Там вековая тишина[270].
Эти некрасовские строки передают разочарование, последовавшее за крахом спорадических вылазок, предпринимавшихся революционными идеалистами в конце 1860-х — начале 1870-х: и мирными пропагандистами, и куда менее мирными террористами, коих столь живо, правдиво и жестоко изобразил Достоевский в романе «Бесы». Правительство арестовывало этих людей, ссылало их, сажало за решетку — и своим упрямым нежеланием принимать меры, способные облегчить последствия неудачной земельной реформы, само склонило русских либералов к сочувствию революционерам. А те, ощутив общественную поддержку, в конце концов решились на организованный терроризм — хотя революционные цели оставались достаточно умеренными. Открытое письмо, адресованное ими новому Государю в 1881 году, умеренно и либерально по тону. «Террор, — сказала знаменитая революционерка Вера Фигнер много лет спустя, — создавал условия, в которых люди могли развивать свои способности и служить обществу»1. Упомянутому обществу, путь в которое прокладывали взрывами и выстрелами, надлежало быть совершенно мирным, децентрализованным, снисходительным и человеколюбивым. Государство по-прежнему считали наиглавнейшим врагом.
Волна терроризма плеснула выше всего в 1881 году: народовольцы убили Государя Александра II. Но вожделенная революция не разразилась. А революционные организации были раздавлены, ибо новый император повелел покончить с террористами решительно и безо всякой пощады. В этом его поддержало большинство населения, содрогнувшегося, когда погиб Государь-Освободитель, отменивший крепостное право и, по слухам, обдумывавший дальнейшие либеральные нововведения. Самых видных вожаков народничества казнили и ссылали; деятели поменьше бежали за границу, а наиболее одаренные из уцелевших и оставшихся на свободе — Плеханов и Аксельрод — постепенно склонились к марксизму. Смущенные собственным признанием Маркса: дескать, в принципе, Россия способна избежать капиталистической стадии развития — даже если ей не поможет в этом всемирная коммунистическая революция (Энгельс признал то же самое, но куда неохотнее и с оговорками), они взялись утверждать, что на самом деле Россия уже достигла капиталистической стадии. Плеханов и Аксельрод объявили: поскольку развития капитализма в России уже не избежать — как не сумели избежать его на Западе, — бессмысленно и бесполезно было бы отворачиваться от «железной» исторической логики, а посему социалистам надлежит не противиться индустриализации, но поощрять ее: нужно извлекать из индустриализации выгоду — ибо лишь она, она одна вы- плодит рать революционеров, достаточно многочисленную, чтобы свергнуть врага-капиталиста, — армию, образуемую растущим городским пролетариатом, уже организованным и дисциплинированным благодаря условиям своего труда.
Огромный скачок в сторону промышленного развития, произошедший в 1890-е годы, казалось, подтверждал марксистские тезисы. Он понравился революционным интеллигентам по различным причинам: поскольку, предположительно, произошел в согласии с выводами, полученными из «научного анализа исторических законов», от коих нет надежды увильнуть ни единому обществу; поскольку, предположительно, этот скачок мог подтвердить, что в неумолимом течении «правильного» исторического процесса непременно сыщется просторное место насилию, нищете, мукам и произволу, — но у повести будет счастливый конец! И, стало быть, совесть людей, чувствовавших себя виновными в том, что глядели сквозь пальцы на эксплуатацию и нищету, или же не предпринимали «активных» — то есть насильственных — мер к их смягчению либо искоренению, как того требовала народническая школа мысли, оказалась ублажена: сама наука гарантировала, что дорога свободы — пускай даже вымощенная трупами безвинно убиенных — обязательно и неукоснительно приведет ко вратам земного рая. Согласно этому взгляду, экспроприация экспроприаторов приключится по чистейшей логике общечеловеческого развития, — но поступь истории можно ускорить, а родовые схватки облегчить сознательной организованностью: прежде всего, накоплением более глубоких знаний — а именно просвещением и образованием рабочей массы и ее вожаков. Такое воззрение было весьма по вкусу всем, кто, будучи достаточно разумен, отнюдь не желал продолжать бесполезный террор, приводивший террористов на эшафот или в Сибирь, а теперь сыскал доктрину, оправдывавшую и мирные ученые труды, и жизнь, посвящаемую усвоению новых идей, — занятия, куда более подобающие интеллигентному человеку, чем стрельба по безоружным и швыряние бомб.
Героизм, бескорыстие и личное благородство народников сплошь и рядом признавали даже их недруги-марксисты. На них смотрели, как на предшественников по-настоящему разумно выстроенной революционной партии, — а Чернышевскому зачастую отводили и более почетное местечко: Николая Гавриловича жаловали чином великого борца за свободу и титуловали гением — эмпирически, ненаучно, да все же инстинктивно-верно подбиравшимся к истинам, которые в полном блеске сумели явить миру только Маркс и Энгельс, якобы вооруженные точным научным знанием, коего не сумели накопить ни Чернышевский, ни кто-либо иной из ему современных русских мыслителей. А Маркс и Энгельс весьма изрядно подобрели к России: ведь русские — донельзя признательные обоим за чудесную помощь, оказанную бунтарям-любителям, жившим на отшибе от Запада и поневоле пользовавшимся орудиями домашней выделки, — превозносили обоих наставников напропалую. Изо всех европейцев только русские умудрились к 1880 году создать у себя на родине полновесную революционную ситуацию; тем не менее, русским растолковывали (особенно старался Каутский), что без профессиональных методов и новейших идей, изобильно поставляемых «научным социализмом», далеко не уйдешь.
Народничество сбросили со счетов, как смесь обычного негодования с утопическими взглядами, опасно бурлившую в черепах полуграмотных мужиков-самоучек, простодушных и добрых студентов и прочих заблудших жертв общества, орудовавших в смутный исторический промежуток меж отменой изжившего себя феодализма и началом новой, капиталистической, эпохи в отсталой стране. Марксистские историки поныне склонны именовать народничество движением, зиждившимся на систематически неверном толковании экономических фактов и общественных явлений, на благородном, но бесполезном индивидуальном терроре, на стихийных или неуправляемых мужицких бунтах — неминуемо жалким началом настоящей революционной деятельности, увертюрой к опере, парадом простодушных идей и никчемных приемов, — неизбежно развеявшихся под могучим дыханием новой, диалектической революционной науки, глашатаями коей выступили Плеханов и Ленин.
А что же за цели преследовали народники? Меж ними шли самые жаркие препирательства насчет методов, средств, насчет урочного часа, — но только не касаемо конечных целей. Безвластие, равенство, насыщенная жизнь для всех и каждого — разумеется, в этом не сомневался никто. Но похоже, что целое движение —г разношерстное сборище, описываемое Франко Вентури в его книге столь ярко и с такой любовью, — и «умеренные» и «якобинцы», и террористы и просветители, и «лавристы» и «бакунисты», и «троглодиты», и «строптивые», и мужики; члены «Земли и воли» и «Народной воли», — руководились общим для всех и единственным мифом: как только «чудовище» погибнет, спящая царевна — деревня русская — незамедлительно пробудится, да и станет жить- поживать, добра наживать..
Таково было народничество, историю которого изложил Франко Вентури в самом полном, самом вразумительном, самом безупречно написанном и самом беспристрастном труде изо всех, посвященных этой эпохе русского революционного движения и выходивших когда-либо на любых языках. Но, если народничество было заведомой неудачей, коль скоро оно зиждилось на ложных убеждениях и взглядах, ежели его так легко уничтожила царская полиция — не представляет ли оно большего интереса, чем обычный исторический? Ведь перед нами рассказ о жизни и смерти целой партии, повесть о ее идеях и действиях... По этому поводу Вентури, как и подобает историку беспристрастному и учтивому, прямо не высказывается. Он повествует в хронологической последовательности, говорит о событиях, описывает причины и следствия, проясняет взаимоотношения различных народнических течений, — а нравственные и политические догадки предоставляет строить читателям. Книга Вентури ни самих народников, ни противников их не обеляет и не превозносит. Автор не хвалит и не осуждает, он всего лишь старается понять. А человеку, преуспевшему в подобной работе, отнюдь и не требуется иной награды.
Иногда задумываешься: а стоит ли отметать народничество так легко, как его доныне отметают историки — и коммунистические, и буржуазные? Ужель народники и впрямь обманывались настолько безнадежно? Ужель и Чернышевский, и Лавров — да и Карл Маркс, внимательно к ним прислушивавшийся, — пребывали в полнейшем заблуждении?
Разве капитализм и впрямь был неминуем в России? Последствия ускоренной индустриализации, предсказанные новыми экономистами-народниками в 1880-х, — а именно: социальные и экономические бедствия, ничуть не уступавшие невзгодам, которые пережил Запад в эпоху промышленной революции, постигли Россию уже перед Октябрьской революцией, и заметно умножились после нее. Возможно ли было избежать их? Кое-какие ученые историки считают подобный вопрос несуразным по сути. Что случилось, то случилось.
Нам говорят: коль скоро признаете причинно-следственные связи в делах человеческих, извольте признать, что происшедшее могло произойти лишь так, как произошло, и никак иначе; задаваться праздным вопросом «а если бы?» значит бесцельно и бессмысленно утруждать воображение — это серьезному историку не к лицу. Но этот чисто академический вопрос отнюдь не бессмыслен в наши дни. Есть государства — скажем, Турция, Индия, некоторые страны Среднего Востока и Латинской Америки, — осуществляющие замедленную индустриализацию, не столь явно грозящую немедленным разорением отсталых областей, коим более не удастся встать на ноги, — причем, промышленное развитие предпочли замедлить сознательно, помня об итогах форсированных маршей, предпринятых сперва Советским Союзом, а затем и Китаем. Неужто все эти государства, чуждые марксизму, движутся роковым, погибельным путем? Ведь в основе социалистической хозяйственной политики, ныне проводимой этими и другими странами, лежат идеи популизма — то есть народничества.
Когда Ленин готовил и учинял большевицкую революцию 1917 года, приемы его — по крайности, prima facie — больше напоминали повадки русских «якобинцев»: Ткачева и его последователей, в свой черед учившихся у Бланки и
Буонарроти, чем образ действий, рекомендуемый Марксом и Энгельсом (во всяком случае, после 1851-го). В конце концов, Россией к 1917 году самодержавно правил отнюдь не высоко развитый капитализм. Русский капитализм все еще набирал силы, а до власти добраться не успел, поскольку по-прежнему стряхивал оковы, наложенные на него монархией и бюрократией, — подобное было и во Франции восемнадцатого столетия.
Но Ленин действовал так, словно банкиры и заводчики уже прибрали бразды правления к рукам. Он и действовал и говорил, словно исходя из этого, — но ленинская революция преуспела не столько потому, что большевики якобы овладели всеми финансовыми и промышленными центрами государства (историкам уже следовало бы опровергнуть сие утверждение), сколько потому, что решительная и хорошо обученная клика профессиональных революционеров захватила власть чисто политическую — в точности придерживаясь ткачевских наставлений.
Успей российский капитализм достигнуть стадии развития, коей, согласно историческим теориям Карла Маркса, ему надлежало достичь, дабы пролетарская революция грянула успешно, — решительная кучка мятежников (причем очень маленькая!), устроившая по сути дела обычный путч, ex hypothesis не продержалась бы у власти долго. И Плеханов, яростно обличавший Ленина в 1917-м, твердил об этом без устали — справедливо не обращая внимания на ленинские доводы: дескать, многое можно позволить себе в отсталой стране, ибо итоги восстания должным образом закрепятся после революций, что, согласно гениальным предсказаниям Карла Маркса, успешно последуют за русской на более про- мышленно развитом Западе.
Вышло иначе; история доказала: предположения Ленина неверны, — однако болыиевицкая революция не пошла прахом. Неужто марксистская историческая теория неверна? Или меньшевики неверно поняли ее, проглядели антидемократические тенденции, торжество коих учение Маркса предполагало по самой сути своей? В каком же случае меньшевистские нападки на Михайловского и его друзей были всецело оправданы? К 1917 году страх меньшевиков перед болыиевицкой диктатурой вырастал из соображений, подобных прежним; более того, результаты Октябрьской революции оказались пугающе схожи с теми, которые предрекались противниками Ткачева, говорившими: если его методы восторжествуют, неизбежно возникнет «элита», обладающая диктаторской властью. Теоретически элите полагалось бы рассеяться, исполнив свою задачу; но — как неустанно повторяли народники — на деле она, всего скорее, станет еще более воинственной и могучей, а затем примется увековечивать себя: ни единая диктатура не устояла перед таким соблазном.
Народники были убеждены, что погибель крестьянской общины означала бы погибель (во всяком случае, долгий обморок) русской свободы и равенства; а левые эсеры, прямые потомки народников, потребовали децентрализованного, демократического деревенского самоуправления; на это согласился Ленин, заключивший с эсерами временный союз в октябре 1917-го. Но в должный срок большевики отвергли эту программу и сделали профессиональные революционные ячейки — вероятно, самый своеобразный вклад, внесенный народниками во всемирную революционную практику, — сплоченной иерархией централизованной политической власти, упорно и яростно обличавшейся представителями народничества, пока их самих — уже звавшихся к тому времени социалистами-революционерами (эсерами) — не запретили и не истребили.
Коммунистическая практика — Ленин охотно признавал это — была многим обязана движению, именовавшемуся народничеством: коммунисты заимствовали приемы и повадки у своих же противников, чуть видоизменяли заимствованное — и с великим успехом ставили на службу тому самому делу, которого народники столь отчаянно страшились.
Толстой и просвещение
Р
епутация гр. Толстого двойственна, — писал известный русский критик Михайловский в ныне забытом очерке: — как из ряду вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в какую-то аксиому, не требующую никаких доказательств»1. Этот, почти всеобщий, приговор оставался в силе и, по сути, никем не обжаловался примерно сотню лет; попытка Михайловского подвергнуть его сомнению осталась одной из немногих и особой поддержки не встретила. Сам же Толстой считал своего «левого» приверженца заурядным литературным поденщиком либерального толка и удивлялся тому, что им интересуются вообще. Вполне по-толстовски, но вряд ли справедливо. Очерк, озаглавленный автором «Десница и шуйца Льва Толстого», — блистательная и убедительная речь, произнесенная в защиту Льва Толстого как художника и проповедника нравственности, направленная главным образом против либералов и социалистов, усматривавших в этических поучениях писателя — особенно в прославлении мужика и природных склонностей, в постоянных нападках на ученую культуру — извращенное, изощренное мракобесие, вредившее делу свободолюбия, игравшее на руку священнослужителям и реакционерам. Михайловский отверг эти взгляды и, в течение своей долгой и старательной попытки исследовать суждения Толстого и отвеять их просветительские зерна от реакционных плевел, пришел к выводу: взгляды великого творца на человеческую природу и на задачи, стоявшие перед цивилизациями русской
'Десница и шуйца Льва Толстого (1875). См.: Н.Михайловский. Литературная критика: статьи о русской литературе XIX — начала XX века. Л., 1989, стр.37.
и европейской, содержали в себе скрытое и неразрешенное противоречие. Михайловский утверждал: отнюдь не являяс! «плохим мыслителем»у Толстой изучал, а затем изображал идеи ничуть не менее отчетливо, тонко и убедительно, чем людские чувства, нравы и поступки. Отстаивая свое парадоксальное утверждение — безусловно, вполне парадоксальное в те дни, когда Михайловский работал над очерком, — временами автор заходит чересчур далеко; но все-таки, мне кажется, что в основном судит он верно — по крайности, скорее верно, чем ошибочно, — и мои собственные дальнейшие замечания служат всего лишь приправой к этому изысканному блюду.
Толстовские высказывания всегда субъективны и, случается, звучат совершенно дико (например, отзывы о Шекспире, Данте и Вагнере). Но вопросы, на которые Толстой пытается ответить в своих наиболее дидактических произведениях, почти всегда первостепенно важны, принципиальны, почти всегда порождены собственным опытом и почти всегда изучаются — будучи представлены в намеренно упрощенном виде, без каких-либо прикрас — гораздо глубже, нежели принято у мыслителей более «объективных» и уравновешенных. Пристальный взгляд в упор неизменно тревожит и раздражает. Лев Толстой глядел на вещи в упор и как можно пристальнее, чтобы отобрать покой и у себя самого, и у читателя. Он имел обыкновение задавать вопросы преувеличенно простые, но фундаментальные по сути, сам не зная — по крайности, в 1860-е и 1870-е годы — правильных ответов, и стяжал себе славу «нигилиста».
Но, безусловно, Толстой ничего не уничтожал во имя простого уничтожения. Толстому лишь хотелось — больше всего на свете — познать истину. Сколь разрушительна бывает подобная страсть, нам показали другие, отважившиеся копать глубже, нежели дозволяла мудрость, присущая их эпохе: Руссо, Паскаль, Маккиавелли, создатель Книги Иова. Подобно этим людям, Толстой не вмещается ни в какие рамки общественных движений своей —да и любой иной — эпохи. Единственное общество, членом коего Толстой числится —
крамольное братство искателей истины: тех, кому не давали и, похоже, вовеки не дадут ответов — во всяком случае, ответов хоть мало-мальски приемлемых с их собственной точки зрения и с точки зрения родственных им душ.
Что до положительных идей Толстого — изменявшихся в течение долгой жизни писателя меньше, нежели временами утверждалось, — они вовсе не самобытны: есть у них немало общего с мыслями и французских просветителей восемнадцатого столетия, и с философией двадцатого; а вот с идеями, Толстому современными, — немного. Лев Николаевич не примыкал ни к одному из великих идейных течений, разделявших и разобщавших русское общественное мнение в годы его юности. Не был он радикальным интеллигентом, глядящим на Запад; не был и славянофилом, верящим в народную, православную монархию. Его взгляды шли вразрез обеим этим школам мысли. Подобно радикалам, Толстой неизменно осуждал политический гнет, произвол, экономическую эксплуатацию — все, чем порождается и увековечивается людское неравенство. Все прочие воззрения «западников» — сердцевину интеллигентской идеологии, — всепобеждающее чувство гражданской ответственности, убеждение, что естественные науки суть врата любой и всякой истины, веру в политические и общественные реформы, в народовластие, в материальный прогресс, в отделение школы и государства от церкви — всю эту пресловутую смесь Толстой отверг еще в молодости: решительно, раз и навсегда. Он стоял за свободу личности, да и за прогресс тоже — однако на свой собственный, необычный лад[271]. Он глядел на либералов и социалистов с презрением, а на тогдашние «правые» партии — с неподдельной ненавистью. Ближе всех прочих, как отмечалось не раз и не два, Толстому был Жан-Жак Руссо; писатель восхищался взглядами Руссо больше, чем суждениями кого бы то ни было из новейших авторов. Вместе с французом Толстой отвергал понятие о первородном грехе, полагая, будто человек рождается невинным, а впоследствии его растлевают скверные людские установления, порядки и обычаи — особенно то, что среди людей цивилизованных зовется образованием. Опять же подобно Руссо, он возлагает вину за это главным образом на людей мыслящих: самозванную элиту, многомудрые котерии, далекие от остального человечества, добровольно отстранившиеся от естественной жизни.
Эти умники прокляты, поскольку они почти напрочь утратили драгоценнейшее людское достояние: врожденную способность видеть истину — вечную и незыблемую, которую только шарлатаны да софисты считают меняющейся в зависимости от места, времени, обстоятельств, — истину, вполне зримую лишь тем, чьи сердца еще не развращены: детям, крестьянам — существам, не ослепляемым суетностью и гордыней, простым и добрым. Образование, как его понимают на Западе, истребляет людскую добродетель и невинность. Потому-то и противятся ему дети неосознанно и яростно, потому-то и приходится буквально вколачивать образование в их головы, потому-то, наравне со всеми иными видами принуждения и насилия, образование уродует свою жертву — случается, непоправимо. Человек естественно алчет истины; следовательно, истинному образованию надлежит быть таким, чтобы и дети, и простодушные, вполне невежественные взрослые накидывались на него с готовностью и жадностью. Но уразуметь это, и понять, как лучше употребить свое разумение в дело, образованный человек может лишь избавившись от умственной спеси и все начав заново.
Следует очистить свое сознание от пустых теорий, от ложных, квази-научных сравнений людского мира с миром животных, а также мира одушевленного с неодушевленным. Только тогда сумеют образованные люди возобновить с необразованными тесные отношения — отношения, породить которые способны лишь человеколюбие и доброта.
Кажется, в новейшее время до такого додумались только Руссо и, по-видимому, Диккенс. Конечно же, положение народа не улучшится, покуда не только царскую бюрократию, но и «прогрессистов», как зовет их Толстой, — тщеславных интеллигентов-доктринеров, — не скинут вон и прочь с народной (и детской) шеи. Покуда фанатические теоретики не прекратят наводить порчу на образование, хорошего ждать не приходится. Старый добрый сельский священник, пишет Толстой в одной из ранних статей, не причиняет вреда: пускай он малосведущ, неуклюж, неповоротлив и недалек — однако же он видит в своих прихожанах людей, а не подопытных двуногих животных из некой научной лаборатории; священник делает все, что может; пускай он зачастую корыстен, раздражителен, несправедлив — ему не чуждо ничто человеческое, а это грехи человеческие, «природные», и потому священник, в отличие от ученых наставников- нелюдей, порожденных неведомой машиной, отнюдь не причиняет окружающим непоправимых духовных увечий.
Неудивительно, что при подобных взглядах Толстой чувствовал себя уютнее среди славянофилов. Их идеи писатель отвергал; но, по крайности, славянофилы не рвали связей с действительностью — родной русской землей, крестьянством, исконным образом жизни. По крайности, они верили в превосходство духа над материей и считали тщетными потуги улучшить людскую природу, изменяя не глубинную суть, а лишь поверхность земного существования с помощью политических или конституционных реформ. Но кроме этого, славянофилы верили в Православную Церковь, в историческую избранность русского народа, в непогрешимость истории — поскольку ход истории предначертан свыше, — и оправдывали множество нелепостей только потому, что были они исконно русскими; славянофилы по-христиански верили в великое мистическое целое: слитые воедино Церковь и общество, состоящее из православных людей — ушедших, ныне здравствующих и еще не родившихся на земле. Ум Толстого противился таким воззрениям, а душа тянулась им навстречу изо всех сил.
Хорошо знал и понимал Толстой лишь дворянство и крестьянство — причем дворянство знал и понимал гораздо лучше; он разделял многие безотчетные убеждения своих сельских соседей, помещиков; подобно им, испытывал неодолимое омерзение к любому и всякому буржуазному либерализму: в романах Толстого мещане-буржуа появляются очень редко. Его отношение к парламентской демократии, женским правам, всеобщему голосованию примерно совпадает с отношением Коббетта, Карлейля, Прудона или Дэвида-Герберта Лоуренса. Толстой всецело разделял славянофильское недоверие ко всем научным и теоретическим обобщениям как таковым — оно и стало связующей нитью, сделавшей отношения писателя с московскими славянофилами приятельскими. Но разум Толстого далеко не шел рука об руку с его подсознательными убеждениями. Толстой-мыслитель оставался глубоко родствен pbilosopbes'aM восемнадцатого столетия. Подобно им, он видел в патриархальном Государстве Российском и Православной Церкви, любезных славянофилам, организованное и лицемерное сборище заговорщиков. Подобно мыслителям французского Просвещения, он искал драгоценных добродетелей не в истории, не в священных миссиях народов, культур и церквей, а в переживаниях отдельной личности, в накапливаемом ею опыте. Подобно им же, он верил в извечные (отнюдь не исторически развивающиеся) истины и добродетели, обеими руками отталкивая романтическое представление о расе, или народе, или культуре как созидающих началах, а еще яростнее отбрасывал гегельянскую доктрину, гласившую: история есть самовыражение самосовершенствующегося разума, воплощенного в людях, общественных движениях, установлениях и учреждениях (идея, изрядно повлиявшая на сверстников Толстого) — до скончания дней земных Толстой считал ее непроницаемо туманным вздором.
Это ясное, холодное, неуступчивое здравомыслие явственно сквозит уже в юношеских дневниках, заметках и письмах, а воспоминания людей, знавших Толстого подростком или студентом Казанского университета, подтверждают читательское впечатление. По душевному складу своему Толстой был законченным консерватором, отчасти своенравным и безрассудным человеком, но мыслил спокойно, логически, сосредоточенно; за доводами и доказательствами следил очень легко, без робости — сколь бы далеко те ни заводили в итоге: чисто русское сочетание личных качеств, иногда погибельное.
Толстой покинул Казанский университет, заключив, что профессоры несведущи и лишь толкут воду в ступе. Вослед за Гельвецием и его друзьями, отвергавшими в середине XVIII века богословие, историю и преподавание давних языков — по сути, все классическое образование, — отвергал их и Толстой: как нагромождение никчемных сведений, даром не нужных ни единому здравомыслящему человеку. История особенно раздражала его упорными поползновениями решать вопросы, вообще не существующие, а все поистине важное оставлять незамеченным. «История подобна глухому человеку, отвечающему на вопросы, которых никто ему не делает»[272], — заявил Толстой, ошарашив этими словами однокурсника, запертого вместе с ним в университетском карцере за мелкое неповиновение начальству. А впервые Толстой обширно и полностью изложил свои воззрения в 1860-е годы, поскольку взялся было сочинить целый трактат, посвященный образованию. В эту попытку Толстой вложил и всю умственную силу свою, и всю предвзятость.
В 1860-м тридцатидвухлетний писатель пережил один из нравственных кризисов, приключавшихся у него время от времени. Толстой уже сделался довольно известен: «Севастопольские рассказы», «Детство», «Отрочество», «Юность» и две-три повести покороче привлекли благосклонное внимание критики. Толстой водил дружбу с некоторыми из наиболее одаренных тогдашних авторов, — а поколение вообще было исключительно талантливо, — с Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Панаевым, Писемским, Фетом. Произведения Толстого изумляли всех и каждого свежестью, остротой, непревзойденной описательной силой, точностью и самобытностью образов. Случалось, толстовский слог порицали, как неуклюжий, даже варварский — и, хотя Лев Николаевич безусловно числился наиболее многообещающим среди младших прозаиков, друзья-литераторы хвалили его с оговорками.
Толстой был равно вхож в литературные салоны правого и левого толка (политические разногласия, искони существовавшие в Петербурге и Москве, лишь обострялись), но в своей тарелке не чувствовал себя нигде. Он был дерзок, наделен живым воображением, независим, но собственно литератором не был — то есть оставался относительно равнодушен к вопросам словесности, а к писательскому быту и подавно; в салонах он выглядел случайным пришельцем из другого мира — менее изощренного умственно, более аристократического, более первобытного. Как автор, Толстой был родовитым дилетантом; ничего нового или удивительного — вся поэзия Пушкинской эпохи, не имеющая равных в русской литературе, создавалась гениальными любителями. Не происхождение Толстого, а его неприкрытое безразличие к литературной жизни как таковой — к привычкам и заботам профессиональных писателей, издателей, публицистов — настораживало его друзей и собратьев по перу. Отменно воспитанный, разумный молодой офицер мог быть очень приятен в общении, а писательство любил искренне и преданно, однако в литературной среде вел себя надменно, важничал и держался особняком; Толстой и не думал о сердечных излияниях, будучи окружен людьми, только и знавшими, что бесконечно и безудержно раскрывать перед приятелями свою душу. Он был непроницаем, презрителен, высокомерен — и приводил в смятение, а временами даже пугал. Правда, Толстой уже оставил повадки офицера из аристократов. Ночные кутежи, о коих желторотые радикалы говорили с ненавистью и презрением, как о привычных бесчинствах реакционной jeunesse doree, приелись Толстому[273].
Он успел жениться и остепениться, любил жену и превратился (правда, лишь на время) в образцового (правда, отнюдь не всегда) мужа. Но Толстой не заботился о том, чтобы скрывать полное предпочтение, отдававшееся им «живой жизни» во всех ее проявлениях — казачьей вольнице на Кавказе, московскому быту молодых и богатых гвардейских офицеров, с их рысаками, балами, цыганами, — перед миром книг, литературных обозрений, критиков, профессоров, политических препирательств, бесед об идеалах, суждениях, литературных достоинствах и недостатках. А кроме того, Толстой был самоуверен, своеволен, сварлив, а по временам нежданно и донельзя свиреп; неудивительно, что друзья-писатели подходили к нему с опасливым почтением, а в конце концов отшатывались — впрочем, возможно, что Лев Николаевич отворачивался от них первым. За вычетом Афанасия Фета, бывшего уездным помещиком — столь же чудаковатым и консервативным, сколь и сам Толстой, — у великого романиста не было близких друзей среди писателей-сверстников. Общеизвестен его разрыв с Тургеневым. От прочих litterateurs он отстоял еще далее; Некрасова-человека любил гораздо больше, нежели Некрасова-поэта; но ведь Некрасов был гениальным издателем, с самых первых литературных шагов Толстого восхищавшимся молодым прозаиком и всячески поощрявшим его писать.
Толстого преследовало ощущение противоречия между жизнью и литературой, заставляло сомневаться в писательском призвании. Подобно другим благородным и богатым русским людям, он мучился угрызениями совести при мысли об устрашающем положении мужика. Просто-напросто раздумывать или даже метать словесные громы и молнии для Толстого значило увиливать от борьбы. Следовало действовать, а начинать надлежало со своего же собственного поместья. Подобно радикалам восемнадцатого столетия, он был убежден: люди рождаются равными, а неравными их делает воспитание. Учредив у себя в деревне школу для мальчиков и будучи разочарован воспитательными теориями, не сходившими в то время со всех русских уст, писатель решил поехать за границу и познакомиться с методами западного образования как в теории, так и на деле. Он почерпнул немало, посетив Англию, Францию, Швейцарию, Бельгию и Германию — даже вывез оттуда заглавие величайшего своего романа. Но и беседы с ученейшими, передовыми западными знатоками и наблюдение за их методами убедили Толстого: эти методы, в лучшем случае, бесполезны, а в худшем — попросту вредоносны для детей, обучаемых согласно им. В Англии Толстой не задержался, на ее «устарелые» школы глядел недолго. Во Франции он увидел образование почти всецело механическое — там процветала зубрежка. На загодя приготовленные вопросы отвечали без запинки, перечни дат выпаливали единым духом — все заучивалось наизусть. Но те же дети, слыша вопрос, поставленный несколько неожиданным образом, терялись и отвечали невпопад; это значило только одно: учению была грош цена. Школьник, заявивший, что Генриха Четвертого заколол кинжалом Юлий Цезарь, показался Толстому весьма типическим: ребенок не понимал заученных фактов и оставался вполне равнодушен к ним; при таком натаскивании упражнялась только механическая память.
Но истинным логовом теоретиков оказалась Германия. Страницы, посвящаемые Толстым описанию германских преподавателей и германского преподавания, соперничают со знаменитыми, ядовитейшими страницами «Войны и мира», где Толстой поднимает на смех прославленных знатоков иного дела — именитых немецких стратегов, состоявших на русской службе: напыщенных, карикатурных болванов.
В «Ясной Поляне», журнале, который Толстой издавал частным образом на протяжении 1861-1862 годов, писатель рассказывает о своих поездках на Запад, из коих рассчитывал вынести немало полезного для целей народного просвещения; читателя, в частности, устрашает (и смешит едва ли не до слез) повесть о том, как немецких школьников обучают азбуке согласно самым новым методам: наставник усвоил их в одном из наиболее передовых педагогических училищ[274]. Толстой описывает учителя: невероятно самодовольного педанта, входящего в классную комнату и с удовольствием примечающего: все дети сидят за партами, подавленные и покорные, — сидят в гробовой тишине, предписываемой германскими правилами школьного поведения. «Учитель оглядывает своих учеников и уже знает все, что они должны понимать; знает, из чего состоит их душа, и много еще другого, чему он научен в семинарии». Учитель вооружился наиновейшим, наи- прогрессивнейшим учебным фолиантом, именуемым «Фиш- Бух»[275] — собранием нарисованных рыбок.
«Он открывает книгу и показывает рыбу. «Что это такое, милые дети»? Это, изволите видеть, Anschauungsunterricht*. Бедные дети обрадуются <... > они скажут: «Это рыба». — «Нет, — говорит учитель. — Что вы видите?» Дети молчат. Не забудьте, что они обязаны сидеть чинно, каждый на своем месте и не шевелиться. <...> «Что же вы видите?» — «Книжку», — говорит самый глупый. Все умные ужь передумали в это время тысячу раз, что они видят, и чутьем знают, что им не угадать того, чего требует учитель, и что надо сказать, что рыба не рыба, а что-то такое, чего они не умеют назвать. «Да, да», — говорит с радостью учитель: «очень хорошо, — книга».
Умные осмеливаются, глупый сам не знает, за что его хвалят. «А в книге что?» — говорит учитель. Самый бойкий и умный догадывается и с гордою радостью говорит: «Буквы». — «Нет, нет, совсем нет», даже с печалью отвечает учитель, «надо думать о том, что говоришь». Опять все умные в унынии молчат <... >. «Так что же в книге?» Все молчат. — «Что вот здесь?» Он указывает на рыбу. — Рыба, — говорит смельчак. «Да, рыба, но ведь не живая рыба?» — Нет, не живая. — «Очень хорошо. А мертвая?» — Нет. — «Прекрасно. Какая же это рыба?» — Ein Bild — картина. — «Так, прекрасно». Все повторяют: это картина, и думают, что кончено. Нет, надо сказать еще, что это картина, изображающая рыбу»[276]. К этому времени дети безнадежно приуныли: они понятия не имеют, как и что следует отвечать. Они смутно и совершенно справедливо подозревают: учитель ожидает какого-то бессмысленного ответа — рыба, например, отнюдь не рыба, — и, чего бы ни ждал учитель, им этого не угадать вовек. Детские мысли начинают блуждать. Дети лениво думают (истинно толстовский штрих): «какие очки у учителя, зачем он не снимет их, а смотрит через них и т. п.». Учитель побуждает их сосредоточиться, он тиранит их и мучит, покуда не заставит сказать: перед нами не рыба, но картинка — и, после новых истязаний, добавить: а на картинке — рыба. Ежели наставник добивается только этого, не проще ли было бы, спрашивает Лев Толстой, заставить их просто зазубрить столь великую премудрость, а не терзать согласно «методу Fisch-Buch»y не учащему самостоятельно мыслить, а лишь отупляющему вконец?
По-настоящему разумные дети понимают: верного ответа вообще не дашь — невозможно; почему так, они сказать не могут, но твердо знают, что это так; а тупица, иногда отвечающий впопад, понятия не имеет, за что его хвалят. По сути германский учитель скармливает мертвый человеческий материал — вернее, живых маленьких людей — карикатурной машине, изобретенной фанатическими остолопами, убежденными, что именно так и должно давать людям образование «по науке». Толстой заверяет: вышеприведенный рассказ (точнее, приводимый нами краткий отрывок из этого рассказа) — не издевательская пародия, но верное изложение увиденного и услышанного писателем в передовой немецкой школе. «... Не говоря о лжи этих метод, о насиловании духа учеников, — для чего нам, у которых по "буки-аз-ба" понамари выучивают грамоте в шесть месяцев, заимствовать Lautieranschauungsunterrichtsmethodeпо которой учатся год и более!»[277]
Разочарованный и рассерженный, Толстой вернулся к себе в имение и принялся учить крестьянских детей самостоятельно. Он строил школы, продолжал набираться педагогических знаний, отвергать и обличать модные образовательные доктрины, публиковать фельетоны и брошюры; он изобретал новые методы преподавания физики, географии, зоологии, сочинил целый учебник арифметики, с жаром порицал всякое школьное принуждение — особенно то, при коем сопротивляющихся детей понуждают зазубривать факты, цифры и даты. Короче сказать, вел себя, как вольнодумный, неугомонный, просвещенный, своенравный и несколько чудаковатый помещик восемнадцатого столетия, внимающий наставлениям Руссо и аббата Мабли. Его рассказами о теоретических выводах и опытах чисто практических заполняются в дореволюционных собраниях сочинений два увесистых тома. Эти очерки и статьи доныне остаются увлекательным чтением хотя бы потому, что содержат превосходные описания деревенского быта и жизни крестьянских детей: рассказы лирические и в то же время забавные — из числа наилучших, когда-либо созданных Толстым. Работа шла в течение 1860-х и 1870-х, когда толстовский талант уже достиг своего расцвета. Легко забываешь о том, что перед тобою сочинения дидактические по замыслу и существу — со столь несравненной чуткостью воспроизводит Лев Толстой хитросплетения детских мыслей и чувств, столь «осязаемо» и вдохновенно передает крестьянскую речь, описывает сельские повадки, изображает окружающую природу. Но бок о бок с этими безукоризненными картинами живой жизни выстраиваются недвусмысленные и незыблемые догмы, излагаемые твердолобым доктринером, неким рационалистом, явившимся из восемнадцатого столетия, — догмы, не слитые с описываемым бытием, а напротив, лишь его застящие: так симметричные, геометрические узоры цветных оконных стекол застят вид, коему належало бы открываться из этих окон; а все же, и скучные, сухие назидания естественно вкрапляются в текст, создавая иллюзию художественного единства—благодаря безмерной жизнерадостности и творческому гению пишущего. Перед читателем одно из необычнейших произведений в истории словесности.
Противник у Толстого один и тот же: знатоки, профессионалы — все те, кто посягает на особое право помыкать себе подобными. Сплошь и рядом Толстой обрушивается на университеты и университетских профессоров. Первые — слабые и еще отдаленные — раскаты этих громов слышатся уже в ранней автобиографической книге «Юность». Уничтожающие толстовские отзывы о недалеких и невежественных русских профессорах, об отчаянно тоскующих и подобострастных русских студентах приводят на память восемнадцатый век, Вольтера и Бентама. Но в девятнадцатом веке подобный тон — высокомерный, сухой, едкий, язвительный, испепеляющий неприятеля и одновременно высмеивающий его — сделался необычен; у Толстого все строится на противопоставлении гармонической природной простоты и пагубных, самоубийственных осложнений, порождаемых тупостью или злобой людей — тех самых людей, которым автор чужд, которых он, по собственным словам, не разумеет, над которыми насмехается издали.
Здесь уже начинает чуть заметно брезжить мысль, коей Толстой был попросту одержим во второй половине жизни: решение всех наших незадач обретается прямо под рукой, оно везде и всюду, оно объемлет нас; оно подобно дневному свету: лишь не смыкайте век — и увидите немедля; не ищите вслепую, впотьмах: решение везде и всюду — чистая, прозрачная, простая, неотразимая истина.
Подобно Руссо, Канту и поборникам естественного права, Толстой был убежден: у людей — всегда и повсеместно — имеются некие основные материальные и духовные потребности. Если упомянутые потребности удовлетворяются, люди живут гармонично — в этом суть человеческой природы. Нравственные, эстетические и прочие духовные ценности объективны и вечны, а внутренняя гармония личности зависит от верного отношения к ним. Помимо этого, Толстой всю жизнь отстаивал (правда, не в романах и не в очерках) утверждение: человеческие существа гармоничнее в детские, нежели в дальнейшие годы — когда подвергаются тлетворному воздействию образования; а простые люди (казаки, мужики и так далее) относятся к основным духовным ценностям «естественнее» и вернее людей цивилизованных; простонародье свободно и независимо так, как не способен быть свободен и независим человек цивилизованный. Ибо (Толстой настаивает на этом снова и снова) сельские общины способны удовлетворять основным нуждам, телесным и духовным, собственным попечением — коль скоро, конечно, их не грабят и не порабощают эксплуататоры или угнетатели; а цивилизованным людям, чтобы выжить, нужно пользоваться трудом рабов, холопов, крепостных — короче сказать, «угнетаемых масс», по языковой иронии именуемых «иждивенцами», хотя в действительности на их иждивении состоят сами господа. Живущие на чужой счет, господа опускаются не только потому, что порабощать и эксплуатировать других значит отрицать объективные духовные ценности: справедливость, равенство, людское достоинство, любовь к ближнему — ценности, неотъемлемо и жизненно важные для всякого человека, поскольку он человек, — но и по иной причине: жить взаймы или за счет награбленного значит не быть самостоятельным, искажать «естественные» чувства и ощущения; это нравственно растлевает людей, становящихся злыми и несчастными. Идеал человеческий — общество свободных и равных, осиянных светом справедливости, живущих и мыслящих в согласии с истиной, а потому и не знающих разлада ни с окружающими, ни с собою самими. Перед нами чрезвычайно упрощенная разновидность классической доктрины о естественном праве, а уж с какой точки зрения трактовать ее — с богословской, светской или же либерально-анархической — не играет роли. Этих взглядов Толстой придерживался до конца жизни — ив «светские» свои дни, и после «обращения». Он ярко излагает их уже в ранних повестях. Казаки Лукашка и дядя Ерошка нравственно превосходят Оленина, оба счастливее и, говоря эстетически, гораздо гармоничней молодого юнкера, — и Оленин это разумеет; здесь-то и кроется «изюминка». И Пьер из «Войны и мира», и Левин из «Анны Карениной» так же ощущают превосходство и преимущество мужиков и солдат, ощущает его и Нехлюдов из «Утра помещика». Все больше и больше пропитывался Толстой своим убеждением, пока не затмило оно всех прочих вопросов и тем, затронутых писателем в позднейших книгах: не учитывая этого, не поймешь ни «Воскресения», ни «Смерти Ивана Ильича».
Критические раздумья Толстого непрерывно вращаются вокруг этой основной мысли: противоречия меж естественным и искусственным, истиной и вымыслом. Например, в 1890-е годы, излагая свои понятия о творческом совершенстве (см. введение к русскому переводу рассказов Мопассана), Толстой заявил: во-первых, каждый автор должен быть достаточно талантлив; во-вторых, предмет повествования должен быть нравственно значителен; и, наконец, автор, повествующий о достойной любви, обязан всем сердцем любить, а повествующий о достойной ненависти — всем сердцем ненавидеть описываемое: «вживаться» в рассказ, храня чистое нравственное чутье, присущее детям, а не истязая собственную людскую природу саморазрушительными, добровольно избранными и неизменно призрачными хладнокровием и беспристрастностью — или, того хуже, намеренными подменами «естественных» понятий о добродетели.
Талант раздается людям не поровну, и все же любой, при надлежащем желании, способен обнаружить незыблемые, вечные свойства, определяющие доброе и злое, поистине возвышенное и поистине пошлое. Лишь ложные теории — то есть «измышления» — вводят как обычных людей, так и писателей в заблуждение, уродуя и повседневную жизнь, и творчество. Это мерило Толстой использует буквально, почти механически. Так, Некрасов, по его суждению, поднимал вопросы чрезвычайной важности, обладал великолепным литературным дарованием, однако отношение поэта к собственным крепостным крестьянам-страдальцам и к пригнетаемым идеалистам оставалось холодным и отстраненным. Вопросы, которые затрагивал Достоевский, серьезны донельзя, писательская озабоченность ими неподдельна; однако здесь не выполняется условие первое: Достоевский якобы «растекается мыслию по древу» и повторяется, не умея изречь истину вразумительно, а затем остановиться вовремя. С другой стороны, Тургенев — превосходный писатель, находящийся в должном, нравственно приемлемом отношении к изображаемому, но Тургенев оплошал по второй статье толстовских требований: предметы его повествований чересчур незначительны и заурядны, — а этого греха не искупают никакая честность и никакой талант. Содержание предопределяет форму, и никогда не бывает наоборот; ежели содержание мелко или заурядно, произведение искусства обречено заведомо. Считать иначе, признавать первенство формы — значит жертвовать истиной и, в итоге, писать всецело надуманно. Весь толстовский критический словарь не содержит слова более презрительного, чем «надуманный» — это значит, автор не пережил, даже не вообразил по-настоящему, а просто сочинил, измыслил, «надумал» то, о чем повествует.
Толстой утверждает: Мопассан (чьим дарованием он всячески восхищался) изменил собственному гению именно будучи отравлен ложными и вульгарными теориями подобного свойства; тем не менее, Мопассан остался хорошим писателем в той степени, в какой — подобно Валааму, — желая изречь проклятие добродетели, все же не смог отвернуться от истины и добра — и добро незаметно привлекло писательскую душу, заставило Мопассана против собственной воли потянуться к истине. Талант — это зоркость, зоркость обнаруживает истину, а истина извечна и объективна. Видеть истину в природе или в людских поступках, видеть ярко и живо, как умеет лишь гений (или простое человеческое существо, или дитя), а затем отрицать ее или хладнокровно искажать — неважно из каких соображений — чудовищно и противоестественно; это признак тяжело больного нрава.
Истину возможно обнаружить; следовать за нею значит быть добрым, душевно здоровым, гармоничным. Но вполне понятно, что наше общество лишено гармонии, общество не состоит из личностей, гармоничных внутренне. Устремления и желания образованного меньшинства — Толстой разделяет его на профессоров, баронов и банкиров — несовместимы с интересами большинства: мужиков и бедняков; обе стороны безразличны к умственным и нравственным ценностям другой, или насмехаются над ними. Даже те, кто, подобно Оленину, Пьеру, Нехлюдову и Левину, осознают, сколь никчемны ценности профессорские, баронские и банкирские, до какого нравственного падения довело их полученное ложное образование, — даже искренне кающиеся, невзирая на свои славянофильские повадки, не могут «опроститься» и смешаться с народной массой.
Ужели настолько растленны, что вовеки не смогут вернуть себе простоту душевную? Ужели настолько безнадежны? А не может ли статься так, что цивилизованные люди обрели (не исключено, что и открыли) некие собственные истины и духовные ценности, о коих варвары и дети не имеют ни малейшего понятия, и утратить или забыть которые цивилизованный человек просто не в силах, даже каким-нибудь немыслимым способом превратившись в мужика или в удалого казака с берегов Дона либо Терека? Этот вопрос — один из основных и самых мучительных для Толстого, к этому вопросу писатель возвращается вновь и вновь, обретая ответы все более противоречивые.
Толстому понятно: сам-то он явно принадлежит к меньшинству — баронам, банкирам, профессорам. Приметы и признаки такого положения слишком хорошо ведомы Толстому. Например, писатель не может не признаться в пылкой любви к музыке Моцарта или Шопена, к поэзии Тютчева или Пушкина -— к наисладчайшим плодам цивилизации. Толстому нужно — Толстому неотъемлемо нужно! — и печатное слово, и все прочие атрибуты культуры, только в лоне которой и могли жить Шопен и Тютчев, только в лоне которой и могли творить Моцарт и Пушкин. Однако, что проку в Пушкине сельским парням, неспособным даже понять его слова? И много ли ощутимой пользы принесло мужикам книгопечатание? Говорят, замечает Лев Толстой, что книги просвещают общество (точнее, растлевают еще больше)[278], что печатное слово ускорило отмену крепостного права на русской земле. И возражает: правительство действовало бы точно так же безо всяких книг и брошюр. Пушкинский «Борис Годунов» дарует радость лишь ему, Толстому, а крестьянам он вовсе не надобен. Торжество цивилизации? Да, телеграф уведомит и о здоровье сестры, и о намерениях Оттона I, Короля Греческого, — но много ли народу проку от азбуки Морзе? А платит за торжество цивилизации народ — и всегда платил, и будет платить, и хорошо знает об этом. Когда во время «холерных бунтов» мужичье убивает врачей, которых считает отравителями, это, разумеется, несправедливо, но убийства не случайны — утробная мужицкая ненависть к угнетателям нашептывает: и «дохтур» тоже вражина, тоже из белоручек! Ванда Ландовская играла на рояле для яснополянских крестьян; при звуках музыки почти все они тупо скучали. Но разве можно усомниться в том, что простые люди живут самой естественной жизнью, безмерно лучшей, нежели искореженное, мучительное существование богатых и образованных?
Простонародье, утверждает Лев Толстой в ранних просветительских работах, «довлеет себе самому» не только материально, а и духовно — былины, «Илиада», Библия рождаются, по толстовским словам, в народной среде и оттого понятны везде и всякому — в отличие от великолепного тютчевского стихотворения «Silentium», или «Дон-Жуана», или Девятой симфонии. Если существует идеал человека, то принадлежит он отнюдь не грядущему, но минувшему. В незапамятные времена цвел на земле Эдемский сад, и обитали в нем чистейшие человеческие души — так утверждают и Библия, и Жан-Жак Руссо, — а затем грянуло грехопадение, людская природа исказилась, пришли страдания, суета и ложь. Нужно быть поистине слепым, снова и снова твердит Лев Толстой, чтобы заодно с господами либералами и социалистами — «прогрессистами» — полагать, будто золотой век еще маячит впереди, будто история — повесть о непрестанных улучшениях, будто материальные успехи естествознания и ремесел неизбежно влекут за собою нравственное совершенствование. В действительности все обстоит иначе — наоборот.
Ребенок находится ближе к идеальной гармонии, чем взрослый, а мужик — ближе, чем издерганные, чуждые окружающим, духовно и нравственно блуждающие в потемках, разрушающие и губящие себя самих «тунеядцы», которые зовутся просвещенными сливками общества. Из этой доктрины вырастает пресловутый анти-индивидуализм Толстого — особенно толстовское определение личной воли как источника всех заблуждений, извращающих естественные людские склонности (внятно слышится отголосок шопенгауэровского учения о воле как источнике разочарований и крушений); Толстой учит: строить расчеты, организовывать, полагаться на ученость, пытаться разумно обустроить жизнь в согласии с рассудочными теориями значит плыть против течения, идти вопреки природе, закрывать глаза на спасительную истину, обитающую внутри нас самих, четвертовать факты, дабы втиснуть их в искусственные схемы, уродовать живых людей, дабы втиснуть их в общественно-экономические рамки — против коих вопиет сама негодующая людская природа. Из этого же источника вытекает и обратное сказанному: вера Толстого в то, что движение бытия можно постичь сердцем, а не разумом — что существующий миропорядок не просто неизбежен, а объективно — по воле Промысла — хорош; отсюда же берется и толстовская идея непротивления.
Именно эта сторона толстовского учения — знаменитейшая, наиглавнейшая для всех толстовцев идея — сквозит или прямо излагается во всех без исключения книгах писателя — и художественных, и критических, и назидательных, — от «Казаков» и «Семейного счастья» до последних религиозных трактатов. Именно эту сторону толстовского учения дружно осуждали и марксисты, и либералы. Именно исходя из нее, Толстой утверждает: считать, будто героические личности предопределяют ход событий — вопиющая мания величия людского и отъявленный самообман; толстовское повествование строится так, чтобы доказать незначительность Наполеона, Государя Александра I, дворянского и бюрократического общества в «Анне Карениной», судейских чиновников в «Воскресении»; пустоту и умственное бессилие историков и философов, старающихся толковать ход событий, употребляя понятие «власти» (якобы ею обладают великие фигуры) или «влияния» (им якобы пользуются писатели, ораторы, проповедники) — эти слова, эти отвлеченные понятия, согласно взглядам Толстого, не разъясняют ничего, ибо сами они куда темнее, чем факты, ими якобы высветляемые. Толстой твердит: мы не понимаем в этом ни аза, и потому начисто не способны разъяснять и анализировать понятия власти, могущества, влияния, господства. Объяснения, ничего не объясняющие, для Толстого суть признаки неотчетливого и самодовольного мышления — уничтожающего естественную духовную простоту, заводящего в дебри ложных идей и губящего людскую жизнь.
Именно эта школа мысли, вдохновлявшаяся рассуждениями Руссо и ощутимая в творчестве ранних романтиков, породила примитивизм — художественный и обиходный, — причем отнюдь не только на русской почве. Толстой уверен, что и сам он, и остальные могут познать настоящую цель жизни — ступить на тропу, ведущую к истине, — созерцая простых людей и внимательно читая Евангелие.
Другая толстовская мысль диаметрально противоположна этой. Михайловский пишет (совершенно справедливо), что, сколь ни очаровывают Оленина и Кавказ, и пасторальная казацкая жизнь, а все же не может юнкер превратиться в Лукашку, вернуться к детскому гармоническому простодушию, давным-давно утраченному. Левин понимает: попробуй он сделаться мужиком — окажется всецело карикатурен, причем сами же крестьяне тотчас это почувствуют и поднимут на смех «опростившегося» барина; и Левин, и Пьер Безухов, и Николай Ростов смутно ощущают: у них имеется нечто, чего у мужиков нет и быть не может; нечто, чем они могли бы поделиться с окружающими. Толстой внушает просвещенному читателю, что мужику «... нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваши десять незабитых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать — дайте же ему то, что вы выстрадали — ему этого одного нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей»[279].
Получается, досуг отнюдь не вредоносен. Прогресс возможен; мы способны извлекать пользу из уроков прошлого, а вот жившие в прошлом этого не могли. Правда, мы обитаем в обществе, устроенном несправедливо. Но уже одно это налагает на нас прямые обязанности. Просвещенные сливки общества, прискорбно оторванные от народной массы, должны сложить воедино разбившееся на осколки человечество, прекратить эксплуатацию, дать мужику то, что ему всего нужнее: образование, познания, материальную помощь, возможность зажить лучше прежнего. Левин из «Анны Карениной», как подмечает Михайловский, начинает оттуда, где останавливается Николай Ростов из «Войны и мира». Оба отнюдь не выступают непротивленцами, а просто действуют, как должно. Освобождение крестьян, утверждает Лев Толстой, не привело к ожидавшимся итогам, однако было изъявлением правительственной воли — доброй воли, — а теперь нужно учить мужика грамоте и арифметике — тому, чему крестьяне самостоятельно обучиться неспособны; следует «оснастить» их для свободной жизни. Сам я не могу смешаться с крестьянской массой; но, по крайности, могу использовать плоды незаслуженно причитавшегося мне и моим предкам досуга — образование, познания и умение — во благо тем, чей труд обеспечил нас необходимо нужным досугом.
И такого своего таланта я не имею права зарывать в землю. Я обязан трудиться ради того, чтобы построить справедливое общество, живущее согласно правилам, принимаемым и одобряемым (за вычетом начисто и напрочь развращенных людей) всеми членами грядущего справедливого общества — независимо от того, придерживаются они этих правил или нет. Простые люди принимают упомянутые правила безоговорочно, просвещенные люди — неохотно; тем не менее, все люди, при надлежащем старании, способны их принять, ибо способность принимать их неотъемлема, по убеждению Толстого, от человеческой сущности. Если вершится несправедливость, я обязан возвысить голос и противостать ей; художники, подобно всем остальным, не имеют права сидеть, сложа руки. А, например, Мопассан, пишет Лев Толстой, именно тем и занимается, вопреки себе самому и своим эстетическим предрассудкам. Поскольку Мопассан — растленное человеческое существо, он может выступать на стороне зла и противиться добру, писать о презренном парижском соблазнителе с большим сочувствием, нежели о его жертвах. Но если Мопассан говорит истину, и говорит ее достаточно внятно, — а люди талантливые не в силах этого избежать, — он ставит перед читателем основополагающие нравственные вопросы вне зависимости от собственного желания или нежелания, — вопросы, от коих читателю не уклониться, и ответить на которые читатель сумеет лишь очень строго и мучительно исследовав собственную душу.
Отсюда, по Толстому, и начинается тропа, ведущая к возрождению, — в этом истинная задача искусства. Призвание — талант — означает покорность внутреннему зову: отвечать ему — цель и обязанность художника. Ничто не может быть порочнее, чем видеть в писателе простого «поставщика», «ремесленника», заботящегося лишь о том, чтобы создать добротный товар — а этого взгляда упорно держались и Флобер, и Ренан, и Мопассан[280]. Есть лишь одна людская цель, равно и всевластно зовущая всех — и помещика, и врача, и барона, и профессора, и банкира, и мужика: провозглашать истину, руководиться ею в любых своих действиях и поступках — то есть и самому быть по-настоящему добрым, и других призывать к добру. Есть Бог, и восхитительна «Илиада», и люди наделены правом на свободу и равенство — это все истины, вечные и непреложные. Посему обязаны мы по возможности склонять людей к прочтению «Илиады», а не французской порнографической стряпни, призывать людей работать, созидая общество равноправия, а не политическую либо теократическую иерархию. Принуждение — зло; и человечество искони считало это истиной; посему обязаны люди трудиться во имя общества, где больше не будет войн, тюрем и казней — вовеки, вопреки любым обстоятельствам и любым доводам; во имя общества, где личная свобода общедоступна в наивысшей мыслимой степени. Следуя собственной дорогой, Лев Толстой пришел к некой программе христианского анархизма, изрядно смахивавшего на идеи народников, с которыми (за вычетом, разумеется, их социалистического начетничества, их веры в науку и упований на террор) у Толстого было весьма немало общего. Ибо то, что он отстаивал теперь, составляло программу действий, а не бездейственного непротивления; эта программа и послужила основой для образовательной реформы, которую Толстой пытался провести в жизнь. Писатель пытался открывать, собирать и толковать извечные истины, будить стихийную любознательность, воображение, любовь и жажду знаний в мужиках и детях; прежде всего Толстой стремился высвободить «естественные» движущие силы народа — нравственные, эмоциональные, умственные, — после чего (Толстой не сомневался в этом, как не сомневался и Жан-Жак Руссо) гармония внутренняя и общежительная окажется достигнута (ежели, разумеется, устранить без остатка все, что сковывает, уродует или убивает людскую душу).
Эта программа — предусматривавшая возможность свободного и самостоятельного развития всех человеческих способностей — зиждилась на главном и чрезвычайно смелом предположении: дескать, существует хотя бы один путь развития, на коем упомянутые способности не станут ни вступать в противоборство друг с другом, ни развиваться неравномерно, — светлый и безошибочный путь к совершенной гармонии, объемлющей каждого и дарующей каждому душевный мир и покой; а из этого естественно вытекала уверенность в том, что знание людской природы, родившееся из наблюдений над человечеством и собою самим, или дарованное нравственным чутьем, или почерпнутое из жизнеописаний великих и мудрейших людей (либо из оставленных ими книг), может навести нас на этот путь. Здесь не место рассуждать о том, насколько вообще подобная доктрина совместима с религиозными представлениями либо современной психологией.
Хочется подчеркнуть: перед нами, прежде всего, программа действий, объявление войны тогдашним обычаям и нравам, общественным объединениям, государственной тирании, церквям; Толстой объявлял войну против жестокости, несправедливости, глупости, лицемерия, слабости, — а прежде всего, против суетности и нравственной слепоты. Человек, честно сражавшийся в этой войне, искупит свои грехи, даже если прежде он был сластолюбцем, эксплуататором, сыном и правопреемником грабителей и угнетателей.
В это верил Толстой, этому наставлял, согласно этому жил на свете. «Обращение» изменило его понятия о добре и зле — однако вовсе не ослабило веры в необходимость решительных действий: все вышеизложенные принципы Толстой исповедовал неколебимо. Впрочем, враг прокрался с черного хода: толстовское чувство действительности было неумолимым и не дозволяло пренебрегать мучительными сомнениями касаемо того, как же именно эти принципы — сколь бы ни были они верны сами по себе — следует применять на деле. Пускай сам я верю, что есть вещи прекрасные и добрые, а есть вещи злые и омерзительные — какое право я имею воспитывать остальных сообразно моим собственным понятиям, ежели знаю, что не в силах не любить Шопена и Мопассана, всецело ненужных и даже ненавистных этим чудесным людям, крестьянам и детям, — людям гораздо лучше моего? Имею ли я, венчающий собою долгую историю просвещения и образования — ибо передо мною тянется вереница противоестественно хорошо воспитанных поколений, — имею ли я право касаться подобных душ?
Пытаться влиять на кого-либо значит приниматься за нравственно сомнительное дело. Это вполне очевидно, если речь идет о человеке, грубо помыкающим себе подобными. Но в принципе, это ясно и тогда, когда ведется речь о просвещении. Просветители тщатся направить подопечных к ими же, просветителями, назначенной цели, стремятся «лепить» обучаемых согласно заданному образцу. Да только если мы — утонченные, образованные члены глубоко растленного общества — сами недовольны и несчастливы, сами негармоничны и сбиты с пути, скажите: неужели мы не пытаемся, в сущности, калечить малышей, рожденных здоровыми, превращать их в наше собственное уродливое подобие? Мы есть лишь то, что мы есть; мы не можем не любить поэзию Пушкина или музыку Шопена — и мы же обнаруживаем: ни детям, ни мужикам Шопен и Пушкин вовсе не нужны, ибо чужды и утомительны донельзя. Что же нам делать? Мы упорствуем и «воспитываем» детей до тех пор, пока дети, в свой черед, не полюбят музыку и стихи — либо не притворятся, будто наслаждаются музыкой и стихами, либо, по крайности, не поймут, почему ими наслаждаемся мы. Что же мы сделали? Мы считаем произведения Моцарта и Шопена прекрасными лишь оттого, что и тот, и другой сами порождены увядающей нашей культурой, а стало быть, и понятны больному нашему сознанию; однако имеем ли мы право заражать своим недугом других, растлевать их на собственный наш лад? Мы способны видеть все изъяны чуждого общественного строя. Мы совершенно ясно видим, как людскую личность уничтожают и протестанты, вымогающие покорности, и католики, поощряющие к состязанию; но ведь и русские наставники стараются пробудить в обучаемых чинопочитание и своекорыстие, на коих, по словам Толстого, основываются российское воспитание и преподавание. И не чудовищная ли спесь, не вопиющая ли непоследовательность — вести себя так, словно наши собственные, лелеемые педагогические системы, созданные последователями Песталоцци либо поклонниками ланкастерского метода, системы, всего лишь недвусмысленно свидетельствующие о цивилизованной, а стало быть извращенной натуре своих создателей, — несомненно выше или менее злотворны, чем те, за которые мы столь охотно и справедливо порицаем поверхностных французов или тупых, надутых немцев?
Как же этого избежать? Толстой повторяет вослед за Жан- Жаком Руссо, автором «Эмиля»: только природа выручит и спасет нас. Нужно стараться разглядеть и уразуметь все «естественное», простодушное, неиспорченное, здравое, существующее в ладу и согласии с собою самим и все окружающим миропорядком; нужно расчищать пути, ведущие в эту сторону, а отнюдь не изменять природы, не втискивать ее насильно в заранее заданную форму — не уродовать ее теми же способами, коими уродовали детей «компрачикосы». Нужно внимать велениям нашей исконной, задавленной жизнью натуры, а не считать ее своеобразным сырьем, которое подвергают обработке наша несравненная личность и непобедимая воля. Бросать, будто Прометей, дерзостный вызов божеству, ставить себе искусственные цели, созидать целые миры, соперничающие с тем, что наше нравственное чутье принимает как извечные истины, дарованные раз и навсегда любому и каждому, истины, чье могущество делает нас людьми, а не двуногими скотами, — вот он, грех великой гордыни, в который впадают все преобразователи, все революционеры, все люди, почитаемые великими и влиятельными.
Но в тот же грех точно так же впадают рядовые чиновники и заурядные помещики, из либеральных убеждений, либо случайного каприза, либо просто от скуки вторгаются в крестьянскую жизнь и быт[281]. Не поучай, но сам учись: в этом смысл толстовского очерка, появившегося без малого сто лет назад и озаглавленного «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?»[282] — да и всех прочих рассказов о ясно-полянской школе, опубликованных в 1860-х и 1870-х, написанных с обычной толстовской свежестью, вниманием к мелочам и несравненной наблюдательностью; Толстой приводит сочинения школьников-крестьян, живших в Ясной Поляне, и говорит, с каким благоговением присутствовал при поистине творческих актах — в которые, по его собственному заверению, вовсе не вмешивался.
Эти сочинения лишь пострадали бы от его «поправок»; работы маленьких сельчан казались Толстому несравненно глубже любых произведений Гете; Лев Николаевич признается, что читая их, устыдился собственной поверхностности, суетности, глупости, узости, скудости нравственного и художественного чутья. Если вообще мыслимо помочь детям и крестьянам, то лишь облегчая им беспрепятственный путь по дороге, которую сами они избирают бессознательно. А направлять — лишь портить. Люди по сути своей добры и нуждаются только в свободе, чтобы явить природную доброту.
«Воспитание, — пишет Толстой в 1862-м, — есть воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. (Мы говорим — "они его воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком". "Спартанцы воспитывали мужественных людей". "Французы воспитывают односторонних и самодовольных")»[283]. Но ведь это значит рассматривать человеческие существа — и кроме того, использовать их — как некое сырье, глину, из коей мы что-то лепим; это и зовется «воспитанием» на тот или иной образец. Мы явно готовы изменять направление, бессознательно избираемое чужой душой и волей, отнимать у человека независимость — чего ради? Ради наших собственных, ложных — а в лучшем случае, зыбких понятий о добре? Но здесь всегда в известной степени наличествует нравственная тирания.
В минуту безудержного смятения Толстой гадает: а не зависть ли — подспудная сила, движущая наставником? Ибо корень учительского рвения — «... зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше испорченным»[284]. Что являет собою вся история образования? Все философы, рассуждавшие о нем, от Платона до Канта, «стремятся к одному — освободить школу от исторических уз, тяготеющих над нею»[285]. Они «хотят угадать то, что нужно человеку, и на этих, более или менее верно угаданных потребностях, строят свою новую школу»[286]. То есть освобождают от прежнего ига, только чтобы обременить новым. Многие философы-схоласты настаивали на изучении давнегречес- кого языка, поскольку им разговаривал Аристотель, ведавший истину. А Лютер, продолжает Лев Толстой, отрицая премудрость отцов церкви, настаивал на преподавании давнеев- рейского, ибо ведал, что именно этим языком Всевышний Бог открыл человеку вечные истины. Бэкон познавал природу эмпирически, опытным путем, и его теории противоречили учению Аристотеля. А Руссо объявил своей религией жизнь — какой воспринимал ее, а не какой узнал из чужих теорий.
Лишь в одном соглашались философы дружно: молодых следует освободить от слепого деспотизма старцев, — да только при этом каждый мыслитель немедля воздвигал на освободившемся месте собственную догму, фанатическую и порабощающую. Но если я убежден, что ведаю истину, а все прочее — заблуждение, получаю ли я, благодаря лишь этому своему обоснованному убеждению, право распоряжаться чужим воспитанием и образованием? По какому праву я обношу обучаемого крепостной стеной, исключаю все посторонние, внешние воздействия, и пытаюсь лепить нового человека по моему собственному или чьему-либо иному подобию? Впрямь ли довольно здесь моего убеждения, могущего совпадать или расходиться с убеждениями других?
Ответить на заданный вопрос, говорит Лев Толстой, обращаясь к «прогрессистам», возможно двояко: либо «да», либо «нет». «Если да, — то жидовская синагога, дьячковское училище имеют столь же законное право существования, как все ваши университеты»[287]. Он объявляет: не усматриваю, по крайности, в принципе, нравственного различия между принудительным преподаванием латыни в государственных гимназиях и принудительным преподаванием материализма, которым радикальные профессоры пичкают беззащитных студентов. Немало возможно сказать и в защиту всего того, что со смаком поносят либералы — например, домашнего образования, ибо вполне естественно: родители желают видеть своего ребенка похожим на них. Следует защитить и религиозное воспитание, ибо вполне естественно: верующие родители стремятся избавить своего ребенка — да и всех других людей — от духовной погибели. Сходным образом государство имеет право учить и воспитывать на собственный лад, ибо не может общество уцелеть без управления, а управлять обществом нельзя, не имея сведущих чиновников и деятелей.
Однако на чем же строится «либеральное образование» в школах и университетах, где преподают люди, не смеющие даже утверждать, будто излагаемое ими — истинно? На эмпирических данных? На уроках, полученных от истории? Но ведь единственный урок, извлеченный нами из истории, в том и заключается, что все прежние образовательные системы оказывались разновидностями деспотизма, опиравшегося на ложь и обман, а впоследствии безоговорочно осуждавшегося. И не оглянется ли двадцать первое столетие на девятнадцатое с тем же насмешливым презрением, с каким девятнадцатое глядит на средневековые школы и университеты? Ежели вся история образования — всего лишь повесть о заблуждениях и тирании, то какое право мы имеем продлевать омерзительный фарс? И если нам говорят: уж так повелось от века дней, и нет в этом ничего нового, тут ничего не поделаешь, просто нужно учить на совесть, — не равняется ли это утверждению: поскольку людей убивали и убивают искони, давайте убивать их и дальше?
При таких обстоятельствах нужно быть негодяем, чтобы не сказать по крайней мере следующего: коль скоро, в отличие от Папы Римского и Лютера, мы не утверждаем, будто отечественное образование (как и другие виды помыкания людьми) основывается на владении абсолютной истиной, то давайте, по крайности, прекратим истязать учащихся во имя того, чего не ведаем сами. Наверняка возможно лишь узнать, чего люди желают на самом деле. Так наберемся же хотя бы храбрости — мы, признанные невежды, терзаемые неуверенностью и сомнениями. По крайней мере, возможно попытаться уразуметь, чего требуется другим — детям и взрослым, — а для этого надобно снять очки устоявшихся привычек, обычаев, предрассудков и догм, дать себе возможность постичь настоящую природу людскую, прилежно и сочувственно прислушиваясь к окружающим, стараясь понять их жизнь и потребности, изучая людей порознь, одного человека за другим. Давайте, по крайности, попробуем дать им желаемое, и оставим их настолько свободными, насколько вообще допустимо. Дайте людям Bildung (Толстой приводит очень точное русское соответствие — «образование», и с гордостью подчеркивает: подобного соответствия нет ни по-французски, ни по-английски) — то есть повлияйте на них и наставлением, и собственным примером, но не «преподавайте» — не пользуйтесь методом принудительным, уничтожающим самое природное и самое священное человеческое свойство: способность познавать и действовать самостоятельно, в согласии с тем, что человек полагает истинным и добрым; оставьте человеку силы и право двигаться в сторону, которую человек избирает сам.
Но Толстой не успокаивается на этом, подобно многим либералам. Ибо немедля возникает новый вопрос: а как же мы исхитримся предоставить школьнику или студенту свободу? Оставаясь нравственно бесстрастными? Делясь фактическим познанием, а не этическими, эстетическими, социальными либо религиозными учениями? Выкладывая перед учащимся ворох «фактов», предоставляя человеку делать собственные выводы и не пытаясь даже указать ему какое-нибудь направление из боязни заразить подопечного нашими собственными порочными взглядами? Да возможны ли вообще столь «нейтральные», равнодушные отношения между людьми? Не всякое ли общение связано с бессознательным или сознательным излиянием своих взглядов на жизнь, понятий о добродетелях, с большим или меньшим воздействием на собеседника? Неужто люди настолько несхожи меж собой, что могут сохранять самобытность и способность самостоятельно — вполне самостоятельно — видеть и отличать друг от друга истину и ложь, красоту и уродство только при наименьшей, ничтожной степени человеческого общения? Разве не абсурдно представлять себе личность, как тварь, которую следует ограждать от любого социального воздействия — это казалось абсурдным и в то время, когда Толстой дожил до средних лет, — даже, скажем, от новейших знаний, добытых ныне в итоге непрестанных трудов, предпринимавшихся психологами, социологами, философами? Да, мы обитаем в обществе начисто вырождающемся; только чистые сердцем и душой способны выручить нас. Но кто же возьмется обучать воспитателей? Кто настолько чист, чтобы знать, как (а уж тем паче уметь) избавить от душевной порчи весь наш мир — или хоть одного из живущих в нем?
Меж этими полюсами — с одной стороны, природный миропорядок и факты, а с другой — чувство долга, справедливость, порядок общественный; с одной стороны — естественная простота, с другой — образование; меж недопустимостью принуждения и несправедливостью, при коей человеку предоставляют плыть по воле житейских волн, — меж этими-то полюсами Толстой колебался и бился всю жизнь. Да и не один Толстой, а все те народники, социалисты, прекраснодушные студенты, предпринимавшие «хождение в народ» и никак не могшие решить: учить им или учиться? Есть ли «народное благо», во имя коего они были готовы жизнь положить, именно то благо, которого на самом деле ищет себе «народ»? Или сами реформаторы определили, что требуется народу, что для него хорошо, чего народу положено требовать — и чего народ, несомненно, требовал бы, имея образование, равное образованию, полученному «народными заступниками», но, будучи темен и туп, не просто не желает потребовать, а еще и отвергает всеми силами, с неподдельной яростью?
Вышеизложенные противоречия и неумение примирить их — Лев Толстой честно расписывался в этом — до известной степени сказались и на жизни автора, и на всех нравственно вымученных, дидактических страницах его произведений. Толстой негодующе отвергал всяческие компромиссы и оправдания литературных современников, как обычную слабость и уклонение от своего долга. Но писатель верил: отыщется решение задачи, можно жить согласно заповедям Христовым — хотя решение пока ускользает и от него самого, и от окружающих. Он думать не желал о том, что некоторые обозначенные им самим пути и цели могут быть одновременно реальными и несовместимыми. Историзм — против нравственной ответственности; покорность — против обязанности бороться со злом; телеология или причины и следствия — против игры случая, иррациональных сил; духовная гармония, простота, народные массы с одной стороны — и неотразимая, непобедимая притягательность искусства и культуры, созданных меньшинством, с другой; растленность цивилизованных членов общества — и прямая их обязанность поднимать и подтягивать народную массу до их же уровня; гибкость и влияние страстной, простой, не знающей колебаний веры — и ясное ощущение сложности фактов, сопряженное с неминуемой ошибочностью действий, вытекающей из просвещенного безбожия, — все это непрестанно занимало и поглощало мысли Толстого.
Его стойкая приверженность подобным рассуждениям оборачивается чередой непоследовательных слабостей в учении, поскольку не исключается, что умозрительные конфликты существуют и впрямь, порождая вполне ощутимые столкновения чисто житейского свойства[288]. Толстой не в силах подавить, или подменить, или разъяснить, ссылаясь на «диалектические» или другие «глубокие» понятия, ни единую истину, ему явившуюся, — что бы ни повлекла она за собой, куда бы ни завела, сколь бы многое из того, чему Толстой стремился поверить всецело, ни уничтожила. Общеизвестно: знание истины Толстой считал наивысшей из добродетелей. Другие говорили то же самое, и славили истину отнюдь не меньше. Но Толстой — один из немногих, по-настоящему завоевавших себе это редкое право: ибо все, что у него было, он возложил на алтарь истины — счастье, дружбу, любовь, покой, нравственную и умственную уверенность и — наконец — собственную жизнь. А взамен получил от истины лишь мучительные сомнения, душевный разлад, презрение к себе самому и неразрешимые внутренние противоречия.
В этом смысле (хотя сам Толстой возражал бы мне яростно) писатель сделался мучеником и героем — думается, одареннейшим из одаренных, — согласно традициям европейского Просвещения. Это звучит парадоксом; но ведь вся жизнь Толстого — свидетельство тому, что писатель упорно отрицал на закате земных дней: истина редко бывает всецело простой, или понятной, или столь очевидной, сколь иногда кажется взгляду заурядного наблюдателя.
Отцы и дети
•
Тургенев и тяжкий либеральный
выбор
В
ы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. <... > вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое, так называемое, либеральное направление, даже и при бедности таланта <...>. Публика <... > видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности <...>.
Виссарион Белинский. Письмо к Гоголю от 15 июля 1847 года[289]
Девятого октября 1883 года Ивана Сергеевича Тургенева погребли, согласно его завещанию, в Санкт-Петербурге, рядом с могилой старого тургеневского друга, критика Виссариона Белинского. Тело писателя привезли из Парижа, где возле Северного вокзала (Gare du Nord) состоялась недолгая прощальная церемония, на которой Эрнест Ренан и Эдмон Абу держали краткие надгробные речи. Панихида прошла в присутствии представителей царского правительства, интеллигенции, рабочих движений — чуть ли не первый и не последний случай, когда подобные люди встретились на русской почве мирно.
Времена были смутными. Волна террористических актов достигла наивысшего подъема: двумя годами ранее был злодейски убит император Александр II, вожаки заговорщиков отправились на виселицу или в Сибирь, но волнения и беспорядки — особенно в студенческой среде — продолжались. Правительство опасалось, что похороны Тургенева могут обратиться политической манифестацией. Повременная печать получила секретный циркуляр из Министерства внутренних дел, предписывавший публиковать лишь официальные сведения о похоронах, не разглашая при этом полученного распоряжения.
Ни петербургские городские власти, ни рабочие кружки не получили права указывать на лентах, кто именно возлагает венок. Литературное собрание, где Толстому предстояло говорить о старинном друге и сопернике, запретили правительственным указом. Среди участников похоронной процессии распространялись революционные листовки, но власти поглядели на это сквозь пальцы и, похоже, неприятную историю замяли. Все эти предосторожности, равно как и атмосфера, сгустившаяся вокруг похорон, могут озадачить любого, кто, подобно Генри Джеймсу, Джорджу Муру, Морису Бэрингу да, вероятно, и большинству нынешних читателей, видит в Тургеневе лишь автора прекрасной лирической прозы, сочинителя ностальгических сельских идиллий, элегического певца приходящих в упадок дворянских гнезд с их обитателями — неотразимо привлекательными чудаками и недотепами; несравненного рассказчика, умевшего чудесно передавать любые оттенки переживаний или чувств; поэта природы и любви — творца, числящегося меж первыми и лучшими из тогдашних писателей. Французские литераторы говорили о нем в своих воспоминаниях, как о le doux geant — слова Эдмона Гонкура, дружившего с Тургеневым, — мягком, обаятельном, бесконечно добродушном человеке, обворожительном собеседнике (некоторые русские приятели даже прозвали его «сиреной»), драгоценном друге Флобера и Додэ, Жорж Санд, Золя и Мопассана, самого желанного и восхитительного из завсегдатаев салона, который держала верная спутница тургеневской жизни, певица Полина Виардо. Но у русского правительства были причины держаться настороже. Двумя годами ранее власти не одобрили ни приезда писателя в Россию, ни — особенно — его бесед со студентами, и нашли способ недвусмысленно уведомить об этом самого Тургенева. Безоглядная отвага не принадлежала к числу тургеневских добродетелей; Иван Сергеевич поспешил возвратиться в Париж.
Беспокойство российских властей неудивительно: Тургенев был отнюдь не только наблюдательным знатоком людских душ и превосходным стилистом. Подобно всем крупным русским писателям той поры, он до конца дней оставался глубоко и болезненно обеспокоен состоянием и судьбой Отечества. Тургеневские романы лучше любых прочих рассказывают о нравственном и политическом развитии маленького, но влиятельного слоя тогдашних сливок русского общества: либеральной и радикальной молодежи — о ней самой и о ее критиках. С точки зрения петербургских властей, книги Тургенева ни в коем случае не были безвредны. Правда, в отличие от великих современников, Толстого и Достоевского, Тургенев ничего не проповедовал и не взывал к своему поколению громовым голосом. Прежде всего, ему хотелось постичь, уразуметь людские воззрения, идеалы, нравы — как те, что были писателю по душе, так и те, что озадачивали, а зачастую отталкивали. Тургеневу было в наивысшей степени присуще то, что Вико звал fantasia, — умение проникаться убеждениями, чувствами, взглядами не просто чуждыми, но даже мерзкими пишущему; это подчеркивал Ренан, посмертно превознося Тургенева в надгробной речи[290]; случалось, и молодые русские революционеры охотно признавали: писатель создал их справедливые, совершенно точные словесные портреты.
Большую часть жизни Тургенев оставался до боли озабочен противоречиями: нравственными и политическими, общественными и личными, разделявшими и раздиравшими образованную Россию той эпохи — в частности, глубоким и нещадным противоборством славянофилов и «западников», консерваторов и либералов, либералов и радикалов, умеренных и «неистовых», «реалистов» и мечтателей, — а прежде всего, старых и молодых. Тургенев старался стоять поодаль и созерцать происходящее беспристрастно. Удавалось это не всегда. Но, будучи внимательным и отзывчивым наблюдателем, самокритичным и скромным и как писатель, и как человек — а прежде всего прочего, не желая навязывать читателю свои взгляды, проповедовать, обращать в собственную веру, — Тургенев оказался лучшим пророком, нежели двое эгоцентричных, раздраженных литературных великанов, с коими обычно сравнивают Ивана Сергеевича: он угадал рождение общественных вопросов, успевших с той поры вырасти и распространиться на целый мир. Много лет спустя после смерти Тургенева преклонявшийся перед ним радикальный писатель Владимир Галактионович Короленко заметил: «Тургенев раздражал, как собеседник, порой больно задевавший самые живые струны тогдашних настроений. К нему относились страстно, бурно порицали, и так же бурно выражали ему любовь и уважение. У него была ссора, но было и удовлетворение триумфа. Он понимал, и его тоже понимали»1. Именно об этой стороне тургеневского творчества, оставляемой без должного внимания, однако прямо обращающейся к нашей эпохе, и очень много ей говорящей, хотелось бы теперь побеседовать.
I
По самому складу своему Тургенев чуждался политики. И в «живой жизни», и в искусстве всего лучше были понятны ему и оставались ближе всего природа, людские отношения, острота переживаний. Любое проявление подлинного искусства и подлинной красоты он любил всей душой. А вот сознательное подчинение искусства соображениям и целям, начисто чуждым творчеству — идейным, назидательным или утилитарным (и уж тем паче превращение искусства в орудие классовой борьбы, как того требовали радикалы 1860-х), вызывало в Тургеневе омерзение. Этого писателя часто представляли утонченным эстетом, поборником прекрасного ради прекрасного, обвиняли и в стремлении уйти от «жгучих» вопросов, и в безразличии к своему гражданскому долгу — тогдашние (как и нынешние) народные заступники видели в этом гнусное и безответственное сибаритство. Но по отношению к Тургеневу ни единое из перечисленных обвинений не справедливо. Разумеется, книги Тургенева не столь убежденно страстны, сколь произведения Достоевского, созданные после сибирской ссылки, или поздние сочинения Толстого, — но все же достаточно связаны с анализом общественной жизни, чтобы сделаться истинным арсеналом примеров и доводов, которыми вооружались и революционеры, и противники революции, особенно либералы. Император Александр II, некогда восхищавшийся ранними творениями Тургенева, начал, в конце концов, рассматривать автора как своего рода bete noire[291].
В этом смысле Тургенев был типичным представителем своего времени и класса. Более восприимчивый и щепетильный, менее одержимый и нетерпимый, нежели великие, раздираемые сомнениями проповедники нравственности, жившие в ту же эпоху, он воспринимал ужасы российского самодержавия ничуть не менее остро. В огромной отсталой стране, где число образованных людей было весьма небольшим, где меж этими людьми и большинством их соплеменников — едва ли возможно сказать «сограждан», — живших в неописуемой нищете, невежественных и пригнетенных, зияла пропасть, не мог рано или поздно не грянуть кризис общественной совести.
Факты достаточно известны: наполеоновские войны «швырнули» Россию в Европу, а стало быть, неизбежно понудили сблизиться с европейским просвещением гораздо теснее, чем дозволялось ранее. Армейские офицеры, выходцы из дворянского, помещичьего сословия, до некоторой степени приятельствовали со своими солдатами, увлекаемые волной всеобщего пылкого патриотизма. Это на время сотрясло казавшиеся незыблемыми русские сословные перегородки.
Отличительными чертами тогдашнего российского общества были полуграмотная, руководимая государством, продажная Церковь, немногочисленная, кое-как образованная на западный лад бюрократия, всеми силами тщившаяся держать в узде и повиновении огромную, первобытную, почти средневеково дикую, социально и экономически неразвитую, но могучую и своенравную массу населения, гневно гремевшую оковами; широко распространенное ощущение своей неполноценности, умственной и общественной, по сравнению с западной цивилизацией; общество уродовалось произволом сверху и тошнотворной раболепной покорностью снизу: любая хоть сколько-нибудь независимая, своеобразная, знавшая себе цену личность лишь с немалым и тяжким трудом находила возможность жить и развиваться естественно.
Этого, пожалуй, довольно, чтобы понять, откуда в первой половине девятнадцатого столетия взялась порода, ставшая известной, как «лишние люди»; «лишний человек» сделался героем новой литературы протеста, членом крохотного меньшинства — просвещенного и нравственно чуткого, неспособного сыскать себе место на родной земле, душевно замыкавшегося и склонного либо спасаться в мир иллюзий и фантазий, либо предаваться циническому отчаянию, чаще всего заканчивая самоуничтожением или капитуляцией. Жгучий стыд или яростное негодование, порождаемые убожеством и распадом системы, в которой человеческие существа — крепостные — рассматривались как двуногий скот, вкупе с бессилием перед царством несправедливости, глупости, лихоимства, зачастую подталкивали человека, наделенного воображением и нравственным чувством к тем единственным занятиям, над коими цензура не властвовала всецело — к искусствам и словесности.
Отсюда и пресловутая российская особенность: русские мыслители, общественные и политические, становились поэтами и прозаиками, а поэты и прозаики часто выступали публицистами. Любое выступление против государственных учреждений, независимо от своего происхождения и преследуемой цели, в условиях абсолютного деспотизма ео ipso становится выступлением политическим. В итоге русская словесность обратилась полем битвы, где шли сражения по поводу наиглавнейших общественных и политических вопросов. Вопросы литературные и эстетические, которые на их родине — в Германии либо Франции — обсуждались только замкнутыми, академическими и художественными, собраниями посвященных, делались личными и общественными проблемами, неотступно преследовавшими целое поколение образованных молодых русских, даже сравнительно равнодушных к искусствам и словесности как таковым. Например, препирательство между сторонниками «чистого искусства» и теми, кто полагал, будто искусство должно играть социальную роль — препирательство, коим во дни Июльской монархии увлекалась относительно малая часть французских критиков,— разрослось на российской почве до размеров общенародного спора, нравственного и политического: прогресс противопоставляли реакции, просвещение — мракобесию, нравственную чистоту, общественный долг и сострадание — самодержавию, набожности, устоявшимся обычаям, соглашательству, повиновению власть предержащим.
Самый страстный и влиятельный голос в этом поколении принадлежал радикальному критику Виссариону Белинскому. Бедный, чахоточный, худородный, скверно образованный, он был человеком безупречно искренним и очень сильной натурой; Белинский сделался для своего поколения чем-то вроде Савонаролы — яростным нравоучителем, проповедовавшим единство теории и практики, литературы и жизни. Его критический гений, его инстинктивное прозрение в самую глубинную суть общественных и нравственных вопросов, тревоживших «новую» радикальную молодежь, очень быстро и неминуемо сделали Белинского молодежным вожаком.
Его литературные очерки стали как для читателей, так и для самого критика, непрерывной, неуклонной, мучительной попыткой обнаружить истинную цель человеческой жизни, узнать, во что верить и что делать. Натура страстная и цельная, Белинский не раз и не два менял свои убеждения и взгляды чуть ли не коренным образом, но всегда болезненно переживал их от начала до конца и действовал согласно им, вкладывая в слова и поступки всю душу — пылкую, чуждую расчету, — пока, одно за другим, убеждения не оказывались просто заблуждениями и не понуждали критика начинать сызнова путь, оборвавшийся только со смертью Белинского. Литература была для него не metier\ не родом занятий, но художественным выражением всеобъемлющего мировоззрения, этической и метафизической доктриной, взглядом на историю и на место человека в космосе, мировоззрением, охватывавшим все факты и все ценности. В первую очередь Белинский был искателем истины, и примером собственной глубоко трогательной жизни, собственной замечательной личности заворожил молодых радикалов не меньше, нежели своими наставлениями. Он поощрял ранние стихотворные опыты Ивана Сергеевича Тургенева, навсегда сделавшегося преданным почитателем Белинского, чей образ — особенно посмертно — стал символом и олицетворением писателя, преданного идее; после него ни единый из русских авторов уже не был всецело свободен от мысли, что писать, прежде всего прочего, значит свидетельствовать истину, что художник не имеет ни малейшего права отворачивать взор от насущных вопросов, занимающих современное ему общество. Ибо всякий художник — а тем более писатель, — старающийся оградить себя от животрепещущих вопросов, которые волнуют народ, и полностью отдаться созданию прекрасного или преследованию собственных целей, повинен, по мнению Белинского, в саморазрушительном эгоизме и непростительном легкомыслии; сам талант его поблекнет и обеднеет после такой измены призванию.
Мучительная честность и неподкупность суждений Белинского — не столько даже их содержание, сколько тон — поражали сознание русских современников: случалось, его критические высказывания раздражали читателя донельзя, но все же забыть их не удавалось никому. Тургенев был по природе своей осторожен, осмотрителен, чурался всяких крайностей, в трудные минуты уклонялся от решительных действий; друг его, поэт Яков Полонский, много лет спустя описывал его, как «доброго, мягкого, словно воск <... > женственного <... > бесхарактерного»[292]. Пускай это слишком сильно сказано — все же остается несомненным: Тургенев был очень впечатлителен и податлив, а потому всю жизнь уступал более сильным личностям. Белинский умер в 1848-м, однако похоже, что его незримое присутствие Тургенев ощущал до конца земных своих дней. Думается, что всякий раз, когда слабость, любовь, жажда покоя — либо собственный исключительно покладистый характер — соблазняли Тургенева оставить борьбу за свободу личности либо простую порядочность и пойти на мировую с враждебными силами, перед писателем возникал суровый и грозный призрак Белинского, звавший назад, к священному походу за правое дело. «Записки охотника» стали первой и самой долговечной тургеневской данью гаснувшему на глазах наставнику и другу. Читатели видели и продолжают видеть в этом шедевре изумительное, проницательное, чисто и высоко художественное описание старой сельской России — уже изменяющейся, — ее природы и обитателей.
Но сам Тургенев смотрел на эту книгу как на первую великую вылазку, предпринятую им против ненавистного крепостничества, как на крик негодования, коему надлежало с тех пор неумолчно и неотступно преследовать российских правителей. В 1879-м, когда на этом вот самом месте[293] Оксфордский университет присвоил Тургеневу степень почетного доктора права, Джеймс Брайс, представлявший публике русского писателя, назвал его поборником свободы. Это восхитило Тургенева.
Белинский не был ни первым, ни последним из повлиявших на жизнь Тургенева коренным образом; первое и, пожалуй, самое разрушительное влияние оказала мать писателя: волевая, истеричная вдова, существо жестокое и горько разочарованное во всем, любившее своего сына и надломившее душу его. Даже по далеко не мягким понятиям тогдашних русских помещиков эта женщина была оголтелым чудовищем. В детстве Тургенев стал свидетелем ее неописуемой жестокости по отношению к постоянно унижаемым домочадцам и крепостным крестьянам, а в одном из эпизодов рассказа «Бригадир», по-видимому, излагается случай, когда бабушка Ивана Сергеевича по материнской линии собственными руками убила крепостного мальчика: в припадке бешенства ударила его, ранила, свалила на пол и, разъярившись окончательно, задушила подушкой[294]. Тургеневские рассказы и повести изобилуют воспоминаниями подобного рода, от коих писатель старался избавиться всю жизнь.
Именно детские воспоминания подобного рода и заставляли молодых людей, получивших университетское образование и благодаря ему ценивших западную цивилизацию, непрестанно заботиться о достоинстве и свободе личности и ненавидеть уже увядавший русский феодализм — этими двумя чувствами с самого начала отличалось политическое мышление всей русской интеллигенции. Нравственное смятение было весьма изрядным. «... Наше время алчет убеждений, томится голодом истины», — писал Белинский в 1842 году, когда с ним познакомился двадцатичетырехлетний Тургенев: — «<...> наш век — весь вопрос, весь стремление, весь искание и тоска по истине»[295]. Тринадцать лет спустя Иван Сергеевич как бы вторит Белинскому: «Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством — а есть интересы высшие поэтических интересов»[296]. Тремя годами позже Толстой, в то время исповедовавший идеал чистого искусства, предложил Тургеневу совместно издавать чисто литературный и художественный журнал, свободный от низменной и грязной политической полемики. Тургенев ответил: «в наше время не до птиц, распевающих на ветке», не до «лирического щебетанья»[297]. «Политическая возня Вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; — да ведь и на улицах грязь и пыль — а без городов нельзя же»[298].
Привычный образ Тургенева — чистого художника, помимо воли втянутого в политическую борьбу, но в глубине души начисто ей чуждого, — этот портрет, создававшийся и правыми, и левыми критиками (особенно теми, кого раздражали «политические» тургеневские романы), обманчив и неверен. Главные произведения, создававшиеся писателем начиная с середины 1850-х и далее, полны «жгучими» общественными и политическими вопросами, которые тревожили либеральных тургеневских сверстников, а на его мировоззрение глубоко и неизгладимо повлиял исступленный гуманизм Белинского — в частности, яростные нападки последнего на все, что было вокруг темного, растленного, гнетущего и лживого[299]. Двумя-тремя годами ранее, в Берлинском университете, Иван Сергеевич внимал гегельянским проповедям будущего агитатора-анархиста Бакунина, своего сокурсника, преклонялся перед гением германского философа и, как в свое время Белинский, восторгался диалектическим блеском бакунинских речей. Через пять лет, уже в Москве, Тургенев познакомился и вскоре подружился с молодым радикальным публицистом Герценом и членами его кружка. Он разделял ненависть новых знакомых к любому порабощению, любой несправедливости или жестокости, но, в отличие от некоторых из них, не мог чувствовать себя уютно в рамках какой- либо философской доктрины либо идейной системы.
Все обобщенное, отвлеченное, абсолютное отталкивало Тургенева; его мировосприятие оставалось обостренным, определенным, тонким и неизлечимо реалистическим. И гегельянство — равно и правого, и левого толка, — впитанное в студенческие берлинские годы, и материализм, и социализм, и позитивизм, о которых нескончаемо спорили друзья, и народолюбие, и коллективизм — то есть пересуды о сельской общине, идеализировавшейся теми российскими социалистами, коих горько разочаровал и обескуражил позорный крах левых европейских движений в 1848 году, — все это было для Тургенева пустыми абстракциями, бесплодно подменявшими действительность; многие верили в них, кое-кто даже исхитрялся жить согласно им, — но бытие, шероховатое и угловатое, но живые человеческие характеры и поступки наверняка сопротивлялись бы этим доктринам и разнесли бы их вдребезги, вздумай кто-нибудь серьезно претворить подобные учения в жизнь. Бакунин был закадычным, славным другом-приятелем, но его мечтания — то славянофильские, то анархические — не оставили в тургеневских мыслях ни следа. Иное дело — Герцен, остроумный, ироничный, изобретательный мыслитель; в молодые годы у них с Тургеневым находилось немало общего. Однако герценовский «народный социализм» казался Тургеневу жалкой фантазией; мечтой человека, Чьи прежние заблуждения развеялись после разгрома западных революций, но долго существовать без мечты человек такого склада просто не мог: видя, что его старые идеалы — социальная справедливость, равенство, либеральная демократия — оказались бессильны перед лицом реакции, торжествовавшей на Западе, он сотворил себе нового кумира — противопоставил златому тельцу алчного капитализма «дубленый тулуп»[300] русского мужика.
Тургенев понимал культурное отчаяние своего друга и сочувствовал Герцену. Подобно Карлейлю и Флоберу, подобно Стендалю и Ницше, Ибсену и Вагнеру, Герцен чем дальше, тем больше задыхался в мире, обесценившем все прежние ценности. Все, что было свободного и достойного, независимого и творческого, захлебывалось, по мнению Герцена, под накатившей волной буржуазного филистерства, махрового мещанства; вся окружавшая жизнь, казалось, идет с молотка по воле крупных торговцев человеческим товаром и подчинявшихся им подлых, наглых приказчиков, обслуживавших исполинские акционерные общества, что именовались Англией, Францией, Германией; даже Италия, пишет Герцен, «Италия, самая поэтическая страна в Европе, не могла удержаться и тотчас покинула своего фанатического любовника Маццини, изменила своему мужу-геркулесу — Гарибальди, лишь только гениальный мещанин Кавур, толстенький, в очках, предложил ей взять ее на содержание»[301]. Неужто же России глядеть на разлагающиеся останки Европы, как на образец для подражания? Безусловно, близится час преображения и наступает срок некоему катаклизму — варварскому вторжению с Востока, натиску, что, словно благотворная буря, очистит зараженный воздух. От подобного, говорил Герцен, спасет один- единственный громоотвод: российская крестьянская община, доселе не испоганенная капитализмом, не ведающая алчности, страха и бесчеловечности, порождаемых всеразруша- ющим себялюбием. На этой основе можно еще выстроить новое самоуправляемое общество свободных людей.
Тургенев принимал такие мысли Герцена как беспечное, безоглядное преувеличение, порожденное драматическим отчаянием. Разумеется, немцы напыщенны и смехотворны, а Людовик-Наполеон и парижские барышники омерзительны — однако западная цивилизация пока отнюдь не рушится. Она — величайшее достижение человечества. И не русским, не имеющим ничего, с нею сопоставимого, насмехаться над нею или гнать ее прочь от российских ворот. Тургенев звал Герцена утомленным и разочарованным человеком, искавшим себе после 1849-го новых идолов — и обнаружившим их в темных русских мужиках.
«<... > Без идола жить нельзя — так давай воздвигать алтарь этому новому неведомому богу> благо о нем почти ничего не известно — и опять можно молиться, и верить, и ждать. Бог этот делает совсем не то, что вы от него ждете — этоу по-вашему, временно, случайно, насильно привито ему внешней властью <...>. Одно из двух: либо служи революции, европейским идеалам по-прежнему — либо, если уж дошел до убежденья в их несостоятельности, имей дух и смелость посмотреть черту в оба глаза, скажи {Далее зачеркнуто: свое} guilty — в лицо всему европейскому человечеству — и не делай явных или подразумеваемых исключений в пользу новодолженствующего прийти россейского мессии»[302].
И там же: «... бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите — и ненавидит то, что вы любите, — бог принимает именно то, что вы за него отвергаете — вы отворачиваете глаза, затыкаете уши» — ибо русский мужик являет собою, в зародыше, наихудшего из консерваторов, и либеральные идеи просто не нужны ему. Тургенев никогда не утрачивал трезвого, реалистического взгляда на вещи. Он ощущал мельчайшие содрогания русской жизни, а особенно живо подмечал выражение того, что назвал «быстро изменявшейся физиономией русских людей культурного слоя»[303].
По собственным словам Тургенева, сказанным там же, он всего лишь запечатлевал то, что Шекспир зовет «the body and pressure of time»[304]. Он достоверно изображал всех — говорунов, идеалистов, борцов, малодушных трусов, реакционеров и радикалов, — иногда, как в «Дыме», с едкой полемической иронией; а как правило, с такой щепетильной, полнейшей добросовестностью, с таким глубоким разумением всей неоднозначности любого вопроса, с таким невозмутимым терпением, лишь временами сменявшимся нескрываемой иронией либо сатирой (при этом ни себя самого, ни своих же воззрений Тургенев тоже не щадил), что в разное время раздражал и сердил почти любого и всякого.
Те, кто доныне видят в Тургеневе только бесстрастного художника, высоко возносившегося над кипевшей идейной битвой, не без удивления узнбют: во всей истории русской — не исключаю, кстати, что и всемирной — литературы навряд ли сыщется другой писатель, которого столь яростно атаковали бы и справа, и слева. Достоевский и Толстой были куда как непримиримее и откровеннее в своих убеждениях, однако оба являли собою фигуры титанические, и противники смотрели на обоих с неким нервным почтением. Тургенев же титаном ни в коем случае не выглядел, он был покладист, насмешлив, чересчур вежлив и слишком неуверен в себе, чтобы вселять в окружающих робость. Он вовсе не служил ходячим воплощением определенных принципов, не проповедовал никаких учений, не предлагал панацеи, способной утихомирить так называемые «проклятые вопросы», личные и общественные.
«Он чувствовал и понимал жизнь в ее противоречиях, — сказал о Тургеневе Генри Джеймс, — <... > наши англо-саксонские, протестантские, исполненные морализма и условностей, мерки были ему полностью чужды <... > половина прелести общения с ним заключалась в окружающей его атмосфере, где ходульные фразы <... > звучали бы попросту смешно»[305]. В стране, где читатели — особенно молодые — и поныне ожидают от писателя нравственных наставлений, Тургенев не желал наставлять никого — и сознавал, какой ценой расплатится за свое безмолвие. Он ведал: русский читатель хочет услышать, во что положено верить, и как положено жить, ожидает, что его снабдят четко изложенным перечнем добродетелей и списком недвусмысленно противопоставленных другу негодяев и героев. Ежели автор не снабжает ничем из этого, сказал Тургенев, читатель негодует и бранится, поскольку ему и трудно и скучно рассуждать самому, искать свою собственную дорогу. И впрямь: Толстой никогда не заставляет сомневаться насчет того, кто из героев романа ему по душе, а кто нет; и Достоевский не скрывает, что именно кажется ему тропою, ведущей к спасению. Меж этими великими страдальцами, Лаокоонами от литературы, Тургенев стоит особняком, осторожный и скептический; а его читатель остается в напряженном недоумении: жгучие вопросы затронуты, но, по большей части, оставлены — а вдобавок, по суждению многих, слишком высокомерно оставлены — без ответов.
Ни единая страна не требовала от своих писателей больше, чем Россия — и встарь, и нынче. Тургенева обвиняли в нерешительности, выжидании, слабоволии, приспособленчестве. Да и Тургенев мучился мыслями о том же самом. «Рудин», «Ася», «Накануне» — главные произведения 1850-х годов, посвящены, среди прочего, теме слабодушия: людской несостоятельности добросердечных, искренних идеалистов, бессильно и беспомощно сдающихся на милость силам застоя и безвременья. Рудин, списанный отчасти с молодого Бакунина, отчасти с самого Тургенева[306] — приверженец высоких идеалов, златоуст, очаровывающий собеседников, — излагает взгляды, которые автор и принимает и отстаивает. Но Рудин точно из воска вылеплен. В положении крайнего порядка, где надобны были смелость и решительность, он полностью падает духом и сникает. Рудинский друг, Лежнев, заступается за добрую память главного героя: идеалы его благородны, да «в том-то вся его беда, что натуры-то, собственно, в нем нет»[307]. В эпилоге (добавленном задним числом, при повторном издании книги) Рудин, после бесцельных скитаний, отважно и бессмысленно гибнет на парижских баррикадах 1848 года — и на эдакое, по мнению Тургенева, рудинский прообраз, Михаил Бакунин, едва ли был способен. А родная почва не дала бы Рудину и такой возможности: даже будь у него «натура» — что мог бы он совершить среди тогдашнего русского общества? Этот «лишний человек», предшественник и предок всех обаятельных, беззащитных и беспомощных говорунов, населяющих русскую литературу, — должен ли был он, да и мог ли он в ту эпоху и при тех обстоятельствах объявить войну отвратительной барыне и всему ее миру — перед коим вынужденно складывает оружие? Читательский вопрос повисает в воздухе. Елена из книги «Накануне» ищет героическую личность, способную вырвать ее из постылого и никчемного семейного существования, однако и самые лучшие, самые одаренные русские в ее кругу лишены силы воли, бездеятельны. Елена идет за болгарским заговорщиком Инсаровым — тот хуже воспитан, тот мельче, суше, бесчувственнее, чем ваятель Шубин или историк Берсенев, но, в отличие от них, Инсаров одержим единственной мыслью: освободить свою родину от турок — это всепоглощающая цель, крепко единящая Инсарова и с последним болгарским крестьянином, и с последним болгарским нищим. Елена идет за Инсаровым, поскольку лишь он один в окружающем ее мирке — натура цельная и неукротимая, поскольку лишь его идеалы подкрепляются всепобеждающей нравственной мощью.
Тургенев напечатал «Накануне» в «Современнике», радикальном журнале, упорно и проворно скатывавшемся влево.
Люди, образовавшие тамошний редакционный кружок, были столь же чужды Тургеневу, сколь и Толстому: оба писателя, не без достаточных к тому оснований, считали, что «Современником» заправляют скучные, узколобые доктринеры, лишенные всякого эстетического чутья, неумолимые враги прекрасного, безразличные к личным людским отношениям (архиважным для Тургенева), — но эти люди были дерзкими и сильными фанатиками, обо всем судившими в свете одной-единственной цели — освобождения русского народа. Ни на какие уступки эти люди не шли; они ломились вперед и требовали радикальных мер. Отмена крепостного права, столь глубоко тронувшая Тургенева и его друзей-либералов, казалась этим людям не зарей новой эпохи, а бесстыдным обманом: дескать, крестьяне по-прежнему прикованы к своим прежним помещикам цепями новых экономических условий.
Только «мужицкий топор», только вооруженное восстание несметных толп и способно принести России свободу! Николай Добролюбов, литературный редактор журнала, написал отзыв о «Накануне», где хвалил болгарина как положительного героя: человек жизни своей не пощадит, лишь бы изгнать из Болгарии турок. А мы? У нас, русских, пишет Добролюбов, имеются собственные «турки» — но «внутренние»: царский двор, помещики, генералы, чиновники, зарождающаяся буржуазия, угнетатели и эксплуататоры — использующие мужицкое невежество и применяющие грубую силу как оружие. Где же наши Инсаровы? Роман зовется «Накануне» — когда же придет настоящий день? Если он еще не пришел, то потому, что славная и просвещенная молодежь, подобная Шубину и Берсеневу, бессильно бездействует. Она парализована и, вопреки всем своим прекрасным словам, в итоге успешно приспособится к филистерским условностям окружающей жизни: молодые люди слишком тесно связаны с существующим строем несметными нитями семейных, общественных и экономических отношений, разорвать которых не решаются или не желают. «Всю эту среду перевернуть, — пишет Добролюбов в окончательно отредактированной статье, — так надо будет повернуть и себя; а подите-ко сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его перевернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! — между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком»[308]. Инсаров стоял поодаль от своего ящика — турецких притеснителей. И русские люди, настроенные всерьез, тоже должны выбраться из отечественного ящика, порвать любые и всякие связи со всем чудовищным порядком, а затем свергнуть его извне. Герцен и Огарев сидят себе в Лондоне и тратят время попусту, обличая отдельные случаи всероссийской несправедливости, лихоимства и правительственного произвола, но этим не только не ослабляют Империи, но даже, пожалуй, способствуют устранению пороков и недостатков, продлевают имперский век.
А настоящая задача — уничтожить всю бесчеловечную систему. Добролюбовский совет понятен: если вы и впрямь хотите перемен, постарайтесь покинуть ящик: напрочь отстранитесь от Государства Российского, каково оно есть — ибо иначе не отыщете ни Архимедова рычага, ни точки опоры, дозволяющих перевернуть и сокрушить ненавистный общественный строй. Инсаров, твердо вознамерившийся казнить палачей-турок, насмерть замучивших его родителей, совершенно правильно откладывает личную месть — ибо следует сперва завершить главное, первостепенно важное дело. Незачем тратить время на мелкие обличения, на то, чтобы избавлять отдельных страдальцев от чужой несправедливости либо жестокости. Это просто жалкое либеральное прекраснодушие, увиливание от задачи коренного свойства. Меж «ими» и «нами» нет ничего общего. «Они» — а заодно с «ними» и Тургенев — желают реформы, приспособленчества. «Мы» же стремимся подрыть и развалить, «мы» алчем революции, возникновения новых общественных основ, мы жаждем до основания разрушить «царство тьмы».
Это, считали радикалы — естественный вывод, подсказываемый романом, да только сам автор со товарищи, по- видимому, слишком трусливы и ничтожны, чтобы сделать его. Тургенев был огорчен и даже испуган подобным истолкованием своей книги.
Он просил редакцию «Современника» исключить из очередного номера добролюбовскую статью, говорил: не знаю, что делать и куда бежать, если она появится в печати. Но все же, несмотря ни на что, «новые люди» привлекали его. Правда, Ивана Сергеевича до глубины душевной возмущало сумрачное пуританское ханжество «невских Даниилов»[309], как прозвал радикалов Герцен, считавший эту серую публику циничной и жестокой, не выносивший их грубого утилитаризма, враждебного всему прекрасному, их фанатической ненависти ко всему, чем дорожил сам Герцен: к свободной культуре, искусству, добрым взаимным отношениям хорошо воспитанных людей. Но все же кружок «Современника» состоял из молодых людей, храбрых и готовых погибнуть в борьбе со своими врагами — реакционерами, полицейскими, государством. И все же, несмотря ни на что, Тургеневу хотелось добиться их доброго отношения и уважения.
Он пытался было заигрывать с Добролюбовым, постоянно вовлекал его в беседы. Однажды, встретив Тургенева в редакции журнала, Добролюбов сказал ему: «"Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить", — встал и перешел на другую сторону комнаты. Тургенев после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, то есть каждый день, а иногда и не раз в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на другой конец комнаты, или в другую комнату». Тургенев, человек воспитанный и Дружелюбный, сдался не сразу. Он всячески старался смягчить угрюмого народного заступника: «если Добролюбов разговаривал с другими и Тургенев подсаживался к этой группе, то со стороны Тургенева бывали попытки сделать своим собеседником Добролюбова, но Добролюбов давал на его длинные речи односложные ответы и при первой возможности отходил в сторону»[310]. Своему приятелю и соредактору Чернышевскому, в то время все еще глядевшему на Ивана Сергеевича с благосклонностью и восхищением, Добролюбов раздраженно бросил: хочется разговаривать с Тургеневым — разговаривайте себе на здоровье. И добавил фразу, которая дорогого стоит: плохие союзники — не союзники вообще.
Под изречением такого свойства охотно подписался бы Ленин; изо всех ранних радикалов самым бешеным боль- шевицким темпераментом обладал, наверное, Добролюбов. А Тургенев являлся в 1850-е и 1860-е годы самым знаменитым русским автором — причем единственным русским автором, уже приобретшим широкую и продолжавшую шириться европейскую известность. Никто и никогда не обращался с Тургеневым столь по-хамски. Писатель был глубоко уязвлен, однако еще некоторое время искал взаимного понимания — пока неумолимая добролюбовская враждебность не вынудила его отступить навсегда. Порвав с невежливой и неблагодарной редакцией, Тургенев ушел из «Современника» и стал сотрудничать в консервативном журнале, издававшемся Михаилом Катковым, человеком, на которого «левые» глядели, как на злейшего своего врага.
Тем временем политическая атмосфера сгущалась, близилась буря. Террористическая организация «Земля и воля» возникла в 1861-м, сразу после великого освобождения крестьян. Свирепые прокламации звали Русь к мятежу и топору. Радикальных вожаков, справедливо числившихся подстрекателями и заговорщиками, бросали за решетку либо ссылали. По столице прокатились пожары; поджигателями не без оснований объявили студентов-народолюбцев; Тургенев не выступил в их защиту. Свист и шиканье радикалов, их дикарские насмешки, адресованные Тургеневу, казались чистейшим вандализмом, а призывы к революции — опаснейшей утопией. Но Тургенев чувствовал: подымалось нечто новое — широчайшая общественная мутация неведомого свойства. Она ощущалась повсюду, она отталкивала и одновременно завораживала писателя.
Новая, чудовищная разновидность противников тогдашнего строя, провозглашавшая многое из того, что говорили встарь и сам Тургенев, и его либеральные сверстники, уже зародилась и подняла голову. Тургеневская любознательность неизменно брала верх над опасениями; а теперь писателю больше всего хотелось уразуметь новоявленных «якобинцев». Порода их была грубой, враждебной, фанатичной, одним наличием своим оскорблявшей лучшие людские чувства, — но ведь они также представали несгибаемыми, самоуверенными, а еще (в очень узком, но верном смысле этих слов) разумными и бескорыстными. Решительно отвернуться от них Тургенев не мог.
Они выступали новым, дальновидным поколением, отвергнувшим прежние «романтические мифы»; прежде всего, эти люди казались молодостью страны, чье будущее находилось в их руках, а Тургенев не желал оказываться в полном отчуждении от чего бы то ни было, выглядевшего, с его точки зрения, живым, волнующим и страстным.
В конечном счете, зло, против коего стремились бороться «якобинцы», писатель тоже числил злом, а враги «якобинцев» до известной степени выступали и его собственными врагами; в конце концов, эти молодые люди — душевнобольные варвары, презиравшие либералов, подобных самому Тургеневу, — были бойцами и мучениками в борьбе против деспотизма. Иван Сергеевич интересовался ими, ужасался им, поражался им. Весь остаток жизни писатель отчаянно пытался уразуметь: да что же за племя возникло «младое, незнакомое»? Возможно, хотел, чтобы и племя это уразумело его, Тургенева.
II
Молодой человек человеку средних лет: В вас было содержание, но не было силы. Человек средних лет: А в вас — сила без содержания. (Из современного разговора)[311].
В этом — вся тема наиболее знаменитого и самого, с политической точки зрения, любопытного тургеневского романа «Отцы и дети». Автор пытался сделать осязаемым, облечь живой плотью тот образ «новых людей» что неумолимо и загадочно преследовал Тургенева, по собственным его словам, везде и всюду, пробуждая чувства, разобраться в которых романисту было трудно. «Тут был — не смейтесь, пожалуйста, — писал он много лет спустя своему другу М.Е. Салтыкову-Щедрину, — какой-то фатум, что-то сильнее самого автора, что-то независимое от него. Знаю одно: никакой предвзятой мысли, никакой тенденции во мне тогда не было; я писал наивно, словно сам дивясь тому, что у меня выходило»[312]. Он говорил: Базаров, главный герой романа, главным образом списан с некоего русского врача, встретившегося Тургеневу в поезде. Но есть в Базарове также и черты Виссариона Белинского. Подобно ему, Базаров — сын бедного отставного армейского врача, ему присущи те же резкость и прямота, что и Белинскому, та же нетерпимость и склонность взрываться при малейшем признаке лицемерия, преувеличенной торжественности, напыщенной консервативной или уклончивой либеральной болтовни. И, сколь бы ни отрицал это сам Тургенев, а свойственна Базарову и яростная, воинствующая враждебность ко всему прекрасному — отличительная примета Николая Добролюбова.
Главная тема «Отцов и детей» — противостояние старого и молодого, либералов и радикалов, привычной воспитанности, цивилизованности — и новейшего, грубого позитивизма, во всем ищущего только «пользы», а все, чего не требуется «положительному человеку», отметающего начисто. Базарова, радикального студента-медика, приглашает погостить в родовой усадьбе сокурсник, идейный выученик Аркадий Кирсанов. Отец его, Николай Петрович Кирсанов — мягкий, добродушный, скромный помещик, боготворящий поэзию и природу, приветствует сыновнего приятеля с трогательной учтивостью. В той же усадьбе обитает и Павел Петрович, брат Николая — отставной армейский офицер, одевающийся с иголочки, самолюбивый, чопорный, старомодный русский денди; некогда он числился столичным светским львом, а ныне — изысканный и раздражительный — коротает оставшиеся годы в глуши. Базаров утробой чует противника и со смаком описывает себя самого и себе подобных как «нигилистов» — имея в виду лишь одно: и он, Базаров, и его единомышленники отрицают все, не поддающееся рациональному анализу или научному исследованию. Важна только «истина»; а чего нельзя определить посредством наблюдения или поставленного опыта — никчемная либо вредная дребедень, «романтизм, чепуха, гниль, художество»[313], которые человек разумный обязан истреблять беспощадно. В этот ворох бесполезной, иррациональной чепухи Базаров швыряет все неосязаемое, не поддающееся количественному измерению — литературу и философию, красоту искусства и красоту природы, принятые правила и власть, религию, интуицию, «измышления» консерваторов и либералов, народных заступников и социалистов, помещиков и крепостных. Он верит в мышечную мощь и в силу воли, в деятельность, пользу, безжалостную критику всего существующего. Он стремится срывать любые маски, попирать любые почитаемые принципы и нормы. Роль играют лишь неопровержимые факты, лишь полезные, прикладные знания.
Почти немедля он схватывается с уязвимым, добропорядочным Павлом Петровичем Кирсановым: «В теперешнее время полезнее всего отрицание», — говорит Базаров, — «мы отрицаем». — «Все?» — «Все». — «Как? Не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...» — «Все», — с невыразимым спокойствием повторил Базаров. <...> — «Однако позвольте», — заговорил Николай Петрович. — «Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете... Да ведь надобно же и строить». — «Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить»[314].
«Пламенный революционный агитатор» Бакунин, в то время только что бежавший из Сибири в Лондон, вещал в таком же духе: дескать, всю гнилую систему, весь окаянный старый мир надобно сперва стереть с лица земли, а уж потом возводить на освободившемся месте новое «светлое будущее» — какое именно, решать не нам, ибо мы революционеры и наше дело только рушить. А уж новые люди, очистившиеся от прежней заразы, лютовавшей в обществе, где правили ледащие эксплуататоры, где ценились их пустые и поддельные добродетели, — уж эти новые люди сами смекнут, что к чему. Немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн однажды повторил многозначительные слова Карла Маркса: «Всякий, задумывающийся о том, как жить после революции — реакционер»[315].
Это, право, звучало похлеще, чем высказывания радикальных недругов Тургенева из журнала «Современник»: у тех, по крайности, наличествовала некая смутная программа дальнейших действий, те были «демократическими народниками». Но вера в народ кажется Базарову такой же чушью, как и прочие «романтизм, чепуха, гниль, художество»[316]. «<...> Мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке»[317]. Наипервейшая, по Базарову, человеческая обязанность — развивать свои силы, делаться крепким, рациональным — и создавать общество, в котором другие столь же рациональные люди смогут и дышать, и жить, и учиться уму-разуму.
Добросердечный Аркадий, ученик Базарова, говорит: Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такая же изба, как у здешнего деревенского старосты Филиппа — она такая славная, белая... «А я, — отвечает Базаров, — и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?»[318] Аркадий потрясен такими словами, но это голос нового — материалистического, непреклонного, бесстыжего — себялюбия.
Впрочем, Базаров чувствует себя среди мужиков, точно рыба в воде: крестьяне отнюдь не стесняются его присутствием: хоть и барин, а все равно какой-то странный, свойский. После обеда, поближе к вечеру, свойский барин «пластает» — вскрывает—пойманных лягушек. «Порядочный химик, — объявляет он растерявшемуся Павлу Петровичу, — в двадцать раз полезнее всякого поэта»[319]. Аркадий, по совету своего наставника Базарова, «с этаким ласковым сожалением на лице» отнимает у Николая Петровича пушкинский томик и взамен кладет перед отцом «пресловутую брошюру Бюх- нера, десятого издания»[320] Kraft und Stoff, — новейшее популярное изложение материализма. Тургенев описывает прогулку старшего Кирсанова по саду: «Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. «Но отвергать поэзию? — подумал он опять, — не сочувствовать художеству, природе?..» И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе»[321]. Все принципы, объявляет Базаров, можно свести к простым ощущениям. «Что ж? И честность — ощущение?» — спрашивает Аркадий. «Еще бы!» — «Евгений!..» — начал печальным голосом Аркадий. — «А? Что? не по вкусу?» — перебил Базаров. — «Нет, брат! Решился все косить — валяй и себя по ногам!..»[322]. Слышатся голоса Бакунина и Добролюбова: «нужно место расчистить»[323].
Новую культуру должно строить на «реальных», то есть материалистических, научных основах и ценностях, но социализм столь же нереален, социализм такое же абстрактное понятие, как и все прочие «-измы», завезенные из-за границы. А прежняя культура — эстетическая, словесная — рассыплется прахом под натиском реалистов, людей новых, беспощадных, умеющих глядеть в глаза суровой правде. «"—Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы", — говорил между тем Базаров, — "подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны"»[324].
Павел Петрович презрительно возражает; и его племянник Аркадий тоже, в конце концов, оказывается не в силах согласиться с Базаровым.
«<...> Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, «« злости, я естяь молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, «е деретесь — « воображаете себя молодцами, — я ль/ драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, Эя тяь/ « «е дорос до нас,
невольно любуешься собою, приятно самого себя бранить; а нам это скучно — других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич <... >»х.
Кто-то заметил однажды: Базаров — первый большевик. И, пускай Базаров не социалист, но доля истины в таком утверждении, конечно, есть. Этот человек жаждет радикальных, коренных перемен и отнюдь не отрицает жесточайшего насилия. Стареющий «денди» Павел Петрович возражает против этого:
«Сила! И в диком калмыке, и в монголе есть сила — да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь, нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, un barbouilleur[325], тапер, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть!»[326]
Но, вопреки собственным принципам, Базаров умудряется полюбить умную, ледяную, благородную красавицу; та отвергает его; Базаров глубоко страдает и вскоре гибнет, заразившись трупным ядом при вскрытии мужика, умершего от тифозной горячки. Умирает Базаров стоически, гадая: а нужны ли России по-настоящему и сам он, и ему подобные? Смерть «Енюшки» безутешно оплакивают его старые, смиренные, любящие родители. Этот человек сходит со сцены, сломленный несчастной любовью и нещадной судьбой, — а вовсе не оттого, что ему недостало ума или воли. «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, — писал Тургенев позднее молодому студенту, будущему крупнейшему поэту, — до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на погибель — потому, что она все-таки стоит еще в преддверии будущего»[327]. Жестокий, фанатичный, целеустремленный, со всею дикой, неистраченной силой, Базаров предстает своего рода мстителем за попранный людской разум; но под конец его неисцелимо ранит любовь: человеческая страсть, которую Базаров душит в себе и гонит прочь — наступает кризис, одновременно и унижающий это существо, и наделяющий чем-то человеческим. Под конец Базарова сокрушает равнодушная природа, которую автор сравнивает в другом произведении с холодно глядящей богиней Изидой[328], безучастной к добру и злу, к искусству и красоте, а еще более — к самому человеку, «вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти»; не спасут человека ни себялюбие, ни попечение о ближних, ни вера, ни труды, ни рассудочный гедонизм, ни пуританская суровость; борется человек, утверждает себя — но природе все едино: природа повинуется лишь собственным неумолимым законам.
«Отцы и дети» вышли в свет весной 1862 года и вызвали среди русских читателей такую великую бурю, какой не вызывал ни единый роман — до или после того. Что есть Базаров?
Как его принимать? Положительная он личность, или отрицательная? Герой или дьявол?[329] Он дерзок, молод, умен и крепок, он сбросил и отринул бремя прошлого, меланхолическое бессилие «лишних людей», которые тщетно бились о решетки тюрьмы, звавшейся русским обществом. Критик Страхов отозвался о Базарове как о фигуре героических пропорций[330]. Многие годы спустя Луначарский определил Базарова как первого «положительного» героя в русской литературе. Получается, Базаров есть олицетворение прогресса? Или свободы? Но его ненависть к искусству и культуре, ко всем без исключения либеральным добродетелям и ценностям, его цинические замечания — этим ли, согласно авторскому замыслу, надлежит восхищаться? Еще до того, как роман вышел из печати, издатель Михаил Никифорович Катков пенял Тургеневу: это прославление нигилизма — не что иное, как постыднейшее заискивание перед молодыми радикалами. В беседе с Анненковым, другом Тургенева, он посетовал: «Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином»[331]. «Но, М. Н.», — возразил Анненков, — «этого не видно в романе, Базаров возбуждает там ужас и отвращение». «Это правда», — отвечал Катков, — «но в ужас и отвращение может рядиться и затаенное благоволение <... > молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора»[332]. И Катков заключил: «<...> Тут, кроме искусства, припомните, существует еще и политический вопрос. Кто может знать, во что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку, украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии»[333]. Более сочувственно высказывался Страхов. Он писал: Тургенев, беззаветно любящий извечную истину и красоту, желал всего лишь изобразить действительность, а не судить ее. Страхов тоже признает: Базаров, несомненно, возвышается над остальными действующим лицами — и прибавляет: пускай Тургенев и говорит, будто его неодолимо влекло к Базарову, но справедливее было бы сказать, что автор побаивается собственного героя. Страхову вторит Катков: «Чувствуется что-то несвободное в отношении автора к герою повести, какая-то неловкость и принужденность. Автор перед ним как будто теряется, и не любит, а еще пуще боится его!»
Нападение слева оказалось несравненно ядовитее и злее. Добролюбовский преемник Антонович щедро сыпал в «Современнике» обвинениями: Тургенев, дескать, написал ужасную, отвратительную карикатуру на молодежь[334], выставил Базарова циническим двуногим скотом, жаждущим вина и женщин, безразличным к народной участи; а создатель этого чудовища, какими бы ни были прошлые авторские взгляды, явно переметнулся в лагерь махровых реакционеров и угнетателей. И впрямь: находились консерваторы, которые поздравляли писателя, обличившего новый, разрушительный нигилизм и тем сослужившего русскому обществу добрую службу, за что любой порядочный человек должен поблагодарить автора. Нападки слева язвили Тургенева всего больнее. Семью годами позже Иван Сергеевич писал одному из друзей: молодежь забрасывала меня «грязью и гадостями». Писателя честили дураком, ослом, гадиной, Иудой и Видоком[335]. Тургенев говорит:
«В то время, как одни обвиняют меня в оскорблении молодого поколения, в отсталости, в мракобесии, извещают меня, что с "хохотом презрения сжигают мои фотографические карточки", — другие, напротив, с негодованием упрекают меня в низкопоклонстве перед самым этим молодым поколением. *Вы ползаете у ног Базарова! — восклицает один корреспондент, — вы только притворяетесь, что осуждаете его; в сущности вы заискиваете перед ним и ждете, как милости, одной его небрежной улыбки!"»[336].
По меньшей мере один из друзей-либералов, прочитавших «Отцов и детей» в рукописи, посоветовал Тургеневу бросить книгу в огонь, поскольку она опорочит автора на веки вечные в глазах «передовых людей». Левая печать, как из рога изобилия, сыпала площадными карикатурами, где Тургенев изображался прислужником «отцов», а Базаров — осклабившимся Мефистофелем, высмеивавшим своего ученика и последователя Аркадия за любовь к отцу[337]. Наименее гнусные рисунки представляли Тургенева застывшим, растерянным и беспомощным, дружно атакуемым разъяренными демократами слева и вооруженными отцами справа[338]. Впрочем, левые не были единодушны. На выручку Тургеневу пришел радикальный критик Писарев. Он дерзко уподобил себя самого Базарову и заявил, что всецело разделяет его воззрения. Тургенев, по словам Писарева, может быть слишком уж мягкосердечен или утомлен, чтобы следовать за нами, людьми будущего, но все же понимает: истинный прогресс ищите не среди людей, привязанных к устоявшимся обычаям, но среди эмансипированных, деятельных, независимых личностей, подобных Базарову — свободных от фантазий, от романтической и религиозной чепухи.
Автор, по словам Писарева, не пугает нас и отнюдь не заставляет ни восхищаться «отцами», ни разделять их суждения. Базаров — мятежник, его не сковывают никакие теории, в этом и коренится его притягательность, это и влечет читателя к свободе и прогрессу. Пускай Тургенев, продолжает Писарев, «хотел сказать: наше молодое поколение идет по ложной дороге», но ведь Тургенев-то, в сущности, Валаам: создавая Базарова, писатель успел невольно и сердечно привязаться к своему герою и возлагает на него все свои упования. «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»[339] — не меланхолические сны наяву, но воля, сила, реализм: вот что, как утверждает Писарев, говорит устами Базарова, вот что разыщет верный путь. Базаров, добавляет критик, олицетворяет все, что родители ныне видят крепнущим и пробивающимся наружу в своих сыновьях и дочерях, а сестры — в своих братьях. Это может пугать, может и озадачивать — но именно здесь и начинается дорога к будущему[340].
Павел Анненков, добрый друг Тургенева, читавший все романы в рукописях до публикации, видел в Базарове свирепого монгола, Чингиз-хана, лютого зверя, порожденного дикими российскими условиями и едва-едва «прикрытого сверху книжками с Лейпцигской ярмарки»1. Намеревался ли Иван Сергеевич возглавить некое политическое движение?
«Автор сам <... > не знает, за что его [Базарова] считать, — пишет Анненков, — за плодотворную ли силу в будущем или за вонючий нарыв пустой цивилизации, от которого следует поскорее отделаться»1. Нельзя быть одновременно и тем и другим: «у него два лица, как у Януса, и каждая партия будет видеть только тот фас, который ее наиболее тешит или который она разобрать способнее»[341].
Катков, написавший и без подписи поместивший очерк об «Отцах и детях» в своем журнале (где роман печатался впервые), пошел гораздо дальше. Высмеяв смятение левых, нежданно-негаданно увидавших себя в зеркале нигилизма, что понравилось одним, а других ужаснуло, он упрекает автора, чрезмерно стремившегося быть справедливым к Базарову и, как следствие, всегда выставлявшим своего героя в наивыгоднейшем свете. Плохо, говорит Катков, быть избыточно справедливым, ибо в этом случае истина тоже искажается — только на иной лад. Базаров предстает искренним до полной беспардонности: это хорошо, очень хорошо; Базаров режет правду-матку, не боясь огорчить мягких и добрых Кирсановых, и отца, и сына, Базаров не считается ни с личностями, ни с обстоятельствами: восхитительно; Базаров нападает на искусство, на богатство, на привольную жизнь — а во имя чего? Ради науки, ради знаний? Однако, пишет Катков, это просто неправда. Научные истины Базарову безразличны: в противном случае он бы не навязывал окружающим дешевые популярные книжонки — Бюхнера и тому подобное, — ибо здесь вовсе не наука, но публицистика, пропаганда материализма. Базаров, продолжает Катков, не ученый; людей, ученых по-настоящему, в России нынешней раз-два, и обчелся. Базаров и его друзья-нигилисты всего лишь агитаторы: им ненавистен возвышенный, изящный слог, риторика — Базаров просит Аркадия не говорить «красиво», — но лишь потому, что собственная их грубая пропаганда в изящный слог не укладывается; нигилисты не предлагают надежных научных фактов, ибо не интересуются ими, да и не знакомы с ними вообще; нигилистам нужны только лозунги, призывы, брань и радикальная болтовня. Базаров «пластает» лягушек, не взыскуя научной истины, а стараясь выказать презрение к воспитанности, ценимой испокон веку и защищаемой такими людьми, как Павел Петрович Кирсанов, который в обществе, устроенном лучше и разумнее — скажем, в английском, — сумел бы сыскать себе достойное занятие и доброе применение. Ни Базарову, ни его приспешникам не открыть ничего; это не исследователи; это злобные болтуны, люди, сыплющие бранью во имя науки, овладеть коей не дают себе труда; в конечном счете, они отнюдь не выше невежественных сельских священников (из чьих семей, в большинстве своем, и выходили нигилисты), — но, в отличие от священников, очень опасны[342].
Герцен оказался, как обычно, проницателен и насмешлив. «Тургенев был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги, и, по-моему, очень хорошо сделал — шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую»[343]. Автор явно принимался за работу, желая «что-то сделать в пользу отцов, — и это ясно. Но в соприкосновении с такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирсановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и вместо того, чтоб посечь сына, он выпорол отцов»[344]. Пожалуй, устами Герцена глаголет истина: весьма возможно (правда, сам Тургенев этого не признает), что Базаров, с которого автор начал было писать неприглядный портрет, заворожил своего создателя донельзя; как следствие, подобно шекспировскому Шейлоку, он превратился в куда более человечную и неизмеримо более сложную фигуру, нежели предначертанная замыслом произведения изначально, — и преобразил (скорее, даже исказил) этот замысел. Случается, природа подражает искусству: Базаров повлиял на молодежь девятнадцатого столетия отнюдь не меньше, чем на молодежь столетия восемнадцатого повлиял Вертер; ничуть не меньше, чем влияли на молодые умы «Разбойники», написанные Фридрихом Шиллером, чем Байроновы Лара, Гяур и Чайльд-Гарольд. Но эти же «новые люди», прибавляет Герцен в позднейшем очерке, столь невыносимые, столь косноязычные догматики и начетчики, что являют читателю наихудшую сторону русского характера — достойную «квартального, исправника, станового <... > николаевской офицерщины», беспощадных чинуш, «говорящих свысока и с пренебрежением о Шекспире и Пушкине, — внучат Скалозуба»[345], стремящихся сокрушить иго прежнего деспотизма, — но лишь затем, чтобы заменить его гораздо более страшным ярмом, изготовленным собственноручно. «Поколение 40-х», герценовское и тургеневское, могло быть легкомысленным и слабым, но следует ли из этого, что преемники — зверски грубые, неспособные любить, циничные молодые мещане 1860-х — существа, которые толкаются, не извиняясь, и за честь себе поставили попрание всех приличий[346], — обязательно и всенепременно выступают существами высшего порядка? Что за новые принципы они провозглашают, что за новые плодотворные ответы дают? Разрушение остается разрушением. А созидать они просто не способны.
За выходом «Отцов и детей» из печати последовал бешеный гомон, в котором возможно расслышать, по крайности, пять различных точек зрения на книгу. Сердитое правое крыло полагало, будто в образе Базарова прославляются новейшие нигилисты, а сам Тургенев недостойно тщится польстить молодежи и снискать ее одобрение. Другие поздравляли писателя, успешно обличившего новейшее варварство и подрывание устоев. Третьи поносили Тургенева, сочинившего злобный пасквиль на радикалов, снабдившего реакцию оружием, играющего на руку полиции; эти звали Ивана Сергеевича отступником и предателем. Четвертые, подобно Дмитрию Писареву, гордо становились под базаровский стяг и благодарили автора за честное сочувствие всему, что было наиболее живого и бесстрашного в разраставшейся партии будущего. Наконец, пятые подмечали: сам-то автор не вполне уверен в собственном замысле, ибо его отношение к действующим лицам романа поистине двояко; они говорили: Тургенев — художник, а не памфлетист, он вещает истину, какой видит ее, не отдавая предпочтения ни той, ни другой стороне.
Препирательство не шло на убыль и длилось даже после смерти Тургенева. Об огромной жизнеспособности романа свидетельствует уже одно то, что споры не смолкали даже в следующем столетии — ни до, ни после Октябрьской революции. Еще десять лет назад по этому же поводу среди советских критиков кипела битва. За нас был Тургенев, или против нас? И кем он был? Гамлетом, которого ослеплял пессимизм, свойственный представителям угасающего класса, или, подобно Бальзаку и Толстому, провидцем? И кто есть Базаров? Предтеча воинствующего, насквозь политизированного советского интеллектуала, или уродливая карикатура на отцов-основателей русского коммунизма? Споры еще не кончились[347].
Прием, оказанный роману, огорчил и озадачил Тургенева. Прежде, чем отправить книгу в печать, писатель, как обычно, спрашивал мнения и совета у множества своих друзей. Он читал рукопись парижским слушателям, изменял и правил текст, пытался угодить любому и всякому. Образ Базарова претерпел несколько перемен в предварительных набросках, то возвышаясь, то снижаясь — в зависимости от впечатления, полученного тем или иным советчиком или другом. Нападение слева нанесло Тургеневу раны, саднившие до конца земных дней. «<...> Меня уверяют, что я на стороне "Отцов" ... я, который в фигуре Павла Кирсанова даже погрешил против художественной правды и пересолил, довел до карикатуры его недостатки, сделал его смешным!»[348] Что до Базарова, «он честен, правдив и демократ до конца ногтей»[349]. Много лет спустя Иван Сергеевич признался анархисту Кропоткину: «<...> Я любил его, сильно любил <... > я покажу вам дневник, где записал, как я плакал, когда закончил повесть смертью Базарова»[350]. «Скажите по совести, — писал Тургенев одному из наиязвительнейших своих критиков, Салтыкову- Щедрину (посетовавшему: дескать, реакционеры пользуются словом «нигилист», чтобы опорочить всякого, кто не пришелся им по душе), — разве кому-нибудь может быть обидно сравнение его с Базаровым? Не сами ли Вы замечаете, что это самая симпатичная из всех моих фигур?»[351] Что же до «нигилизма», это, возможно, было ошибкой:
«...Я готов сознаться <... > что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку — за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину <...> я признаю справедливым и отчуждение от меня молодежи, и всяческие нарекания... Возникший вопрос был поважнее художественной правды — и я должен был это знать наперед»[352].
Тургенев утверждал, будто разделяет все базаровские взгляды — за вычетом отношения к искусству: «вероятно, многие из моих читателей удивятся, если я скажу им, что, за исключением воззрений на художества, — я разделяю почти все его убеждения»[353]. «"Ни отцы, ни дети", — сказала мне одна остроумная дама по прочтении моей книги, — вот настоящее заглавие вашей повести — и вы сами нигилист». Не берусь возражать; быть может, эта дама и правду сказала»[354]. Еще раньше Герцен заявил, что частица Базарова была во всех — ив нем самом, и в Белинском, и в Бакунине — во всех, кто на протяжении 1840-х обличал российское царство тьмы во имя Запада, науки и цивилизации[355]. Тургенев этого тоже не отрицал. Несомненно, Иван Сергеевич избирал разный тон в переписке с разными корреспондентами. Когда радикальные русские студенты, учившиеся в Гейдель- берге, потребовали, чтобы Тургенев недвусмысленно заявил о собственном отношении к Базарову, писатель ответил им так:
«<... > Если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью — если он его не полюбит, повторяю я — я виноват и не достиг своей цели. Но *рассиропиться"у говоря его словами я не хотел, хотя через это я бы, вероятно, тотчас имел молодых людей на моей стороне. Я не хотел накупаться на популярность такого рода уступками. Лучше проиграть сражение (и кажется, я его проиграл) — чем выиграть его уловкой»1.
А другу своему, Афанасию Фету, великому поэту и консервативному помещику, Тургенев написал: «Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли я его или ненавижу!»[356] Эхо этой фразы слышится и спустя восемь лет: «<... > мои личные чувства [к Базарову] были смутного свойства (любил ли я его, ненавидел ли — Господь ведает!)»[357]. Либеральной А.П. Философо- вой он пишет иначе: «Базаров — это мое любимое детище, из-за которого я рассорился с Катковым, на которого я потратил все находящиеся в моем распоряжении краски, Базаров — этот умница, этот герой — карикатура?!?» И зовет подобное обвинение бессмысленным[358].
Презрение молодежи казалось Тургеневу начисто невыносимым. Он пишет: весной 1862 года «гнусные генералы меня хвалили — а молодежь ругала»[359]. Вождь социалистов Лавров сообщает, что Иван Сергеевич горько сетовал при нем на несправедливость разгневанных радикалов[360]. Той же горечью напитано одно из тургеневских стихотворений в прозе, где сказано: «И честные души гадливо отворачиваются от него; честные лица загораются негодованием при его имени»[361]. Здесь не просто уязвленная amour propre[362]. Тургенев искренне страдал, очутившись в политически ложном положении. Всю жизнь Иван Сергеевич старался идти в ногу с людьми передовыми, с поборниками свободы, протестующими против гнета. Но, в конце концов, не смог заставить себя согласиться с их животным презрением к искусству, к воспитанности, ко всему, что сам он считал в европейской культуре драгоценным. Тургенев не выносил их твердолобого догматизма, их спеси, их стремления разрушать, их полнейшего, устрашающего незнакомства с настоящей жизнью. Писатель отправился за границу, жил в Германии и Франции, а Россию посещал изредка, как бы мимоходом. На Западе Тургенева повсеместно чтили и хвалили. Но ведь обращаться-то хотелось к русским... Хотя известность
Ивана Сергеевича на родине оставалась очень широкой и в 1860-е годы, и впоследствии, писатель больше всего желал полюбиться радикалам. Но те оставались равнодушны или прямо враждебны.
Следующий роман, «Дым», начатый сразу же после выхода «Отцов и детей» из печати, был многозначительной попыткой заживить полученные раны, угомонить неприятеля. «Дым» был опубликован пятью годами позднее, в 1867-м, и являл собою резкую сатиру на оба лагеря: как напыщенных, тупых, реакционных генералов и бюрократов, так и безмозглых, мелких, не знающих ни совести, ни долга «левых» краснобаев — столь же далеких от живой жизни, столь же неспособных исцелить российские общественные недуги. Роман вызвал дальнейшие нападки на Тургенева, но в этот раз писатель не удивлялся ничему. «<...> Меня ругают все — и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку — особенно сбоку»[363]. Польское восстание 1863 года и, тремя годами позднее, провалившееся покушение Дмитрия Каракозова на Государя, вызвало всероссийский патриотический подъем — даже в рядах либеральной интеллигенции. Русские критики — и правые и левые — списали Тургенева со счетов, как человека разочарованного, эмигранта, позабывшего родину вдали от нее, в Баден-Бадене и Париже. Достоевский назвал его русским ренегатом и посоветовал обзавестись телескопом, чтобы увидеть Россию хоть чуточку лучше[364].
В 1870-х Тургенев с осторожностью, постоянно опасаясь новых оскорблений и унижений, принялся восстанавливать былые отношения с «левыми» соотечественниками. К изумлению своему и облегчению, Иван Сергеевич встретил добрый прием в революционных эмигрантских кружках Лондона и Парижа; его ум, его доброжелательность, неубы- вавшая ненависть к самодержавию, общеизвестная честность и беспристрастность, его теплое сочувствие к отдельным революционерам, его исключительное обаяние возымели действие на революционных предводителей. Кроме того, Тургенев обнаружил смелость — смелость человека робкого по природе и твердо решившего свои страхи преодолеть: он поддержал крамольные публикации тайными денежными пожертвованиями, он открыто встречался в Париже и Лондоне с известными террористами, за коими негласно следила полиция, — и революционеры подобрели к Ивану Сергеевичу. В 1877-м Тургенев опубликовал «Новь» (задуманную как продолжение «Отцов и детей») — сделал последнюю попытку объясниться с негодовавшей молодежью.
«Молодое поколение, — писал он годом позже, — было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников <... > либо <... > возведено в идеал, что опять несправедливо — и, сверх того, вредно. Я решился выбрать среднюю дорогу — стать ближе к правде; взять молодых людей, большей частью хороших и честных— и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско. Насколько мне это удалось — не мне судить <...> во всяком случае <...> они <... > должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне — если не к их целям, то к их личностям»[365].
Герой «Нови», Нежданов, неудавшийся революционер, в итоге кончает с собой — главным образом оттого, что происхождение и характер не дают ему приспособиться к жестокой дисциплине, царящей в революционной среде, медленно и кропотливо трудиться, подобно истинному герою романа, практику-реформатору Соломину, чьи бездушно-спокойные действия на собственной, демократически организованной фабрике создадут якобы лучший, справедливый порядок. Нежданов слишком хорошо воспитан, слишком чувствителен, слишком слаб — а прежде всего, слишком служен духовно, чтобы сжиться с этим строжайшим, чисто монашеским новым порядком; он мучительно мечется и, под конец, терпит крах, поскольку «не умел опроститься»[366]. А важнее всего то, что, как подметил Ирвинг Хау {Irving Howe)[367], «не умел опроститься» сам Тургенев. Другу своему Якову Петровичу Полонскому он писал: «<...> если за "Отцов и детей" меня били палками, за "Новь" меня будут лупить бревнами — и точно так же с обеих сторон»[368]. Тремя годами позднее катковская газета вновь разбранила Ивана Сергеевича за «шутовство» и заискивание перед молодежью[369]. Как и всегда, Тургенев отозвался на выпад немедля: «<...> я имею право утверждать, — пишет он, — что убеждения, высказанные мною и печатно и изустно, не изменились ни на йоту в последние сорок лет; я не скрывал их никогда и ни перед кем. <... > Я всегда был и до сих пор остался "постепеновцем", либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, — принципиальным противником революций, не говоря уже
безобразиях последнего времени. Молодежь была права в своей оценке — и я почел бы недостойным и ее и самого себя представляться ей в другом свете»[370].
На закате 1870-х левые простили Тургеневу его «заблуждения». Приступы слабости, постоянные попытки оправдаться перед российскими властями, отрицание связей с эмигрантами в Лондоне и Париже — все эти прегрешения были почти полностью позабыты[371]. Тургеневское обаяние, сочувствие отдельным революционерам и их убеждениям, его писательская искренность вызвали благосклонность изгнанников — правда, отнюдь не питавших иллюзий касаемо крайне умеренных тургеневских взглядов и неистребимой привычки спасаться бегством, если битва становилась чересчур горячей. Писатель по-прежнему говорил радикалам: вы ошибаетесь. Если старое потеряло всякую силу, а новое принимается плохо, то нужно, как написано в романе «Дым», «терпение <... > прежде всего, и терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас»1. Когда грянул кризис, когда, согласно многозначительной фразе, «неумелый сталкивался с недобросовестным», а «весь поколебленный быт ходил ходуном»2, требовался обычный здравый смысл, а не герценовская и не народническая идиллия, нелепая и ностальгическая, слепо творящая кумира из мужика — наихудшего реакционера на всем белом свете.
Без устали твердил Тургенев о том, что ненавидит революцию, насилие, варварство. Писатель верил в неторопливое движение вперед, осуществляемое только силами меньшинства — если, разумеется, внутри этого меньшинства не начинается смертоносная междоусобица. Что до социализма, то социализм — пустейшая выдумка. Русские всегда готовы, говорит Поту- гин, устами которого глаголет сам создатель романа «Дым», «<...> поднять старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурье, и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним, как со святыней <... >»1. Что же до равенства, Тургенев сказал революционеру Лопатину так: «Ведь не будем же мы в самом деле ходить по Сен-Симону, все в одинаковых желтеньких курточках с пуговкой назади?»[372]
И все-таки, это были молодые — партия свободы и щедрости, партия неимущих, партия страждущих или, по крайности, бедствующих, — и Тургенев не мог отказать им в сочувствии, в помощи, в любви, хотя непрерывно и виновато оглядывался через плечо на своих «правых» друзей, в чьих глазах все время пытался оправдать и преуменьшить свое заигрывание с «левыми». Посещая Москву и Санкт-Петербург, он старался обустроить встречи с кружками радикально мысливших студентов. Иногда беседы проходили гладко, иногда — особенно если Тургенев начинал развлекать собравшихся воспоминаниями о 1840-х годах — слушатели зевали, раздражались, выказывали презрение. Даже любивших Ивана Сергеевича и восхищавшихся им отделяла от писателя глубокая пропасть — сам Тургенев чувствовал это, — ибо меж теми, кто стремился разрыть старый мир до основания, и теми, кто, подобно Тургеневу, желал бы спасти его — поскольку в новом мире, созданном свирепыми фанатиками, жить было бы просто невмоготу.
Именно тургеневская ирония, тургеневский снисходительный скепсис, тургеневские бесстрастие и учтивость — а всего более решимость избегать сколь угодно явных общественных и политических предпочтений — привели, в конце концов, к отчуждению с обеих сторон. Толстой и Достоевский, вопреки своей открытой неприязни к «передовым людям», воплощали собою незыблемые принципы, оставались горды и уверены в себе, а потому и не сделались мишенью для тех, кто забрасывал Тургенева булыжниками. Само дарование Ивана Сергеевича, его способность глядеть пристально и подмечать любые мелочи, его любовь к разнообразию характеров и обстоятельств как таковых, его беспристрастность, его неискоренимая привычка воздавать должное всей совокупности сложных и разнообразных людских целей, взглядов и убеждений — все это казалось «новым людям» нравственной зыбкостью и политической безответственностью. Радикалы винили Тургенева, подобно Монтескье, в избытке описаний и недостатке критики. А Тургеневу больше, нежели всем прочим русским авторам, было свойственно то, что Страхов назвал искренним поэтическим гением: умение передавать множественность взаимно зависимых, обогащающих друг друга точек зрения, незаметно сливающихся воедино, и оттенки характера, и тонкие особенности поведения; распознавать скрытые пружины людских поступков, излагать суждения, не искажаемые пристрастиями. Изнеженный, однако умный Павел Петрович Кирсанов горячо защищает цивилизацию — и это не карикатура, здесь говорит глубокое убеждение в своей правоте; а вот в устах Панина из «Дворянского гнезда» подобные речи ни малейшего веса не имеют — ибо так и было задумано; славянофильские взгляды Лаврецкого трогательны и привлекательны, а народничество, описываемое в «Дыме» — и радикальное и консервативное, — отталкивает, ибо автор того и добивался. Столь безошибочный взгляд, столь разборчивый, чуть иронический авторский талант, начисто не схожий с одержимым гением Достоевского или Толстого, раздражали всех, требовавших называть вещи своими именами, писать понятно и просто; всех, вымогавших у писателя нравственных рецептов и ничего подобного не обретавших в тургеневской двойственности — щепетильной, безупречно честной, но — как мерещилось «новым людям» — несколько самодовольной. Казалось, Тургенев смакует собственные сомнения и не желает «копнуть поглубже». Оба вышеупомянутых великих соперника находили это чем далее, тем более непереносимым. Достоевский, поначалу от чистого сердца восхищавшийся Тургеневым, начал глядеть на него, как на улыбчивого, неглубокого, космополитического позера, хладнокровного изменника России. Толстой считал Тургенева одаренным, искренним, однако нравственно хилым автором, безнадежно безразличным к самым глубоко сокрытым и болезненным духовным недугам. Для Герцена Тургенев был старинным другом, блистательным художником и скверным, ненадежным союзником — тростинкой, любым ветром колеблемой, закоренелым соглашателем.
Мучиться молча Иван Сергеевич не умел. Он жаловался, просил прощения, возражал. Писатель ведал, что публика винит его в отсутствии глубины, серьезности, отваги. Прием, оказанный «Отцам и детям», продолжал бередить авторскую душу. «<...> Вот уже семнадцать лет прошло со времени появления "Отцов и детей", а, сколько можно судить, взгляд критики на это произведение все еще не установился — и не далее как в прошлом году я, по поводу Базарова, мог прочесть в одном журнале, что я не что иное, как "башибузук, добивающий не им раненных"»[373]. Я сочувствую, снова и снова твердил Тургенев, жертвам, а не их угнетателям — я душой с мужиками, со студентами, художниками, женщинами; с просвещенным меньшинством, а не тупыми вооруженными ордами. Неужели критики настолько слепы? Что до Базарова, с ним, разумеется, далеко не все ладно; тем не менее, Базаров лучше тех, кто поносит его; слишком легко было бы представить радикала человеком с чудовищной физиономией, но золотым сердцем: «если его не полюбят, как он есть, со всем его безобразием — значит я виноват и не сумел сладить с избранным мною типом. Штука была бы не важная представить его — идеалом; а сделать его волком и все-таки оправдать его — это было трудно»[374].
Единственного шага не пожелал сделать Иван Сергеевич — не стал искать прибежища в «искусстве ради искусства». Не сказал, как легко и просто мог бы сказать: «Я художник, а не газетный писака; я создаю книги, судить которые по меркам общественным или политическим нельзя; мое мнение — мое частное дело; вы не тащите Вальтера Скота, либо Диккенса, либо Стендаля и Флобера на свой идейный суд — оставьте же и меня в покое». Он ни разу не пытался отрицать общественный долг писателя: доктрину социальной ответственности ему крепко-накрепко втемяшил когда-то возлюбленный друг-приятель Виссарион Белинский; забыть наущения покойного критика всецело Тургенев так и не сумел. Заботой о благе общественном окрашены даже самые лирические тургеневские вещи; она-то и растопила лед: именно благодаря ей подобрели к писателю встреченные им за границей русские революционеры. Они отлично знали: Тургенев чувствует себя поистине легко и непринужденно только среди старых друзей-дворян, чьи взгляды при всем желании радикальными не назовешь, — среди хорошо воспитанных либералов или губернских помещиков, вместе с коими, при всяком удобном случае, Тургенев любил охотиться на уток. И все же, он был по душе революционерам, ибо те были по душе ему, писатель разделял их негодование: «<...> Понимаю, что не меня чествуют, а что мною, как бревном, бьют в правительство». (Как сообщает революционер Герман Лопатин, живший тогда в изгнании и донесший до нас эти слова, писатель подкрепил свою фразу надлежащим телодвижением). «Ну и пусть и пусть, я очень рад»[375]. Больше всего эмигрантов привлекало к Тургеневу то, что Иван Сергеевич рассматривал их, как отдельных, самостоятельных людей, а не просто представителей каких-то партий и мировоззрений. В известном смысле, это звучит парадоксом, ибо именно личные людские особенности, как общественного, так и нравственного свойства, эти люди старались игнорировать всемерно; верили они только в «объективный анализ», в суждения чисто социологические; окружающих оценивали сообразно тому, какую положительную или отрицательную роль, несмотря на свои сознательные устремления, играли они (то ли порознь, то ли выступая безликими «представителями данного класса») в достижении поставленных целей — научного развития, женской эмансипации, экономического прогресса, революции.
От подобного Тургенев отшатывался; подобное-то и страшило его в Базарове и в революционерах из «Нови». И Тургенев, и все прочие либералы считали политические тенденции и воззрения функциями человеческих существ, а человеческие существа не рассматривали как функции общественных тенденций[376]. Поступки, идеи, искусство, литература суть самовыражение личности, а не объективных общественных сил, орудием коей выступает мыслитель или деятель. Низведение человека до роли исполнителя или даже простого орудия безымянной массовой воли было столь же глубоко отвратительно Тургеневу, как и Герцену, или Виссариону Белинскому (правда, уже на закате дней). А в среде русских революционеров, живших эмигрантами, доброе участие, искренняя приязнь, человеческое сочувствие к себе подобному — к ближнему, а не к безликому представителю той либо иной идеологии — были своего рода роскошью, редким лакомством. Одно это во многом объясняет, почему даже такие люди, как Степняк-Кравчинский, Лопатин, Лавров и Кропоткин тянулись к столь хорошо понимавшему их, столь восхитительному и столь блистательно одаренному гостю — Тургеневу. Он охотно (и потихоньку) снабжал всех своих приятелей деньгами, но умственных уступок не делал никому. Он полагал — тут и сказывался его «либерализм старого покроя в английском, династическом [Тургенев, конечно же, хотел сказать "конституционном"] смысле»1, — что нужно образование, постепенное движение вперед, «трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою без всякого блеску и треску»[377]; он считал: чтобы людская жизнь улучшилась, нужны постепенные гомеопатические дозы культуры и науки. Он содрогался и шатался под непрестанным градом критической брани, которую навлек на себя, однако с неизменной своей учтивостью отказывался «опроститься». Тургенев по-прежнему считал — возможно, это было отголоском юношеского гегельянства, — что ни единый вопрос не решается раз и навсегда, что всякий тезис надлежит сопоставлять с его антитезисом, что любые системы и абсолюты — общественные и политические наравне с религиозными — суть опасное сотворение кумиров, идолопоклонство[378]; что, прежде всего прочего, человек ни в коем случае не должен воевать, пока (и если) все, чем он дорожит, не поставлено на карту и, буквально говоря, нет иного исхода, кроме сражения. Кое-кто из молодых фанатиков отвечал писателю искренним уважением, а бывало, и глубоким восхищением. Некий молодой радикал заявил в 1883-м: «Тургенев умер; стоит теперь еще умереть Щедрину, и тогда хоть живьем в гроб ложись! Везде эти люди заменяли нам и парламент, и сходки, и жизнь, и свободу!»[379] Преследуемый участник террористической организации в день тургеневских похорон почтил память ушедшего писателя, нелегально выпустив листовку, где говорилось: «Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, "постепеновец" по убеждениям, Тургенев, быть может бессознательно для самого себя <... > сочувствовал и даже служил русской революции»[380]. Особые меры полицейской предосторожности, принятые при погребении Тургенева, явно не были излишни.
ш
Пора отцам-Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивали стариков. Александр Герцен[381]
Говорят, что решающие поворотные пункты наступают в истории, когда некий общественный строй вместе с учреждениями и порядками, им порожденными, продолжает пригнетать самые живые творческие силы — экономические и социальные, художественные и умственные, — однако при этом все больше хиреет и уже не обладает мощью, позволяющей противиться растущему возмущению. Против такого общественного строя объединяются и отдельные люди, и целые классы — живущие в совершенно разных условиях и весьма несхожие по своим устремлениям. Происходит восстание — революция — добивающееся, бывает, ограниченного успеха. Восстание достигает известной точки, где некоторые интересы первых бунтовщиков, идейных вдохновителей революции, соблюдаются, некоторые запросы удовлетворяются — в степени, при коей дальнейшая борьба становится для этих мятежников невыгодной. Они складывают оружие, или сражаются нехотя. Прежняя сплоченность исчезает. Самые пылкие и целеустремленные — особенно те, чьи мечты, желания либо идеалы остаются всего дальше от осуществления — жаждут продолжить революцию. Остановка на полпути, с их точки зрения, равняется измене. А успевшие насытиться, или не столь воодушевленные, или страшащиеся того, что прежнее иго сменится новым, гораздо более тяжким, склонны идти на попятный. Их-то и атакуют с обеих сторон. Консерваторы, в наилучшем случае, рассматривают их как робких, нестойких приверженцев, а в наихудшем — как дезертиров и предателей. Радикалы иногда видят в них малодушных попутчиков, но гораздо чаще — изменников и ренегатов.
Людям подобного склада требуется немало храбрости, чтобы противостать притягательным силам этих двух полюсов, чтобы во времена смутные и суровые призывать к умеренности. Встречаются среди таких людей и способные видеть (вернее, неспособные не замечать), что любая палка — о двух концах, и понимающие, что самый, по внешности, гуманный замысел, осуществляемый чересчур уж беспощадными способами, легко может обратиться своей противоположностью: свобода станет угнетением во имя свободы, равенство сделается новой, увековечивающей самое себя олигархией, старательно блюдущей призрачное равенство, справедливость сведется к лютой расправе с любым инакомыслием, а человеколюбие выразится в ненависти ко всем противникам людоедских мер и методов. Занимать уязвимую промежуточную позицию, держаться пресловутой «золотой середины» — занятие опасное и неблагодарное. Сложно положение тех, кто в гуще схватки старается взывать к обеим сторонам; их зачастую зовут бесхребетными приспособленцами, трусами, оппортунистами. Но эти определения, применимые ко многим и впрямь, были бы неверны по отношению к Эразму Роттердамскому, к Мишелю Мон- теню, к Бенедикту Спинозе, согласившемуся на переговоры с французами, вторгшимися в Голландию; они были бы неверны по отношению к лучшим представителям Жиронды, к некоторым из потерпевших поражение либералов 1848 года, или к упрямым и европейским «левым», не ставшим на сторону Парижской коммуны в 1871-м. Не слабость и не трусость отвратили меньшевиков от Ленина в 1917-м, а недовольных немецких социалистов от коммунизма в 1932-м.
Такая двойственная умеренность людей, не желающих ни жертвовать своими принципами, ни предавать дело, в которое они верят, после Второй Мировой войны сделалась обычной чертой политической жизни. Отчасти она коренится в исторической позиции либералов девятнадцатого столетия, коим противники неизменно виделись только справа: монархисты, клерикалы, аристократы, приверженные политической или экономической олигархии — люди, чья власть либо прямиком приводила к несправедливости, нищете, невежеству, эксплуатации, вырождению людского племени, либо пребывала равнодушна к ним. Либералы естественно склонялись — и поныне склоняются — влево, к «партиям гуманности и щедрости», ко всему, истребляющему преграды, воздвигнутые меж людьми, — и даже после неминуемо наступающего раскола они почти наотрез отказываются верить, что настоящий враг обретается слева. Конечно, либералы могут негодовать, видя, как союзники и соратники прибегают к лютому насилию — и возражать: помилуйте, ведь подобные методы искажают или вовсе уничтожают общую нашу цель. Так вели себя жирондисты в 1792-м; так вели себя Гейне и Ламартин в 1848-м; Мадзини и многие социалисты — а в частности и особенно, Луи Блан — ужасались приемам Парижской коммуны в 1871-м. Кризисы миновали. Раны затягивались. Возобновлялась обычная, ничем не примечательная политическая война. Упования «умеренных» понемногу оживали. Тяжкий выбор, стоявший перед ними прежде, можно было рассматривать, как итог нежданных упущений и отдельных недостатков, не продолжающихся нескончаемо. Но в России, начиная с 1860-х и до самой революции 1917-го, гнетущее чувство растерянности, обострявшееся во времена репрессий и страха, стало состоянием хроническим — длительным, непрекращавшимся недугом, поразившим все просвещенные общественные слои.
Тяжкий либеральный выбор сделался невозможным. Либералы желали уничтожить режим, в их глазах выглядевший всецело порочным. Они верили в разум, в светское образование, в права личности, в свободу слова, общественных объединений, суждений, в свободу классов, наций и народностей, в более широкое общественное и экономическое равенство — а прежде всего, в справедливое правление страной. Они восхищались бескорыстной самоотверженностью, чистыми помыслами, добровольным мученичеством борцов — сколь угодно беспощадных и неумолимых, — отдававших жизнь за свержение status quo. Но либералы опасались, что потери, причинявшиеся террористическими либо якобинскими способами борьбы, могут оказаться невосполнимыми и перевесить любые вероятные выгоды; либералы ужасались фанатизму и варварству крайне левых, презиравших и ненавидевших единственную культуру, которую либералы признавали, страшились их слепой веры в утопии — народнические, анархические или марксистские.
Эти русские принимали европейскую цивилизацию, как принимают религию новообращенные. Они просто не могли помыслить об уничтожении многого, что имело бесконечную ценность и для них самих, и для всего человечества — даже для царского режима, — а уж тем паче приветствовать это уничтожение. Очутившиеся меж двух огней, меж двух неприятельских ратей, проклинаемые и с той, и с другой стороны, либералы мягко и рассудительно увещевали и тех и других, не слишком-то надеясь быть услышанными. Они оставались упорными реформаторами, а не мятежниками. Многие маялись комплексом вины — и довольно сложным: больше и глубже сочувствовали идеям «левых», но, глядя на выходки и поступки радикалов, подвергали сомнению (как оно и приличествовало самокритичным, трезво мыслившим человеческим существам) разумность своей собственной позиции; они колебались, они дивились, а время от времени испытывали соблазн швырнуть за борт все свои просвещенные принципы и успокоиться, обратившись в революционную веру, честно подчинившись вожакам-фанатикам. Ведь простереться на мягком ложе догмы значило бы избавиться от непрерывно одолевавшей и мучившей неуверенности, от ужасающего подозрения, что «простые выходы», навязываемые левыми, окажутся, в конце концов, столь же безрассудными и гнетущими, сколь и национализм, избранность или мистика, предлагаемые правыми.
Кроме того, невзирая на все свои вопиющие пороки и просчеты, левое движение казалось поборником более человечных взглядов, нежели застывшее, бюрократическое, бессердечное правое — уже потому, что всегда лучше быть заодно с угнетенными, чем с угнетателями. Но все-таки, одного своего убеждения либералы попрать не могли — они точно ведали: порочные средства не оправдываются даже благой целью — поскольку просто-напросто уничтожают ее. Они понимали: уничтожать существующие свободы, обыкновенную воспитанность, разумное поведение — истреблять все это сегодня в надежде на то, что все, подобно фениксу, возродится из пепла завтра — само собою и чище прежнего, — значит совершать чудовищную ошибку и рыть себе глубочайшую яму. В 1869 году Герцен говорил своему другу, анархисту Бакунину: приказывать, чтобы ум бездействовал, ибо плоды, принесенные им, того гляди, пойдут на пользу врагу, останавливать науку и прогресс до тех пор, покуда человечество не очистится в огне повсеместной революции — не «освободится», — было бы самоубийственной глупостью. В последней — великолепной — работе своей Герцен пишет:
«Нельзя же остановить ум, основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем. Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной. За ним так и следует разнуздание диких страстей <...> Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей.
Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, — проповедь неустанная, ежеминутная, — проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушенья, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.
Проповедь к врагу — великое дело любви»х.
И там же, несколько ниже, звучат слова, вспоминаемые незаслуженно редко: людям «надобно раскрыть глаза, а не вырвать их — чтоб и они спаслись, если хотят»[382]. Бакунин утверждал: для начала следует расчистить место, а дальше поглядим — и на Герцена веяло духом темных, варварских веков. Потому и отвечал Герцен от имени всех своих русских сверстников. Заодно с ним чувствовал, думал и писал в последние двадцать лет жизни Тургенев. Иван Сергеевич объявлял себя европейцем; западная культура была единственной, ему известной, — знаменем, под коим он шагал в молодости; под этим знаменем и оставался: «Я все-таки европеус — и люблю знамя, верую в знамя, под которое я стал с молодости»[383]. Устами Потугина в романе «Дым» глаголет сам Тургенев: «<...> Я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, — цивилизации, — да, да, это слово еще лучше, — и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци... ви... ли... зация <... > и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут... Бог с ними!»[384] Политический иррационализм и мистицизм, народничество и славянофильство Тургенев по-прежнему осуждал безоговорочно.
Если в этом «люди 40-х» были вполне уверены, то над остальным доводилось ломать головы: поддерживать левых, чья дикость не знала удержу, значило бы махнуть рукой на все правила и привычки, присущие цивилизации; но пойти против левых, или просто оставаться безучастными к их дальнейшей судьбе, покинуть их на произвол реакции, было бы и вовсе немыслимо.
«Умеренные», отказываясь верить собственным глазам и ушам, надеялись, что яростное презрение к уму и таланту — которое, как говорили Тургеневу русские либералы, распространялось в молодежной среде подобно чумному поветрию, — ненависть к живописи, музыке, литературе, быстро ширившийся политический терроризм, были временными явлениями, порожденными незрелостью и недостатком образования, итогами долгих и тщетных упований; все это, полагали «умеренные», минует, когда исчезнет окаянный гнет. Они прощали молодым радикалам и хамские речи, и кровавый террор, они продолжали стремиться к нелегкому союзу.
Этот болезненный конфликт, целых полстолетия ставивший русских либералов перед тяжким выбором, распространился в наши дни по всему белому свету. Посмотримте правде в глаза: нынешние поджигатели мятежей — отнюдь не Базаровы. В известном смысле, Базаровы взяли верх. Побеждают количественные методы оценок, прижилась вера в техническое руководство жизнью человеческого общества;
принимая политические решения, влияющие на миллионы человеческих существ, современные нам правители учитывают лишь возможную практическую пользу и выгоду — это уж по-базаровски, а не по-кирсановски.
Триумф хладнокровной нравственной арифметики, исчисляющей рентабельность, освобождает порядочных людей от «химеры, именуемой совестью», ибо эти люди уже не воспринимают себе подобных, становящихся объектами и жертвами научных исчислений, как живые человеческие существа, для них это уже не отдельные личности, способные страдать и даже умирать; и сегодня такие взгляды присущи, скорее, стоящим у власти, нежели противостоящим ей. Все неисчисляемое, неточное, не поддающееся анализу, — по сути, все, что дорого истинному человеку, — наследники Базарова рассматривают с подозрением и, подобно Базарову, отвергают, называя устарелым, чисто умозрительным, донаучным хламом. И — странный парадокс! — именно это глубоко возмутило в наши дни как враждебных рационализму «правых», так и вовсе иррационально мыслящих левых, сделало их одинаково неистовыми противниками технократов — умеренных и придерживающихся пресловутой «золотой середины».
С полярно противоположных точек зрения, и крайне левые и крайне правые видят в попытках рационализировать общественную жизнь ужасающее покушение на то, что обе упомянутые стороны считают самым драгоценным достоянием человеческим. Живи Тургенев ныне и пожелай он изобразить молодых радикалов — а возможно, и понравиться им, — Ивану Сергеевичу привелось бы описывать людей, стремящихся избавить человечество от засилья тех самых «софистов, экономистов и счетоводов»[385], на появление коих горько сетовал еще Эдмунд Берк — засилья тех, кто безразличен к самой природе человеческой, с ее насущными потребностями, или просто презирает ее. Современным бунтарям по душе нечто вроде старого доброго естественного права — насколько вообще можно уразуметь устремления современных бунтарей. Они желают построить общество, где люди видели бы друг в друге человеческие существа и обладали бы неотъемлемым правом на самовыражение; пускай это будут начисто недисциплинированные, дикие, но все же человеческие существа — а не единицы населения, производящие или потребляющие, влачащие свои серые дни во всемирном, централизованном, демократически управляемом социальном механизме. Отпрыски Базарова победили, а потомки разгромленных и ныне презренных «лишних людей» — Рудиных, Кирсановых и Неждановых, наследники чеховских — растерянных и жалких — студентов или опустившихся врачей-циников, готовятся идти на революционные баррикады, чтобы отстоять свой человеческий облик. Но тяжкий выбор, подобный тургеневскому, нужно делать по-прежнему: современные мятежники считают — как считали Базаров, Писарев и Бакунин, — что нужно сперва расчистить место, полностью разрушить нынешнюю систему, а все остальное уже не их дело.
Будущее позаботится о себе само. Анархия лучше тюрьмы; а золотой середины, увы, нет. И этот свирепый клич находит надлежащий отзыв в сердцах современных нам Шубиных, Кирсановых и Потугиных — тонкого, самокритичного, колеблющегося, далеко не всегда очень уж отважного слоя людей, стоящих в политической сумятице чуть левее «центра», отшатывающихся и от суровых физиономий справа, и от истерической, безмозглой свирепости и пустословия, процветающих слева. Подобно «людям 40-х», о которых говорил Тургенев, они одновременно ужасаются и очаровываются. Их обескураживает жестокое безрассудство левых «вертящихся дервишей», но все же они отнюдь не готовы напрочь отмести воззрения тех, кто, по собственным словам, представляет молодых, обездоленных, рассерженных поборников справедливости, заступающихся за бедных, униженных и угнетенных. Вот она, точка зрения теперешних преемников либеральных традиций, — как давно и хорошо известно, отнюдь не приемлемая в лютые времена.
«<...> На мое имя легла тень. Я себя не обманываю; я знаю, эта тень, с моего имени не сойдет. Но могли же другие люди — люди, перед которыми я слишком глубоко чувствую свою незначительность, могли же они промолвить великие слова: "Perissent nos noms, pourvu que la chose publique soit sauvee\"x В подражание им и я могу себя утешить мыслью о принесенной пользе. Эта мысль перевешивает неприятность незаслуженных нареканий. Да и в самом деле — что за важность? Кто через двадцать, тридцать лет будет помнить обо всех этих бурях в стакане воды — и о моем имени — с тенью или без тени?»[386] На родине Тургенева имя писателя по-прежнему находится в тени. Художественные достоинства тургеневских произведений очевидны всем, а вот как общественная фигура и мыслитель он остается предметом нескончаемых споров. Положение вещей, которое Иван Сергеевич описывал в одном романе за другим, тот мучительный выбор, перед коим стояли некогда русские западники, выбор, считавшийся встарь явлением чисто русским, ныне предлагается уже всему человечеству. Стали распространенным, повсеместным явлением и собственная тургеневская позиция, неустойчивая и ненадежная, и тургеневский страх — как перед реакционерами, так и перед варварами-радикалами, — страх пополам со страстным желанием сыскать понимание и одобрение пылкой молодежи. Еще более распространена теперь тургеневская неспособность — невзирая на искреннее сочувствие партии протестующих — решительно и бесповоротно встать на чью-либо сторону при столкновении классов, идей и, прежде всего прочего, поколений. Добросердечный, встревоженный, копающийся в собственной душе либерал, свидетельствующий о сложных истинах — а этот литературный тип Тургенев создал, в сущности, по своему же образу и подобию, — стал фигурой значения всемирного. Такие люди склонны, если битва становится уж очень жаркой, либо затыкать уши, дабы не внимать чудовищному грохоту, либо призывать к перемирию, чтобы спасти людские жизни, предотвратить хаос. Что до упоминавшейся Тургеневым бури в стакане воды, она отнюдь не улеглась: она вырвалась далеко за пределы стакана и сотрясает ныне весь белый свет. Если духовное бытие личности, ее идеи, нелегкий нравственный выбор, встающий перед каждым человеком, хоть что- нибудь значат, когда мы пытаемся объяснить ход и повороты истории — тургеневские романы, а «Отцы и дети» особенно, предстают не просто литературными шедеврами, а документами, столь же неотъемлемо важными для понимания русского прошлого и нашего настоящего, сколь комедии Аристофана — для понимания жизни в классических Афинах, а письма Цицерона, или Диккенса, или Джордж Элиот — жизни в Давнем Риме или викторианской Англии.
Возможно, Тургенев и впрямь любил Базарова — но трепетал перед ним наверняка. Писатель понимал и, в известной степени, даже одобрял дело, за которое боролись новейшие якобинцы, но постоянно помнил, что именно растопчут их каблуки, — и боялся даже думать о последствиях. Нам самим, писал он в середине 1860-х годов, присущи «то же легковерие и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи», нам самим суждено испытывать «те же пошлые удовольствия» и терпеть «те же бессмысленные страданья во имя... ну хоть во имя того же вздора, две тысячи лет тому назад осмеянного Аристофаном <...>. Но искусство?., красота?.. Да, это сильные слова; они, пожалуй, сильнее других, мною выше упомянутых слов. Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов [17] 89-го года»[387]. Увы, и Венера Милосская, и произведения Бетховена и Гете погибнут. «Холодно глядящая богиня Изида», как Тургенев зовет природу, не торопится: «в конце концов природа неотразима; ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое. Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра»[388]. Но зачем же столь усердно помогать природе, рано или поздно все на свете обращающей прахом, в ее работе? Образование, лишь образование способно задержать этот мучительный процесс, ибо цивилизация наша далеко не полностью обессилела.
Цивилизация и культура значили для русских, поздно добравшихся до стола, уставленного духовными гегелевскими яствами, больше, нежели для давно пресыщенных уроженцев Запада. Тургенев льнул и к той, и к другой более страстно, и болезненнее ощущал всю их уязвимость и хрупкость, чем его французские друзья, Флобер и Ренан. В отличие от них, Иван Сергеевич различал за спинами тупых добропорядочных мещан гораздо худшего, поистине страшного ротивника: молодых иконоборцев, помешанных на полном уничтожении существовавшего миропорядка, убежденных, что из пепла тот же час восстанет новое, справедливое и светлое общество. Но лучших меж новоявленными Робеспьерами он понимал так, как не понимали ни Толстой, ни даже Достоевский. Он отрицал и отвергал их методы, он считал их цели наивными и карикатурными, но тургеневская рука не поднялась бы против свирепого сборища, хотя бы потому, что это значило бы лить воду на мельницу генералов и бюрократов. Тургенев не различал никакого определенного пути: он стоял за постепенные меры, только за просвещение и образование, только за разум и здравый смысл. Чехов заметил однажды: писательское дело — не предлагать выходы из положения, а столь правдиво описывать положение существующее, столь честно представлять каждую грань и сторону его, что читатель просто не сумеет уклоняться от вопроса, поднятого автором. Вопросы, поднятые Тургеневым, остаются неразрешенными поныне. Нравственный выбор чутких, честных, четко мыслящих людей сделался со времен Тургенева, в нынешние дни острейшего идейного противостояния, куда более сложным — и наличествует уже повсеместно. Тяжкий выбор, стоявший в тургеневскую эпоху лишь перед образованными гражданами отдельно взятого государства, которое только с известной натяжкой могло числиться европейским, ныне стоит перед любым человеком, представителем любого класса или общества. Тургенев распознал это явление в его зародыше — и описал с несравненной проницательностью, честностью и поэтической мощью.
Приложение
Д
умается, чтобы почувствовать российскую политическую атмосферу 1870-х и 1880-х годов — и, в частности, воздействие на нее набиравшего силу политического терроризма, — полезно прочитать нижеследующую запись беседы Ф.М. Достоевского с широко известным издателем А.С. Сувориным. И Суворин, и Достоевский твердо стояли на стороне самодержавия; либералы небезосновательно числили обоих убежденными и неисправимыми реакционерами. Суворинский журнал «Новое время» был наилучшим и наиболее влиятельным повременным изданием крайне правого толка, выходившим в России под конец девятнадцатого и на заре двадцатого столетия. Учитывая политические взгляды Суворина, его запись кажется нам ценной вдвойне.
«В день покушения Млодецкого[389] наЛорис-Меликова я сидел у Ф.М. Достоевского.
Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиной, набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно, как будто, носило на себе печать пота. Я, вероятно, «е мог скрыть своего удивления, потому что ону взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:
Л ^ л/е«л только что прошел припадок. Я рад, оче«ь рад.
И он продолжал набивать папиросы.
О покушении ни он, «и л не знали. Но разговор скоро перешел на политические преступления, вообще, и «л взрыв в Зимнем Дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество, как будто, сочувствовало им, или, ближе к истине, «е знало хорошенько, яя/с /с «ил/ относиться.
Представьте себе, — говорил он, что л/ь/ с вяли стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: "Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину". Мы это слышим. Представьте себе, что л/ь/ это слышим, что люди эти так возбуждены, что «е соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили f Пошли ли бы мы в Зимний Дворец предупредить о взрыве, или обратились ли к полиции, /с городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы ?
Нет, не пошел бы...
//л «е пошел. Почему? Ведь, это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить.
Дидро, Дени 91,111,138,290 Диккенс, Чарльз 78, 394 Добролюбов, Н.А. 62, 259, 344, 376,
443,445,446 Достоевский, Ф.М. 19, 29, 47, 59, 62, 63, 66,67, 131, 207, 256, 269, 290, 303, 308, 337, 345, 366, 428, 429,468, 474, 491,493
ж
Жид, Андрэ 87 Жихарев, С.П. 56,120 Жорж Санд 46, 272, 275, 427 Жуковский, В.А. 270
к
Кабэ, Этьен 46,177, 220
Кант, Иммануил 224, 245, 335
Каракозов, Д.В. 356
Карамзин, Н.М. 295
Кареев, Н.И. 100,102,103
Карлейль, Томас 151, 395
Катков, М.Н. 41,60, 235, 255, 455,456,
460, 464 Кольцов, А.В. 295,296 Конт, Огюст 42, 80,112, 243 Короленко 267,428,429 Кошелев, А.И. 37,60,62 Кравчинский, С.М. 222, 382,477 Кропоткин, П.А. 357,477 Кутузов, М.И. 95, 96, 99, 138, 152 Кюстин, Астольф де 62
л
Лавров, П.Л. 259, 302, 355, 358, 380,
387,467,471,477 Ламеннэ, Фелиситэ-Робер де 58,131, 220, 354
Ламетри, Жюльен Офре де 138
Ленин, В.И. 189,259, 355, 358, 367, 374,
385, 387, 388, 389, 446,463 Лермонтов, М.Ю. 236, 271, 332 Леру, Пьер 46, 166,220, 272, 319 Ломоносов, М.В. 294 Луи-Филипп 46,277 Лукреций 66,269 Луначарский, А.В. 305, 455
М
Мадзини, Джузеппе 156,157,161,163,
174, 321,327, 343, 354, 481 Маркс, Карл 37, 80, 94, 164, 200,244,
354, 359, 387, 388, 450 Мартов, Ю.О. 259, 366 Местр, Жозеф де 117-135,142, 148,
149,152,153 Милль, Джон Стюарт 42, 112, 321, 376 Мишле, Жюль 161,163,166 Монтескье, Шарль де 78,139, 335,473 Монтэнь, Мишель де 66 Мопассан, Ги де 406, 412, 413
Н
Назарьев, В.Н. 79,396 Наполеон III 178
Некрасов, Н.А. 52, 58, 236, 255, 259,
305,310, 376, 382, 398,406 Николай I 26, 50, 60, 213, 222, 348 Ницше, Фридрих 66,118, 224, 438
о
Огарев, Н.П. 38,188,196, 342
п
Петрашевский, М.В. 57, 58, 59 Петр Великий 209,270,281,359 Писарев, Д.И. 112, 368, 374,458 Платон 66, 95,115, 224, 268
А
Аксаков, И.С. 44,62, 255, 256, 284, 303 Александр I 210,410 Александр II 40,48, 348, 383, 426,430 Анненков, П.В. 39,48, 70, 205, 206, 232-234, 236, 256, 259, 273, 292, 316, 318, 455,459,460 Аристотель 66,418 Ахшарумов, Н.Д. 58, 72,100
б
Бабеф, Гракх 59, 176,183, 366 Бакунин, М.А. 10, 17, 26, 42, 49, 52, 58, 60, 61, 156, 157, 187, 191, 192, 195200, 203, 208, 248, 249, 250, 251, 281, 298, 301, 302, 332, 339, 355, 356, 366, 437, 441,442, 450, 483, 486 Бальзак, Оноре де 66, 228, 244 Белинский, В.Г. 26, 30, 34, 39,41,43, 47, 52, 62, 206, 235, 255, 256, 259-277, 281,285, 286, 289, 290, 293,294,296300, 301, 302, 305-310, 316, 321, 348, 370,425,426, 432,433,434,436,448 Берк, Эдмунд 99,152, 216,485 Блан, Луи 46,156,166,177, 319, 321,481 Бланки, Луи Огюст 59, 387 Блок, А.А. 67, 307 Бокль, Генри Томас 97,112 Боткин, С.П. 41,42,70,235 Булгарин, Ф.В. 47 Буонарроти, Филиппо 378
в
Вейтлинг, Вильгельм 59,197 Вентури, Франко 374, 386 Виардо, Полина 235
Вико, Джамбаттиста 23, 243,428 Вульф, Вирджиния 86, 268 Вогюэ, Эжен Мельхиор де 65, 75,132 Вяземский, П.А. 75,295
г
Гакстгаузен, Август фон 62 Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 42, 66, 161, 181, 195, 201, 214, 215, 217, 224, 230, 237, 242, 243, 245, 248, 249, 250, 268, 275, 286, 319, 356, 369 Гейне, Генрих 78, 179, 231, 337,480 Гердер, Иоганн Готфрид 23, 160, 215 Герцен, А.И. 10,13,14,17,19, 27, 28, 31, 33, 36, 39, 43,44,48, 52, 56, 57, 59, 60, 61,63, 156,157, 158, 162, 163, 164, 166, 167, 170, 172-179, 180-208, 222, 231,232, 236, 249, 252, 254, 256, 258, 259, 262, 263, 280, 282, 285, 286,290, 292, 301, 302, 303, 311-324, 327-349, 364, 366, 369-373, 437-445, 461, 462, 466, 471, 474, 478,482, 483 Гете, Иоганн Вольфганг фон 66,151, 173, 245, 270, 278, 282, 302, 308, 326, 417,488
Гоголь, Н.В. 47, 256, 271, 292, 306, 425 Голдсмит, Оливер 265, 266 Гомер 245, 270, 345 Гончаров, И.А. 259, 306,429 Грановский, Т.Н. 37,52,60,233,251, 301, 373
Д
Данте Алигьери 66, 68, 270, 278, 307, 391
Алфавитный указатель
Дарвин, Чарлз 80
Исайя Берлин
Русские Мыслители
Составление: Генри Гард и, Эйлин Келли Вступление: Эйлин Келли Редактор: Генри Гарди Перевод: Сергея Александровского, Вадима Глушакова Корректор Можаева Т. В. Компьютерная обработка фотографий и верстка текста Барсукова Ю.И.
Подписано в печать 14.08.2017 Формат 70 х 100 '/16. Бумага офсетная. Гарнитура «OriginalGaramond». Печать офсетная. Усл. печ. л.40,3 Тираж 2000 экз. Заказ №3526/17.
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО "ИПК Парето-Принт", 170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № ЗА, www.pareto-print.ru
Плеханов, Г.В. 259, 366, 374, 383, 385, 388
Победоносцев, К.П. 132, 433
Полевой, Н.А. 41, 295
Прудон, Пьер Жозеф 46, 115, 130,131,
158, 220, 249, 281, 347, 350, 358, 395 Пушкин, А.С. 66, 67, 271, 278, 285, 295, 344, 408,415
Р
Руссо, Жан-Жак 78, 79, 91, 92,111, 112, 116, 132, 133, 151, 174, 354, 356, 363, 366, 391, 393, 394, 402, 404, 409, 410,414,416,419
с
Салтыков-Щедрин, М.Е. 46, 344, 352, 455
Сен-Симон, Анри 80, 220, 249, 354, 375,472
Сисмонди, Жан Шарль Леонар
Симондде 163,354,379 Спешнев, Н.А. 58,59,355 Спенсер, Герберт 113 Спиноза, Бенедикт 95, 246 Станкевич, Н.В. 38, 244, 245, 248, 250, 277
Стендаль 116,117,438 Степняк-Кравчинский, С.М. 477 Страхов, Н.Н. 60,455,456,473
т
Ткачев, П.Н. 355, 358, 363 Токвилль, Алексис де 163, 347 Толстой, Л.Н. 29, 31, 67, 70-73, 75, 76, 79, 87, 96, 101-103, 106, 107, 115-117, 129, 130, 133, 142, 144, 145, 150, 206, 267, 391, 392, 393, 398, 399,408,412, 417, 423,426,436, 443,463
Троцкий, Л.Д. 355,367 Тургенев, И.С. 15, 29, 31, 32, 33,41, 55, 70, 199, 206, 207, 235, 253, 254, 256, 259, 262, 263, 269, 302, 313, 335, 340, 347, 362, 377,426,427, 428,429,430, 433, 434, 436,437, 439, 441, 442,443, 445, 447, 448, 451, 452,455, 456,457, 458,459,461,462, 463, 464, 468,471, 473,474, 477, 478, 484,487,490 Тютчев, Ф.И. 71,113,408
ф
Фет, А.А. 71,75,466
Фихте, Иоганн Готлиб 163, 215, 224,
237, 281, 283, 369 Флобер, Гюстав 70, 87,100, 306,413, 489
Франс, Анатоль 224 Фрейд, Зигмунд 224 Фурье, Жан Батист Жозеф 57,177, 201, 220, 319, 349, 351, 369, 373
ч
Чаадаев, П.Я. 34, 36, 55, 56, 262 Чернышевский, Н.Г. 39,43, 44, 60,63, 112,158, 185, 259, 299, 305, 355, 357, 359, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 385, 387,446, 459 Чехов, А.П. 67, 489
ш
Шекспир 66, 245, 270, 325,439 Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон 151,214,224,237,239,245,281 Шлегель, Фридрих 273, 237
э
Эйхенбаум, Б.М. 104,109,111,119,130 Энгельс, Фридрих 37,180, 388
«Великая пропасть зияет меж теми, кто всё подчиняет единственному, главенствующему замыслу, и теми, кто преследует цели многоразличные».
Будучи ребенком, Исайя Берлин успел увидеть почти все ужасы русской революции. А сделавшись одним из наиболее выдающихся либеральных умов минувшего столетия, Берлин писал и публиковал блистательные исследования, связанные с русской мыслью н русским представлением о свободе. Очерки, собранные в предлагаемой читательскому вниманию книге, посвящены величайшим русским мыслителям девятнадцатого столетия—Герцену, Бакунину, Белинскому, Толстому и Тургеневу,—а также политическим и общественным революциям, которые они сами во многом вдохновляли, на которые они чутко отзывались. По словам Берлина, этот поток идей, излитый русскими гениями, стал «величайшим русским вкладом во всемирные общественные перемены».
«Самый блистательный и чарующий ум наших дней».
Артур Шлесингер.
9785990565289
2Мой электронно-почтовый адрес: <h[email protected].> Любые новые данные вышеназванного рода, поступающие ко мне, обещаю обнародовать на веб-сайте общества Isaiah Berlin Literary Trust (см. стр. XIIу подстрочное примечание 1).
3Sui generis {латин.) — [явлением] единственным в своем роде, неповторимым. — Примечание переводчика.
1См. ниже, 309.
1 Там же, стр. 626-629. Мой рассказ об этом эпизоде основывается на сведениях Шильдера.
1Сочинения Глеба Успенского. СПб, 1889. /, 175-176.
1Нищета философии. — Примечание переводчика.
1Le Roman russe (Paris, 1886), 282.
4«Он повторяется и философствует». Письмо от 21 января 1880 г. См.: Gustave Flaubert, Lettres inidites a Tourgteneff, ed. Gfrard Gailly (Monaco, 1946), 218 [cris d'admiration («вопли восторга». — Переводчик) — ibid.].
1А. А. Фет. Мои воспоминания. Мм 1890. Часть 2, стр. 175.
II(1911-21), 62. Что до неминуемых попыток соотнести исторические взгляды Толстого с воззрениями позднейших марксистов — Каутского,
Ленина, Сталина и др., то воззрения этих последних относятся к диковинам скорее политическим и богословским, чем литературным.
1 Вяземский П. А. Воспоминания о1812 годе. «Русский архив», № 7, 1869. Столбцы 181-192, 01-016 и, в особенности, 185-187.
1 Prima facie (латин.) —здесь: коль скоро не доказано обратного. — Примечание переводчика.
1 В подлиннике — не обозначенная, обширная, чуть заметно измененная цитата из Толстого (см. ниже, сноску). — Примечание переводчика. 2Там же, т. 4, часть 1, глава 4 (в начале). Т XII, 14; В 1039-40. эО связи этого отрывка со Стендалевской «Пармской обителью» см.: Paul Bayer (1864-1949) chez Tolston: Entretiens a Iasnana Poliana (Paris, 1950), 40.
1 «Война и мир». Эпилог, часть 2, глава 1. Т XII, стр. 298-300; В 1307-9.
1 Здесь опять возникает парадокс: «бесконечно-малым единицам», которые идеальный историк обязан «интегрировать», должно быть достаточно однородными, дабы сделать математическое действие осуществимым; однако «действительность» на то и действительность, что каждая «бесконечно-малая единица» ее неповторимо своеобразна.
1 La Guerre et la paix (фр.) — Война и мир. — Примечание переводчика.
1Les Soirfes de Saint-P4tersbourg (<фр.) — «Санкт-Петербургские вечера». — Прршечание переводчика.
1Там же, т. 1, часть 1, гл. 3; Т IX стр. 13-16; В 10-13. Пометку на полях см. в: Т XIII, стр. 687.
1 Les Soirees de Saint-Petersbourg (1821), беседа седьмая: ОС V 33-4; SPD 222-3. «Люди помногу разглагольствуют касаемо сражений, понятия не имея об истинной природе боя. В частности, они склонны считать, будто бой протекает в одном месте, когда на деле он разворачивается в пределах обширной местности, протяжением две или три лиги. И вполне серьезно спрашивают: «Да как же вы не знаете о ходе битвы, если сами в ней участвовали?» А ведь зачастую следовало бы говорить прямо противопо
<...> истинный же победитель, подобно истинному побежденному, — тот, кто полагает себя таковым».
2ОС V 10; SPD 210. «Растолкуйте, отчего наипочетнейшим на свете, сообразно суждению всего человечества поголовно, считается право проливать невинную кровь и при этом числить себя невинным?»
хАи fond (фр.) — здесь: в сущности. — Примечание переводчика.
беспорядочного иррационализма, пуританства, приверженности парадоксам — и общего руссоизма. Но эти свойства присущи радикальной французской мысли вообще, и помимо заглавия в толстовском романе «Война и мир» затруднительно сыскать что-либо действительно идущее от Прудона. Степень общего прудоновского влияния на русскую интеллигенцию того периода была, разумеется, весьма велика; столь же легко — даже еще легче — было бы выстроить цепочку доводов, позволяющих глядеть не только на Толстого, но и на Достоевского — или на Максима Горького — как на proudhonisant [прудониста]; но сие стало бы праздным упражнением в критической изобретательности: сходства слишком слабы и слишком общего свойства; различия же куда глубже, многочисленнее и определеннее.
1Uami du bourreau (фр.) — друг истязателей. — Примечание переводчка.
Письмо от 8 октября 1834 года к графине Зенффт фон Пильзах. См.: Felicity de Lamennais, Correspondance g4n4rale> ed. Louis le Guillou (Paris, 1971-81), lettre 2338, VI307.
Но и Толстой говорит: миллионы людей истребляли друг друга, зная: это «физически и нравственно дурно», — а все же истребляли, ибо «так неизбежно было нужно, что, исполняя это, люди исполняли <.> стихийный, зоологический закон». («Несколько слов по поводу книги "Война
и мир"». (1868) Т XVI, стр. 15). Это уж чистейшей воды Жозеф де Местр, отсюда очень далеко до Руссо либо Стендаля.
1 Расе (ит.) —букв.: мир. Здесь: не взыщите; простите меня. —Примечание переводчика.
1 Penseur {фр.) — мыслитель. — Примечание переводчика.
1 Graeculus esuriens (.патин.) — [паршивый] голодный грек; «греческий голодранец». — Примечание переводчика.
3Non in commotione Dominus (латин.) — не в землетрясении Господь (3 Цар 19:11-12). Приводим оба стиха полностью, в Синодальном переводе, с дополнением в квадратных скобках, внесенным согласно церковнославянскому тексту: 11 И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра земле-
трясение, но не в землетрясении Господь; 12 После землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]. — Примечание переводчика.
1 Pis aller {фр.) — на худой конец, в крайнем случае. Здесь: крайнее средство. — Примечание переводчика.
1 Mutatis mutandis (.патин.) —Здесь: с неизбежными оговорками. — Примечание переводчика.
1Per se (латин.) —здесь: как таковой. — Примечание переводчика.
1 Status quo ante (.патин.) — прежнее положение дел. — Примечание переводчика.
1 Historia sacra (латин.) чика.
1С того берега (1850, 2 изд. 1855). ГС VI, стр. 124; С 133-4.
1Salus populi (.патин.) — народное благо. — Примечание переводчика.
3Письма из Франции и Италии, письмо десятое (1848); ГС V стр. 175-176; ГП 160-1.
3Письма из Франции и Италии. Письмо пятое (1847), ГС V, стр. 89; ГП 80. См. также в «Новых вариациях на старые темы» (ГС II, стр. 86-102) примечательный анализ повсеместного стремления уклоняться от интеллектуальной ответственности, творя кумиров и нарушая вторую заповедь. Впервые это рассуждение опубликовал в 1847 году «Современник».
1С того берега. ГС VI, стр. 46; С, стр. 52.
3Profession de foi (фр.) — символ веры. — Примечание переводчика.
1 Morituri te salutant (.патин.) — идущие на гибель приветствуют тебя. — Примечание переводчика.
3Там же, стр. 34-35; С, стр. 36-37, 38-39.
1Мясо освобождения (1862). ГС XVI, стр. 29.
Ми premier (фр.) — в бельэтаже. — //з примечаний к ГС VI.
2 С того берега. ГС VI, стр. 58-59; С 66-7.
3Письма из Франции и Италии, письмо четвертое (1847); ГС V стр. 62; ГП 56.
2Там же.
1Там же, стр. 588-589.
3См. напр.: (a) «L'Instruction integrate» (juillet — aout 1869), Bak V, 140 (la ИЬеПё de chacun dans I'e'galM et par l^galite' de tous); Mikhail Bakunin, «All-
1 Из бакунинской работы'Die reaction in Deutschland: Ein Fragment von einem FranzosenDeutsche Jahrbiicher fiir Wissenschaft und Kunst, №№ 247-51 (1721 Oktober 1842), 985-1002 (напечатано под псевдонимом «Jules Elysard» — «Жюль Элизар»), на стр. 986; также Michael Bakunin, «The Reaction in Germany: A Fragment from a Frenchman», in Russian Philosophy, ed. James M.Edie and others (Chicago, 1965), / 385-406, на стр. 388; цитируется Арнольдом Руге в воспоминаниях о Бакунине: «Err innerungen an Michael Bakunin», Neue Freie Presse (Wien), 28 September 1876, 1-3 (см. часть первую, стр. 1).
1«Государственность и анархия» (1873), Archives Bakounine, ed. Arthur Lehning (Leiden, 1961-1981), III 159/358; Michael Bakunin, Statism and Anarchy, trans, and ed. Marshall S. Shatz (Cambridge, 1990), 192.
1 Outre (фр.). — чрезмерно преувеличенный, утрированный. — Примечание переводчика.
2Там же, стр. 20.
1 Vestigia terrent {патин.') — следы устрашают. Крылатое выражение, заимствованное из Горациевых «Посланий». Гораций вспоминает басню Эзопа: занедуживший лев приглашает мимохожую лису войти к нему в пещеру, на что лисица «...Молвила хворому льву: "Следы вот меня устрашают: // Все они смотрят к тебе, ни один не повернут обратно"» (Послания, /, 1, 74-75. Перевод Н. Гинцбурга). —Примечание переводчика.
1 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах (Москва, 1888-1896), т. ///, стр. 290-291
Белинским, бытовало убеждение, что упомянутый обзор, опубликованный без авторской подписи в «Современнике» (1847; т. 6, 1847, № 1, часть
3 [«Русская литература»], стр. 77-86) принадлежит Белинскому. Однако впоследствии выяснилось: обзор написан А.Д. Галаховым, упоминающим об этой работе в «Моем сотрудничестве в журналах» («Исторический вестник», № 26, 1886, стр. 312-335, см. стр. 323). Впрочем, воззрения Гала- хова очень схожи со взглядами Белинского — скорее всего, статья создавалась под их прямым влиянием и воздействием].
xD4gag4s (фр.) —здесь: непричастных житейской суете. — Примечание переводчика.
2 Там же, стр. 150, 152.
1 Письмо к В.П. Боткину, 4 октября 1840. Б XI стр. 556, 559.
1 Письмо к В.П. Боткину, 1 марта 1841. Б XII стр. 22-23.
1Письмо к В.П. Боткину, 27/28 июня 1841. Б XII стр. 49, 50, 52.
1Письмо к Гоголю, 15 июля 1847, Б X стр. 212-215, 217-218.
1 Frondeur (фр.) — неуживчивый человек, фрондер, критикан. — Примечание переводчика.
1 Enrag4s {фр.) — разъяренных, возмущенных сверх меры; здесь: «сердитых молодых людей». — Примечание переводчика.
1 De trop ((фр.) —здесь: ненужности. — Примечание переводчика.
1 Exhypothesi (латин.) —здесь: надо полагать. —Примечание переводчика.
3Anschauungsunterricht (нем.) — наглядное обучение. — Примечание переводчика.
1Lautieranschauungsunterrichtsmethode (нем.) — звуковой метод в соединении с методом наглядного обучения. (Из примечаний к Полному собранию сочинений Льва Толстого).
1 Текст ренановской речи, произнесенной 1 октября 1883 года, см. в кн.:
1 Письмо к К.П.Победоносцеву от 2 мая 1881 г., в «Сборнике Пушкинского дома на 1923 год». Петроград, 1922, стр. 288-289.
2У Тургенева «Stoff und Kraft», см. «Отцы и дети», глава X; ср. с письмом к К. К. Случевскому, ПТIV, стр. 379.
1Отцы и дети, глава XXI.
лы. Орел, 1960, стр. 77-95; П. Г. Пусто войт. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х годов XIX века. М., 1960; Н. Чернов. Об одном знакомстве И.С.Тургенева. «Вопросы литературы», № 8, 1961, стр. 188-193; Вильям Эгертон (William Egerton). И.С. Тургенев и спорный вопрос о якушкиных. «Русская литература», № 1, 1967, стр. 149-154. Это всего лишь кратчайший перечень, дающий возможность представить себе, сколь пылко ведутся и поныне споры, чьи участники — и признающие Базарова прообразом большевицких деятелей, и отвергающие любую мысль
6По поводу «Отцов и детей». СТ XIV, стр. 100.
3Письмо К. К. Случевскому, ПТ IV, стр. 379.
' Письмо редактору «Вестника Европы», 2 января 1880, СТ XV, стр. 185. См. также письма к М.М. Стасюлевичу от 3 января 1876, ПТ А7//1, стр. 43-44 и к Герцену от 25 ноября 1862, ПТ V, стр. 72-73; см. также статью: F. Volkhonsky. «Ivan S. Tourguenev», Free Russia 9 No 4 (1 April 1898), 26-9: отзыв о книге Tourgueneff and His French Circle, ed. E. Halperine-Kaminsky, trans. Ethel M.Arnold (London, 1898).
1К старому товарищу, письмо четвертое, ГС ХХ/2, стр. 592-593.
1«То есть: пускай погибнут наши имена, лишь бы общее дело было спасено!» — Примечание И. С. Тургенева.
[1] Sine quibus поп (латин.) — без коих [это было бы] невозможно. — Примечание переводчика.
[2] См. ниже XI, примеч. 2.
[3]Из рецензии на первое издание «Русских мыслителей». См.: New Society, 19 January 1978, 142.
[4]Впервые данный том печатался в Лондоне и Нью-Йорке (1978 г.). Заглавия остальных трех томов: Concepts and Categories: Philosophical Essays {London, 1978; New York, 1979), Against the Current: Essays in the History of Ideas (London, 1979; New York, 1980) и Personal Impressions {London, 1980; New York, 1981; 2nd, enlarged, ed., London, 1998, Princeton, 2001).
[5]Four Essays on Liberty (Oxford, 1969; New York, 1970), ныне вошедшие в состав книги Liberty (Oxford and New York, 2002) и Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas (London and New York, 1976), ныне включенные в Three Critics of the Enlightenment (London and Princeton, 2000). Прочие собрания печатались только в иностранных переводах.
[6]Nachlass {нем.) — посмертные записки, архив, литературное наследие умершего писателя. — Примечание переводчика
[7]См.: <htpp://berlin. wolf. ох. ас. uk/>. Ищи: Catalogues, Unpublished work. На этом веб-сайте имеется также непрерывно пополняемая библиография произведений Исайи Берлина.
[8]Например, Советский Союз упоминается в настоящем времени.
1 Из рецензии на The Proper Study of Mankind в The Times Literary Supplement, 22 August 1997, 3.
[10] London and Princeton, 1999: см. стр. 148-150, а также мои заметки по по
воду чисто чревовещательской манеры Берлина предаваться «автоцитированию» (там же, стр. XIV-XV). В «Русских мыслителях» наличествует несколько поразительных примеров: звучные, выразительные полуцитаты, изменять которые — просто поскольку они уже приобрели собственную независимую ценность — мне отнюдь не хочется: почти везде я ограничивался тем, что помещал более точные переводы в примечаниях. Полуцитата (в лучшем случае) из Герцена, приводимая в другой книге, The Power of Ideas («Власть идей») — см. ниже, стр. XV, 10: «Где пребывает песня, прежде, чем она пропета?» — фраза, повторенная Берлиным, уже как собственная, во Freedom and Its Betrayal («Свобода и как ее предают». London, 2002, 60) — уже обрела бессмертие, стала заглавием романа, созданного Джастином Картрайтом (Justin Cartwright) и повествующего об отношениях Берлина с Адамом фон Троттом: The Song Before It Is Sung («Песня, еще не пропетая». London, 2007). В первой пьесе из трилогии Тома Стоп- парда «Берег Утопии» (см. ниже, стр. XVI) эта же фраза видоизменяется: «Где пребывает песня, уже пропетая?» (см.: Shipwreck. London, 2002. 100). Но Герцен писал (см. здесь же, стр. 224): «А какая цель песни, которую поет певица?..» — вопрос, отличающийся от обоих, цитируемых мною.
[11]Первая цитируемая фраза взята из беседы Стоппарда с Бренданом Демоном, запись которой пишущий эти строки обнаружил на веб-сайте Lincoln Center Theater, а вторая — из статьи The Presiding Spirit of Isaiah Berlin в Lincoln Center Theater Review, Fall / Winter 2006 (issue 43, 5), что имеется на том же веб-сайте. Печатные тексты своих пьес Том Стоппард предваряет благодарственными словами, а «Русских мыслителей» зовет «книгой, раскрывшейся передо мной, словно дверь, выводившая в мир «Берега Утопии»». Драматург добавляет: Исайя Берлин — один из авторов, «без коих мои пьесы просто не были бы написаны».
[12]Перепечатывается здесь в отредактированном варианте, взятом из составленного доктором Келли сборника Toward Another Shore: Russian Thinkers between Necessity and Chance.
[13] Обширная библиотека, занимающая несколько зданий и специально предназначенная для изучающих европейские языки. — Примечание переводчика.
[14]Г VIу 7; С 3. См. выше перечень сокращений и условных обозначений.
[15]The Autobiography of Bertrand Russel, vol. 2 {London, 1968), 122.
xJohn Gray, Isaiah Berlin (London, 1995), I.
[17] «Historical Inevitability», там же, 164
[18] London, 1969 [ныне включено в «Five Essays on Liberty», в Liberty (см. выше, XI примеч. 3), 217.
[19]«John Stuart Mill and the Ends of Life», Liberty 243
[20]«Historical Inevitability», там же, 160
[21]Introduction, там же, 20
[22]Включены в сборники Берлина The Power of Ideas и Against the Current, соответственно. Подробнее см. выше, XV и Х1У примеч. 2.
[23]См. ниже, 95.
[24]См. ниже, 225.
[25] См. ниже, 57.
[26] Leszek Kolakowski, «Responsibility and History», в его кн.: Marxism and Beyond, trans. Jane Zielonko Peel (.London, 1969), 163.
[27]См. ниже, 225.
ъ Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy {London, 1943), 243.
[29] Aufklarung {нем.) — Просвещение. —Примечание переводчика.
[30]Lumitres (франц.) — светила, светочи. — Примечание переводчика.
[31]Письмо к П.В.Анненкову, написанное в Берлине 29 сентября 1847. Б XII, 402
[32]Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X (1858). ч v, 217
[33]«Колокол» № 210 (15 декабря 1865), 1720. См.: Ф.И.Дан. Происхождение большевизма: к истории демократических и социалистических идей в России после освобождения крестьян (Нью-Йорк, 1946), 38-39.
[34] En garni {франц.).- в меблированных комнатах. — Ред.
[35] Предисловие к изданию 1858 г., ГС V, 13-14, ГП 9-10.
[36] Константин Сергеевич Аксаков (1861), ГС XV, 9-10. См. также ГС IX, 170 и БД//, 549.
[37] Н.К. Шильдер. Император Николай Первый, его жизнь и царствование (СПб, 1903). Примечания и приложения ко второму тому, стр. 619-21.
[38] Санкт-петербургская газета, выходившая на французском языке с 1825 по 1914 гг. — Примечание переводчика.
'Толстой. Война и мир, том 1, часть 1, гл.1. ТIX, 5; В 4.
[40]Bien pensante {франц.') — благомысленная, благонамеренная. — Примечание переводчика.
[41]В позднейших советских жизнеописаниях великого критика и поныне можно прочесть о том, что, когда Белинский лежал при смерти, был якобы издан приказ о его аресте. Правда, Дуббельт позднее сказал: сожалею о смерти Белинского, иначе «мы сгноили бы его в крепости». См.: М.К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 годов. Изд. 2-е, СПб, 1909, стр. 190. Но Лемке неопровержимо доказывает: никакого приказа об аресте никто не подписывал, а если Белинского и вызывали к Дуббельту — из этого обстоятельства главным образом и выросла вся легенда, — то преимущественно ради того, чтобы критик оставил Третьему отделению образец своего почерка для сравнения с почерком, которым было написано анонимное крамольное письмо, ходившее тогда по рукам (см. там же, стр. 187-190).
[42] См. у Шильдера, там же, стр. 638-639.
[43]От Шихматова «русское просвещение получило шах и мат» — гласила расхожая петербургская шутка тех времен.
[44]Н. И Греч. Записки о моей жизни. СПб, 1886.
[45]См. у М. К. Лемке, там же, стр. 451
[46]Du developpement des Idees revolutionaires en Russie {Paris, 1851). См.: ГС VII, 91-93 /221-223.
[47]М. Жихарев. Петр Яковлевич Чаадаев в воспоминании современника. «Вестник Европы», 1871. № 5, стр. 9-54 (см. стр. 51). [Чаадаев отвечал племяннику тоже по-французски: «Моп cher, on tient a sa реаи». — Примечание переводчика].
'Былоеидумы (1852-1868),часть5. «Русскиетени.//: Энгельсоны» (1865). ГС Ху 335; БД //, 969
[49] Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа. «Русская старина»,
1900, № 5, (май), стр. 279.
[50]Там же, //, 93
[51] Возможно, парафраза из «Концов и начал», см. Письма 6-е и 7-е (1862). ГС XVIу 176, 191-192.
[52] Записки Александра Ивановича Кошелева (Берлин, 1884), стр. 81-84.
[53]«П6М.' ol8' <Шо7гт|£, <Ш/ tyyvoq gv цеуа» Archilochus fragment 201 in M.L. West (ed.), Iambi et elegi graeci ante Alexandrum cantati, vol. /, 2 nd ed. (Orford, 1989), 78
[54] Obiter dicta (латин.) — случайные высказывания; замечания, сделанные мимоходом. — Примечание переводчика.
[55] Для целей данного очерка я позволю себе почти полностью ограничиться ясной и недвусмысленной философией истории, содержащейся в романе «Война и мир», оставляя без внимания, скажем, «Севастопольские рассказы», «Казаков», отрывки из неопубликованного романа о декабристах и собственные, там и сям рассыпанные исторические рассуждения Толстого — если только не имеют они отношения ко взглядам, изложенным на страницах «Войны и мира».
Исайю Берлина попросили указать соответствующие работы перечисленных ученых, И. Б. ответил: не указываю намеренно. Б.В.Яковенко профессором не был].
[56]Письма от 14 февраля и 13 апреля 1868 г., ПТ VII, стр. 64, 122.
[57]Там же.
[58]Письмо к Толстому от 29 июня 1883 г., ПТ XIII, стр. 180.
[59]См. суровый отзыв А. Витмера, чрезвычайно почитаемого военного историка: 1812 год в «Войне и мире»: по поводу исторических указаний IV тома «Войны и мира» Графа Л.Н.Толстого (СПб, 1869) и нарастающее негодование в современных критических заметках С. Навалихина (Изящный романист и его изящные критики. «Дело», 1868 г., № 6, «Современное обозрение», стр. 1-28), А.С. Норова («Война и мир» (1805-1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современников (по поводу сочинения Графа Л.Н.Толстого: «Война и мир»), «Военный сборник», 1868 г., № 11, стр. 189-246) и А.П. Пят- ковского («Историческая эпоха в романе Гр. Л.Н.Толстого», «Неделя», 1868 г., № 22, столбцы 713-717; № 26, столбцы 817-828). Первый из вышеперечисленных критиков участвовал в кампании 1812 года и, несмотря на несколько фактических ошибок, делает замечания обоснованные и толковые; третий и четвертый почти ничего не стоят как литературоведы, но, похоже, не поленились проверить некоторые важные факты.
[60]См.: Виктор Шкловский. Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1928 (в особенности, главы 7-ю и 8-ю).
[61]Н.В. Шелгунов. Философия застоя (обзор «Войны и мира»). «Дело», 1870, № 1, «Современное обозрение», 1-29.
[62]У Ахшарумова говорится, что Лев Толстой в десять тысяч раз более поэт и художник, нежели философ. См.: Н.Д. Ахшарумов. «Война и мир», сочинение Графа Л.Н.Толстого, части 1-4: разбор. СПб, 1868, стр. 40.
[63]Например, профессоры Ильин, Яковенко, Зенковский и другие. [Когда
[64]Почтенными исключениями являются также работы русских — Н.И. Ка- реева и Б.М. Эйхенбаума — и французских авторов: Э. Омана (Е. Haumant) и Альбера Сореля (Albert Sorel). А из хоть сколько-нибудь ценных монографий об этом вопросе могу назвать лишь две. Первая — «Философия истории Л.Н.Толстого», написанная В.Н. Перцовым (см.: «"Война и мир": сборник», под ред. В.П. Обнинского и Т.И. Полнера. М., 1912). Мягко попеняв Толстому за темные места, преувеличения и непоследовательность, автор проворно переходит к безобидным общим соображениям. Вторая книга — «Философия истории в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"», опубликованная в «Русской мысли», июль, 1911 [отдел 2-й], стр. 78-103), написана М.М. Рубинштейном с гораздо большей тщательностью, но в конечном счете не говорит читателю ничего нового. Совсем иначе считал Арнольд Беннетт — но его мнение стало мне известно, лишь когда работа над очерком была позади: «Вторая часть Эпилога полна здравых мыслей, недоучки так рассуждать не способны. Конечно, критики правы, эту вторую часть разумнее бы изъять из текста — согласен. Да только нельзя было Толстому изымать ее. Ради нее написана вся книга». (The Journals of Arnold Bennett, ed. Newman Flower (London etc, 1932-3),
[65]Выражение «проклятые вопросы» в России девятнадцатого столетия стало повседневным. Оно обозначало главнейшие нравственные и общественные вопросы, о коих каждому честному человеку, в частности, каждому писателю, положено было рано или поздно задуматься — а затем встать перед выбором: либо влиться в борьбу, либо отвернуться от сограждан, осознавая ответственность за такой поступок. [Хотя словом «вопросы» широко пользовались, обозначая им дела общественные, уже в 1830-е годы, похоже, что именно это сочетание — «проклятые вопросы» — только в 1858 году ввел в обиход Михаил Илларионович (Ларионович) Михайлов, передав им гейневское выражение «die verdammten Fragen» из переведенного стихотворения «Zum Lazarus» (1853/1854 гг.) {К Лазарю. «Брось свои иносказанья...» — Примечание переводчика}.См.: Стихотворения Гейне. «Современник», 1858, № 3, стр. 125 и Heinrich Heines Samtliche Werke, ed. Oskar Walzel (Leipzig, 1911-20), III 225. С другой стороны, Михайлов мог использовать уже бытовавшее сочетание русских слов, безукоризненно точно передававшее гейневский речевой оборот, но я пока что не встречал его опубликованным в изданиях, выходивших до 1858 года. — Генри Гарди].
[66]Распоряжения, изданные для законоведов. [Наказ Ея Императорского Величества Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения {Свода законов}. 1767 г. — Примечание переводчика].
[67]Т XLVI стр. 4-28 (18-26 марта 1847 г.)
[68] Там же. — Руссо: стр. 126, 127, 130, 132-134, 167, 176 (24 июня 1852-28 сентября 1853), 249 («Журнал ежедневных занятий», 3 марта 1847); Стерн: стр. 82 (10 августа 1851), 110 (14 апреля 1852); Диккенс: стр. 140 (1 сентября 1852).
'Там же, стр. 123 (11 июня 1852).
[70]Там же, стр. 141-142 (22 сентября 1852).
[71] Философические замечания на речи Ж.-Ж. Руссо (1847). Т I стр. 222, оттуда же и следующие две цитаты.
[72]В.Н. Назарьев. Люди былого времени. «Лев Николаевич Толстой в воспоминаниях современников». М., 1955.1, стр. 52.
[73]Там же, стр. 52-53.
[74]Н.Н. Гусев. Два года с Л.Н.Толстым... М., 1973, стр. 188
[75] Война и мир. Эпилог, часть I, глава 1 (см. окончание). Т XII, стр. 238; В 1248
[76] «Война и мир». Т. 2, часть 3, глава 1. Т X, стр. 151; В 453.
[77] Ср. с «символом веры», изложенным в знаменитом — и навязчиво морализирующем — «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» (1893-1894, Т XXX, стр. 3-24) — чьим гением, вопреки всему, Толстой восхищался. Гораздо хуже думает он о Бернарде Шоу, чью социальную риторику зовет «избитыми пошлостями» (см. дневниковую запись от 31 января 1908 г., Т LVI стр. 97-98).
[78] «Война и мир». Т. 2, часть 3, глава 1. Т X, стр. 151; В 453.
[79]Один из русских критиков Толстого, уже упоминавшийся в предыдущих примечаниях М.М. Рубинштейн, пишет: всякая наука пользуется хотя бы несколькими до конца не проясненными понятиями, анализ коих относится к области иных дисциплин, и «власти» просто выпало оставаться стержневым историческим понятием, пока еще не получившим определения. Но Толстой настаивает на том, что вообще никакой иной науке не дано «определить» понятия власти — поскольку под пером историков оно стало ничего не значащим термином: не понятием, а «пустышкой» — vox rtihili [бессмысленным выражением. Дословно: гласом несуществующего. — Примечание переводчика].
[80]Obscurum per obscurius (латин.) — темное [толкуется] посредством темнейшего. — Примечание переводчика.
[81]«Война и мир». Эпилог, часть 1, глава 2. Т XII, стр. 239; В 1249.
[82]См.: Виктор Шкловский. Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1928, гл. 7 и 8; также: К.Покровский. Источники романа «Война и мир» (в кн. ««Война и мир»: сборник», под ред. В. П. Обнинского и Т. И. Полнера. М., 1912, стр. 113-128).
[83]«Война и мир». Эпилог, часть 2, глава 1. Т XII, стр. 297; В 490.
[84]«Несколько слов по поводу книги «Война и мир»». (1868). Т XVI, стр. 5-16.
[85] «Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. 1. Т XI, стр. 264-267 ; В 909-911.
[86]Н.Д. Ахшарумов. «Война и мир», сочинение Графа Л.Н.Толстого, части 1-4: разбор. СПб, 1868, стр. 40.
[87]Н.И. Кареев. «Историческая философия в «Войне и мире»». «Вестник Европы» 22, № 4 (июль — август 1887 г.), стр. 227-269.
[88]Там же, стр. 230. Ср.: «Война и мир», т. 3, ч. 1, гл. 1.TXI, стр. 16; В 665 (Есть две стороны жизни в каждом человеке <•>).
[89] Б.М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Л., 1928-1960, т. I, стр. 123-124.
' В наши дни французские экзистенциалисты, по сходным психологическим причинам, набросились на любые разъясняющие учения вообще, зовя их опиумом, оглушающим людскую жажду искать ответы на серьезные вопросы, никчемным паллиативом для ран, боли от которых терпеть нельзя, но все же следует вытерпеть. Раны эти ни в коем случае не следует отрицать или «пояснять» — любые пояснения суть самообман, то есть отрицание данного — существующего — «экзистенциального» — жестоких фактов.
[91]Например, и Шкловский и Эйхенбаум (см. вышеупомянутые работы: Виктор Шкловский. Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1928, и Б.М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Л., 1928-1960, т. I, стр. 259-260).
[92]«On па pas rendu justice a Rousseau <...> J'ai lu tout Rousseau, out, tout les vingt volumes, у compris le Dictionnaire de musique. Je faisais mieux que I'admirer; je lui rendais une culte veritable» («Руссо не воздали должного <...>. Я прочитал всего Руссо, да-да, все двадцать томов, включай «Музыкальный словарь». Я не просто восхищался им — нет, я поистине поклонялся ему»). См. вышеупомянутый источник: Paul Boyer (1864—1949) cbez Tolston: Entretiens a Iasnana Poliana {Paris, 1950).
[93] R&volte (фр.) — мятежный, бунтующий. — Примечание переводчика.
[94] См. там же: «il n'yapoint depanache a la guerre» [ «Ни на грош не сыщется
героического блеска в войне». — Примечание переводчика]. 1 Zeitgeist (нем.) — дух времени. — Примечание переводчика.
[96] См.: Adolfo Omodeo, Un reazionario: II conte J. de Maistre (Ban, 1939), 112, note 2.
[97]T XLVIIU стр. 66
[98]Correspondance diplomatique (фр.) — «Дипломатическая переписка». — Примечание переводчика.
[99]См.: Б.М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Л., 1928-1960, т. /, стр. 308-317.
[100]«Война и мир», т. 3, часть 2, гл. 6; Т1ХУ стр. 127-128; В 782, 783. [{Un homme de beaucoup de тёгпе} — человека с большими достоинствами. — Примечание Льва Толстого].
[101]Там же, т. 4, часть 3, гл. 19; Т XII, стр. 167; В 1182
[102]С.П.Жихарев. Записки современника: дневник чиновника. М., 1934, т. II, стр. 112-113.
ложное. Разве человек, воюющий на правом фланге, способен знать о творящемся на левом? А ведает ли он хотя бы о происходящем за два шага от него? Легко могу нарисовать себе одну из таких ужасающих картин. На обширном поле сражения, уставленном орудиями убийства, поле, чуть ли не сотрясающемся под людской и конской поступью, среди огня и клубящегося дыма, оглушенный и ошеломленный ружейной и орудийной пальбой, криками и ревом, приказами командиров и стенаниями раненых, окруженный умирающими либо уже мертвыми бойцами, истерзанными трупами; охватываемый попеременно страхом, надеждой, бешенством — пятью-шестью совершенно различными чувствами, — что испытывает человек? И что замечает? И что будет известно ему о битве несколько часов спустя? Что может быть известно ему о себе самом и о других? Среди воинской толпы, дравшейся целый день, случается, не сыщешь ни единого бойца — даже генерала! — способного указать на победителя. Ограничусь упоминаниями о современных битвах, прославленных битвах, память о коих не поблекнет вовеки; о битвах, изменивших лик Европы — и проигранных лишь оттого, что один или другой имярек посчитал их проигранными; а ведь эти битвы протекали в полностью равных условиях для обеих сторон — и, не пролив ни единой лишней капли крови ни с одной стороны, разгромленный полководец мог бы услыхать, как его соплеменники возносят хвалу Создателю, и стал бы числиться в летописях победителем, а не побежденным». 'Там же, 35; SPD 223. «Разве не видали мы, как заканчиваются поражением битвы, уже, казалось бы, выигранные? <...> Я вообще полагаю: сражения выигрываются или проигрываются отнюдь не физически». 2Там же, 29; SPD 220. «Тем же образом: сорокатысячное войско физически уступает шестидесятитысячному; но если первое храбрее, опытнее и дисциплинированнее, оно сумеет одержать победу над вторым — ибо при меньшей численности будет более боеспособным: это мы видим на каждой странице, вписанной в историю».
'Там же, 31 (в SPD выпущено). «Настроение войск приводит к разгрому, и настроение войск приводит к победе».
[105]Там же, 32; SPD 221. «Что значит проигранный бой? <...> Это бойу который поспешили счесть проигранным. Истина сия непреложна. В поединке человек побежден, если гибнет либо валится с ног — а противник продолжает стоять. Но с двумя враждебными армиями дело выглядит иначе. Силы примерно равны, и потери тоже — особенно после того, как изобрели порох, далее уравнявший способы и возможности уничтожения; битвы отныне проигрываются не материально — то есть не постольку, поскольку с одной стороны мертвецов насчитывается больше, чем с другой. Кое-что разумел в этом Фридрих //, изрекший: «Побеждать — значит наступать». Но кого мы зовем наступающим? Того, чья сознательность и доблесть заставляют противника пятиться».
[106]Там же, 33; SPD 222. «Битвы проигрываются воображением».
[107] Письмо от 14 сентября 1812 года к графу де Фрону ОС XII 220-1: «...Немногие битвы проигрываются физически — вы стреляете, я стреляю
[108][У Толстого написано чуть иначе: «...Мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, — и проиграли». — Примечание Генри Гарди]. «Война и мир», т. 3, часть 2, гл. 25; Т XI, стр. 206; В 855.
[109]Ecole de Sciences Politiques (фр.) — Школа политических наук. — Примечание переводчика.
[110]Albert Sorely «Tolston bistorien»y Revue bleue 41 (Janvier — juin 1888), 460-9). Отредактированный текст перепечатан в Сорелевских Lectures historiques (Paris, 1894) и несправедливо забыт изучающими Толстого; он изрядно дополняет суждения тех — например, П.И.Бирюкова («Л.Н.Толстой: биография», 3-е изд., Берлин, 1921) и К. В Покровского (Источники романа «Война и мир» (в кн. «"Война и мир": сборник», под ред. В.П. Обнинского и Т.И. Полнера. М., 1912), не говоря уже о позднейших критиках и литературоведах, почти поголовно опирающихся на эти авторитеты, — кто не упоминает о де Местре ни словом. Эмиль Оман (Emile Haumant) — чуть ли не единственный из более ранних исследователей, пренебрегший второстепенными авторитетами и докапывавшийся до истины самостоятельно — см. его работу La Culture franqaise en Russie (1700-1900) (Paris, 1910), 490-2.
[111]Там же, стр. 462. Эта фраза исключена из текста, перепечатанного в 1894 году (стр. 270).
[112] Amour propre (фр.) — самолюбие, чувство собственного достоинства. — Примечание переводчика.
[113] Толстой посетил Прудона в Брюсселе, в 1861 году — когда Прудон опубликовал книгу, озаглавленную La Guerre et lapaix («Война и мир»), а на русский язык переведенную тремя годами позже. Исходя из этого обстоятельства, Эйхенбаум старается сделать вывод о влиянии Прудона на толстовскую эпопею. Прудон, вослед за де Местром, рассматривает истоки войны как темную, священную тайну; в его работах наличествует немало
[114]'Ecrivasserie et avocasserie (фр.) — бумагомарание и казуистика. — Примечание переводчика.
[115] Почти в том же смысле, в каком используются у Монтескье слова «les rapports ntfcessaires qui deriveent de la nature des cboses» («...необходимые отношения, вытекающие из природы вещей...») в первой фразе книги «О духе законов» (1748). [Цит. по изд.: Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. М., Госполитиздат, 1955].
[116]Montage sur Vepingle {фр.) — у энтомологов: насаживание насекомого на булавку. — Примечание переводчика.
[117] La terre et les morts {фр.) — земли и мертвецов. — Примечание переводчика.
[118]Raisons de cceur (фр.) — доводы сердца. — Примечание переводчика.
[119] De facto (латин.) — по сути; фактически. Здесь: явственно ощутимые. — Примечание переводчика.
[120]Былое и думы, часть 6 («Англия (1852-1864»), гл. 3 («Эмиграции в Лондоне», 1870). ГС XI, стр. 48; БД III, 1060
[121]Auf eigene Faust (нем.) — своими силами, на свой страх и риск. — Примечание переводчика.
[122]К Дж. Мадзини, 13 сентября 1850. ГС XXIV, стр. 140
[123] Там же, стр. 23; С 24
[124]С того берега. ГС VI, стр. 125-126; С 135
[125]Pereat mundus et fiat justitia (.патин.) — Хоть мироздание погибай, а правосудие вершись. — Примечание переводчика.
[126]Gaminerie (фр.) — шалость, проказа . — Примечание переводчика.
[127] Там же, ГС V, стр. 176; ГП, 161
'Доктор Крупов (1847). ГС, IV, стр. 263.
[129] Там же, стр. 263-264.
[130]Там же, стр. 264.
[131]Salus populi suprema lex, pereat mundus et fiat justitia (латин.) — Народное благо — наивысший закон; хоть мироздание погибай, а правосудие вершись. — Примечание переводчика.
[132]С того берега. ГС VI, стр. 140; С, стр. 159
[133]Там же, стр. 35; С, стр. 38
[134]Ех tempore (.патин.) — импровизация. — Примечание переводчика.
'Там же, стр. 31; С, стр. 33.
[136]Ео ipso {латин.) —здесь: как таковая. —Примечание переводчика.
[137]«Lettre sur le libre arbitre» («Письмо о свободе воли» к сыну Александру, 1868). ГС XX7/, стр. 437-438. [Русский перевод печатается согласно указанному изданию; во французском подлиннике письма говорится: «...ilveut ne pas etre fossoyeur passif du раззё, ni accoucheur inconscient de I'avenir...» — Примечание переводчика.]
[138] С того берега. ГС V7, стр. 131; С 141.
[139] Там же, стр. 29; С 31.
[140]К старому товарищу. ГС ХХ/2, стр. 584.
'Там же, стр. 578; С 578.
[142] Там же.
[143]С того берега. ГС V7, стр. 472. Там же вариант: «die igyptische Organisation a la Louis Blanc <египетское устройство в духе Луи Блана>?»
[144]См.: «К старому товарищу». ГС ХХ/2, стр. 578.
[145]Письма из Франции и Италии, четырнадцатое письмо (1851); ГС V, стр. 211; ГП стр. 194
[146] Письма из Франции и Италии, четырнадцатое письмо (1851); ГС V, стр. 215-217; ГП стр. 198-199.
[147][Источника установить не удалось, но ср. с: «Du dPiveloppement des idvies rkvolutionnaires en Russie», ГС VI, стр. 185].
[148]Тамже, стр. 110; С 147.
[149] Там же, стр. 53; С 60.
[150]К старому товарищу. ГС ХХ/2 стр. 576.
[151]Былое и думы, часть 6: «Джон-Стюарт Милль и его книга «On Liberty» (1859); ГС XI, стр. 70.
[152]С того берега. ГС VI, стр. 36, 93; С 39, 107
[153] Там же, стр. 130
[154]Там же, стр. 119; С 128
[155]К старому товарищу. ГС ХХ/2 стр. 588.
[156]Второй съезд РСДРП, июль — август 1903 года: протоколы (М., 1959), стр. 182.
[157] «В самые худшие времена европейской истории, — заметил однажды Герцен, сопоставляя Запад и Россию, — мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты». (С того берега. ГС VI, стр. 15; С 12). Двадцатый век успешно сделал это замечание устарелым.
[158] Там же, стр. 34; С 37
[159] Письмо к Н.П. Огареву от 1-2 мая 1868 г., ГС XXIX/1, стр. 330
[160]Былое и думы, часть 7, глава 3 (1870), ГС XI, стр. 351 («Молодая эмиграция»); БД III, 1349.
[161]Заглавие статьи, написанной в 1859 г.: «Русские немцы и немецкие русские». ГС XIV, стр. 148-189.
ъ Du developpement des idees revolutionnaires en Russie», ГС VII, стр. 15. Арнольд Руге, возмущенный содержанием статьи, страстно возражал Герцену, получив от него в 1854-м немецкое издание. См.: Arnold Ruges Briefwechsel und Tagebucbbldtter aus den Jahren 1825-1880, ed. PaulNerrlich {Berlin, 1886), II (1848-1880) 147-9.
[163] «Le Peuple russe et le socialisme: Lettre a Monsieur J.Michelet» (1851), ГС VII, стр. 295 / 330; С 194. [Во французском подлиннике письма: «Tristesse, scepticisme, ironie, telles sont les trois cordes de la lyre russe». Русский перевод печатается согласно упомянутому изданию].
[163]Philosophes (фр.) — философы. — Примечание переводчика.
[164]Tous pour chacun et chacun pour tous (фр.) — один за всех и все за одного. — Примечание переводчика.
Round Education», in From out of the Dustbin: Bakunin's Basic Writings 1869- 187U trans, and ed. Robert M. Cutler (Ann Arbor, 1985), 113 <...>; также (b) «Organisation de la Fraterniti Internationale r4volutionnaire» (1865) in Daniel Guirin (ed.), Ni Dieu nimatre (Lausanne, [1969]), 197 (il ny est point de ИЬеПё sans igalite [«Нет свободы, если нет равенства». — Примечание переводчика])'', «The International Revolutionary Society or Brotherhood» (1865), «The Program of the Brotherhood», in Daniel Guerin (ed.), No Gods No Masters, trans. Paul Sharkey (Edinburgh etc., 1998), 134 (there is no liberty in the absence of equality).
[166]«Trois conferences faites aux ouvriers du Val de Saint-Imier» (mai 1871) в Archives Bakounine, ed. Arthur Lehning (Leiden, 1961-1981), VI, 228; «Three Lectures to Swiss members of the International», in Mikhail Bakunin, «Ail-Round Education», in From out of the Dustbin: Bakunin s Basic Writings 1869-1871, trans, and ed. Robert M. Cutler {Ann Arbor, 1985), 48.
[167]«UEmpire knouto-germanique et R&volution sociale» (1870-1) в Archives Bakounine, ed. Arthur Lehning (Leiden, 1961-1981), VII, 171
[168]Там же.
[169] Там же, стр. 172
[169]Urbi et orbi (латин.) — граду [Риму] и миру. (Эти вступительные слова означают: благословение, изрекаемое Папой Римским, распространяется и на Рим, и на весь мир). — Примечание переводчика.
[170]См. текст его брошюры 1869 года «Постановка революционного вопроса» в «Письмах М.А.Бакунина к А.И.Герцену и Н.П.Огареву» (Женева, 1896) под редакцией М.П. Драгоманова; стр. 469-477 (особенно стр. 472-474).
[171]«L'Instruction integrate» (juillet — aobit 1869), Bak V, 147; Mikhail Bakunin, «All-Round Education», in From out of the Dustbin: Bakunin s Basic Writings 1869-1871, trans, and ed. Robert M. Cutler {Ann Arbor, 1985), 116
[172]Письма Герцену от 7 ноября и 8 декабря 1860 г.: М. А. Бакунин. Собрание сочинений и писем под ред. Ю.М. Стеклова (М., 1934-1935), т. 4, «В тюрьмах и ссылке. 1849-1861», стр. 305, 360.
[173]«Trois conferences faites aux ouvriers du Val de Saint-Imier» (mai 1871) в Archives Bakounine, ed. Arthur Lehning {Leiden, 1961-1981), VI, 221; «Three Lectures to Swiss members of the International», in Mikhail Bakunin, «All-Round Education», in From out of the Dustbin: Bakunin s Basic Writings 1869-1871, trans, and ed. Robert M. Cutler {Ann Arbor, 1985), 41. Также см.: «VEmpire knouto-germanique et Revolution sociale» (1870-1) в Archives Bakounine, ed. Arthur Lehning {Leiden, 1961-1981).
[174]См. выше примеч. 2. Там же, стр. 158-159, и у Cutler1а на стр. 121
[175]«UInstruction intigrale» (juillet — aout 1869), Bak V, 161; Mikhail Bakunin, «All-Round Education», in From out of the Dustbin: Bakunin's Basic Writings 1869-1871, trans, and ed. Robert M. Cutler (Ann Arbor, 1985), 122.
[176]«Программа общества международной революции» (ок. 1865 г.) в кн.: Материалы для биографии М. Бакунина (М., 1923-1928) под ред. В. А. Полонского; т. III, стр. 121.
[177]Там же, стр. 122-123. Ср. с: «иInstruction integrale» (juillet — аоьй 1869), etc.
[178]В письме к Тургеневу от 22 ноября 1862 года Герцен справедливо говорит о «fatras [пустословии. — фр.] бакунинской демагогии». ГС XXVII/1, стр. 264.
[179] Письма из Франции и Италии, письмо второе (1847); ГС V стр. 35, 33; ГП 30, 28. [«У обоих Фигаро общее — собственно одно лакейство, но из- под ливреи Фигаро старого виден человек, а из-под черного фрака Фигаро нового проглядывает ливрея, и, что хуже всего, он не может сбросить ее, как его предшественник, она приросла к нему так, что ее нельзя снять без его кожи»].
[180]Там же, стр. 119, 317; Shatz 142.
[181]«По природе я не шарлатан, Государь, — сказал он в письме к Царю (июль — август 1851 г.) <... > — но неестественное, несчастное положение, в которое я впрочем сам привел себя, заставляло меня иногда быть шарлатаном против воли». См.: М. А. Бакунин. Собрание сочинений и писем под ред. Ю.М. Стеклова (М., 1934—1935), т. IV, стр. 143.
[182] Prima facie (латин.) переводчика.
[183] Die grosse Lise (нем.) — «большой Лизы»: так Бакунина прозвал Герцен — уподобив его своей трехлетней дочери, дружившей с Бакуниным.
[184] Слова Н.М. Карамзина (История Государства Российского. Предисловие). — Примечание переводчика.
[185] Былое и думы, часть 5, «Русские тени», «/. Н.И.Сазонов» (1863). ГС Ху стр. 320.
[186] Litt&rateurs (фр.) — литераторов. — Примечание переводчика.
[187]Былое и думы, часть 4 («Москва, Петербург и Новгород (1840-1847)»), гл. 25 (1855), ГС IX, стр. 18-19.
[188] Catalogues raisonnes {фр.) переводчика.
[189] «Он d&veloppement des idees revolutionnaires en Russie», ГС VII, стр. 247
[190] [Устоявшееся понятие «лишнего человека» ввел Тургенев, сочинивший «Дневник лишнего человека» (см. тургеневскую запись от 23 марта 1850 г., СТ, V, стр. 185-189). Это словосочетание часто используется Достоевским в «Записках из подполья» (1864), Д VI, стр. 7-80].
[191] Былое и думы, часть 4, глава 25. ГС IX, стр. 31.
[192] [Когда создавался данный очерк, среди литературоведов, занимающихся
[193]Письмо к В. П. Боткину, [14] — 15 марта 1840. Б XI, стр. 494. [Белинский также говорит «я литератор» в письме к Бакунину от 10 сентября 1838, Б XI, стр. 293].
[194][Точнее, «я нашел <... > свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература»]. (История моего современника, глава 27. См.: В.Г.Короленко. Собрание сочинений в пяти томах. Л., 1989-1991, т. IV, стр. 270.
[195] [«Semi-transparent envelope». — Примечание переводчика]. Virginia Wo о If, «Modern Fiction» (1918), в ее сборнике The Common Reader (London, 1925), 189.
[196] [Откуда взяты эти слова, установить не удалось. Другие источники пушкинских суждений о Белинском: Пушкин. Письмо к издателю (23 апреля 1836). Полное собрание сочинений, Л., 1937-1959, т. XII, стр. 97; П.В. Нащокин. Ответ Пушкину (октябрь/ноябрь 1836). Там же, т. XVI стр. 181 (пушкинское письмо не сохранилось); Белинский — Гоголю (1843). Б XIIу стр. 109].
[197] «Стихотворения М. Лермонтова» (1841). Б IV, стр. 496.
[198]Там же, стр. 494-495.
[199] Литературные мечтания (1834). Б /, стр. 24.
[200] О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя (1836). Б/7, стр. 154.
[201] Речь о критике (1842). Б V/, стр. 276.
[202] Письмо Д. П. Иванову, 7 августа 1837. Б XI, стр. 148
'Там же, стр. 148-149.
[203] Былое и думы, часть 4, гл. 25. ГС IX, стр 22.
[204] Письмо М.А. Бакунину, 10 сентября 1838. Б XI стр. 288.
[205]Там же, стр. 282.
[206]Письмо Н.В. Станкевичу, 2 октября 1839. Б XI, стр. 385.
[207]Там же.
[208]«Горе от ума» (1840), Б III, стр. 480.
[209] Письмо КС. Аксакову, 23 августа 1840. Б XI стр. 546.
[210]Письмо к В.П. Боткину, 11 декабря 1840. Б XI стр. 576-577.
[211][ГС VII, стр. 237].
[212] Письмо к В. П. Боткину, 8 сентября 1841. Б XII стр. 67, 69-70.
[213]Там же, стр. 52
[214]Письмо к В.П. Боткину, 15 апреля 1842. Б XII стр. 105.
[215] Письмо к В.П. Боткину, 8 сентября 1841. Б XII стр. 66, 70-71.
[216]Достоевский. Дневник писателя (1873). Д XI стр. 12.
[217]Письмо к Герцену, 26 января 1845. Б XII стр. 250.
[218]П.В. Анненков. Замечательное десятилетие» (1880). Литературные воспоминания. М., 1960, гл. 35, стр. 363.
[219] Sans-culottes (<фр.) — санкюлоты; буквально значит: «голодранцы, бес- портошники»; парижская чернь, разнузданно свирепствовавшая во время Французской революции XVIII века. — Примечание переводчика.
[220]Boutades {фр.) — шутки; здесь: выходки. — Примечание переводчика.
[221] Константин Сергеевич Аксаков (1861), ГС XV, стр. 9-10. См. также ГС IX, стр. 170
[222] Сочинения Александра Пушкина, № 6 (1844), Б VII, стр. 358.
[223]Там же, № 9 (1845), Б VII, стр. 499.
[224] Bien pensant {фр.) — благомыслящих. — Примечание переводчика.
[225]Malaise (фр.) — недуг, недомогание. — Примечание переводчика.
[226]Былое и думы, часть 4, гл. 25. ГС IX, стр. 22.
[227] Dichtung und Wabrheit (нем.) — «Поэзия и правда». — Примечание переводчика.
[228] Herz (нем.) — сердце. — Примечание переводчика.
[229] Douceur de la vie (фр.) — радости беззаботной жизни; приволье. — Примечание переводчика.
[230] П.В. Анненков. Замечательное десятилетие (1880). Литературные воспоминания, М., 1960, гл. 17, стр. 218-220.
[231] Былое и думы, часть 6 («Англия (1852-1864)»), глава 3 («Эмиграции в Лондоне», 1870). ГС XI, стр. 48.
[232]С того берега. ГС VI, стр. 34. [См. также стр. 35-36].
[233]Там же, стр. 36.
[234]Там же, стр. 37.
'Там же, стр. 30-32.
'Там же, стр. 32-33.
[235] Там же, стр. 93.
[236] Достоевский. Дневник писателя (1873), Д X/, стр. 12.
[237]С того берега. Г VI, стр. 124.
[238]Там же, стр. 46.
[239]К старому товарищу (1869), Г ХХ/2, стр. 578.
"Письма из Франции и Италии, письмо четырнадцатое, Г V, стр. 211,216— 217.
[240]С того берега. ГС VI, стр. 51.
[241] Письма из Франции и Италии. ГС V, стр. 33.
'Там же, стр. 35.
[243] Там же, стр. 33.
[244] Концы и начала (1863), Письмо 1, ГС, XVI, 41.
[245]Доктор Крупов (1847), ГС IV, стр. 263.
[246]С того берега. ГС VI, стр. 129-130.
[247] Кант И. Собр. соч. в 8 тт. Том 8. М., 1994, стр. 12-28.
[248]Былое и думы, часть 6, глава 3. ГС XI, стр. 34
[249]«Du developpement des idёes r4volutionnaires en Russie». ГС VII, стр. 15/43.
Государством анархия (1873) .Archives Bakounine, ed. Arthur Lehning (Leiden, 1961-1981),///, 159/358.
[251]Письмо к Н.П. Огареву, 1-2 мая 1868, ГС XXIX/1, стр. 330.
[252]Былое и думы, часть 7, глава 3 (1870), ГС XI, стр. 351 («»).
[253]«Du d&veloppement des idies revolutionnaires en Russie». ГС VII, стр. 247.
' «Le Peuple russe et le socialisme: Lettre a Monsieur J. Michelet» (1851), ГС VII, стр. 295/330.
[255]Ancien rfgime (фр.) — прежнее правление, старый режим (употребляется главным образом применительно к французской королевской власти до революции 1789 года). — Примечание переводчика.
[256] [Это замечание часто считают писаревским (так полагал даже Горький), но, похоже, что на самом деле оно восходит к сатирическому «отрывку» из несуществовавшего романа («Отрывок из романа «Щедрода- ров»»), напечатанному Достоевским в его журнале «Эпоха» (1864) — см.: «Господин Щедрин или раскол в нигилистах», Д Vy стр. 266-281, ищи на стр. 267-278. Эта пересыпанная пародийными псевдоцитатами сатира метила в нигилистов, изображенных под очень прозрачными прозвищами. На стр. 271 некто Щедродаров (Салтыков-Щедрин), который «становится соредактором» журнала «Своевременный» («Современник»), среди членов коей уже числятся Правдолюбов (Добролюбов) и Скрибов (Писарев) — узнает о редакционном принципе: «сапоги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а без сапогов никак нельзя обойтись, а следственно, Пушкин — роскошь и вздор»;
чуть ниже к этому прибавляют: «Равномерно вздор и Гомер, и Александр Дюма, и все прочие...» <... > Вариации на ту же тему, с упоминанием Пушкина вместо Шекспира, появляются у Салтыкова-Щедрина в «Господах ташкентцах (1869-1872), Собрание сочинений, т. X, стр. 102 («всякий сапожник в сто раз полезнее Пушкина»), и в романе Достоевского «Бесы» (1871-1872), часть /, глава /, отдел V7, Д IX, стр. 21 («Он <... > громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо»). Но с течением времени расхожей стала именно «шекспировская версия»: как обычно думают, изобретенная Писаревым — человеком, вполне способным изрекать подобные фразы всерьез].
[257] Слова Джона Голсуорси по поводу «Саги о Форсайтах». переводчика.
[258] [Так называется сборник очерков: Justice Brandeis, The Curse of Bigness: Miscellaneous Papers of Louis D. Brandeis, ed. Osmond K. Fraenkel (New York, 1934). Само заглавие заимствовано из очерка «Проклятие необъятности» («Л Curse of Bigness», chapter 8 of Louis D. Brandeis, Other People's Money and How the Bankers Use It (New York, 1914)].
[259] За рубежом, глава /. М.Е.Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 томах. М., 1965; т. 14; см. стр. 33-41 («Мальчик в штанах и мальчик без штанов. Разговор в одном явлении»). —Примечание переводчика.
[260] Ео ipso (.патин.) — [уже] в силу этого. — Примечание переводчика.
[261] Принципы и задачи современной критики (1872). П.Н.Ткачев. Избранные сочинения на социально-политические темы в семи томах под ред. Б.П. Козьмина. М., 1932-1937, т. VI, стр. 297.
[262] Coup d'etat (фр-) — государственный переворот. — Примечание переводчика.
[263]С того берега. ГС VI, стр. 36 и 338 (разночтение).
[264][Пересказ, а не цитата. Герцен делает подобные замечания в «La Russie» (1849). ГС V7, стр. 167-168 и «La Russie et le vieux monde» (1854), ГС XIIy стр. 152 <.>].
[265]Припозднившимся [гостям] дает она костный мозг, а не кости... (ла- тин.). — Примечание переводчика.
[266]Критика философских предубеждений против общинного владения (1858), Ч V, стр. 387.
[267] В главе 15-й книги II Populismo russo Франко Вентури (Franco Venturi) очень кстати приводит народническую статистику (выглядящую приемлемо правдоподобной). Согласно ей, число крестьян относилось в 1860 году к числу помещиков как 134 : 1, площадь принадлежавшей им земли относилась к площади господских угодий как 1 : 11,5, а доходы соотносились как 2,5 : 97,5; число промышленных рабочих относилось к числу земледельцев как 1 : 100. Учитывая эти цифры, неудивительно, что Маркс объявил: его предсказания применимы к западным государствам, но вовсе не обязательно к России. Правда, русские выученики Маркса оставили эту оговорку без внимания, утверждая, что российский капитализм движется вперед семимильными шагами и вскоре сотрет все различия между Россией и Западом. Плеханов (упорно отрицавший, что Чернышевский когда-либо принадлежал к народникам) развивал эту теорию, а Ленин действовал, исходя из нее.
[268]Письмо от 24 июля 1878 года. См.: Е. Корольчук. Из переписки С.М. Крав- чинского. Красный архив, 19 (1926, № 6), стр. 196.
[269][Источник не установлен].
[270]Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем в пятнадцати томах. Л., 1981-2000, т. II, стр. 46.
' [Видимо, автор цитирует по памяти замечание Веры Фигнер, оброненное, согласно ее воспоминаниям, в последнем слове, произнесенном под конец судебного процесса, где Фигнер приговорили к двадцати годам каторги за терроризм].
[271] Образование для Толстого «есть та деятельность человека, которая имеет основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования». Далее Толстой пишет: «Мать учит ребенка своего говорить только для того, чтобы понимать друг друга, мать инстинктом пытается спуститься до его взгляда на вещи, до его языка, но закон движения вперед образования не позволяет ей спуститься до него, а его заставляет подняться до ее знания. То же отношение существует между писателем и читателем, то же между школой и учеником, то же между правительством и обществами и народом. Деятельность образовывающего, как и образовывающегося, имеет одну и ту же цель». О народном образовании. Т VIII, стр. 25.
[272] Война и мир. Эпилог, часть 2, гл. /. Т А7, стр. 298. [Здесь (однако не в «Еже и Лисе») Берлин ошибочно возводит эту фразу к университетским дням Толстого, поскольку она очень схожа с толстовским замечанием, приводящимся у Назарьева (В.Н. Назарьев. «Люди былого времени». Лев Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955)].
[273] Jeunesse с1огёе (фр.) — «золотая молодежь». — Примечание переводчика.
[274]0 методах обучения грамоте (1862). Т VIII, стр. 137-138.
[275]Так у Толстого. Das Fishbuch по-немецки значит «Книга о рыбах». — Примечание переводчика.
[276] Там же. — Примечание переводчика.
[277]Там же, стр. 140. — Примечание переводчика.
[278] Воспитание и образование (1862). Т VIII, стр. 216.
[279] «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы [1861]» (1862), Т VIII, стр. 48.
[280] Толстой негодует по поводу пресловутого мопассановского изречения, [слегка неверно] цитируемого им (см.: Т XXX, стр. 15), и гласящего: если вы художник, то отнюдь не обязаны развлекать, занимать, услаждать, поражать, потрясать, навевать мечты, повергать в раздумья, вызывать улыбку, слезы или содрогание; вы всего лишь должны «(faire) quelque chose de beau dans la forme qui vous conviendra le mieux d'aprbs votre temperament» («создавать нечто прекрасное, облекая его в ту форму, которая вам всего больше по душе и по нраву»). См.: Guy de Maupassant, «Le Roman»,preface to Pierre et Jean (Paris, 1888); 37 in the edition by G.Hainsworth (London etc, 1966).
[281]Михайловский пишет: в «Поликушке», одном из лучших рассказов Толстого, написанном примерно тогда же, когда Лев Николаевич создавал и статьи о воспитании, главный герой, в конечном счете, погибает лишь оттого, что добродушная, но суетная и глупая помещица самонадеянно вмешивается в крестьянскую жизнь. Доводы Михайловского чрезвычайно убедительны.
[282]Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят? (1862). Т VIII, стр. 301-324.
[283]Воспитание и образование (1862). Т VIII, стр. 215.
[284]Там же, стр. 216.
[285]О народном образовании. Т VIII, стр. 10.
[286] Там же.
[287] Воспитание и образование (1862). Т VIII, стр. 217.
[288] Некоторые критики-марксисты, в частности, Лукач (.Lukacz), представляют упомянутые противоречия художественным выражением кризиса, наступившего в русском феодализме — особенно если речь идет о положении крестьянства, чьи невзгоды, согласно суждению этого критика, отражаются в толстовских произведениях. Подобный взгляд представляется чрезмерно оптимистическим: исчезни мир, привычный Толстому, всем сомнениям писателя разом настал бы конец. Пускай читатель рассудит сам, верно это или нет.
[289] Письмо к Гоголю от 15 июля 1847 года. Б Ху стр. 217-218. Слова Белинского — самодержавие, православие, народность — повторяют официальный патриотический лозунг, изобретенный Министром просвещения вскоре после того, как Николай / стал Российским Государем. Последнее по порядку слово — «народность», — очевидно, возникло, как соответствие немецкому Volkstum, а в этом лозунге использовалось, дабы исконно русские, «простонародные» порядки и обычаи противопоставить заемным, «искусственным» установлениям «всезнаек», напитавшихся идеями западного Просвещения. В действительности же им обозначался официальный патриотизм, наравне с такими установлениями, как крепостное право, сословная иерархия, неукоснительное повиновение Императору и российскому правительству. Все письмо от 15 июля 1847 года — яростное нападение на Гоголя, «искренне или неискренне» поставившего, по мнению Белинского, свой гений на службу «мракобесию и реакции». Именно за чтение вслух этого письма перед собранием петрашевцев Достоевский был арестован и приговорен к смертной казни.
[290] Tourguineff.; CEuvres dernieres, 2nd ed. (Paris, [1885]) 297-302.
'В.Г.Короленко. И.А.Гончаров и «молодое поколение» (к 100-летней годовщине рождения) (1912). Полное собрание сочинений. Петроград, 1914, т. IX, стр. 324.
[291] Bete noire (фр.) — предмет особой неприязни; пугало. —Примечание переводчика.
[292] МёПег (|фр.) — ремесло, занятие — Примечание переводчика.
[293] Речь идет о Sheldonian Theatre в Оксфорде: там 12 ноября 1970 года Исайя Берлин читал, как лекцию, сокращенный вариант очерка «Отцы и дети».
[294]По словам Людвига Пича (Ludwig Pietsch), эту историю рассказывал ему сам Тургенев. См. «Воспоминания Людвига Пича» в сборнике «Иностранная критика о Тургеневе», СПб, 1884, стр. 147. Пича цитирует Евгений Соловьев (И.С.Тургенев, его жизнь и литературная деятельность: биографический очерк. Казань, 1922, стр. 39-40), а на Соловьева ссылается J.Mourier (Ivan Serguei&vitch Tourgueneff a Spasskoe, СПб — Москва, 1899, стр. 28), который — видимо, истолковав цитату Соловьева не вполне верно, — зовет убийцей не бабушку, а мать Ивана Сергеевича.
[295]Речь о критике. Б VI, стр. 267, 269.
[296]Письмо к Василию Боткину, 17 (29) июня 1855. ПТ II, стр. 282
[297] Письмо к Л.Н.Толстому, 29 января 1858. ПТ III, стр.188.
[298]Письмо к Л.Н.Толстому, 27 марта (8 апреля) 1858. ПТ III, стр 210.
[299]«Сомнения <... > именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; <... > Искренность его действовала на меня», — писал позднее Тургенев с характерной самоуничижительной иронией и дружеской любовью: — «его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде с... >». Воспоминания о Белинском (1869), СТ XIV, стр. 28-29.
[300] Письмо к Герцену от 8 октября 1862. ПТ V, стр. 52.
[301] А.И. Герцен. Концы и начала, письмо первое (1847), Г XVI, стр. 138.
[302]Письмо к Герцену от 8 ноября 1862. ПТ V, стр. 67-68.
[303]Предисловие к романам (1880), СТ XII, стр. 303.
[304]Гамлет, акт ///, сцена 2. Тургенев цитирует несколько неточно, у Шекспира сказано: «to show <...> the very age and body of the time, bis form and pressure» — «держать как бы зеркало <...>, являть <...> всякому веку и сословию — его подобие и отпечаток» (перевод Мих. Лозинского). — Примечание переводчика.
[305] Генри Джеймс. Женский портрет. М., 1981, стр. 510-511 (перевод М. А. Шерешевской). — Примечание переводчика.
[306] Герцен, тургеневский друг и критик, писал: «Тургенев, увлекаясь библейской привычкой Бога, создал Рудина по своему образу и подобию; Рудин - Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина». См.: Былое и думы, часть 7, глава 4 («М. Бакунин и польское дело, 1870»), Г X/, стр. 359.
[307] Рудин (1856), глава 12. СТ V/, стр. 348.
[308] Этой фразы в тексте 1860 года нет, ее добавили двумя годами позже, готовя посмертное издание добролюбовских работ. См.: «Когда же придет настоящий день?» в Собрании сочинений, М., 1961-1964, т. VI, стр. 126.
[309] «Лишние люди и желчевики» (1860), ГС XIV, стр. 322.
[310] Воспоминания Н.Г.Чернышевского цитируются в книге «И.С.Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969, т. /, стр. 356-358. Запись Чернышевским сделана в 1884 году, через много лет после самих событий — по просьбе Пыпина, собиравшего материалы о радикальном движении 1860-х, — но вряд ли стоит сомневаться в достоверности этого рассказа.
[311] Эпиграф к «Отцам и детям», зачеркнутый Тургеневым в беловой рукописи. См.: СТ VIII, стр. 446. См. также: A.Mazon, Manuscrits parisiens d'lvan Tourguinev {Paris, 1930), 65.
[312]Письмо к М.Е.Салтыкову, 15 января 1876. ПТ XI, стр. 190-191.
[313] «Отцы и дети», глава VII.
[314]Там же, глава X.
[315]Бернштейн сообщает: слова эти встречаются в письме, которое, по утверждению немецкого экономиста Луйо Брентано, опубликовавшему собственную статью в мюнхенской Allgemeine Zeitung незадолго до Бернштейна, Карл Маркс написал своему английскому приятелю Э.-С. Бизли (E.S. Beesly). См.: Ed. Bernstein, «Des forces de la democratic industrielle: RЂponse a Mile Luxembourg», Movement Socialiste 1899 vol. 2 (juillet — novembre), 1 septembre, 257-27page 270. [Впрочем, единственная из статей, принадлежащих Брентано и соответствующих приводимому описанию, «Der soziale Friede und die Wandlungen der Sozialdemokratie», Allgemeine Zeitung (.Mxmchen), 23 April 1899, 1-2), не упоминает о таком письме; вероятно, и само послание Маркса к Бизли не сохранилось].
[316]«Отцы и дети», глава X.
[317]Там же.
[318]Там же, глава XXI.
[319]«Отцы и дети», глава VI.
[320]Там же, глава X. — Примечание переводчика.
[321]«Отцы и дети», глава XI.
[322]Там же, глава XXI.
[323]Там же, глава X.
[324]Там же.
[325]Barbouilleur (фр.) — жалкий писака, бумагомаратель. — Примечание переводчика.
[326]Там же, глава X.
[327]Письмо к К.К. Случевскому, 14 (26) апреля 1862, ПТ IV, стр. 381.
[328]См. первый абзац рассказа «Поездка в Полесье» (1857), СТ VII, стр. 51 [«Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти — трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды <...>»].
454
[329]Существо этих споров остроумно и кратко изложил Салтыков-Щедрин: «<...> есть ли созданный Тургеневым Базаров фига и карикатура, над которою нужно издеваться, или же он есть идеал, которому нужно подражать?». — Примечание переводчика.
[330]«Время», № 9, [апрель] 1862, отдел 2, стр. 50-84. См. также страховские очерки (включая упомянутый) о Тургеневе в кн.: Н. Страхов. Критические статьи об И.С.Тургеневе и Л.Н.Толстом (1862-1885), СПб, 1885.
[331]И.С.Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969, т. /, стр. 343.
[332] Там же, стр. 343-344.
[333]Письмо к Тургеневу, цитируемое Иваном Сергеевичем в статье «По поводу «Отцов и детей» (1868-1869), СТ XIV, стр. 97-109.
[334]См.: М.А.Антонович. Асмодей нашего времени. «Современник», № 3, 1862, «Современное обозрение», стр. 65-114 и В. Г. Базанов. Тургенев и антинигилистический роман (Базаров и нигилисты в русской литературе) в кн.: «Карелия: альманах союза советских Карелий», кн. 4. Петрозаводск, 1939, стр. 160-169. Также см.: В. Зелинский. Критические разборы романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», 2-е изд. М., 1907 и В. Тухомицкий. Прототипы Базарова (По поводу 40-летия «Отцов и детей» Тургенева и 20-летия смерти его) в кн.: «К правде: литературно-публицистический сборник». М., 1904, стр. 227-285.
[335]Л. Пичу, 3 июня 1869. ПТ VIII, стр. 38-39.
[336]«По поводу «Отцов и детей» (1868-1869), СТ XIV, стр. 104.
[337][Карикатуры, нарисованные А. Волковым и гравированные Ф. Фрейн- дом — первые три (всего их было сорок три), напечатанные под заголовком «Отцы и дети» левым сатирическим еженедельником «Искра», №№ 12-20 за 1868 год; изображения появились в номере 12-м от 7 апреля 1868 г., стр. 144-145. <...>]. См.: М. Клевенский. И.С.Тургенев в карикатурах и пародиях. «Голос минувшего», 1918, №№ 1-3 (январь — март), стр. 185-218. [Три волковских рисунка воспроизводятся на стр. 191-192]. Также см. сатирическую поэму Д. Д. Минаева «Отцы или дети? Параллель» в кн. «Думы и песни Д.Д. Минаева и юмористические стихотворения обличительного поэта (темного человека)». СПб, 1864, стр. 211-213.
[338]Речь идет о карикатуре Н.В. Иевлева, озаглавленной «Нет сладу ни с детьми ни с отцами!», помещенной в «Осе», сатирическом приложении к консервативному еженедельнику «Якорь» от 12 июня 1863 года [4]. <... >
[339]Отцы и дети, глава IX.
[340]Д. И. Писарев. «Базаров». «Русское слово» № 3, 1862, «Русская литература», стр. 1-54. Полное собрание сочинений. СПб, 1900-1907, т. //, стр. 379-428, и также: «Реалисты» (1864), там же, т. /V, стр. 1-146. Интересующимся историей русских радикальных идей будет любопытно узнать, что, по всей видимости, именно препирательства, кипевшие вокруг Базарова, побудили Чернышевского вывести в дидактической книге «Что делать?», опубликованной годом позже, образ Рахметова; но полагать, будто Рахметов не только «ответ» Базарову, а своего рода «положительная» версия тургеневского героя (например, это говорится в недавнем вступлении к одному из английских переводов «Что делать?»), оснований нет. Писаревское самоотождествление с Базаровым проводит границу меж холодным, рациональным эгоизмом, стремлением «нигилистов» из «Русского слова», наравне с их нео-якобинскими союзниками 1860-х (наивысшей силы это стремление достигло у Ткачева и Нечаева), к «избранности» — и человеколюбивыми, истинно уравнительными социалистическими идеями, которые провозглашали члены редакции «Современника» и народники 1870-х, обладавшие более острым чувством гражданского долга; этих людей Тургенев и пытался, не всегда успешно, изобразить в «Нови» (1877) — см. по этому поводу: Joseph Frank, «N.G. Chernyshevsky: a Russian Utopia», Southern Review, [Baton Rouge] 3 No. 1 (January 1967), 68-84. Яснее всего этот вопрос обозначился разногласиями Ткачева и Лаврова в 1870-х. Историческая важность Базарова велика не оттого, что он якобы послужил рах- метовским прообразом, а напротив: оттого, что он — одна из литературных противоположностей Рахметову, невзирая на утверждение, которого, согласно, по меньшей мере, одному источнику, Тургенев не опровергал: один и тот же человек мог послужить «образцом» для обоих — и Рахметова, и Базарова. В этом отношении бешеная брань сперва Антоновича, а потом Шелгунова — безудержная и начисто лишенная критической ценности — не лишена оснований.
1 Письмо к Тургеневу, 26 сентября 1861, цитируемое В.А. Архиповым. См.: К творческой истории романа И.С.Тургенева «Отцы и дети», «Русская литература», № 1, 1958, стр. 132-162, на стр. 148.
'Там же, стр. 147.
[341] Там же.
[342]Роман Тургенева и его критики. «Русский вестник», май 1862, стр. 393426, и «О нашем нигилизме: по поводу романа Тургенева», там же, июль 1862.
[343]Еще раз Базаров (1868). ГС XX/1, стр. 338.
[344]Там же, чуть выше.
[345]Былое и думы, часть 7, глава 3 (1870), Г XI, стр. 352. — Примечание переводчика.
[346]Там же, стр. 351.
[347] Литература, в основном, полемическая, необъятна. Среди наиболее заметных работ упомянем следующие: В. В. Боровский. Базаров и Санин: Два нигилизма. См.: «Литературный распад: критический сборник», кн. 2, СПб, 1909, стр. 144-165 (напечатано под псевдонимом «П. Орловский»); В.П. Кин. Гамлетизм и нигилизм в творчестве Тургенева. «Литература и марксизм», № 6, 1929, стр. 71-116; Л.В.Пумпянский. «Отцы и дети»: историко-литературный очерк в кн.: И.С.Тургенев. Сочинения. М.-Л., 1929-1930, т. VIу стр. 167-186; И.Ипполит. Ленин о Тургеневе. «Литературный критик» № 6, 1933 стр. 33-44; И.И. Векслер. И.С.Тургенев и политическая борьба шестидесятых годов. Л., 1934; В. А. Архипов. К творческой истории романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», «Русская литература», № 1, 1958, стр. 132-162; Г. А. Бялый. В.А.Архипов против И.Тургенева. «Новый мир» № 8, 1958, стр. 255-259; А.И. Батюто. К вопросу о замысле «Отцов и детей» в кн.: И.С.Тургенев (1818-1883-1958): статьи и материа-
[348]По поводу «Отцов и детей». СТ XIV, стр. 102.
[349]Письмо К.К. Случевскому, 14 (26) апреля 1862. ПТ IV, стр. 379.
[350]И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969, т. /, стр. 441.
[351]Письмо М.Е.Салтыкову, 15 января 1876, ПТXI, стр. 191.
[352]Там же.
[353] этом — то и дело цитируют ядовитое ленинское замечание о сходстве взглядов Тургенева с воззрениями правых немецких социал-демократов. Еще больше написано по вопросу о том, убеждал ли вообще Катков Тургенева отредактировать готовый текст в «умеренную» сторону, «очернить» базаровский образ; а, если убеждал, то сумел ли убедить; а если сумел, то в какой степени. То, что Иван Сергеевич изменял текст готовой книги, уступая настояниям Каткова, не подлежит сомнению; однако мог и восстановить — хотя бы отчасти — свою изначальную редакцию, публикуя роман отдельной книгой. См. об этом: Н.М. Гутьяр. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, стр. 385-387 и В. Базанов. Из литературной полемики 60-х годов. Петрозаводск, 1941, стр. 46-48. Но также см.: А. Батюто. «Парижская рукопись» романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». «Русская литература» № 4, 1961, стр. 57-78. Отношения Тургенева с Катковым быстро испортились; Тургенев начал смотреть на Каткова, как на махрового реакционера и отказался пожать ему руку на пушкинском вечере в 1880-м году; одной из постоянных тургеневских шуток стало упоминание о мучившей писателя подагре, как о «катковке» — см. письмо к М.М. Стасюлевичу от 23 мая 1877 года, СТ, XII//, стр. 160. Перечень «поправок», внесенных Катковым в текст, исправно и верноподданно присутствует, по сути, в любом из советских исследований, посвященных тургеневскому творчеству.
'Там же, стр. 102.
[355]Еще раз Базаров. ГС XX/I стр. 335-350.
[356]Письмо от 6 (18) апреля 1862, ПТ IV, стр. 371.
[357]Письмо И. П. Борисову, 4 января 1869, ПТ VIII, стр. 152.
[358]Письмо от 30 августа 1874, ПТ X, стр. 281.
[359]Письмо Марко Вовчку (Марии Маркович), 27 августа 1862, ПТ Л", стр. 41
[360]П. Лавров. И.С.Тургенев и развитие русского общества. «Вестник Народной воли», № 2, 1884, стр. 69-149, см. стр. 119.
[361]Из тургеневского стихотворения в прозе «Услышишь суд глупца...» (написано в феврале 1858 года. СТ XIII, стр. 151. Это же стихотворение в прозе цитирует Лавров (см. предыдущее примечание). Заголовок — цитата из Пушкина («Поэту»).
[362]Amour propre (фр.) — самолюбие, буквально «любовь к себе». — Примечание переводчика.
[363]Письмо Герцену, 4 июня 1867, ПТ VI, стр. 260.
[364]См. письмо Достоевского к поэту А.Н.Майкову от 16 августа 1867. Д XV/2, стр. 173-182, цитируемое у Н.М. Гутьяра в кн.: Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, см. стр. 339.
[365] Письмо М.М. Стасюлевичу, 3 января 1876, ПТ XII/\у стр. 43-44.
[366]«Новь» (1877), глава 37, СТ XII, стр. 288.
[367]См. великолепный очерк «Turgenev: The Politics of Hesitation» в книге Ирвинга Хау «Politics and the Novel» (London, 1961), 137-8.
[368]Письмо от 11 ноября 1876, ПТ XI, стр. 351.
[369]См.: Б.М. Маркевич (под псевдонимом «Иногородний Обыватель»). С берегов Невы XIII. «Московские ведомости», 9 декабря 1879, стр. 5-6.
[370]Письмо редактору «Вестника Европы», 2 января 1880, СТ XV, стр. 185.
[371]В 1863 году Тургенева вызвали из Парижа в Санкт-Петербург, давать перед сенатской комиссией показания касаемо отношений с Герценом и Бакуниным. Но как я мог бы вступить в сговор с такими людьми, возражал Тургенев, — я, всю жизнь бывший убежденным монархистом и предметом жесточайших нападок с стороны «красных»? (см. ГС XVIII, стр. 35) В этом была доля истины. И, пожалуй, неудивительно, что Герцен (отнюдь не забывший тургеневского отказа подписать манифест — составленный им самим и Огаревым, и критиковавший недочеты, сопутствовавшие отмене крепостного права) адресует ядовитую издевку «седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает
постигнувшем ее раскаянии» (ГС XVIII, стр. 35). В позднейшие годы Герцен и Тургенев неоднократно видались, но прежняя дружба дала глубокую трещину. В 1879 году Тургенев не менее поспешно отрекся от любых и всяких связей с Лавровым и его приверженцами-революционерами. Лавров, как и Герцен, простил его. Об отношениях Тургенева с Лавровым и другими политическими эмигрантами см.: П.Л.Лавров. И.С.Тургенев и развитие русского общества. «Вестник Народной воли», № 2, 1884, стр. 69-149 и Michel Delines (М.О. Ашкенази). «Tourgutfneff et les nihilistes» в Tourguineff inconnu (Paris, [1888]), 53-75.
«Дым» (1867), глава 27, CTIX, стр. 318.
Там же.
'Там же, глава 14, СТ /X, стр. 234.
[372] См. записки Германа Лопатина в кн.: И.С.Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. Под ред. М.К. Клеман и Н.К. Писка- новой. М.-Л., 1930, стр. 124.
[373] Предисловие к романам (1880), СТ XII, стр. 307-308.
[374]Письмо Герцену, 10 (22) апреля 1862, ПТ/V, стр. 383.
[375]См. записки Германа Лопатина в кн.: И.С.Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. Под ред. М.К. Клеман и Н.К. Писка- новой. М.-Л., 1930, стр. 126
[376] Это превосходное определение разницы между либералами и радикалами приводится в кн.: R.W.Mathewson, The Positive Hero in Russian Literature {New York, 1958), 122.
[377] Письмо к А.П. Философовой, 23 сентября 1874, ПТ X, стр. 295.
[378]См. письма к графине Ламбер, 1864 (3 сентября, ПТ V, стр. 278) и к писательнице МЛ. Милютиной, 1875 (6 марта, ПТ XI, стр. 31), приводимые вместе с обширными сопутствующими материалами в кн.: Горбачева В.Н. Молодые годы Тургенева (по неизданным материалам). Казань, 1926; ищи письма на стр. 36.
'Тургенев в материалах перлюстрации III Отделения и Департамента полиции: II. Отклики на смерть Тургенева, 3. Выписка из письма Я.Лурье из Петербурга от 8 Сентября 1883 г. к студенту университета Фишелю Толкачевскому в Киев. «Литературное наследство, т. 76 (1967), И.С.Тургенев: новые материалы и исследования, стр. 332
[380] Автором листовки — цитируемой в кн.: Тургенев в русской критике. Под ред. К.И. Бонецкого. М., 1953, стр. 401 — был П.Ф.Якубович.
[381]Былое и думы, часть 5, «Русские тени», «/: Н.И.Сазонов (1863)», ГС X, стр. 320.
[382]Там же, стр. 593.
[383]Письмо к Герцену от 25 ноября 1862, ПТ V, стр. 73.
[384] Дым, глава 5. СТ IX, стр. 173.
[385] Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790) в The Writings and Speeches of Edmund Burke, ed. Paul Langford (Oxford, 1981 —), vol. 8, The French Revolution, ed. L.G.Mitchell (1989), 127.
[386]По поводу «Отцов и детей». СТ XIV, стр. 105-106.
[387] Из «Довольно», публично прочитанного Тургеневым в 1864 году и позднее спародированного Достоевским в «Бесах». См. СТIX, стр. 118-119.
[388] Там же, стр. 120. Касаемо Изиды см. первый абзац рассказа «Поездка в Полесье» (1857), СТ VII, стр. 51 [«Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти — трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды <...>»].
[389] Ипполит Млодецкий покушался на жизнь Лорис-Меликова 20 февраля 1880 года, через несколько недель после того, как Халтурин пытался убить императора. Два дня спустя Млодецкого повесили.