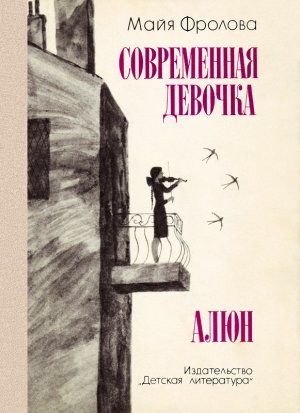
Не размыто временем (Галина Демыкина)
Книга Майи Фроловой названа «Современная девочка». Время действия — первые послевоенные годы в западных районах Украины.
Так, значит, речь пойдет о некоей девочке, которая в те, уже далекие от нас годы, ощущалась или смотрелась, как современная?
Вовсе нет.
Об оттенках слов и словосочетаний мы поговорим чуть позже. А сейчас без опасений и предвзятости откроем дверь в роман. И вот мы — в зеленом городе, где изгороди перевиты диким виноградом, а одна из улиц выводит прямо в лес. Заглянем в школу, познакомимся со старшеклассниками и учителями, чуть оглядимся, прежде чем начнут разворачиваться бурные события.
Я не люблю одинаковых домов, похоже обставленных комнат, не люблю пусть даже правильных, но лишенных индивидуальности людей. Роман Майи Фроловой — целое шествие, целый карнавал характеров. Не все они проявлены в действии (да это было бы и невозможно), некоторые так и остаются в масках (таковы, на мой взгляд, Таня и Алеша — не знаю, согласитесь ли вы со мной, когда прочтете книгу). Но все увидены и намечены писательницей, даже если бегло, то очень точно, так что вам, читателям, будет интересно самим додумать: а как поступит тот или иной персонаж?
Но здесь же вы найдете характеры, нарисованные щедро, крупными резкими штрихами. В этом смысле обратите внимание на Нику и ее бывшую подругу Клару. Одна — веселая, голосистая, с удобным качеством пропускать мимо себя все, что выше ее понимания. Такова Клара. Другая — Ника — прямая, резковатая, с мужественной походкой и недевчоночьей храбростью. Кто из этих двух вам больше понравится? С какой захочется дружить? Тут нет однозначного ответа, потому что не все ведь в человеческих отношениях решается разумом. Но вот по таким контрастным натурам можно выверять наклонности и поступки как свои, так и чужие. И вот еще что важно: люди в этой книге — не символы, — в них теплота и живость черт, они ошибаются, рядом с прекрасными поступками совершают ложные шаги (подумайте об этом, когда будете читать про Лёню Мартыненко, про Симу Бецкую, Володю Сопенко — это все довольно сложные образы).
...Образ... Я не хотела говорить так, потому что помню и не люблю этот термин еще со школьных лет. Все верно, есть в каждой книге характеры, образы. Но они в пересказе, в объяснении всегда беднее того, что думал, что чувствовал автор, когда писал о них, а если что-то в этих людях затронуло и нас, в нем будет уже много нашего, личного: мы часто ищем себя, свои мысли, чувства, подмечаем человеческие схожести — с другом ли, с врагом... То есть не только мы обогащаемся за счет прочитанного, но и этот самый «образ» становится богат нашим опытом, нашими ассоциациями, мы как бы переливаем в него свое.
Вот какой силой владеет вдумчивый читатель!
Но вернемся к роману. Попробуем найти, именем кого из девочек он назван?
Сочетание слов дает определенный оттенок.
«Современная девочка!» — скажет иная пожилая женщина и в интонацию вложит высокомерное осуждение: в наше, мол, время девочки были скромнее. В устах сверстника, пожалуй, наоборот: «современная девочка» — значит, не ханжа, не ломака.
А что имеет в виду писательница? Ведь она — само собой понятно — взрослый человек.
Нет, ее взгляд — не ханжеский, смелый, говорит со своими читателями она честно и открыто. Ей грустно, что Лене, едва перешедшей в девятый класс, приходится уехать из города, где все знают друг друга, — уехать для того, чтобы стать матерью. Тайно, без радости и гордости материнства, без надежды на семью: дело не только в том, что рано, — уж больно скверный ей парень попался, она даже имя его пытается забыть. По молодости, по глупости не сумела разобраться.
Писательница сочувствует Симе, которая, как и Лена, рано вырвалась в женскую жизнь, а мальчик, другой мальчик, которого она полюбила позже, узнав об этом, обдает ее презрением. А ведь Сима обрела уже новую прекрасную жизнь, оставила позади болото пустоты и цинизма, которое поначалу затянуло ее.
Но что же этот высокомерный мальчик по имени Володя Сопенко? Плох он или хорош? Прав или не прав? На чьей стороне автор?
Автор не обязан принимать чьей-либо стороны, он иной раз просто говорит: да, бывают такие характеры. Юношеская запальчивость тяготеет к разрушительству. Возможно, с годами этот максимализм и пройдет, уступит место мудрости. Но и мудрость у такого человека, как Володя, не все прощает: ведь он ищет в жизни чистоты, высокого.
Часто встречаются книги о школьной молодежи, где любовь по воле автора подменяется дружбой, где отношения похожи на те, какие бывают у первоклассников. Майя Фролова ни разу не опускается до лжи. А что о «современной девочке», то неизвестно, кого вы сочтете более современной — Лену Штукину с ее ранним материнством, а может, Нику — о ней я уже говорила, или маленькую Клару, которая не любит задумываться. К слову сказать, этот характер писательнице, вероятно, хорошо знаком, отмечен для нее знаком личного отношения — не зря похожий на Клару мальчик — Алюн — появляется в ее маленькой повести, включенной в эту же книгу. Легкий, но и легковесный, с открытой миру душой, но открытой для доброго и для скверного.
В произведениях Майи Фроловой нет вялости, очень привлекательны их искренность и правдивость, читаются они с интересом. Мне лично очень дорого, что жизнь молодых людей здесь тесно сплетена с природой, с искусством. Ребята — во всяком случае, многие из них — читающие, знающие музыку, любящие петь. Не все они хороши, эти ребята. Ведь наивно думать: прочитал человек хорошую книжку и улучшился. Послушал Моцарта или Баха — и стал прекрасен. Но незавершенный процесс сопереживания — в музыке, в живописи, в литературе, свое творческое участие в зазвучавшем в нас искусстве мы несем в себе, иногда и не осознавая этого. И подчас не догадываемся, что именно это сопереживание настроило нас на ту волну, которая много позже развернула нашу жизнь на сто восемьдесят градусов, дало ей иное, чем могло быть, направление, обогатило ее цветом, подарило ей свет. Поэтому, для того чтобы воспринимать (а не только творить) искусство, надо обладать смелостью выйти из обыденных рамок, нужна настойчивость и решимость. Вот так хороший спортсмен ставит планку выше своих возможностей, выше расчета.
В жизни героев романа все обострено: война кончилась, а звучат еще выстрелы бандеровцев; через город проходят траурные процессии: хоронят убитых украинскими националистами людей. Всё в ребячьей жизни серьезно, порой — опасно, а каждая победа — яркая радость.
Ворвитесь вместе с героями романа в деревню, подожженную бандеровцами; станьте на место Вити Хомякова, которого бандиты заставляют попросить соседей открыть дверь — заставляют для того, чтобы, оттолкнув его, кинуться в дом и перестрелять всю семью...
Пусть вас захватит роман, не оставит равнодушными. Пусть это будет чтение-соучастие, когда то на место одного, то на место другого вы будете ставить себя, своих близких, когда вас будет волновать вопрос: а как бы тут поступил я? А как — мой друг? Моя подруга?
Вот такого прочтения я желаю вам. А книге Майи Фроловой — такого читателя.
Г. Демыкина
СОВРЕМЕННАЯ ДЕВОЧКА
Глава первая. Дела школьные
1
Малышня выла от восторга: по школьному коридору шествовало громогласное чудище. Старшеклассники тащили наспех намалеванный и надетый на швабры лозунг «Анархия — мать порядка». На плечах у Алика Рябова восседал Пиня — скелет из биологического кабинета, на его голове болталась кубанка с алым верхом, в зубах дымилась здоровенная самокрутка. Время от времени Пиня помахивал костлявой ручкой — и старшеклассники взревывали: «Гип-гип-ура!» К потолку летели кубанки, пыльные меловые тряпки, скомканная бумага, портфели, учебники. Звонок беспомощно барахтался в этом реве, сзади на толпу учеников наседали учителя, но пробиться сквозь пробку не могли. Пробка протискивалась по коридору, медленно освобождая классные двери, в которые ныряли с журналами учителя младших классов, предоставляя директору, завучу и учителям старших классов восстанавливать порядок и разбираться в этом очередном происшествии, зачинщиками которого, без всякого сомнения, снова была знаменитая компания из восьмого класса.
Наконец пробка рассосалась, Пиня, уронив со своей лысины кубанку, завалился набок и исчез в восьмом классе, щелкнув перед носом учителей пятками.
Директор Кузьма Иванович, завуч Дора Сергеевна и преподаватель биологии Ольга Матвеевна еще долго мыкались перед запертой дверью. Когда же она открылась, в классе сидели одни девочки, натянутый на швабры лозунг красовался перед доской, а под окном трещал мотоцикл Алика Рябова. Второй этаж был низко, и не раз уже ученики спасались от немедленной расправы, прыгая из окон в сад.
2
— Не понимаю, что происходит, почему! — Ольга Матвеевна мелкими шажками бегала по учительской, лавируя между стульями. — Ведь почти взрослые люди, а они... — Мирное, доброе личико Ольги Матвеевны сморщилось, по щекам потекли слезы.
Просматривая журналы, проверяя тетради, учителя шуршали страницами, скрипели перьями и только вздыхали. То, что творилось в восьмом классе, где в основном собрались ребята на год-два старше обычных восьмиклассников, упустившие несколько школьных лет по разным военным причинам, было непостижимо учительскому разумению. Заводилами «веселых» происшествий были Игорь Мищенко и Алик Рябов, их охотно поддерживали мальчишки из класса и даже девочки — Лена Штукина и Сима Бецкая. Некоторые ребята, подобно Володе Сопенко, подчеркнуто держались в стороне, но таких было меньшинство. Остальные же стихийно и беззаботно присоединялись к затеям так называемой «компашки» — лишь бы повеселиться. Класс этот будоражил школу, разрушал все, создаваемое с таким трудом.
А трудности — они еще вот, под рукой, и за порог выходить не надо. И все-таки сколько уже сделано! Если вспомнить, с чего они здесь начинали, то покажется, что прошло не несколько месяцев, а несколько лет.
В начале августа войска 4-го Украинского фронта освободили город, и уже через несколько дней была создана комиссия по организации школ. В нее входили учителя, уцелевшие при немцах, и Кузьма Иванович, присланный из госпиталя после тяжелого ранения в распоряжение гороно. Вместе с представителями Советской власти осматривали они полуразрушенные, загаженные здания бывших школ. Разве можно было поверить, что первого сентября дети сядут за парты? Ни парт, ни книг, ни тетрадей. Ни учителей.
Но все оказалось не таким уж безнадежным. Да так и бывает: стоит вбить в доску гвоздь для доброго дела, как и помощники найдутся, и молотки рядом застучат.
По городу развесили объявления: начата запись детей в школу, занятия с первого сентября. А рядом — обращение к населению с просьбой помочь в восстановлении школ. Объявление и обращение на трех языках: русском, украинском, польском.
Обращение собрало много добровольцев. Родители делали школьные доски, скамейки, приносили из дому столы, стеклили окна, белили стены, мыли полы. Они хотели, чтоб их дети учились в настоящих школах, ведь при немцах были только начальные — «абетки», в которых занятия проводились по сокращенной программе.
Детей учили писать, читать, считать — и только. Зачем холопам, предназначенным для роли рабочей скотины, настоящее образование?
В августе во Дворце пионеров, особняке, принадлежавшем в годы войны старосте города и сразу же отданном Советской властью детям, состоялось собрание учителей.
Учителей было мало: многие погибли, многие еще воевали. В педвузах проводились досрочные выпуски, учителя приезжали из других областей. Все, все было сделано для того, чтоб вернуть детям детство — возможность учиться и нормально развиваться.
Все они тогда — и опытные учителя, и вот такие девчушки из институтов, как Ольга Матвеевна — работали дни и ночи. И открыли школы к первому сентября.
И не только отпраздновали начало учебного года, но в первую же зиму, хотя было и голодно и холодно, провели олимпиаду, несколько интернациональных вечеров. Это были крохи, но как много значили они тогда! На вечера дети приходили с родителями. Взрослые украшали зал вышитыми рушниками, цветами, с благоговением слушали, как их дети читают стихи, поют. Здесь, в западных районах Украины, только в 1939 году ставших советскими, школа была не просто школой, в которой обучают, — она приобщала население к большой социалистической культуре, к Советской власти.
Тем обиднее, что в школе, хотя бы и в одном классе, происходит такое, что даже многоопытные учителя растерялись. По классу гуляло затертое, но совсем не безобидное изречение: «Вшистку едно — война!» («Все равно — война!»), принесенное кем-то с барахолки, где оно было популярным. Война — значит, можно не учиться всерьез, это сейчас не главное, а «под шумок» делать что кому хочется. Вот и устраивалось время от времени нечто подобное сегодняшнему шествию с анархическим лозунгом, заимствованным из кинофильма «Пархоменко», который шел в кинотеатрах города.
— Да, подобралась компания, ничего не скажешь, — произнесла завуч Дора Сергеевна, не отрываясь от тетрадей.
Ольга Матвеевна не может остановиться, ревет, как девчонка.
— Оленька, возьмите себя в руки. — Дора Сергеевна отрывается от тетрадей, подходит к Ольге Матвеевне, вытирает ее лицо своим платком.
— Заберите от меня этого Пиню-ю-ю...— Ольга Матвеевна умоляюще смотрит на завуча. Ей, молодой учительнице, особенно доставалось. На уроки биологии, как «натуру», приносили мышей, лягушек, пауков, прятали их в самых неожиданных местах. Для Ольги Матвеевны как урок в восьмом — так и слезы. — Ведь это мой инвентарь, а они таскают по городу... Пропадет — где я достану другой скелет?
Учителя невесело смеются. Кто-то шутит:
— Нужно заказать рыцарские доспехи в складчину, для уроков в восьмом.
— Лучше всяких доспехов ваши мужественные учительские сердца. — Директор Кузьма Иванович выходит из своего кабинета, разговор становится общим.
Дора Сергеевна отложила ручку: какая уж тут проверка тетрадей! Сказала:
— Как не хватает нам школьной формы. Вот Лена Штукина одевается, как принцесса. Туфли на каблуках, ножки тонкие подламываются, жакет красный, юбка клетчатая. Шляпа с полями. Выглядывает из-под нее, как мартышка. Какое может быть в классе рабочее настроение? Ее я не могла убедить. Позвонила отцу, а он мне: «Вы учителя — вы и справляйтесь».
— Учится-то она неплохо, это и успокаивает родителя. А ведь Лена с компанией дружна, Мищенко и Рябова поддерживает, вот в чем беда, — сказал Кузьма Иванович. — Столько лет преподаю, а никак не возьму в толк, почему умные, авторитетные на работе люди бывают такими беспомощными в вопросах воспитания? Что это — пресловутый родительский инстинкт или равнодушие к тому, какого потомка оставляем после себя человечеству?
— Да все они такие еще дети, пыжатся, из себя выпрыгивают, чтоб казаться взрослее! С Леной-то все проще: мать умерла, отец постоянно занят, да и черствоват... Эту девочку бы в хорошие материнские руки, — прервала патетическую речь Кузьмы Ивановича Дора Сергеевна.
— К сожалению, никто из нас ей матери не заменил, рассуждать легче, — съехидничала высокая, худая, немного чопорная географичка.
— А как она может на меня смотреть, — вмешалась молчавшая до сих пор учительница младших классов, — когда я замазываю дырки на туфлях чернилами и ноги у меня в кляксах, не отмываются, а она в школу в чулках «паутинка» приходит и в лакировках, эта пигалица, которая еще ничего не сделала для людей!
Это была горькая, наболевшая тема. Некоторые мальчики носили кожаные куртки, каракулевые кубанки — шик моды; Лена Штукина щеголяла красивой обувью, тонкими чулками, нарядными шерстяными кофточками, длинными модными жакетами. Директор же школы Кузьма Иванович зимой ходил в своем прострелянном ватнике, который ему вернули после госпиталя, летом — в вытертой армейской форме. Чопорная географичка шелестела зимой, по морозу, тоненьким прорезиненным плащиком...
Иногда по талонам давали одежду, обувь, но каждый старался взять пальто, платье или ботинки для ребенка. Питались в столовой, где ежедневно одно и то же: перловый суп и каша-размазня. Учителя не очень от этого страдали, жили дружно, весело, помогали друг другу.
— Вопрос ясен. — Директор прошелся по кабинету, погладил по плечу притихшую Ольгу Матвеевну, которая притулилась к холодной кафельной печке. — Хоть и много у нас кочек, а год идет к концу, справились мы с ним, в основном, успешно, носы вешать нечего. Что касается восьмого класса, то без родителей нам этот воз не вытянуть. Надо собирать родительское собрание.
— Попробуй собери, народ-то все сверхзанятый, — буркнула Дора Сергеевна. — Опять придут родители тех детей, у которых и так все благополучно.
— Придут и остальные, это я беру на себя, — ответил директор.
3
Родители на собрание пришли.
Впереди восседала на учительском стуле, довольная, что захватила его, мать Игоря Мищенко. На плечах — чернобурка, на муфте — лисья морда и хвосты. В уголке, откинувшись на спинку парты, в какой-то надломленной позе, вся в черном, с болезненным печальным лицом — мать Хомякова, вдова погибшего генерала. Рядом — мама Симы Бецкой, одетая красиво, элегантно. Она пианистка, работала в филармонии. Сима тоже играла на пианино, выступала на вечерах, училась хорошо, и в общем-то претензий у учителей к ней не было, кроме одной: Сима дружила с Леной Штукиной и поддерживала все те коники, которые выкидывала «компания».
Были и отцы, много — военных. Из уважения к их мундирам и званиям в класс снесли стулья со всей школы. Пришел даже генерал с женой, веселой говорливой женщиной, которая командовала в родительском комитете школы.
Пришел и отец Лены Штукиной, сдержанно поздоровался, сел в стороне и от родителей, и от учителей. Его тонкое усталое лицо портили надменно приспущенные уголки губ.
Первым выступил Кузьма Иванович. Коротко обрисовал положение в школе. Как водится, сказал о хорошем, о том, что было сделано, потом перешел к восьмому классу. Называл фамилии, не утаил никаких происшествий, конфликтов. Родители ерзали, краснели, отцы мяли в пальцах папиросы, не решаясь закурить. Видимо, для большинства это было новостью. Правда, учителя ходили домой, вызывали родителей в школу, писали записки, но дела поглощали людей, на собственных детей времени не оставалось.
— Но, даже учитывая сложную обстановку, которая сложилась у нас, в Западной Украине, воспитание детей остается очень важным, ответственным делом, которым нельзя пренебрегать! — закончил свое выступление Кузьма Иванович.
Вначале родители, то ли по привычке, то ли действительно их торопили дела, поглядывали на часы. После выступления директора на часы глядеть перестали. Попросили несколько минут на перекур, сбили папиросами волнение, собрание продолжалось.
Поднялся отец Лены Штукиной.
— Лично у меня, — он подчеркнул «лично», — произошел небольшой конфликт с учителями и директором. Я считаю, что воспитанию дочери отдаю все возможное. Учится она хорошо, особых нарушений не было. Остаются какие-то мелочи, за которыми я не могу уследить. Как понимаете, в силу своей занятости, от этого никуда не уйдешь. Но то, чего не могу я, должны сделать учителя, проявить чуткость. Говорят, Лена крикливо одевается... Не знаю, может быть, в школу она уходит без меня... У Лены нет матери. Кто привьет ей вкус? В школе у вас женщины, но, извините, не вижу ни одной, кто бы мог это сделать...
Учителя сжались. Штукин как бы продолжал тот их разговор в учительской, но совсем с других позиций. А он замолчал, скользил взглядом по учителям. Дора Сергеевна невольно поджала ноги в залатанных туфлях. Это движение привлекло Штукина.
— Вот вы... В вашем платье, извините, не детей учить, а в цирке выступать. А вы говорите о крикливости моей Лены...
У Доры Сергеевны закружилась голова, она с ужасом подумала, что сейчас упадет в обморок, это с нею, после контузии во время эвакуации, когда они попали под бомбежку, бывает. Стоит чем-либо возмутиться, расстроиться, горячая волна застилает белый свет. Она закрыла на миг глаза, сосредоточила всю свою волю, чтоб отогнать эту волну. Хорошо даже, что он сам начал, ведь она тоже хотела говорить об этом, но не знала — как, будет ли удачный момент, чтоб сказать о наболевшем тактично, не обижая уважаемых в городе людей.
Это платье она получила по талону. Хотелось, конечно, что-нибудь попрочнее, попроще, более ноское, удобное для работы. Но пришлось выбирать из так называемых американских подарков. Американцы, не пережившие ни одной войны на своей территории, плохо представляли жизнь и потребности воюющего народа. Часто среди хороших вещей, которые действительно выручали, попадались и вот такие никчемные, смешные. Что ж, дареному коню в зубы не смотрят, пришлось взять то, что давали. Темно-фиолетовое переливающееся платье с узкими рукавами и буфами, отделанное блестящим шнуром по вороту, можно было переделать и приспособить «для выхода», но когда она сегодня перед собранием попробовала отпарить юбку, в которой ходила в школу, та разлезлась под утюгом. Пришлось срочно спороть шнур, ушить буфы и надевать платье. И вот ее хотят выставить посмешищем. Кто дал право на такую слепоту? Зато теперь она скажет все, не посмотрит на успокаивающий жест Кузьмы Ивановича.
Дора Сергеевна постояла молча в напряженной тишине. Волна отхлынула, теперь в обморок она не упадет. Пришло знакомое учительское хладнокровие, не раз выручавшее в сложных ситуациях.
— В этом вся и беда, — сказала Дора Сергеевна тихо, — в непонимании... Мы чувствуем у некоторых ребят пренебрежительное отношение к нашей трудной обстановке. В нашей стране умеют ценить людей, в самых тяжелых условиях государство стремится создать нормальные условия для жизни и работы. Те, кто получает литерные пайки, обеспечены лучше других. Мне неприятно говорить об этом вам, но я вынуждена — ради ваших, ради наших общих детей. Они не могут понять, что это делается ради ваших заслуг, а не ради них самих. Вокруг них невольно возникает ореол исключительности. Со следующего года вводится школьная форма. А пока я прошу родителей одевать детей, особенно девочек, скромнее. Для нас все одинаковы, и те, что в красивых платьях, и те, что в латаных штанах. Но если мы, взрослые, можем трезво оценить обстановку, то дети не умеют разобраться, считают себя привилегированными. Их отношение распространяется не только на других учеников, но и на учителей... А это платье, товарищ Штукин, я получила по талону. Если бы у меня был выбор, я бы его не надела, вкуса для этого у меня достаточно. Туфли с заплатами тоже не к лицу учительнице, но других нет. И я не вижу в этом трагедии. Мои коллеги — тоже... Это я говорю не для того, чтоб кого-то укорить или вызвать сочувствие. Пережили войну, справились, а с дырками на туфлях и подавно справимся. Год, другой — и все у нас будет. А вот если ребят не повернем в другое русло, наплачемся. И вы, и мы... Зачем, например, предоставлять свои персональные машины в распоряжение детей, школьников? Вот и ваш сын тоже иногда в школу и из школы на машине ездит. Знаете, с этаким шиком перед другими… К чему? — Дора Сергеевна посмотрела на генерала и его жену.
Генерал поднялся с таким видом, будто был нашкодившим учеником.
— Извините, я не знал. Это он, стервец, моего шофера уламывает, а тот и рад стараться. Обещаю — больше не будет!
Подняла руку мама Симы Бецкой:
— Прежде чем говорить о делах, я считаю, товарищ Штукин должен извиниться перед учителями. Его бестактность бросает тень на нас всех.
Штукин недовольно дернул плечом, но в классе стояла выжидательная тишина. В конце концов, почувствовав на себе взгляд генерала, он встал:
— Прошу меня извинить! Обидеть никого не хотел...
Все говорили об одном — какими мерами отвлечь ребят от хулиганства. Мама Алика Рябова пообещала изъять у Алика мотоцикл, заменить его шикарную хромовую курточку обычным пальто. Мама Симы Бецкой сказала, что охотно организует с ребятами что-нибудь музыкальное: то ли вечер, то ли кружок.
Директор школы предложил двух-трех учеников, не желающих исправляться и вышедших из школьного возраста, перевести в вечернюю школу, устроить на завод. Среди названных был Игорь Мищенко.
Мама Мищенко заклокотала. Не поднимаясь, заговорила, почти закричала:
— Почему — его? Игорек такой же ребенок, как и все! Я буду жаловаться!
— Можете жаловаться. О проделках вашего сына знает весь город. И закон не на вашей стороне: Игорю семнадцать, а он ученик восьмого класса.
Кто-то бросил реплику:
— Почему из-за одного-двух должен страдать весь класс, вся школа?..
Кузьма Иванович сказал, что нужно избрать новый классный комитет, спросил, кто хочет сам работать, не должно быть ничего формального: положение в классе можно сравнить с военной тревогой.
Мама Симы Бецкой снова подняла руку:
— Я могу, мне даже нужно. Чувствую, что Сима ускользает от меня.
— А папы, папы? — настаивал Кузьма Иванович.
Папы молчали, поглядывали с надеждой друг на друга.
— Может быть, я пригожусь? — вызвался наконец отец Володи Сопенко, отличника, которого считали гордостью школы.
Кузьма Иванович продолжал:
— Это не все. Нужно решить, кто будет классным руководителем восьмого. На тех же принципах добровольности...
Учителя молчали. Никто не решался сказать — буду я. И все же кто-то произнес эти слова:
— Буду я...
Их сказала новая учительница немецкого языка Регина Чеславовна. О ней знали немного, но это немногое было очень веским и уже само по себе вызывало уважение: Регина Чеславовна пережила Освенцим...
4
Регина Чеславовна шла в восьмой класс спокойно. Что эти подростки понимают, что они могут противопоставить ей, чья душа и тело прошли через муки, выпавшие на долю немногим даже в этой страшной войне? Ничем ее уже не испугаешь, ничем не удивишь. Шалят, куражатся и чувствуют себя героями. Да кто из подростков не пережил этого, особенно мальчишки? Правда, их детство что-то затянулось... Но боже мой, как она завидует им, здоровым, живущим, от имени тех, чья жизнь развеяна дымом и пеплом!..
Дым и пепел человеческий — символы фашизма, распростертого над землей. И горстка, совсем маленькая горстка, — ее сына... Но даже если бы не было этой единственной горстки, сотни тысяч других будут стучать в ее сердце, и этот стук, как и свою ненависть к поработителям, убийцам, насильникам, как любовь и огромное уважение к человеческой жизни, она передаст другим, в этом теперь смысл ее жизни. Передаст живым, здоровым, кому не угрожает ежеминутно смерть. Не могут же вырасти они подлецами, это было бы самым великим кощунством на земле после всего пережитого, пускай пережитого другими...
Регина Чеславовна поправила воротник блузки, галстук, прическу. Жест машинальный, не забытый, не убитый ни временем, ни концлагерем, где убивалось все человеческое. Значит, жив в ней учитель, педагог, жив!
Регина Чеславовна улыбнулась и так, с улыбкой, вошла в класс. Для учеников это было неожиданностью: и новая учительница и ее улыбка. В этот класс учителя с улыбками не входили...
Встали. Сидеть остался один, в кубанке и алой кожаной куртке, хотя в классе было тепло. Сидел боком, небрежно положив ноги на сиденье парты через проход. Лицо у него будто подмалеванное: румяные щеки, толстые сочные губы, широкие черные брови и синие глаза, удивительно маленькие на крупном, сытом лице.
— Здравствуйте!— сказала Регина Чеславовна.
Класс молчал.
— Садитесь!
— Стоять! — небрежно бросил сидящий, и все продолжали стоять.
Класс испытывал новую учительницу.
— В таком случае будем вести урок стоя. — Регина Чеславовна положила журнал на стол, всем своим видом показывая, что она пришла сюда надолго и не уйдет, пока не сделает своего дела. — Преподавать я буду немецкий...
Договорить ей не дали:
— Долой нимкеню!
— Фрицам капут!
— Катись колбаской, немецкий учить не будем!
— Кроме того, — будто не слыша, продолжала Регина Чеславовна, — теперь я ваш классный руководитель. Зовут меня Регина...
— Ха-ха-ха! Что? Дубина?
— Регина. Регина Чеславовна.
Ее это не злило. Немного смешило. Немного было досадно, что именно так проходит первый урок, о котором она всего несколько месяцев назад, в концлагере, даже мечтать не смела. Она перешла на немецкий:
— Ферштеен зи дейч одер нихт? (Понимаете ли вы по-немецки или нет?)
— Ясно — нихт... — протянул сидящий.
Стоять за партами неудобно, ученики полулежали, держась за крышки, полусогнув колени, опираясь на спинки парт. В классе было несколько девочек. Девочки стояли сзади, прятались за спины мальчишек, стараясь не встречаться с глазами учительницы.
— Ладно, садитесь! — махнул рукой сидящий.
Сели.
Было не шумно, но как-то расхлябанно. Позы, мины — все выражало снисходительное презрение к учителю. Были и другие лица, но выступало это, слитое воедино. И уж конечно, молодые учителя его не выдерживали, нервничали и не могли нормально вести урок. Но Регина Чеславовна видела сейчас другое. Они — живые, нет в их глазах обреченности. Когда-то ей казалось, что она уже не увидит таких глаз.
И вот — сколько их перед нею... Живые, юные — значит, нет ничего невозможного. Только смерть категорично безнадежна.
Волна нежности и веры в хорошее затопила ее, приподняла над досадными мелочами, и она, подойдя вплотную к партам, начала, совсем не предполагая раньше делать этого, рассказывать о себе. Путала русские слова с украинскими и польскими, как бывало, когда ее захватывала такая приподнятость, такое волнение. Кто-то ее передразнил, кто-то рассмеялся. Но она не слышала. Рассказывала, как, закончив университет «за Польщи», не могла получить работу, потому что числилась в списках неблагонадежных, как она встречала в тридцать девятом году Советскую власть, как ждали этого освобождения люди, угнетенные и нищие, как она вступила в Коммунистическую партию, учила в этой же школе детей. Но пришли немцы и сразу забрали ее, ничего она не успела сделать — только страдала за свою Отчизну. А в этой войне этого было мало, нужно было бороться. Она жива... Но остался сын... навеки... Такой же молодой, как они. И таких, как они, там погибло много, так много, что люди еще долго будут ходить по колено в крови и пепле, что остается в печах от людей...
В классе тихо. Даже тот, в алой куртке, незаметно убрал ноги с парты, а тот, что сзади него — тоже в куртке, желтой, на «молнии», стрижка «ершиком», лицо бледное, совсем светлые, слегка выпуклые глаза, веснушки на коротком, бульбочкой носу, тонкая ребячья шея и упрямый пренебрежительный рот, — тихим движением снял с его головы кубанку, поднялся. И когда разжал упрямые губы, лицо его стало детским, даже добрым:
— Мы будем вас звать Евгенией. Евгения Славовна — это по-нашему. Зачем нам Регина-царица?
— Согласна. Действительно, на царицу я мало похожа. Но... скажите, пожалуйста, эту фразу по-немецки.
Мальчик покраснел и громко шепнул через класс:
— Эй, Сопа, шпрехни!
Поднялся другой, и Регина Чеславовна удивилась, что не заметила его сразу. Совершенно свободно он заговорил по-немецки, и Регина Чеславовна, с удовольствием глядя в его умные темные глаза, кивала головой и приговаривала вполголоса, тоже по своей прежней учительской привычке:
— Гут... гут... зер гут... Очень хорошо... Немен зи пляц... Садитесь. Данке... Спасибо...
Но прежде чем сесть, Сопенко добавил скороговоркой по-немецки:
— Извините за такой прием. Ребята у нас неплохие, за некоторым исключением. Думаю, больше такого не будет.
— Переведи, пожалуйста, — попросила Регина Чеславовна.
Сопенко, как-то непонятно глянув на нее, будто предупреждая, что делать этого не следует, все-таки перевел, хотя тот, в алой куртке, — Регина Чеславовна догадывалась: это и есть Игорь Мищенко — презрительно морщил лоб. Значит, не все под его дудку пляшут, да такого и не могло быть.
Прощаясь, она сказала:
— Данке, киндер! (Спасибо, дети!)
Игорь засмеялся, хотя этим клохчущим утробным звукам больше подходило бы слово «заржал». Сзади его дернул светлолицый:
— Кончай!
— Думаешь, Али́, она у нас задержится?
«Значит, этот светлолицый — Алик Рябов...»
— Думаю, Гарри, задержится...
— Ну, вшистку едно — во́йна! — равнодушно отозвался Игорь.
— Это лозунг тех, кто, пользуясь тяжелым положением и сложной обстановкой, спешит нагреть руки. Вам, Мищенко, понятен истинный смысл этого выражения? — не дожидаясь ответа, Регина Чеславовна вышла из класса.
5
То, что первое знакомство с классом прошло удачно, не означало еще полной победы и не исключало неприятностей и неожиданностей. Регина Чеславовна знала это.
И очень скоро восьмой класс снова показал свой норов. Кто-то закрыл Ольгу Матвеевну в туалете. Она промыкалась там весь урок, пока не началась перемена и ее не освободили девочки.
Поскольку этот урок Ольга Матвеевна должна была проводить в восьмом, никто не сомневался, что это опять проделки компании. В классе собралась целая делегация учителей во главе с Кузьмой Ивановичем, но Регина Чеславовна сказала, что разберется сама.
Игоря Мищенко перевели в вечернюю школу. Но днем, во время уроков, он приходил под окна школы, горланил двусмысленные песенки, бросал комки снега и грязи. А после уроков восьмиклассники окружали Игоря, сидели с ним в сквере. Работать на заводе Мищенко, как видно, не собирался. Мама была целиком на стороне своего сыночка. Это поняла Регина Чеславовна, побывав у Игоря дома. В семье Мищенко ее встретила непробиваемая стена сверхсытости, когда люди понимают, чувствуют только одно — свое благополучие, и живут так, чтобы это благополучие приумножалось. Все остальное их не интересует, вернее, интересует в той мере, в какой способствует или не способствует их процветанию.
Квартира Мищенко — как трехслойный пирог. На окнах занавески трех сортов: шелковые розовые «задергушки» с оборочками внизу и сверху, длинные тюлевые занавеси с кистями и плотные, плюшевые, ровными полосками по бокам. На столе поверх тяжелой бархатной скатерти — шелковая, на ней вышитая салфетка; диван покрыт ковром, на ковре — узкие гобелены, на них чучело рыжей лисицы. Поверх ковра на полу полосатые дорожки, буфет, сверкающий фарфором и хрусталем, стены сплошь увешаны картинами в блестящих рамах — квадратными, круглыми, продолговатыми, узкими и широкими.
В комнате Игоря та же безвкусная роскошь. Вместо ковра на полу медвежья шкура. И только несколько чернильных пятен на письменном столе да небрежно брошенных тетрадок и учебников напоминало о том, что это комната школьника. Вся эта вычурная мебель, все эти картины и вещи были явно из какого-то иного мира, собранные здесь случайно. Их выставляли напоказ, ими гордились.
Первым побуждением Регины Чеславовны было повернуться и уйти — настолько чужд, враждебен ей был весь этот быт.
Ничтожные людишки! Вещи — это пустота. Сколько видела она вещей... Горы! Платья, обувь, чемоданы... Вещи людей, превращенных в пепел...
— Зачем все это? — не сдержалась она, показала на кровать Игоря, с занавесочками и бантами, на загроможденную безделушками этажерку.
— Что? — не поняла мать Игоря, улыбающаяся женщина в длинном переливающемся халате с кистями на поясе. Даже неприятности, связанные с сыном, не могли разрушить ее благоденствия.
— Зачем все это в комнате мальчика?
— Вам не нравится? Уютно, красиво... Игорек доволен. Если есть возможность, почему не создать ребенку нужных удобств?
Регина Чеславовна не могла подобрать слов для этой женщины, та стояла за стеной, куда не доходили обычные понятия. Такой же стеной заслонили родители от всех болей и нужд и своего сына, не достучаться в его глухое сердце.
Мать Игоря была не согласна с переводом сына в другую школу. Переубедить эту женщину Регина Чеславовна не смогла. На прощание все же посоветовала не считать Игоря ребенком и обязательно устроить на завод, в крепкий рабочий коллектив: поможет — если еще поможет! — только это.
— Ради чего он должен работать? Ради куска хлеба? Ну уж нет, в хлебе мы не нуждаемся! И на работу загнать Игоря вам не удастся! Он будет учиться и еще всем вам утрет нос!..
И вот Игоря Мищенко в классе нет, зато снова есть чрезвычайное происшествие.
Регина Чеславовна вошла в класс. Была перемена. Те, кто сидели за партами, встали, стоящие у окна повернулись к ней.
— Евгения Славовна, почему не было биологии? — спросил кто-то.
Регина Чеславовна внимательно оглядела ребят. Похоже, в классе не знают, что произошло. Конечно, могут и не знать. Сделал кто-то один. Если бы знали все, Ольга Матвеевна не проплакала бы в туалете целый урок.
— Прошу вас, сядьте на места… Кто это сделал? — спросила, глядя в тот угол, где сидел Рябов. Не хотела, а все же смотрела именно туда, считала, что больше некому.
В глазах учеников любопытство и вопрос: «Кто? Что? Какая еще сенсация?»
— Это не шутка и не озорство. Это носит другое название — подлость... Допрашивать не буду. Честно говоря, не уверена, что виновник сознается. Ведь подлость идет рука об руку с трусостью...
Очень тихо. В глазах уже не простое любопытство, а тревога.
Лицо Лени Мартыненко бледнеет, потом начинает краснеть, от шеи, пятнами. Он встает и, хотя лицо его пылает, смотрит на учительницу открытым и, как ей кажется, честным взглядом.
— Я! — Раскаяния в голосе нет
— Почему?
— Потому что она... — Он колеблется, но все же произносит: — Дура, и я ее не люблю.
— Объясни, пожалуйста.
— Разве это учительница? Мышей боится, лягушек боится, глаза вечно на мокром месте!
Регина Чеславовна еще не успела со всеми познакомиться ближе. В этом ученике ничего примечательного, только вот одежда необычная — пригнанная по росту солдатская форма. Да мало ли кто как одевается — значит, другой одежды нет. Смотрит всегда хмуровато, немного набычившись. Как будто дружит с Рябовым и в то же время не во всем подчиняется ему, сам по себе.
— Сколько тебе лет?
— Шестнадцать...
— Значит, тебе доступно понимание, например, таких вещей: молодая учительница, еще не закончившая институт переводится на заочное отделение и добровольно, так как учителей не хватает, по призыву комсомола, едет в Западную Украину, где трудностей достаточно и помимо плохих учеников. Уехала из родного города, от мамы, в себе не уверена, наверное, даже голодает... Приходит в класс с трепетом, с желанием быть хорошей учительницей, а тут... каким свинством вы все-таки занимаетесь! — Это невольное восклицание было адресовано всему классу, который начинал понимать, что Мартыненко обидел Ольгу Матвеевну. Только-то и всего! Обижать Ольгу Матвеевну стало игрой, забавой — будто девчонку дразнить. Но что там натворил Леня? Почему так «выступает» Евгения Славовна?
— Сегодня, Мартыненко, ты унизил человеческое достоинство, просто так, чтоб позабавиться. Ольга Матвеевна хочет уйти из школы, уехать из города, но и в любой другой школе ей теперь трудно поверить в себя. Не знаю, изменит ли это ее состояние, но хотя бы для того, чтоб уважать себя, прежде всего ты должен перед нею извиниться...
Мартыненко отвел глаза и опустил голову. Поза весьма красноречивая — извиняться не будет.
— А вы знаете, Евгения Славовна, кто такой Мартыненко? — спросил Рябов. — Он — сын полка, у него медаль.
— До сих пор о сыне полка у меня было другое представление.
— Леня, покажь! — шепнул кто-то на весь класс.
Он мотнул головой — нет.
— Пусть видит!
Рябов перегнулся с задней парты, вытащил полевую сумку, в которой Мартыненко носил учебники, достал из маленького отделения что-то завернутое в лощеную бумагу.
— Вот! — Рябов держал медаль двумя пальцами, поворачивая то к Регине Чеславовне, то к классу.
«За отвагу», — прочитала Регина Чеславовна.
— За что ты получил медаль, Леня? — Что-то в ее голосе дрогнуло. Какая война!.. Даже дети втянуты в схватку. И ее опять захлестнула боль за всех и за одного, единственного, — сына...
Мартыненко молчал. Выкрикнул Рябов:
— Разве не видите — за что? За отвагу! Он мост подорвал! Сам!
— Значит, мост легче подорвать, чем осознать свою вину перед человеком, которого обидел?
Молчание. Рябов осторожно положил медаль перед Мартыненко на парту.
— Иди, Мартыненко, — тихо сказала Регина Чеславовна.
— Куда? — не понял он.
— Сейчас мой урок. Я не хочу, чтоб ты на нем присутствовал. Это мое право.
Мартыненко зажал медаль в кулаке, нахлобучил шапку, подхватил сумку и, гремя сапогами, выбежал из класса.
6
Ольга Матвеевна ушла из учительской, не слушая уговоров и увещеваний, совсем разбитая, растерянная. Кузьма Иванович пытался ее проводить, но она, еле сдерживая слезы, попросила:
— Если вы хоть чуточку добрый, не ходите...
Она бродила по улицам, не замечая ни холода, ни сырости.
Все-таки, что бы ни вытворяли эти великовозрастные «ученички», никого они не мучают так, как ее. Одни куражатся, а другие молчат, наблюдают, вроде этого умника Сопенко. Для нее они все на одно лицо, никто ей не помог в классе, ни одних добрых, сочувствующих глаз она не видела. Не преподавание, а сражение. Уйти, уехать... А куда? Была счастлива, что помогает маме. Отсылает домой все, что может и не может: сама как-нибудь, лишь бы мама знала, что не ошиблась в своей Оле. А она оказалась слюнтяйкой, девчонкой перед этим разнузданным классом. Кто ее закрыл в туалете, она не знала. Ревела от унижения и безвыходности.
Стемнело. Огней на улице мало — у кинотеатра да вокруг ратуши. Тротуары освещены отблесками магазинных витрин, окон жилых домов.
Ольга Матвеевна жила в пристройке, в школьном дворе, с учительницей младших классов. Не хотелось расспросов и сочувствия, и Ольга Матвеевна бродила вокруг школы, пока не погасли последние огни. Во флигельке тоже выключили верхний свет, осталось слабое мерцание от тусклой настольной лампочки. Значит, ее соседка легла, оставив этот огонек: они боялись крыс, расплодившихся в городе во время оккупации.
Когда она подошла к калитке, откуда-то из-за деревьев, плотно окружающих школу, так что даже в солнечную жаркую погоду там было темновато и прохладно, выскользнула мужская фигура и загородила проход. Ну вот, теперь ее еще прибьют или придумают похуже гадость. Но кричать она не будет, больше они не увидят ее страха и беспомощности. И она решительно шагнула к калитке.
Фигура отшатнулась, проход был свободен, и Ольга Матвеевна прошла во двор, ожидая удара в спину. Но сзади торопливый просящий голос:
— Ольга Матвеевна! Подождите!
— Леня? Леня Мартыненко? — не верила Ольга Матвеевна, чувствуя великое облегчение.
— А вы не испугались, — тоже удивленно сказал Леня.
— Почему я должна тебя бояться?
— Не меня, конечно, а вообще вы же всего боитесь, всяких пустяков... Мышей, лягушек...
У Ольги Матвеевны запылали уши.
— Господи, да не лягушек я боюсь, а вас, бесчеловечных! — отчаянно вырвалось у нее. Тут же она пожалела об этом. И когда она научится сдерживаться, не показывать своих чувств ученикам? А собственно, почему не показывать? Ведь так естественно, что она испугалась тогда лягушки. Любой бы испугался на ее месте — от неожиданности.
Ольга Матвеевна спросила официальным, «учительским», как она представляла, тоном:
— Так что тебе надо, Мартыненко?
— Это я закрыл вас в туалете...
Обида с прежней силой придавила Ольгу Матвеевну.
— Иди, Мартыненко, мне нечего тебе сказать.
— Ольга Матвеевна! — заторопился Леня. — Я не потому пришел, что боюсь кого-то или чего-то... Вы ходили по городу, думали, плакали… Я видел. Я тоже ходил, тоже думал... Мне стыдно. Евгения Славовна права: это подлость. А я воевал. И у меня есть медаль. Какие люди были рядом!.. Если бы они узнали... Стыдно!
Леня с силой хлопнул полевой сумкой по забору, и Ольга Матвеевна подумала, что он, как и она, замерз и проголодался. Видно, еще и дома не был.
— Ладно, Леня, иди. Мне тяжело не только из-за этого случая. Наверное, не могу я быть учительницей, не тот характер...
— А вы не отступайте, Ольга Матвеевна, не уходите из школы. Научитесь еще!
— Ты так считаешь?
— Конечно! Самое последнее дело — отступать. Вы же теперь как обстрелянный боец, вам теперь должно быть все не страшно.
— Хорошо, Леня, я ведь еще не решила, я еще подумаю...
На следующий день, войдя в класс, Регина Чеславовна сразу потянулась взглядом к парте, где сидел Мартыненко, и встретилась с его глазами. Расспрашивать ни о чем не стала: раз человек так смотрит, значит, вопрос для его совести решен. Ольга Матвеевна пришла сегодня в школу тоже какая-то новая, повеселевшая. И ничего не говорила о том, что уйдет, на уроки пошла бодрая, даже Пиню вытащила из директорского кабинета и отнесла в биологический.
7
К уроку биологии готовился новый «аттракцион»: фанерное сиденье стула, которое по мере надобности вынималось, сняли, по краям насыпали толченого мелу, сиденье осторожно положили на спички. Ольга Матвеевна сядет — спички сломаются, фанера выстрелит мелом.
Работал, в основном, Рябов, ему охотно помогал Витя Хомяков. Девочки, как обычно, в затее участия не принимали, держались отдельной республикой «наблюдателей». Ребята толпились вокруг, давали советы, посмеивались, предвкушая очередное зрелище.
Интерес к Ольге Матвеевне в связи с загадочным поступком Мартыненко возрос.
Когда все было готово, Леня подошел к Рябову:
— А теперь садись.
Рябов непонимающе уставился на него.
— Проверь, вдруг не сработает!
Мартыненко был крепче, сильнее Алика, хотя и ниже ростом. Он прижал Рябова к стулу. Рябов перегибался, у него подламывались коленки — вот-вот ляпнется на сиденье. Руками он изо всех сил упирался в спинку стула.
— Брось шуточки, Мартышка! — пропищал, видимо от неудобной позы, Рябов.
Мартыненко рванул его за руки, и Рябов плюхнулся на стул. Хлопок! — мел щедро опылил щегольские галифе Рябова. Зачихали сгрудившиеся вокруг ученики, засмеялись. Но никто не вмешивался. Происходило невероятное: ссорилась компашка.
— Я тебя предупреждал — Мартышкой не называть. В другой раз в нос получишь. — Леня за плечи удерживал Рябова на стуле. — Это раз. И кончай свои штучки с Ольгой Матвеевной. Это два.
— Влюбился, что ли? — Рябов неестественно захохотал.
— Дурак! — спокойно сказал Леня и отпустил его.
Когда в класс вошла Ольга Матвеевна, было так непривычно тихо и серьезно, что она даже растерялась и не решилась сесть на тщательно вытертый дежурными стул.
8
Только школой, только учениками жила Регина Чеславовна. И свой трудный класс начинала любить, верила, что все наладится, образуется. Не считала и Рябова чудовищем. Мищенко все еще дергает его за ниточки, как куклу, и направляет куда хочет.
Свой класс любила, наверное, именно потому, что он трудный, требует много душевных сил, а они не растрачены, скопились за годы отчаяния, ожидания и надежды. И еще потому, что в этом классе учился Володя Сопенко, чем-то неуловимо напоминающий сына. Сейчас сын был бы ненамного старше Володи. Володя притягивал, бередя душу, потому что был таким и не таким, каким хотела бы видеть сына Регина Чеславовна.
Учился Володя блестяще — и не только по программе. Сам искал новое, трудное. Помимо немецкого языка, самостоятельно взялся за английский.
Учителя привыкли, что Сопенко — это пятерки, блестящие ответы, которые слушать интересно не только ученикам, но и учителям.
При немцах большая библиотека Регины Чеславовны пропала. Для Сопенко она доставала книги у знакомых, выпрашивала в библиотеке те, что не давались на дом.
В классе Володю уважали и никогда не задирали. Школьные дела его не занимали. Он был выше интересов, которыми жил класс. Но именно это тревожило Регину Чеславовну. Неужели у Володи холодное сердце? Нет, нет, не может быть... Ведь написал он стихи для классной газеты... Все, за что ни брался, у него получалось. И Рябова тогда не пришлось уговаривать, хотя директор предупреждал, что газета будет только в том случае, если она умеет стоять на коленях и Рябов «снизойдет» — кроме него, никто не умел в классе рисовать. На коленях перед Рябовым стоять не пришлось. Володя пошептался с Аликом, они остались после уроков и сделали отличную газету. Но газета — пустяк, важно изменить обстановку в классе, и Регина Чеславовна надеялась, что именно Володя поможет ей. Но он не вмешивался. Смотрел на проделки ребят со стороны, снисходительно, как на баловство детей. И горячая привязанность и нежность к нему в душе Регины Чеславовны сменилась каким-то другим, сложным чувством.
Однажды они задержались после уроков, рассматривали английские и немецкие книги, которые достала Регина Чеславовна. Потом вместе шли по улице. Володя в узком длинном пальто — наверное, отцовском — казался совсем взрослым, Регина Чеславовна была в тонком плаще, но под ним приятно согревал тело ватник, подаренный ей при освобождении из лагеря советским солдатом.
Володя говорил вдохновенно; он только что прочитал книгу о Гейне, выучил несколько его стихотворений на немецком языке.
— Хотите, прочитаю? — И, не дожидаясь ответа, начал декламировать, передавая голосом все нюансы, как будто стихи были русские. И Регина Чеславовна снова поддалась его обаянию.
— Это прекрасно, Володя. И стихи Гейне, и то, что ты их так чувствуешь... Но... Я тебя давно хотела спросить... Почему ты равнодушен к жизни класса, не реагируешь на то, что там происходит?
— Если я буду «реагировать», что-нибудь изменится?
— Думаю — да. Ведь тебя уважают, считаются с тобой. Подумай об учителях, о других ребятах. Компания ведь и тебе мешает, лишая полноценных уроков...
— Ну, я уже все это перерос. Уроки для меня — только ориентир... А Рябов не такой уж плохой парень, без Мищенко. С Игорем долго возились, надо было сразу из школы гнать...
— Куда же его было гнать? В рабство продать, что ли?
— Извините, Регина Чеславовна, это дело учителей. Мне некогда и не хочется этим заниматься. Тем более, что вы мне такие чудесные книги достали. Спасибо!.. Можно, я пойду?
— Да, да, иди, Володя! — машинально ответила Регина Чеславовна.
Вот и не получилось разговора. Володя Сопенко слишком занят собой, подготовкой себя для блистательного будущего. Нет, ее сын, наверное, был бы другим...
9
Через город проходили войска — части победившей армии возвращались на Родину. День и ночь по брусчатке грохотали орудия, дребезжали повозки, шли и ехали солдаты — загорелее, пропыленные, приманивали глаза школьников орденами и медалями.
В саду, возле школы, бойцы останавливались на отдых. Школьники встречали их цветами. Ходили за цветами в поле, обрывали все цветущее в палисадниках и садах, в оправдание говорили людям:
— Это солдатам!
Люди не возражали: цветы — солдатам...
Трудно было вести уроки: добрая половина учеников крутилась между солдатами, носила им холодную воду, бегала за папиросами...
Школьный год завершал счет трудным дням, вместе с ветками цветущих каштанов во все окна стучались долгожданные школьные каникулы.
Экзамены прошли удачно.
Перед каникулами для старшеклассников устроили вечер. Вместе с ребятами пришли родители, нарядные, с цветами. Из воинской части прислали солдата-баяниста. Девочки окружили его, к ним присоединились мальчики, учителя, стали петь. Одна за другой звучали военные песни — о разлуках, о верных друзьях, которые выручают в бою, не жалея жизни, о любимых, умеющих ждать, о соловьях, мешающих спать солдатам. Других песен еще не было: война только закончилась. Потом играли в «ручеек», танцевали под баян.
Кузьма Иванович захлопал в ладоши, попросил всех сесть. Принесли стол, покрытый красным полотнищем, поставили цветы. Началась официальная часть.
— Этот год был трудный, — сказал директор, — всякое пришлось пережить. За лето вы отдохнете, наберетесь сил. Мы, учителя, надеемся, что в следующем учебном году жить будем дружнее, умнее, содержательнее...
— А правда, что девочки будут учиться отдельно? — перебил его Алик Рябов.
— Возможно.
— У-у-у... — загудели недовольно.
Кузьма Иванович остановил шум движением руки — об этом потом.
— Почтим память тех, кто погиб за Родину, за нас! — сказал он.
Все встали. Мама Симы Бецкой подошла к роялю, заиграла «Реквием» Моцарта. У многих на глазах появились слезы.
«Как еще все близко, как еще все больно... — думала Регина Чеславовна. — Но неужели придет время, когда эта боль забудется?» Она даже содрогнулась... Моцарт писал «Реквием» по заказу одного человека. Мог ли он думать, что его «Реквием» будет звучать над землей в память о миллионах?
После вечера ребята, теперь уже девятиклассники, хотели проводить ее, но Регина Чеславовна отказалась. Вместе погуляли по центральной улице, в переулок она свернула одна.
Шла медленно, вся еще под впечатлением душевной близости с ребятами. Они с мужем жили в тупичке, недалеко от центра, но когда свернешь с главной улицы, кажется, что сразу попадаешь на окраину: ни мостовой, ни тротуаров, ни света — маленькие домики за глухими заборами.
То, что они с мужем нашли друг друга, было чудом. Потерялись в первые дни войны. Он ушел в военкомат узнать, что и как, и не вернулся, отступил с воинской частью. Она долго пряталась с сыном по знакомым, по подвалам и чердакам, пока не выдала их какая-то сволочь...
В конце переулка был нежилой участок — разгороженный сад и груда кирпичей от разрушенного дома. Проходить мимо этого участка в темноте неприятно. На углу зияла чернотой пустая трансформаторная будка, она тоже не вдохновляла на одинокие ночные прогулки. Когда не встречал муж, Регина Чеславовна бежала по переулку, оступаясь в ямы. Муж так и остался военным, часто ездил в командировки.
Боялась за него: страшно погибнуть от бандитского удара из-за угла именно теперь. И в то же время знала, что единственный путь — борьба, поэтому не удерживала мужа и сама не уходила от трудностей.
А положение в области, несмотря на то что закончилась война и трудности, казалось, должны были отступить сами собой, было очень тяжелым. По центральной улице, куда выходили окна школы, часто двигались траурные процессии. На венках ленты с надписью: «Погибшему от бандитских рук украинских националистов...» Венки обычно делали в школе. Жестокая борьба с бандеровцами продолжалась на всей территории Западной Украины. В труднейших условиях советские, партийные работники, военные налаживали экономическую и культурную жизнь области. Вот и ее муж...
Но что это? Там, в глубине, загораживая проход, стоит какая-то компания. Что они здесь делают? Молча стоят, ждут кого-то. Может, ее?
Узнала коренастую фигуру Мищенко. Папироска слабо освещала его полные губы, на голове — кубанка. Интересно, как он выглядит без кубанки?
— Кого ждете? — миролюбиво спросила Регина Чеславовна.
— Вас, — ответил Мищенко и выплюнул папиросу.
Остальные молчали, отворачивались, прятали лица. Какие-то другие, не школьные его товарищи.
— Зачем?
— Убить хотим... — Голос насмешлив, это обычная его манера. Но и враждебен. Он, конечно, способен не только бахвалиться.
— Ну что ж, хорошее дело — учительницу убить. Фашисты тоже с этого начинали: убивали коммунистов, потом учителей... — ответила ему в тон.
Молчание. Пошла прямо на них.
Игорь стоял на месте, другие — кто, она не знала — отступили к забору. Остановилась.
— Мальчик, ты забыл, что за моей спиной Освенцим...
Глава вторая. Компашка
1
— За речкой, за рощей... — Клара начинала высоким тонким голосом.
Густым, низким подхватывала Ника, а потом — все, кто как умел, в лад и не в лад, но дружно, задорно. Озеро далеко, без песни не доберешься, а купаться всем хочется.
Клара любила запевать, любила это состояние приподнятости, когда поешь, любила, как запевала, идти впереди, рядом с вожатой. Песен она знала много, пела охотно, вытягивала всех, когда песня сникала и переходила в невнятное бормотание, увлекалась, задирала голову, втыкаясь носом прямо в солнце, зажмуривая глаза, чтоб, не видя его, ощущать его горячую ласку.
Тонкий голос Клары опирался на голос Ники и, хотя был ярче и звонче, терялся и дрожал, когда Ника замолкала. Иногда они пели только вдвоем, совсем не походные песни. Песен этих почти никто не знал, хотя это были очень хорошие песни. Иногда их пели родители Клары. У Клариного отца приятный тенор, у мамы — такой же высокий, тонкий, немного резковатый, как у Клары, голос, для дуэта они не очень подходили, но все же как-то прилаживались друг к другу, пели хорошо, задушевно; видно было, что все, о чем они поют значительно и дорого для них.
Как-то Клара начала напевать одну из этих песен, Ника подхватила. Почему-то и Ника их знала.
Расшумелся ковыль, голубая трава,
голубая трава, бирюза,
Ой, геройская быль, не забыта, жива,
хоть давно отгремела гроза...
Или вот эта:
Маруся Бондаренко лежит в степи глухой
В походной портупее и шапке боевой...
А про маленькую девушку в солдатских сапогах выучили все, и когда Клара запевала, подхватывал весь отряд:
И рядом с нами в кожаной тужурке,
В больших изодранных солдатских сапогах
Шагала гордо женская фигурка,
Шагала девушка с винтовкою в руках...
Эта девушка была такого же маленького роста, как Клара, она погибла, защищая знамя, а кто-то вот сложил про нее песню.
Хотя и Клара, и Ника, и другие девочки в их отряде вышли из пионерского возраста — все они перешли в девятый класс, — им было очень хорошо в лагере. Ведь из-за войны ездить в пионерские лагеря не пришлось.
Лагерь занимал несколько деревянных дач в центре курортного городка, расположенного неподалеку от областного центра. Когда-то здесь жила польская буржуазия, пила прославленную воду «нафтусю» и «юзю», потом лечили свои печени и почки немецкие офицеры. Сейчас большинство дач пустовало, курортные сооружения разрушены, запущенный парк переходил в лес, густо поросший орешником и ежевикой.
Пионеры «паслись» в лесу, идя на озеро и обратно, набирали мягких, еще молочных орешков, потом перебрасывались ими с мальчишками, которые жили в соседней даче.
Озеро тоже было запущено: купальни разбиты, доски на искусственных деревянных пляжах, разбросанных по всему озеру, подгнили; на глубоком месте стояла вышка для прыжков, но очень высокая, ребятня прыгала с ее нижних этажей.
Девочки в комнате были из разных районов области. Клара и Ника — из города. Но обе они в город приехали недавно и познакомились только в лагере. Были они очень разные, и не только характерами, но и внешностью.
Маленькая, беленькая, подвижная Клара — все переливы настроения на ее круглом курносом личике. Как бы она ни печалилась, слегка заостренный ее носик не поникал, торчал задорно вверх, смеялись веснушки и поднимались удивленно и радостно тонкие круглые бровки, ожидая от окружающего только хорошего. Из круглых глаз, рыже-зеленых, с короткими загнутыми ресничками, одинаково легко выкатывались и слезы и смех. Клару редко звали по имени — чижик, коза, стрекоза, пуцвиринок (воробышек).
Ника — высокая, широкоплечая, с крупными прямыми чертами лица. Смуглое темноватое лицо Ники казалось бы угрюмым, если бы не глаза: светлые, всегда внимательные, «говорящие» — называла их мама. Да еще родинка над верхней губой, сбоку. Ходила Ника крупно, размашисто, движения ее были резковаты, суждения решительны и категоричны. Она была всегда сдержанной, холодной и этим отпугивала подружек. Но Клара прилепилась к Нике, она будто не замечала ни резкости, ни холодности.
У Клары была очень удобная способность обходить то, что было сложнее ее понимания. Когда Ника замыкалась и как-то непонятно печалилась, Клара не расспрашивала — что да почему. Просто тормошила, тянула в игру, бывала даже назойливой.
Ника не сердилась. С Кларой они ладили.
2
Они лежали рядышком на теплых досках, не принимая участия в ребячьей суете. Не так часто выдавались чистые солнечные дни, вечно у гор бурлили и ссорились тучи, толкаясь о вершины и не умея через них перескочить. Эти скандалы кончались громом и слезами, и почти ежедневно городок поливался дождем. Все было насыщено влагой, солнце не справлялось с нею, даже доски слегка парили.
— Как в бане, — сказала Ника, подставляя солнцу свое и без загара смуглое лицо. Сколько бы она ни жарилась, тело ее только смуглело да все больше золотился пушок на руках и ногах.
Клара прикрывалась косынкой: она сразу вся наливалась розовым цветом, как будто не кожа краснела, а выступал он изнутри.
— Вы надолго в Западную приехали? — спросила Клара. Хоть и были они все время вместе, поговорить не пришлось: то поход в кино, то на озеро, то в лесопарк за орехами, то игра в волейбол. Сейчас все барахтались у берега, а девочки переплыли к дальнему помосту-пляжу и остались вдвоем.
— Не знаю... Маму прислали, чтоб она сделала памятник генералу, который погиб при освобождении города. Сколько она будет работать, столько мы и будем здесь.
— Она что — художница?
— Скульптор...
— А мы, наверное, надолго, — не дожидаясь Никиных вопросов, сказала Клара и не без гордости добавила: — Мой папа в обкоме работает. Он часто в командировки ездит, мы с мамой всегда за него переживаем. Знаешь, в селах, в Карпатах, — бандеровцы... — Эти слова Клара произнесла беззаботным голосом, отковыривая от досок и бросая в воду гнилушки.
— А у меня нет папы, — сказала Ника.
— Погиб?
— Не знаю. Мне кажется, его и не было никогда.
Клара фыркнула:
— Такого не может быть. Откуда же ты взялась?
— Мне иногда кажется, что ниоткуда, прямо из всего, что вокруг: из неба, из воздуха, из озера, из солнца...
— Придумаешь тоже.
— Когда все время одна, еще и не то придумаешь... Ну ладно, хватит, — прервала она себя, заметив на Кларином лице недоумение и сочувствие. — Смотри, какая странная компания!
На берегу остановилась легковая машина, из нее вывалились две девочки, а может, и девушки в ярких воздушных платьях и соломенных шляпах с огромными полями и двое ребят в светлых костюмах. Наряд их был явно не пляжный, но, видно, они и не собирались купаться. Девочки, высокие, тонконогие, да еще в туфлях на каблуках, отошли к деревьям, стали причесываться, поправлять платья.
— Шифоновые, — сказала Клара. — Самые модные...
Ребята, сняв пиджаки и повесив их на дерево, достали из машины какое-то полотнище, расстелили его на траве, стали извлекать из сумок свертки, бутылки; все это раскладывали и расставляли на скатерти, брошенной поверх полотнища.
Один из них, широкоплечий, круглоголовый, пошел вдоль берега, остановился с той стороны, где расстояние до помоста было самым коротким, приложил руку козырьком к глазам и начал бесцеремонно разглядывать Нику и Клару.
— А бабенки ничего! — крикнул он своей компании, нисколько не заботясь, что незнакомые девочки слышат его.
— Идиот! — прошептала Ника и прикрыла лицо концом Клариной косынки.
Клара, приподняв краешек косынки, украдкой наблюдала.
Товарищ круглоголового отвлекся от своих хлопот, подошел к берегу и тоже стал глазеть на девочек.
— Эй! — снова крикнул круглоголовый. — Красотки, плывите к нам! Нам как раз вас не хватает!
Он еще что-то добавил, чего девочки не расслышали, и громко захохотал.
— Придется плыть к своим, — сказала Ника. — Не дадут позагорать спокойно.
Но ребята направились к деревьям, компания стала рассаживаться вокруг скатерти.
Ника и Клара повернулись к ней спиной.
Плескалась под досками вода, вопила ребятня на пляже, смеялась и что-то выкрикивала компания, но так было много воздуха, простора, что звуки, возникая, сразу улетали ввысь и не тревожили.
Разморенные солнцем, девочки начали подремывать, как вдруг совсем близко раздался плеск, и когда они сели и оглянулись, круглоголовый уже влезал на плот, другой паренек подплывал к нему. Прыгая и вытряхивая воду из ушей, круглоголовый в упор, внимательно разглядывал Нику и неопределенно усмехался.
— Гарри Миг! — он шагнул к Нике, протягивая руку. Но она руки не подала, поднялась на ноги, отошла к краю помоста. — А это небезызвестный в школьном мире Алик Рябов — Али-Баба, прошу любить и не жаловаться! — Он подвел к Кларе высокого тонкого паренька, который успел вылезть на плот и отряхнуться.
— Вы что, иностранцы? — насмешливо спросила Ника.
Клара поежилась, виновато взглянула на Нику и, сидя, протянула пареньку руку. Он дернул, Клара взлетела, повалилась на него.
— О! — воскликнул Гарри. — Какая крошка! Симпампулечка!
— Кошечка! — в тон продолжал Алик. Он приложил пальцы к губам и послал Кларе, чуть не ткнув ей в лицо, воздушный поцелуй. — Как же зовут это дитя природы? Впрочем, имя мы дадим сами... Пончик!.. Нет, старо... Пупчик!.. Не поэтично... Нашел: Пупочка! Пупочка, такой вот турнепс.
Эту вычитанную где-то фразу он повторял через каждые два-три слова. Ника подумала: он сам как турнепс — длинный, бескровный, синюшный. Во время войны, в эвакуации, они с мамой досыта наелись этого турнепса.
— Пупочка? Браво, подходит! — хлопнул в ладоши Гарри. — Дать новое имя — таков закон компашки!
— Вновь окрещенную — в купель! — Алик толкнул Клару, и она полетела в воду, растопырив руки и ноги.
Ника прыгнула за нею. Клара, обиженно всхлипывая, плыла к берегу.
Гарри нырнул, выскочил перед Никой, загородил ей дорогу.
— Пропуск — ваше имя, сеньорита!
Ника резко повернула и поплыла к другому берегу, но Гарри снова оказался впереди. Тогда она свернула к вышке. Гарри плыл следом.
Ника взобралась по шатким ступенькам на первый ярус, потом на второй, третий. И все время слышала за спиной Гарри. Оказавшись на самом верху, она обернулась и резко, гневно спросила:
— Что тебе, в конце концов, нужно?
— Только имя.
— А разве твоя кличка — имя?
Гарри вскинул брови, губы его дрогнули в полуусмешке. Козырнул.
— Игорь Мищенко к вашим услугам, сеньорита! А ты?
— А я без имени. У меня нет имени! По крайней мере для тебя.
— Я давно хотел познакомиться с такой вот недотрогой. Штучка и Беця из нашей компашки стильные девочки, но мне с ними скучно. И уж если я чего-то захочу... Все равно скажешь!
Игорь наступал на Нику, она отодвигалась, пятилась, пока не оказалась на доске, выступающей далеко над водой. Доска пружинила, потрескивала. Ника подумала, что доска такая же изношенная, подгнившая, как все сооружения вокруг.
— Или прыгай, или давай знакомиться! — Игорь снова протянул руку, оставаясь на площадке, на доску не ступал. — Компашка у нас что надо, не пожалеешь... Ты мне сразу понравилась. Ну? — Он покачал доску ногой.
Ника повернулась к нему спиной. Как далеко видно! Лесистые горы совсем рядом, деревья на склонах различишь: кричат ребята на пляже — такие махонькие букашки; машет галстуком пионервожатая, жест очень выразительный: не смей, не смей прыгать! Внизу далекая глубина под поверхностью озера. Интересно, сколько метров? Страшно! А сзади наступает этот наглый, губастый. Лучше умереть, чем поддаться ему!
Ника сложила над головой руки, вытянулась в струнку и уже в воздухе услышала испуганное с вышки:
— Не надо, я уйду!..
Вода оглушила, ослепила, но это только миг. Ника вынырнула, вдохнула и поплыла к берегу. Навстречу в воду посыпалась ребятня, с берега орали девочки из ее отряда: «Ура! Ура!» Будто она подвиг совершила.
Выйдя на берег и еще не слыша сквозь какую-то пелену возмущенной скороговорки вожатой, Ника оглянулась на вышку. Отсюда она не казалась высокой — нормальная вышка. Прислонившись к перилам, в задумчивой позе стоял губастый и глядел в ее сторону.
3
Ника и Клара сидели на балконе. Происшествие на озере они давно уже обсудили. Ника читала, Клара делала ей прическу: громоздила какие-то немыслимые султаны волос, перевязывала разноцветными лентами.
Снизу, со стороны мальчишеского корпуса, донесся шум, смех, кто-то замогильным голосом проревел:
— Внимание! Внимание!
— А может, из-за тебя? — не оборачиваясь, ответила Ника, и обе стали смотреть вниз.
Клара и Ника кинулись к перилам. Когда показалась голова Ники, в хохлах и бантах, внизу грянул смех, но Ника, не обращая внимания, крикнула сгрудившимся под балконом мальчишкам:
— Что там у вас?
— Опять Вовка Сопенко что-то затеял, а все из-за тебя, — сказала Клара.
Мальчишка в бумажном колпаке и накинутой на плечи простыне, изображая глашатая, с завыванием гундосил в скрученный из газеты рупор, за ним шествовал другой, в таком же одеянии, неся в высоко поднятых руках огромное яблоко. Выло известно, что прошлой ночью мальчишки совершили набег в чей-то сад. Бесхозных садов было много, и это не очень преследовалось. Утром мальчишки перебрасывали со своего балкона девочкам яблоки и сливы, но такое огромное желтое яблоко с красной щекой трудно было встретить даже на заваленном яблоками базаре.
Из комнат выскочили девочки, облепили перила балкона, а глашатай вещал:
— Это яблоко предназначено той, что всех прекрасней! Просим обитательниц балкона провести разбирательство, объективное и справедливое, и присудить сей прекрасный плод самой достойной!
— Ура, ура, ура! — трижды прокричала толпа мальчишек, яблоко было доставлено «пажем» на балкон и вручено Нике.
— Почему мне? — смутилась Ника, но «паж» уже скрылся.
Внизу Ника разглядела Володю Сопенко, но он повернулся к балкону спиной и с независимым видом отошел от мальчишек.
Ника нисколько не сомневалась, что эта затея его. Кто еще из мальчишек знает о споре трех богинь из-за злополучного яблока с коварной надписью: «Той, что всех прекрасней»? А Вовка напичкан всякими сведениями.
Ника держала гладкое теплое яблоко в ладонях, Клара дергала ее за вихор и просила:
— Ну давайте, давайте же судить!
В это время к воротам подъехала машина, та, что была у озера. Из нее вышел Гарри. На территорию лагеря посторонних не пускали, и он подозвал к забору Вовку Сопенко. Было видно, что они давно и хорошо знакомы. Это удивило Нику: что может быть у них общего?
Игорь о чем-то расспрашивал, потом они вместе обернулись, поглядели на балкон. Ника отшатнулась, спряталась за столб, но Клара, усевшись на перила, демонстративно разглядывала Игоря и девочек в машине: здесь она не робела, здесь она у себя дома, пусть смотрит кто хочет, если не лень.
Игорь галантно шаркнул ножкой и махнул Кларе, как старой знакомой. Клара показала ему язык.
Компания уехала.
Ника, сунув яблоко Кларе, выбежала во двор, подошла к Володе:
— Что ты ему сказал?
— Сказал, кто есть кто...
— Кто тебя просил?!
— Не знал, что вы с Кларой засекречены. Напрасно ты сердишься, секрета все равно не получится. Учиться-то будем все в одном классе, с Рябовым, Бецкой и Штукиной, только Игорь в вечерней.
— А машина у них чья?
— Игорева папеньки, конечно. Для своего отрока он ничего не жалеет.
Ника пошла к своему корпусу.
— Вы уже выбрали прекраснейшую? — крикнул Володя вслед.
— Если это тебя так волнует, выбери сам!
Яблоко разрезали на столько ломтиков, сколько девочек в отряде, и съели, демонстративно усевшись на перила балкона, держа ломтики двумя пальчиками, чтоб мальчишки лучше видели.
А учиться всем вместе не пришлось: осенью школы разделили на мужские и женские. Клара и Ника оказались в одном классе с Леной Штукиной и Симой Бецкой.
4
Лена Штукина пригласила Клару и Нику к себе на день рождения. Ника наотрез отказалась: никаких дел с Симой и Леной у нее не может быть. Клара, посоветовавшись с мамой, согласилась. В том, чтобы ближе познакомиться с девочками и мальчиками, мама не находила ничего плохого, тем более что сама она уже познакомилась с мамой Симы Бецкой и та ей понравилась.
Вместе с мамой они подобрали подарок для Лены — отрез шифона на блузку. Они всегда жили скромно, никаких отрезов у них не водилось, и из этого, купленного на рынке, еще не решили, кому сшить блузку, маме или дочке. А теперь они единогласно решили подарить отрез Лене. Ни Кларе, ни ее маме не хотелось ударить в грязь лицом перед новыми знакомыми.
Лена жила на центральной улице, в доме, стоящем в глубине красивого сада — с аллеями, какими-то ажурными загородками, оплетенными диким виноградом. В саду преобладал красный цвет — красное легло на осенние листья винограда, вдоль главной аллеи потряхивали длинными алыми ягодками кусты барбариса, на небольших клумбах, разбросанных среди травы, кричали настурции красным цветом всех оттенков, от оранжевого, пламенеющего, до приглушенного, тяжелого, как на бархатных драпировках в театре. В тон были подобраны и сорта георгинов, посаженных близко к фасаду дома.
Дом, со стеклянными фонариками закрытых балконов по углам и красной черепичной крышей, был увит плющом, маленькие окошечки второго этажа доверчиво выглядывали из этого заслона.
Во всем была какая-то тихая торжественность, совсем не соответствующая характеру Лены. Клара подумала, что садом и цветами занимается кто-то другой — не Лена.
Лена, как радушная хозяйка, встретила Клару в передней; подлетел Алик Рябов, бесцеремонно крикнул: «Привет, Пупка!» — однако жакет помог снять по всем джентльменским правилам.
В галифе с острыми висячими углами и курточке, сшитой на манер полувоенного френча — с двумя нагрудными карманами и отложным воротничком, Алик показался Кларе не таким тощим и разболтанным.
Клара неловко протянула Лене сверток с шифоном, пытаясь сложить поздравительные слова в вежливое предложение, но от поздравлений Лена отмахнулась, ловко выхватила кусок шифона из бумаги, размахивая им, вбежала в комнату: «Вот еще! Пупочка принесла!» — будто у Клары другого имени не было. Это покоробило Клару, но она ничего не сказала, чувствуя себя очень стесненно.
Шифон Лена сунула под диванную подушку, где уже лежали какие-то подарки.
Игорь Мищенко, не вставая с подоконника, приветственно махнул рукой. Сима Бецкая, сидящая у рояля, пробежала по клавишам пальцами — это означало «здравствуй». Незнакомый мальчик в черном костюме, очень отглаженный, чистенький, поднялся с дивана, молча наклонил голову, как английский лорд перед знатной леди. Лена бесцеремонно дернула его за руку:
— Хомячок, хватит фасонить, подай руку!
Мальчик послушно подал руку.
— Витя.
Был еще один мальчик, в солдатской форме, сапогах. Он стоял, облокотившись о рояль, на Клару взглянул равнодушно, отвернулся, стал листать журнал. Он не скрывал своего превосходства над остальными, и к этому здесь привыкли. Клара почувствовала себя лишней, неловко присела на краешек дивана рядом с Витей. Витя успокаивающе сказал:
— Не бойся, это Леня Мартыненко, сын полка.
Клара украдкой разглядывала Симу и Лену, которые были сейчас совсем иными, чем в классе.
На Симе черное атласное платье с высокими плечами и широкими рукавами, тугой, вшитый клином пояс, от которого вверх к груди и плечам разбегались сборки, делающие Симу непропорционально суженной книзу. У выреза на груди круглая брошь — веночек из переливающихся камушков. У Клары в доме женских безделушек вроде этой брошки не водилось, а Кларе тоже хотелось бы такую брошечку.
Лена была одета по-домашнему: в голубой пушистой пижамке с длинным широким поясом до пола, в голубых туфельках на каблучках, без задников. Под пижамкой белая кружевная блузка. В этом наряде был какой-то особый шик, и Клара, в своем светло-сером платьице с рукавами-фонариками, с беленьким круглым воротничком под самое горло, чувствовала себя совсем маленькой, и ей очень хотелось уйти.
Но тут Лена принесла вазу с яблоками, многозначительно кивнула на дверь — это было всеми понято, потому что Алик чинно сел в кресло и развернул на коленях журнал, Игорь с подоконника переместился на стул и сделал постное лицо, Леня сел на диван, Лена подошла к роялю, Сима заиграла что-то медленное, нежное...
В комнату заглянула миловидная женщина, но не вошла, чтоб не мешать, поманила к себе Лену, сказала ей что-то на ухо. Лена кивнула:
— Хорошо, тетя. Мы немножко. — Потом подошла к окну.
Хлопнула входная дверь, на аллее показались тетя и папа. Он поддерживал тетю под локоть, тетя что-то быстро говорила, оборачиваясь к нему, ее нежное лицо было счастливым. Конечно, ни тетя, ни папа сейчас не думают о ней, Лена это знала, и снова болью и обидой сжалось ее сердце.
Когда-то по настоянию папы приехала тетя, младшая мамина сестра, Лена ее полюбила почти так же, как маму. Ей казалось, что тетя приехала только для нее, что они оба — тетя и папа — живут ради Лены. Так и было, пока между папой и тетей не возникли какие-то особенные отношения. Наверное, папа полюбил тетю. Тетя была похожа на маму, но красивее, Лена видела это. С приездом тети в квартире поселились новые запахи, цветы, красивая мебель и одежда.
Тетя работала модельером, сама шила, могла «из ничего», как она говорила, соорудить моднейший наряд. Она и маме всегда присылала красивую одежду, но мама ее не носила, запихивала в чемоданы, и только после ее смерти Лена постепенно распотрошила желанные тайники.
Лене нравилось то новое, что пришло в их дом вместе с тетей, она тоже хотела быть такой же женственной и обаятельной. Конечно, ни тетя, ни папа не перестали ее любить, она знала, но этот их новый мир, который они оберегали и прятали от Лены, был нестерпимым.
Им теперь трудно было находиться втроем, и тетя с папой часто уходили из дому, то в театр, то в гости, всегда говорили, что скоро вернутся, но приходили поздно — наверное, специально выжидали, когда Лена заснет.
Они разрешили ей приглашать друзей — чтоб не скучала (и не мешала, — добавляла Лена про себя). «Послушать музыку» — называла это тетя. Может быть, они даже сознательно закрывали глаза на эти сборища, и Лена старалась вовсю — назло им...
«Ну, обернитесь же!» — мысленно обращалась Лена к тете и папе, вкладывая в свой взгляд всю волю, чтоб они почувствовали. Не почувствовали, не обернулись! Звякнула калитка. Ушли...
Лена, сделав усилие, с прежним беззаботным выражением лица повернулась к друзьям, торжествующе махнула рукой:
— Ушли в гости!
— Сценка для родителей окончена! Гип-гип-ура! — Игорь снова взлетел на подоконник. — Кончай, Беця, эту духовную семинарию, давайте нашу! — И он, не дожидаясь, когда Сима закончит играть, затянул: — «Когда солдаты пьют вино!..»
— «Пьют вино!» — подхватил Алик.
— «Подружки ждут их все равно...»
— «Все равно!» — гаркнули Алик и Леня.
— «Сижу с бутылкой на окне, не плачь, милашка, обо мне!..»
— «Так будь здорова, дорогая!» — подхватили все: и Витя — послушно, натренированно, — и Сима, и Лена.
Сима брала громкие рокочущие аккорды, комната грохотала.
Клара невольно зажала уши. Но к ней подскочил Алик, схватил за руки, крикнул:
— Пой, Пупка, такой вот турнепс!
Эту песенку из трофейного ковбойского кинофильма Клара слышала, ее примитивные слова запоминались легко. И она тоже запела:
— «Прощай и друга не забудь!» — Но ее тонкий голосишко ничего не добавил к общему крику, и Алик тряхнул ее за руки, скомандовал:
— Громче, Пупка, громче!
Клара стала выкрикивать, как остальные:
— «Твой друг уходит в дальний путь, к тебе я постараюсь завернуть как-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь!»
Грохот оборвался, только в рояле еще постанывали струны.
— Лена, действуй, время не ждет, — сказал Игорь, впервые называя Лену по имени. — Что в печи, все на стол мечи!
Лена расстелила на рояле клеенку — стола в комнате не было, только диван, кресло, рояль, цветы в кадках на полу, ковер и большая фотография Лены в узкой рамке над роялем: Лена была с обнаженными плечами, грудь прикрыта пушистой лисой, высокая прическа делала лицо девочки трогательно женским. А может, это фотография молодой Лениной мамы или тети? Таких фотографий Клара раньше не видела, невозможно было даже представить, что так сфотографировали бы Клару или ее маму, и Клара не знала, плохо это или хорошо.
Из тумбочки Лена достала тарелку с нарезанной колбасой, хлебом, рюмки, бутылку, в которой было что-то бледно-розовое, еще бутылку с этикеткой «Портвейн». Поставила на рояль вазу с яблоками, высыпала из кулька конфеты.
Клара представляла день, рождения по-иному, по тем детским впечатлениям, которые сохранились от далекого времени «до войны». Тогда к ней на день рождения приходили подружки, водили «каравай», плясали, ели пюре с котлетами и торт, который мама умудрялась испечь на примусе. Не было никакого вина, зато компота, абрикосового, — сколько угодно, его черпали деревянной ложкой из большой кастрюли. Несколько лет день рождения не отмечался — война. Мама делала обед вкуснее обычного, они с папой что-то дарили Кларе. Вот и все.
Клара не представляла день рождения без нарядного стола с белой скатертью и цветами и чтоб, хоть недолго, были родители... И когда Лена пригласила всех жестом к роялю, у Клары был такой удивленный и растерянный вид, что все расхохотались, а Рябов, который, видимо, решил ее воспитывать сказал:
— День рождения — это же маскировка. Успокоительная пилюля для родителей. Ведь тебя бы не пустили на вечерушку? А на день рождения пустили и подарок дали. Поняла?
— А ты ей, Али-Баба, прохладительного налей, сразу поймет, — сказал Игорь, но взял бутылку сам и налил полный стакан бледно-розовой водички.
Налил и в другие стаканы.
— Ну, за «именинницу», пусть рождается дважды в неделю!..
Клара глотнула. Что-то жгучее, едучее, вонючее влилось в рот, в горло, она поперхнулась, задохнулась, хотела поставить стакан, но Алик схватил ее руку, притянул со стаканом ко рту, и Клара, почти задыхаясь, ничего не соображая, глотала, а все постукивали стаканами по крышке рояля и скандировали:
— Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна!
— Пей, Пупочка, веселись, ты же современная девочка, — удовлетворенно сказал Игорь, когда Клара выпила и Алик наконец отпустил ее.
Что было потом, Клара помнила плохо.
Лена притащила гитару. Поставив ногу в туфельке на кресло, что выглядело очень эффектно, положила гитару на колено и, вращая глазами, спела «Кукарачу». Все дружно подхватывали куплет: видно, эта песня тоже была из репертуара компашки.
Стали просить спеть Леню Мартыненко. Сима села к роялю, но Леня сказал, что его песню нужно петь голосом, без музыки, да и вообще, что они понимают в таких песнях...
На Клару Леня по-прежнему не обращал внимания, только когда она допила и поставила стакан, а Лена совала ей бутерброд с колбасой, она перехватила его презрительный взгляд. Ее «подвига» Леня не одобрял.
Поломавшись, Леня вышел на середину комнаты и запел. Песня была о довоенном летчике, который, обманувшись в любви, делает «на высоте двух тысяч метров» «мертвую петлю» и погибает. Сейчас эта гибель казалась бы никчемной, бессмысленной, если бы не то волнение, которое Леня вкладывал в песню, особенно в припев:
— «Так, значит, амба, так, значит, крышка, любви пришел последний час, любил я крепко ее мальчишкой, еще сильней люблю сейчас...»
Голос у Лени хороший, пел он ни на кого не глядя, немного набычившись. Было видно, что песня эта ему близка по-особому, будто о себе поет. И действительно, Леня тосковал. Родители оторвали его от большого и значительного дела, в которое он втянулся, — войны, от взрослых друзей — бойцов, снова посадили за парту, снова хотели сделать ребенком. Война закончилась, нужно учиться, это он понимал, но есть и иные пути, не только детская школа, а родители не понимают, боятся снова потерять его, не пустили даже в летную подготовительную школу в Киеве.
Леня томился, поэтому и прибился к компашке, которая была взрослее всего того, что было в школе. Да и плохо разве собраться, потанцевать, спеть? Где еще это можно? По крайней мере не скучно.
Скатали ковер. Лена достала патефон, пластинки. Танцевали танго, фокстрот — фоксик, вальс, меняясь партнерами.
Клара танцевала со всеми по очереди. Алик, кружа ее в вальсе, подбрасывал чуть не к потолку, и все восхищались, какая она маленькая, легонькая, кругленькая — настоящая Пупочка.
Потом еще пили, из другой бутылки, сладкий душистый жгучий напиток. Кларе он понравился, и она, сама, разгорячившись, налила в стакан и выпила залпом...
Лиц она уже не различала, какое-то верчение фигур, глаз, ртов, какое-то верещание голосов, музыки, какие-то руки кружили, похлопывали, пощипывали ее. Что-то говорил о Нике Гарри, что-то нехорошее, и все смеялись. Клара поддакивала и смеялась тоже. На минутку до нее донеслись обрывки фраз из разговора Лены и Игоря, которые разглядывали на диване подарки, о том, что кусок шифона легко пойдет на базаре — очень выгодный узор, — значит, снова можно организовать чей-нибудь «день рождения».
Игорь спросил Симу, можно ли у нее, но Сима сказала, что маму не проведешь, она и так уже что-то подозревает. Тогда Лена предложила Клару, но Игорь отверг: у Клары принципиальный отец, можно погореть. Позвали Хомячка, который не принимал такого бурного участия в веселье, как другие, только немного потанцевал с Кларой и Леной. Кларе он сказал, что его отец погиб при освобождении этого города, и Клара догадалась, что Витя — сын того генерала, над скульптурой которого работает Никина мама.
Предложили следующий «день рождения» отметить у него.
— Мама, конечно, согласится, — сказал Витя, — ради меня, но мне не хотелось бы ее тревожить...
— Пусть пойдет к соседям, ей тоже вредно все время быть одной, — бесцеремонно перебила его Лена.
— Хорошо, — покорно согласился Витя.
Кларе стало жаль шифона: лучше бы мама сшила себе блузку, ведь у нее ничего красивого еще не было, а теперь вот отнесут шифон на толкучку. Но тут ее подхватил Игорь и объявил, что сейчас они покажут акробатический этюд. Он подбросил Клару себе на плечо и быстро перевернул. У Клары задралось платье, все смеялись, а Клара никак не могла дотянуться до подола, одернуть его, потому что не отпускал Игорь.
Клара заплакала. Алик стал ее утешать:
— Пупка, да это же здорово, настоящий цирк! Моментик — закачаешься!
Игорь снова закружил Клару по комнате, не обращая внимания на ее слезы.
Но тут Кларе стало плохо, ее повели в ванную.
Она сидела на табуретке, склонясь над раковиной, Витя поливал ее голову водой. А в комнате продолжали веселиться...
Кларе хотелось одного: поскорее уйти, оказаться дома и чтоб вообще ничего этого не было. Что она скажет маме... папе...
Клара завидовала Нике, которая отказалась пойти. А вот у нее не хватило духу. Да что кривить душой — ей ведь даже польстило, что ее пригласили.
Кларе было стыдно. Она попросила Витю, чтоб он помог ей уйти не прощаясь.
Витя увел Клару. Леня бросил: «Пока!» — и ушел с независимым видом. Водки он не пил. От одного запаха самогона его мутило. Размахивал стаканом, как и другие, а потом быстрым движением выплескивал через плечо. Со стороны могло показаться, что он лихо опрокинул стакан в рот. Нет, он не может отравлять свой организм алкоголем, ни единой каплей: летчик должен быть абсолютно здоров. Девочки его не привлекали, особенно такие, как Сима и Лена. Порхающие над действительностью мотыльки. Дотронься до них — пыльца слетит, а под нею — ничего...
Леня часто, в разгар веселья, покидал компашку, к этому привыкли. И никто не уговаривал его остаться.
Алик подмигнул Игорю. Тот потянул Лену за руку. Лена опустила голову, покорно пошла за ним. Все то, что должно быть, когда они останутся вдвоем в беседке, отгороженной, казалось, от всего мира плотной стеной плюща, цветов, деревьев, укутанных в темноту, тяготило Лену, но сказать об этом она не решалась, да Игоря ее состояние и не интересовало. Лена даже не обижалась: видно, так и должно быть. Она опасалась, что Игорь может выдать ее, разболтать, если она будет строптивой. «Не я — так другой, ты же современная девочка. А мы с тобой — друзья...» Говорить Игорь умел. Знакомые понятия приобретали в его устах иное значение, все становилось легким, возможным.
Хлынувшие на экраны трофейные зарубежные фильмы убеждали в правоте Игоря, демонстрируя новые моды, новые отношения, создавая новый идеал женской красоты. Длинная сигарета зажата в тонких пальцах, вьется беззаботный дымок, медленно, будто нехотя, попивается вино из хрустальных рюмок, расслабленная поза — нога на ногу, оголенное колено, откровенный призывный взгляд и поцелуй во весь экран, останавливающий дыхание. А платья, прически!.. Все это включалось в понятие «современная девочка», которое, с легкой руки Игоря, прижилось в компашке...
О своих отношениях с Игорем Лена ничего не говорила Симе, но Сима догадалась сама. Оказывается, между нею и Аликом происходило то же самое.
Общая тайна еще больше сдружила их, и обе они не знали, что Алик и Игорь, похваляясь, полунамеками рассказывают в мальчишечьей компании о том, что, как казалось подружкам, известно только им четверым...
5
Витя проводил Клару до самого дома. Закрывая рот платком, Клара сказала маме, что отравилась колбасой и ей плохо. Папы, к счастью, дома не было. Мама развела соду, Клара выпила целую литровую банку; ей стало лучше, она уснула.
Но утром встать Клара не могла: мутило, тошнило, кружилась голова. Школу она пропустила.
Пока папа не ушел на работу, Клара притворялась, что спит. Как только за папой закрылась дверь, к ней подошла мама.
— Клара, объясни, пожалуйста...
— Была несвежая колбаса... — начала Клара, пряча глаза.
— Ты была пьяна!
— Ох, мамочка, не мучай меня, мне и так плохо! Ужасно! Отвратительно! Противно! Никогда так противно не было! — Клара откинулась на подушку и заплакала с закрытыми глазами.
— Ладно, будем считать, что ты получила хороший урок. Но обещай, что этого не повторится.
— Слышишь, мамочка, умоляю, прошу, не говори папе! — Клара целовала мамины руки, и они из суровых, сердитых становились ласковыми, гладили, вытирали слезы.
Клара хотела забыть этот вечер. Его не было — и все! Она так умела: отключаться от того, что ей неприятно. Когда они жили в Сибири, в эвакуации, так трудно было дочиста вымыть некрашеные полы. Их даже не мыли, а просто выскабливали ножом. Клара выскоблит кусочек, сядет на табуретку передохнуть, повернется к грязному полу спиной, глядит только на чистое. И ей кажется, что весь пол чистый, никакой грязи нет. Возится она с полом, возится, считает половицы — сколько вымыто, сколько осталось. А потом придет мама, домоет пол да еще похвалит Клару...
Мама написала записку классному руководителю, что у Клары болела голова.
— Ну, как компашка? Ты довольна? — спросила Ника.
— Потом, — ответила Клара, хотя твердо знала, что и потом и никогда ничего не расскажет Нике.
На переменке все вышли из класса, Клара осталась переписывать домашнее задание. Когда доставала портфель, из парты выпала записка:
«Привет прогульщикам и симулянтам! Будь нема, как могила!»
Конечно, это сунула Лена или Сима.
На следующей перемене Лена и Сима потащили Клару к окошку в углу коридора, где всегда велись секретные разговоры. Наперебой стали говорить, как они отлично повеселились, а Клара сама виновата, не нужно было столько пить. Мальчишки всегда заставляют, им весело, когда девчонка напьется. Вначале они тоже попадались, а теперь приловчились, пьют немного и только вино, а то розовое — подкрашенный самогон, он и вола с ног собьет... Мальчики шлют Кларе привет и сочувствие, надеются, что она в компашке будет своим человеком, все поймет правильно, ведь она современная девочка...
Клара не могла и рта раскрыть. Сима и Лена были такими милыми, наговорили ей столько хороших слов и комплиментов, что настроение у Клары поднялось. Особенно ей польстили слова: «Алик тобой покорен!» Алик Рябов, Али-Баба, — это что-то недосягаемо загадочное, любой девочке польстило бы его внимание.
После уроков, оставшись с Никой вдвоем, Клара вяло сказала, что все было, как обычно на дне рождения: танцевали, ели, веселились, но ей, видно, попалась несвежая колбаса, стало плохо, пришлось уйти раньше... Клара вспомнила, как вышучивали у Лены Нику, ее мужские плечи, размашистую походку, ее неприступность и единственное платье, и она, Клара, тоже смеялась и поддакивала. И вдруг, не зная даже почему, Клара сказала:
— А о тебе все так хорошо отзывались, особенно Гарри...
— Меня это мало трогает, — ответила Ника и вдруг схватила Клару сильной рукой за плечо, притянула к себе, пристально посмотрела в глаза: — Кларка, берегись, не впутывайся!
В ответ Клара только вздохнула. В лагере ей было хорошо с Никой, а теперь... Она слишком серьезная, сложная. Можно ведь и повеселиться, что в этом плохого? Но опять вспомнилось мерзкое состояние опьянения, не испытанное никогда раньше. Нет, лучше его больше и не испытывать. И Клара покорно, как нашалившая девочка, прильнула к Нике:
— Хорошо Никочка, больше не буду.
6
Никто не знал, почему вдруг так срочно уехала Лена с тетей. Не знал этого даже ее отец. В последнее время Лена часто пропускала школу. Ей нездоровилось: кружилась голова, тошнило, знобило. Она не отвечала на телефонные звонки, избегала своих друзей по компашке. Они с Симой быстро догадались, что случилось, а тетя продолжала водить Лену по врачам, пичкать таблетками и порошками. Девочкам было страшно: то, что происходит с Леной, ни с чем сравнить нельзя.
Почему-то раньше об этом совсем не думалось. Пока еще можно скрывать, а потом? Что потом?..
Даже когда Лена молчала, в ее застывшем взгляде постоянно жил один вопрос: «Как быть? Что делать?»
Как бы хотелось Лене снова стать маленькой девочкой, на которую еще никакого внимания не обращают мальчишки. Девочки живут весело и беззаботно. Разве их ссоры, обиды — это та горечь и боль, тот страх, через которые сейчас проходит она? А впереди еще самое ужасное! Нет, никого не винила Лена — только себя, себя, трижды себя!
Она категорически отказалась от свидания с Игорем, и он небрежно, с обычной своей ухмылочкой, которую Лена хорошо чувствовала даже по телефону, бросил:
— Не пожалей, Штучка! Я сейчас такую цацу обламываю...
— Тоже внушаешь, что она современная девочка?
— Ха-ха! — самодовольно пырхнул в трубку Игорь.
Раньше ей даже нравилось в Игоре его самодовольное нахальство — не какой-то там слюнтяйчик. А теперь... Ох!..
Лена кружила по комнате, по саду. Старалась поменьше сталкиваться с тетей, отца почти не видела. Все время проводила в своей комнате наверху, вниз спускалась, когда никого дома не было.
Отец этого не замечал, но глаза тети тревожно следили за Леной. Беспокойство тети проникало даже наверх, в комнату Лены, по стенам, через пол.
Лена слышала, как тетя ходит туда-сюда, от окна к двери, от двери к окну, скрипит старый паркет (ковер убрали, когда к Лене зачастила компашка). Трогает клавиши — одну, другую, незавершенные звуки повисают, как вопросы...
Если бы можно было кому-то рассказать — такому человеку, который прежде всего понял бы не то, что Лена совершила плохое, а то, как отчаянно, безвыходно плохо ей сейчас. А разве тетя способна на это? Она занята своей любовью к ее, Лениному папе, вот-вот свадьба, какое им обоим дело до Лены? Папа — тот вообще в другом мире, не достучаться уже ей к нему никогда. Да и все люди сейчас в другом мире, и школа, и все-все, даже Сима, которая в душе радуется, что это стряслось не с нею. А Лена — одна, в своем маленьком мирке, тесном, как бочка, скованная стальными обручами, — не вырваться, можно только задыхаться и ждать конца... И все-таки рассказала она все тете. Кому же еще?
Захлестнутая отчаянием, она не услышала, как тетя поднялась по ступенькам, стала на пороге.
— Леночка! — Тетя смотрела тревожно, с участием. — Ведь я тебе как мать...
Лена отрицательно покачала головой и подумала о маме: а маме она рассказала бы? Рассказать маме тоже было бы трудно, даже невозможно — мама была такая строгая. Но при маме с Леной такого никогда бы и не случилось, это Лена знала твердо.
Тетя села на маленькую скамеечку возле дивана, на Лену повеяло нежным запахом, закружилась голова. Лена ткнулась носом в пуховую шаль, которая укутывала ее с головы до ног.
— Прошу тебя, Леночка, доверься мне, ведь ты мне дорога... — Тетя положила мягкие руки на ее колени, заглянула снизу в глаза, умоляюще, просительно.
Лена поежилась, зажмурилась, чтоб не видеть этих красивых, очень маминых глаз, сказала:
— Зачем вы так говорите? Вы же любите не меня, а папу. — Сказала и посмотрела на тетю.
Тетя покраснела, но взгляда не отвела.
— Любовь не спрашивает, прийти ей или нет. Да, я полюбила твоего отца, пожалела: не очень он счастливый... Но тем более я и тебя люблю, ведь ты не только дочь моей родной сестры, но и человека, который дорог мне! Поверь, Леночка! — Тетя хотела притянуть Лену к себе, сесть рядом, но Лена отстранила ее.
— Нет, нет, не надо, не трогайте! (Тетя снова опустилась на скамейку.) Вы не можете меня любить, вы же ничего не знаете!
Как тетя говорила об ее отце, какое у нее было лицо! А что у нее, у Лены? Разве Игорь — это любовь? Как о нем говорить?
Лена содрогнулась. Тетя заметила, истолковала по- своему:
— Я думала, ты меня поймешь, не осудишь. Ведь ты большая девочка, тебе шестнадцать...
— Я не о том вовсе, тетя!.. — Лена заплакала в голос.
Тетя испугалась, стала гладить ее по голове, говорить какие-то слова, которых Лена не слушала.
Внезапно Лена перестала плакать, снова отвела от себя тетины руки, сказала решительно, обреченно:
— Сядьте, тетя, я все вам расскажу, другого выхода у меня нет. И все равно... этого не скроешь...
Провожали их только папа и Сима. Ехали они в тот город, где раньше жила тетя, где когда-то родилась Ленина мама, где похоронена бабушка и еще живут какие-то родственники, которые им помогут устроиться на новом месте, пока папа добьется перевода.
Сима заплакала, ткнулась Лене в ухо, прошептала: «Ни пуха ни пера...»
Папа поцеловал Лену сдержанно, тете пожал руку.
Поезд тронулся, увозя Лену навсегда из города, где так неожиданно и печально закончилось ее детство.
Глава третья. Ника
1
По коридорам женской школы плыл плотный желтый дым. Это было страшно: давно проложенные газовые трубы ненадежны, случались в домах взрывы, пожары.
Первая мысль именно об этом: прорвалась газовая труба в подвале, начался пожар.
Ольга Матвеевна вела урок в девятом классе. Как только открылась женская школа, Ольга Матвеевна перешла сюда. Хотя многие прошлогодние проблемы с разделением школы отпали сами собой, Ольга Матвеевна считала, что для девочек ее характер более подходящий. Прихватила она с собой и Пиню. Пиня был водворен в биологический кабинет и, стоя в углу, грустил о буйной вольнице тех времен, когда в школе заправлял Гарри Миг.
Ольга Матвеевна приоткрыла дверь в коридор и тут же захлопнула:
— Девочки, пожар! Соберите портфели, спускайтесь через окно. Никакой паники...
Но паники не было, никто не испугался, на оживленных лицах — радостное любопытство.
Ника подошла к Ольге Матвеевне, осторожно отстранила ее:
— Извините! — открыла дверь, юркнула в коридор, скоро вернулась. — Не волнуйтесь, Ольга Матвеевна, ничего опасного. Мальчишки устроили салют в честь открытия женской школы: бросили дымовую шашку.
Девочки шутили, смеялись, представляя, как бы они выглядели, прыгая в окно с третьего этажа.
— Я забыла, что мы в другом здании, ведь в мужской школе этот ход — через окно — был популярен, и не только мальчики пользовались им. — Ольга Матвеевна взглянула на Симу, но Сима сидела равнодушная, невеселая. С тех пор как уехала Лена, место рядом с нею пустовало. Сблизиться с кем- либо из девочек в классе Сима не стремилась.
Большинство девочек было новых, о прошлогодних проделках компашки в смешанной школе ходили легенды, но Сима ничего никому не рассказывала.
2
Школа веселилась — грохотал новогодний бал. Гамом и веселым оживлением был наполнен не только зал, где стояла елка, но и классы, в которых переодевались, репетировали.
Все было великолепно и елка, и гирлянды, и снежинки, нанизанные на нитки, опутавшие коридоры, окна, потолки зала. Девочки потрудились: ведь это был первый бал в их школе, на который пригласили мальчиков.
У входа в зал висела огромная яркая газета. Большими буквами Никины стихи.
В классе почему-то догадались, что Ника пишет стихи, и принудили ее сочинить поздравление для газеты. Стихи у нее получались плохие, в них не удавалось втиснуть и частички того, что она чувствовала и хотела бы выразить. Чувства оставались сами по себе, в ней, слова — сами по себе бродили по бумаге. А тут пристали с ножом к горлу: «Не хочешь постараться для школы... не любишь свою школу...» Еле выдавила из себя четверостишие.
От Нового года всегда ждешь чего-то особенного. И это особенное произойдет не теперь, не зимой, а весной, когда растрескается на куски холод, улетит в пространство, а солнце вытянет слепые бутончики подснежников из земли, они нальются теплом, распахнутся и утвердится другой тон, другой цвет на земле — голубой, зеленый, золотой, на много дней, до самой, самой поздней осени...
Ника и Клара переоделись в пустом темном классе на третьем этаже. Присвечивал им уличный фонарь; специально не зажигали света, чтоб никто не ворвался. По совету Никиной мамы сделали костюм Черномора и Людмилы. Клару еще можно было узнать. В длинном белом платье (ночную сорочку обшили лентами), в русском кокошнике (картон, вата и елочные бусы), с фатой (тюлевая занавеска с окна), в белой маске, закрывающей только глаза, она оставалась все той же маленькой пухленькой Пупочкой. Прозвище это стало ее вторым именем, даже Ника иногда называла ее так, хотя сама на себя за это сердилась.
Зато Нику не узнать: чалма, бородища из пакли до земли; мама слепила и раскрасила носастую бровастую маску, шаровары пестрые до колен (мамина старая шаль), туфли с завернутыми носами, в руках булава.
Черномор вел по коридору Людмилу и грозно размахивал булавой: пусть только посмеют отнять его пленницу, его добычу, — заработают шишку на лоб, будь то хоть сам неустрашимый Игорь-Гарри, повелитель компашки.
Почему-то этот губастый наглец так и лез в мысли. Он отталкивал, возмущал и в то же время притягивал своей необычностью, какой-то силой, которой подавлял других. Почему такие подавляют, даже хороших?
Вот она, Ника, конечно, сумела бы противостоять ему. Ведь у нее есть характер, все говорят. Она бы еще померилась силами с этим Гарри... Говорят, девчонки ему поддаются: с кем он захочет, та и пойдет. Попробовал бы захотеть, чтоб она, Ника, пошла с ним!..
Вот еще, привязался этот губастый! Не надо и близко его подпускать, даже в мысли. Ничтожество и он, и вся их компания, разве не видно? Клару она им не отдаст, бесхитростную, беззаботную Пупку легко закружить.
Ника так сжала Кларину руку, что Клара пискнула.
— Извини! — шепнула Ника.
Мальчишек предупредили, что будет бал-маскарад, но они пришли в обычных костюмах и теперь толклись в коридоре, заглядывая и не решаясь войти в сверкающий, гремящий военным духовым оркестром зал, полный незнакомых девочек в масках.
Возле школьной газеты стоял Володя Сопенко, читал. «Критикует, наверно, мои стихи, — подумала Ника, — буквоед несчастный!» К Володе Ника испытывала сложное чувство. Тогда, в лагере, что-то между ними промелькнуло, дружеское и теплое. Это было влекуще и непонятно, как маленький огонек за далекими холмами. Теперь его не назовешь Вовкой, держится так, будто совсем взрослый. И маленький огонек заблудился и исчез.
Из двери зала выбежала длинная цепочка-змейка во главе с клоуном, обвила мальчишек, отрывая их от стен, втянула в зал.
В гвалте, хохоте, толкотне с гостей сошла скованность; мальчишки танцевали, узнавали знакомых девочек, писали записочки, которые разносил быстроногий почтальон.
В маске с бородой Нике было жарко. Она втолкнула Клару в круг, где клоун и Дед-Мороз плясали полечку. Клара, подхватив фату, запрыгала вокруг них. Вот у Клары все выходит просто и легко, а она, Ника, сама все усложняет.
Ника вышла в пустой коридор, прошла в другой, полутемный его конец, наклонилась над краном — напиться. Кто-то тронул ее за плечо, насмешливо сказал:
— Зачем же из крана? В буфете отличное ситро. Идем, угощу...
Ника обернулась, угрожающе подняла булаву. Игорь схватил ее за руку.
— Меня не так легко испугать, и ты это знаешь. Хотя вид у тебя в этой маске довольно-таки страшненький.
Ника молчала. Как этот губастый тип оказался здесь? А, вон и Рябов, и Мартыненко, и Хомячок к ним притулился. Стоят в темноте, покуривают в кулаки.
Ника сказала скрипучим, «старческим» голосом, вырывая руку:
— Вы обознались!
— О нет! Да я тебя, Никуша, в любой маске узнаю. У меня сердце — вещун. Твои ножки с другими не спутаешь.
— «О Никуша, дорогуша, очи черные горят, как угольки!» — пропел из угла Рябов.
Ника изо всей силы щелкнула Игоря булавой по лбу, он зажмурился, отшатнулся. Ника проскользнула мимо, но Игорь метнулся следом, схватил за плечи; задышал в затылок:
— Все равно будет так, как я захочу, слышишь, гордячка?
— Хвастун и дурак! — спокойно сказала Ника. Она знала, что здесь, в школе, ничего плохого с нею не может случиться, здесь даже защищеннее, чем дома, где она всегда одна. Просто противны лапищи на плечах. — Отпусти, а то закричу. Такого непрошеного гостя выставят с позором!
— Нужны мне ваши детские бирюльки! Я и сам уйду, ради тебя пришел. — Он сунулся носом ей в затылок, но тут же оттолкнул Нику: — Ох, черт, и сзади борода!
В углу засмеялись.
3
Казалось бы, что особенного — весна? Да еще ранняя... Прикрытая прежде смерзшимся старым снегом и ледком, земля открывает вдруг все свои изъяны: и мусор, и раскисший навоз, и разъезжающиеся под ногами тропинки. Все, очерченное темными каемками влаги, выступает рельефнее: и заборы, и дома, и деревья. Приподнимаются над землей горы, проталкиваются сквозь облака, придвигаются к городу — и особенно острым, сильным, неодолимым становится зов леса, такого близкого и недоступного.
Сквозь все земные будничные запахи пробивается вдруг этот особый — лесной, весенний, несет в себе тревогу, смятение, ожидание, какие бывают только весной, когда человек не знает, что же с ним происходит, но нет ему покоя. Обычная деловая жизнь вдруг спотыкается, и человек в раздумье и в грусти и в то же время какой-то неясной душевной приподнятости оставляет обычные и даже очень важные дела и стоит у окна, глядя бесцельно на тяжелые влажные горы, прислушивается к себе или хлопнет дверью и побредет по улицам неведомо куда...
Ника бродила по городу до тех пор, пока окончательно не промокли ноги. А домой не хотелось.
Все время она была дома одна, даже привыкла к этому. В возможности делать что хочется, когда не лезут к тебе с докучливыми поучениями, как, например, у Клары, каждый шаг которой сопровождается мамиными указаниями, было замечательное чувство независимости. Но ее мама не квохтала над нею, даже когда была дома, работала в своей мастерской, порою забывая о Нике, о еде. Жили они просто, по-холостяцки, иногда перекусывая на ходу, между делом. Но все же когда мама дома, одиночество совсем другое, чем одиночество, когда ты вправду одна. А последнее время мама дома бывает редко: не идет ее работа, ради которой они сюда приехали, и мама куда-то уходит, встречается с людьми, что-то ищет... И совсем забывает о Нике.
Возвращаясь домой, Ника увидела на лавочке в сквере компашку: Гарри, Алик, еще кто-то пижонистый. Они балагурили, что-то выкрикивали вслед проходящим по тротуару девочкам.
Мама сказала о них: «Типичная золотая молодежь. Такие всегда были, не обращай внимания, ты же гордая, умница. Пройди мимо, будто их нет».
Но, даже проходя мимо, Ника внутренне сжималась, ждала какой-нибудь пакости от Гарри, который цепляется при каждом удобном случае. А сейчас тем более: видик у нее — кислый нос и кислые ботинки. Модницы щеголяют в сапогах-«бутылочках» и коротеньких юбочках. Мама не раз говорила, хотя Ника никогда ничего у нее не просила, что вот пойдет работа, отхватят они гонорар, будут и «бутылочки» и шубка. А пока Ника ходит в пальто, перешитом из маминого, со старым лисьим воротником. Между прочим, «бутылочки» ей не нужны, сапоги — обувь для солдат, а не для девушек.
Компашка, конечно, глаза пялит. Не поворачивая головы в их сторону, Ника чувствует на себе взгляды, старается идти медленно, как и раньше, независимо. Обязательно улюлюкнут!.. Но — промолчали. Почему?..
Свой подъезд да и вообще эти дома с колодцами «черных» дворов посредине Ника терпеть не может. Как ни отворачивайся, лезут в глаза кучи мусора, повисшая на водосточной трубе кожура, половые тряпки, развешанные на карнизах. А главное — крысы. Они нисколько не боятся людей, снуют по помойке, шебуршат голыми хвостами. Пока добежишь до дверей, эти твари собьют настроение на несколько градусов.
Хорошо, что их квартира на пятом этаже: балкон плывет над деревьями, над улицей, не слышно и не видно никаких крыс.
Ника прошла в свою комнату, бросила пальто на диван, села за письменный стол. Как же выразить все то, что клокочет в ней, такое разное, противоречивое? Стихи — это было ее мукой, самоистязанием. Они стояли у горла, снились, жили в ней, как постоянное обещание и ожидание. Но когда она пыталась писать, получалось не то, не то, трижды не то!.. Читала поэтов, завидовала и безмерно уважала их, управляющих словами так, будто они рождались одновременно с чувством или переживанием.
«Творческие родовые муки! Чувствую, как во мне рождается гений, но что-то никак не может родиться», — шутила иногда ее мама, но сколько горечи в этой шутке! Ника видела, что значат для ее мамы на самом деле эти иронические «творческие муки». Она, Ника, совсем не претендует на гениальность или талантливость. Хотя бы чуть-чуть выразить то, что внутри...
Ника взяла карандаш, достала свой заветный блокнот. Полезли совсем другие строчки, не те, какие могли быть полчаса назад, до встречи с компашкой, с крысами.
Ника расстроилась, она теперь вообще ничего хорошего не находила ни в городе, ни в школе...
Почему-то у нее не было подруг. Клара по-прежнему ластилась, как кошечка, но у нее завелись свои дела. Болтушка Клара оказалась вдруг очень стойкой: на тему «Клара и компашка» с Никой никогда не говорила, а поделиться было чем, Ника видела. А без откровенности какая дружба? Клара прибегала, тыкалась в грудь, искала утешения в своих маленьких обидах, но разве могла Ника поговорить с нею о своем?
Ника вошла в мастерскую. Она любила приходить сюда, когда мамы не было. Чтобы понять ее.
На подставке бюст, накрытый мокрой простыней. Та работа, которая не идет... Ника повернула бюст к себе. Откинула полотно. Лицо сильного человека. Сильного, как глыба. Оно давит.
Это отец Вити Хомякова. Не верится как-то, что человек с таким лицом любил Витину маму, Витю, что он был и просто человеком. Здесь он только генерал, суровый и сильный.
Нике не нравится его лицо. Почему мама хочет вложить в этого человека такую беспощадную силу? Но маме не скажешь, она не терпит вопросов и замечаний, пока не найдет сама... Вот и стоит незаконченная работа, а сроки поджимают. Приходил архитектор, обсуждал с мамой, как памятник впишется в окружающее, было подготовлено место, постамент... Мама нервничает, и Ника слишком часто остается одна. Ей иногда даже плакать хочется, как сейчас...
Плакал ли когда-нибудь этот суровый генерал? Каким стало бы его лицо, если бы он увидел своего примерного Витю в окружении компашки?
Ника тронула влажную глину, провела большим пальцем решительно и легко едва заметные линии от глаз к подбородку. Что-то дрогнуло в глыбе. Значит, сильные тоже плачут? Не такие уж они каменные, как кажутся...
Кто-то звонил в передней, настойчиво, резко. Ника поспешно набросила простыню на бюст. У мамы свой ключ — так кто же? В звонке срочность, тревога.
Распахнула дверь. Девочка в шубке и шапке с ушами, в ботинках с галошами. Одета по-детски, но на вид старше Ники. В руке футляр — скрипка.
— Ты одна? — спросила девочка.
— Одна...
— Уф! — обрадовалась девочка, сдернула шапку, шарф, бросила на вешалку. Мимо — но не подняла.
— А балкон у вас есть?
— Есть...
— Не заклеен?
— Нет.
Девочка сбросила галоши. Все делала быстро, порывисто, осторожно обращалась только со скрипкой.
— Куда идти? Сюда? — Она оттолкнула ошарашенную Нику, решительно открыла дверь, вышла на балкон. Бросила Нике, которая в молчаливом недоумении следовала за ней: — Если тебе холодно, прикрой...
Ника не понимала, что происходит. А девочка, положив на плечо суконку, подняла скрипку, потрогала струны, натянула смычок—все медленно, основательно, как перед концертом, и начала играть.
Происходило что-то значительное, это ясно. Ника влезла на подоконник, высунулась в форточку — для кого она играет?
Случайные прохожие удивленно поглядывали наверх, но не останавливались, шли мимо. Снизу девочку не видно. Пятый этаж высоко, на противоположной стороне жилой дом поменьше, и звуки скрипки свободно улетали вдаль, над домами, к деревьям парка.
Ника слезла с окна, села на диван — и не видела, что в доме напротив отворилось окно, посыпались вниз полоски бумаги, замазка. Потом его закрыли, но оно растворилось снова, кто-то толкнул рамы изнутри.
Сначала девочка играла что-то грозное, требовательное. Казалось, что она бьет смычком по струнам, потом — щемящее, горестное, и Ника подумала — это о любви.
Девочка вошла в комнату, прикрыла дверь, заботливо вытерла скрипку, положила в футляр. Ее задор исчез, она устало опустилась на диван рядом с Никой.
— Кто ты? — спросила Ника.
— Таня... Этого мало, конечно. Если ты мне понравишься, расскажу больше. А ты кто?
— Ника...
— Это твоя мама скульптор? — Таня смотрела в раскрытую дверь мастерской, где на фоне большого окна был виден накрытый бюст генерала.
Ника кивнула.
— Никогда в жизни не была в мастерской скульптора. Можно взглянуть?
Вечерело. Рисунки, эскизы, наброски на стенках прятались в сумрак. Бочка с глиной в углу была аккуратно прикрыта, отдыхали на столике чистые стеки — деревянные палочки; уже несколько дней мама не работала. Никаких прежних работ здесь не было, они остались в Киеве, эта мастерская — временная.
Таня подошла к скульптуре. Ника впопыхах не очень тщательно закутала ее, простыня задралась. Таня двумя пальцами осторожно приподняла край влажного холста.
— Кто это?
— Генерал...
— Почему же он плачет?
— Его убили...
— Жалко. Видно, сильный был человек.
— Да, он освобождал этот город.
— Но ведь генералы не плачут... во всяком случае, при людях. Твоя мама ошибается.
— И этот не плачет. Это я... — Ника протянула руку, чтоб загладить грустные, не генеральские бороздки. Но Таня придержала ее:
— Подожди...
Таня внимательно всматривалась в лицо. Вздохнула. Опустила полотно, поправила. Подошла к стене, где висел, в рисунке, эскиз памятника. Памятник должен быть в центре, возле ратуши. Пока там стоит небольшая пушка, горкой сложены снаряды и доска с надписью, что здесь похоронен генерал.
— Сложно все в человеке, — как бы продолжая вслух какую-то мысль, сказала Таня. — И между людьми все сложно. Знаешь, я тебе сейчас кое-что расскажу. — Она потянула Нику в комнату, к дивану.
Таня смотрела прямо перед собой, а Ника на нее, сбоку. У Тани четкий профиль: крупный прямой нос, высокий лоб, волосы черные, гладкие, зачесанные назад без пробора. Сзади — коса, на затылке — аккуратный черный бант. Темное платье со стоячим воротником, из-под него белые зубчики. Настоящая гимназистка.
Таня начала отвлеченно:
— Жил-был мальчик. Началась война, и он стал солдатом, сыном полка... А солдаты идут в бой, их убивают, ранят Мальчик лежал в госпитале. Туда приходили студенты музыкального училища, давали для раненых концерты. Потом одна девочка стала приходить только к этому мальчику. А его разыскала мать и забрала из госпиталя... Когда девочка пришла к ним домой, мать выгнала ее... Даже на порог не пустила. Сказала, ходить нечего, ты — здоровая, а он — калека... Что она понимает, правда? — Таня порывисто повернулась к Нике: — Он не калека, он — солдат, раненный в бою. Я для него играла. Дом напротив... Как ты думаешь, ему в окно слышно было? У него отнялись ноги. А я верю, что он будет ходить! Большая тренировка нужна, большая! И сила воли. И друзья!
— А если... не будет?
— Ну и что же? Ноги есть у меня! И скрипка... Разве мало на двоих?..
Таня ушла. Ника посмотрела в окно. Улица узкая, но деревья голыми ветками заслоняют окна противоположного дома, растут густо, близко к стенам.
Ника прилегла на диван, натянула до подбородка пальто, поджала ноги.
Вот Таня могла бы быть ее подругой, сильной и верной. О себе она, по сути, ничего не рассказала. Но чего стоят Танины глаза — внимательные, думающие. И еще ее музыка...
4
Никина мама пришла поздно. Глянула на вешалку — нет Никиного пальто. Не раздеваясь, помчалась в комнату. Ника спит на диване. Вздохнула с облегчением. Разделась, пошла на кухню — съестным и не пахнет. Опять Ника поленилась приготовить себе ужин. Разве так уж трудно поджарить картошку или отварить макароны? И она бы, глядишь, остатки склевала. Сил нет, как не терпит она эту бабью работу! Даже ради Ники не всегда себя переламывает.
Вытащила из-под стола коричневый ящичек из вощеного картона — американская посылка. Ими иногда отоваривают карточки. Повертела ключиком — у круглой коробочки отвалилась крышка. Понюхала — что-то похожее на плавленый сырок. У этих американцев иной раз и не поймешь, что ешь.
Однажды обнаружили с Никой в банке какой-то порошок. Размочили — оказалось что-то вроде жаркого. Но все это суррогаты. Конечно, сразу исчезают ириски, соленый арахис, жевательная резинка: Ника таскает в школу, угощает девочек. По-настоящему в этих посылках вкусен бекон в длинных банках, но он попадается редко.
Поставила на газ чайник, положила кусок то ли сыра, то ли колбасы на сухое соленое печенье (куда лучше был бы кусок простого хлеба!), надкусила, положила на стол. Больше не сопротивляясь (ведь об этом помнилось ежеминутно, что бы ни делала!), вошла в мастерскую, зажгла свет, откинула покрывало — и вздрогнула, чуть не закричала. Господи, бедная заброшенная Ника! Ведь это ее слезы на суровом мужском лице! Никогда не жалуется, а ей плохо, одиноко. С нею уже нельзя, как с девочкой-малышкой...
Присела на табурет, вглядываясь в лицо генерала. Забыла о Нике, не додумала мысль... «Да, да, я из него делаю изваяние, но ведь он жил, был теплым, кого-то согревал, страдал... Слезы, конечно, не нужны, слезы — это слабость, отчаяние... Слезы убрать, а губы такие, чуть-чуть опущенные, трагические, в уголках печаль...»
Сверкали в мастерской четыре яркие лампочки на шнурах разной длины — для правильного освещения. Забыты и чайник, и бутерброд, и Ника, спящая не в кровати, а на диване под своим куцым пальтецом.
Глава четвертая. «Евгений Онегин»
1
Дворец пионеров — красивейшее здание города, бывший особняк нефтяного капиталиста, был уже в тридцать девятом году, как только в Западной Украине провозгласили Советскую власть, отдан детям.
Немцев вышибли из города быстрым сильным ударом, так что и город в основном сохранился, и здание это уцелело.
Зеркальные стекла, цветные витражи, витые балкончики, лоджии, вбирающие солнце, лепные украшения и скульптурные группы на фасаде, замысловатые скамьи в саду, фонтаны — все это создавало праздничность, приподнятость. Остатки прежней обстановки — обтянутые атласом кресла и диваны, полированные столы и столики, зеркала и паркет — отлично ладили с простыми стульями в зале, с деревянной сценой, шашками и другими играми, разбросанными по столам.
Кружок юных натуралистов, которым руководила Ольга Матвеевна, украсил здание цветами. Они обвили окна и двери, ползли, висели, цвели каждый по-своему.
Когда создали мужскую и женскую школы, все интересные дела — литературные вечера, обсуждения книг — проводились здесь; мальчики приглашали девочек, девочки — мальчиков, целыми классами.
Заходили сюда и просто так — поиграть и поболтать в игротеке и комнате отдыха, как будто и не учились в разных школах.
И директор дворца, и воспитатели, и учителя школ, считая разделение искусственным, старались привлечь во дворец как можно больше ребят из разных школ. И это им удалось. Вечера здесь стали так популярны, что пригласительные билеты на них выдавались в школах как награда.
2
Коллектив Дворца пионеров с энтузиазмом воспринял идею мамы Симы Бецкой поставить силами школьников сцены из «Евгения Онегина».
Мама Симы, Елена Константиновна, которая теперь, величалась руководителем «оперной студии», назначила день для прослушивания и отбора голосов.
Рояль был выдвинут на середину сцены; Елена Константиновна, веселая, энергичная, волнуясь, то ходила по сцене, то перекладывала ноты на рояле и переговаривалась вполголоса с Симой. Обе они были в белых блузках, черных юбках и длинных красных вязаных жилетах. Одинаковая одежда как бы подчеркивала, что Сима — главный помощник мамы.
Девочки, входя в зал, садились поближе к сцене, в первом или втором ряду. Мальчики проникали через другую дверь, подальше, там и оседали, пропадая среди стульев. Их лица слабо белели в полумраке да доносился сдержанный говорок.
Елена Константиновна села к роялю, пропела вполголоса, но в напряженном зале ее хорошо услышали:
— «Ну что же, начинать?..»
— «Начнем, пожалуй», — в тон ей ответила Сима. Они и те немногие, кто знал, что это слова из оперы, рассмеялись. Остальные с ними заодно.
Елена Константиновна подошла к краю сцены, сказала в полупустой зал, выискивая в темноте мальчишеские лица:
— Прошу смелее. Друг друга не стесняться. Начнем с вас, Володя.
Сопенко стал в позу: одну руку на рояль, другую — за отворот куртки. Елена Константиновна сыграла гамму: до, ре, ми...
— А-а-а-а! — пропел Володя.
Она взяла выше. Он легко справился. Ниже — то же самое.
— Благодарю, садитесь.
Выводов Елена Константиновна не делала, но было и так ясно, что роль Сопенко получит приличную.
— Браво, Сопа! — Это голос Рябова из темноты.
— Алик, прошу вас на сцену.
— Нет, нет! — Вот тебе и храбрый Али-Баба.
— Идите. Человек сам иногда не знает, что он может, чего не может.
— Бог все таланты Сопе подкинул, мне ничего не оставил.
— Хорошо, посидите, послушайте других... Ну, кто смелый?
Смелых не было. Зал затаился.
— Может быть, девочки? И девочки боятся? Но мы не можем начать репетиции, пока я вас не прослушаю.
— Можно мне? — на сцену выпорхнула Клара.
— Ай да Пупка! — снова Алик из зала.
— А-а-а-а! — вскинув голову, смело и верно пропела Клара.
Ника снова позавидовала Клариной непринужденности. Ей самой так ее не хватало. Она мечтала петь и играть на пианино. Ей казалось: подойдешь к роялю, осторожно поднимешь крышку, прильнешь руками к клавишам — и звуки, звуки, звуки... Наконец получится то, что не получается в стихах!.. Но музыке она не училась: не было пианино да и переезжали они с мамой часто.
Какое это счастье, когда человек играет или умеет петь!
Голос у Ники обыкновенный, песен и мелодий она знала тьму-тьмущую, но пела только дома, сама с собой, если не считать походов в пионерском лагере. Если бы побольше уверенности, вот так же вскинуть голову, как Клара, и запеть в полный голос...
Но Елена Константиновна была не очень довольна Кларой
— И голос и слух у тебя есть, — сказала она, — но не годится ни для партии Татьяны, ни для Ольги.
Из зала донеслось:
— Пупка, аут!
Клара залилась краской, будто вспыхнула у рампы красная лампочка и осветила Кларино лицо. Елена Константиновна утешила:
— Будешь петь в хоре. Там тоже нужны хорошие сильные голоса... А теперь послушаем вас, — обратилась Елена Константиновна к Нике, когда Клара села рядом с ней и Ника невольно, как маленькую, погладила ее по голове.
— Я тоже буду в хоре! — поспешно сказала Ника.
Ее примеру последовали остальные. Петь в одиночку больше никто не решался, и, кроме Онегина (конечно, Сопенко!) претендентов на главные роли не оказалось.
В хоре Клара старалась петь изо всех сил. Она все еще надеялась, что Елена Константиновна даст ей партию если не Татьяны, то Ольги. Дома она еще раз перечитала «Евгения Онегина», правда только те места, где речь шла об Ольге. Ну разве она, хотя бы характером, не похожа на Ольгу?
Елена Константиновна, будто прочитав ее мысли, сказала:
— У Ольги совсем другой голос. А с тобой мы разучим несколько песен для концерта, аккомпанировать будет Витя Хомяков.
Витя с первой репетиции прилип к роялю. Стоял возле Симы, переворачивал ноты. Елена Константиновна решила дать ему арию Трике: «Ви — роза, ви — роза...» Неустойчивый Витин голос, пускающий петуха, для этой комической арии был подходящим.
Елена Константиновна, а с нею и учителя обеих школ, которые частенько приходили на репетиции, радовались, что их замысел так удался — ребята увлечены оперой, все вечера, даже когда нет репетиций, проводят во дворце. Елена Константиновна муштровала своих «артистов», доводя их до изнеможения, заставляла снова и снова повторять одно и то же, на нытье отвечала: «Музыка — это серьезно...» Она рассказывала о Чайковском, читала во время передышек куски из «Евгения Онегина», в хор набрала столько девочек и мальчиков, сколько могло вместиться на сцене, за роялем, в отведенном для хора месте.
«Евгением Онегиным» заболели все. Даже те, кто не участвовал в сценах, приходили просто посмотреть и послушать. Среди них был и Рябов. Петь в хоре он отказался, но упорно приходил на каждую репетицию. Елена Константиновна ломала голову, чем и как занять его, оторвать от Игоря. Но что делать, если никаких вокальных данных у Рябова не оказалось? Петь при всех он, конечно, отказался, но Елена Константиновна расспросила его маму — у Алика не было не только голоса, но и слуха. А ему хочется быть среди участвующих в опере, это же видно, хоть он и прячется за снисходительную улыбку.
Ленским стал Леня Мартыненко. В роли Ольги Елена Константиновна решила попробовать Нику. У Клары навернулись слезы — рушилась ее последняя надежда. Разве Ника — Ольга? Это же самая типичная Татьяна с ее меланхолией! Но в опере голос важнее всего остального, ничего не поделаешь.
Клару Елена Константиновна «назначила» няней. Это немного успокоило ее.
Решили ставить фрагменты: дуэт Татьяны и Ольги, письмо Татьяны, дуэт Ольги и Ленского, ария Трике, дуэт Онегина и Татьяны, завершить дуэлью...
Чтобы связать арии, дуэты и сцены, нужен был ведущий — читать куски из поэмы. В конкурсе на роль чтеца участвовали все, кто не был занят в главных ролях.
И вдруг когда кто-то из мальчишек, волнуясь, давился словами: «Мой дядя самых честных правил...» — Рябов, прямо с места, начал читать за него, сначала сидя, потом встал, дочитал отрывок четко и выразительно. Это всех так удивило, что никто не возразил, когда Елена Константиновна объявила, что Рябов победил. Как ни старался Алик сделать пренебрежительное лицо, это ему не удавалось — он был доволен.
Репетировали теперь каждый день. В оркестр пригласили ребят из музыкального училища — несколько скрипок, виолончель. Так во дворце появилась Таня со своей скрипкой.
Однажды в зал проник Игорь Мищенко. Дежурных, стоящих у дверей, он и спрашивать не стал, оттолкнул, коротко бросил: «Мне — к Рябову!»
Алик был на сцене, все участники сидели в первых рядах.
Игорь оказался в темном зале один, никто его не заметил. Но быть долго незамеченным он не умел.
Рябов дочитал текст, на сцену выбежала Ника, села на стул. Она была простужена, с завязанным горлом, но петь ей было не нужно, так как сейчас она заменяла Татьяну: Татьяну так и не нашли, на репетициях кто-нибудь свободный подменял ее.
Ника, отвернувшись, выслушивала самодовольную нотацию Онегина:
— «Вы мне писали, не отпирайтесь...» — Сопенко вошел в раж, поучал Нику с явным удовольствием: — «Подумайте ж, какие розы нам заготовил Гименей...»
В это время голос из зала:
— Никуша, плюнь в глаза этому умнику, иди лучше ко мне!
Смолкла музыка. Елена Константиновна повернулась к дежурным у двери:
— Я же просила посторонних не пускать...
— А чего вы боитесь? Что я, онучки тут ваши украду? — Обидные слова Игорь произнес с издевкой, хохотнув.
Никто не успел решить, что делать. Положив свою скрипку на рояль, в зал соскочила Таня, спокойно подошла к Игорю и влепила ему пощечину.
— Это тебе за онучки, разъевшийся негодяй!
Игорь даже помыслить не мог, чтоб кто-то осмелился поднять на него руку. Ожидая Таню, которая лавировала между рядами, приближаясь к нему, он приподнялся на полусогнутых ногах, на лице — обычная усмешечка. Получив пощечину, плюхнулся на стул, но откидное сиденье поднялось, и он съехал на пол, покатилась под стулья кубанка. Пока Игорь искал ее, Таня так же спокойно вернулась на сцену. Игорь надвинул кубанку на глаза и молча, в тишине, вышел из зала.
Настроение было испорчено. Казалось, даже Алик Рябов стыдится своего дружка. Ребятам не хотелось больше петь, не хотелось жить в девятнадцатом веке. Как ни прекрасно искусство, оно не в силах разрешить всех сложных проблем и отношений.
— Хотите, я вам сыграю? — Таня взяла скрипку, стала у самой рампы.
Мало кто знал, что играла Таня, да и мало кто из них вот так близко, всерьез слушал скрипку. Но как-то постепенно уходила напряженность, музыка снова приобретала значительность, объединяя и захватывая всех.
Закончив, Таня сказала:
— Это Шуберт. «Серенада».
И они еще долго, с упоением репетировали в тот вечер, позабыв о наглой выходке Игоря.
Из дворца ребята вышли гурьбой. С ними не было только Елены Константиновны, Симы и Володи, который всегда провожал Бецких.
На аллее, ведущей к воротам, стоял Игорь с какими-то своими новыми друзьями, загораживая проход. Он вызывающе сказал, обращаясь к Лене Мартыненко:
— Мартышка, а ведь ты должен мне «американку». — Он специально сказал «Мартышка», знал, что это лучший способ разозлить Леню. — Забыл?
Споры «на американку» были очень распространены. Проспоривший должен выполнить три любых желания выигравшего.
— Нет, не забыл.
— Мне пришла в голову блестящая мысль: верни от моего имени пощечину темпераментной леди со скрипкой.
— Подонок ты все-таки! — Леня повернулся к Игорю спиной, прикрывая Таню.
— Сам же на пощечину нарвался, — сказал Алик.
— И ты стал пай-мальчиком. — Игорь насмешливо козырнул Алику. — Браво! Ну иди, веди цыплячий выводок, продавай нашу дружбу.
— А я и не продаю. — Рябов откололся от ребят, пошел к воротам, увлекая за собой Игоря.
«Не так просто разбить компашку», — подумала Ника.
...Репетиции продолжались, а Татьяны не было. Елена Константиновна прослушивала девочек из других школ, но Татьяна не находилась.
И когда уже все были в отчаянии, Клара сказала:
— Есть Татьяна... Вернее, Иванна...
Глава пятая. Иванна
1
— Ива-а-а!
Зов маленькой сестренки Даны уже не перелетел через вершину последнего горба, утонул внизу, по другую сторону, где село осталось. Хата их у леса, а возле хаты брат, мать с отцом, у матери на руках Стефця, впереди всех — Данка...
Иванна уходила от них по медленной дороге, которая накидывала петли на горбы, а их тут немало, связывала в узлы, чтоб не оторвались от села, не потерялись. И вместе с нею кружила Иванна, а когда показывалась, снова и снова этот крик Данки. Другие стояли молча, знали: Иванна не вернется.
Иванна не вытирала слез, чтоб они там, внизу, не поняли, что она плачет. Задержалась на последнем горбе, окинула взглядом и горы, и хаты, и людей, майнула вниз, напрямик, чтоб не удерживала больше петлями дорога.
Солнце взошло, кинуло на село длинные тени, и запомнилось оно Иванне таким вот полосатым, мерцало перед глазами маленькими оконцами пробудившихся хат, жило у губ запахом молока и дыма, стонало в ушах Данкиным «Ива-а-а!», будто не позади осталось, а было впереди.
Но впереди — дорога. По-над речкой, меж горами, лесом — всякая дорога, и не так безопасно на этой дороге, а все же должна идти, раз решилась. Иванна торопилась проскочить безлюдный путь по утреннему холодку, надеялась: и зверь лесной еще спит после ночной охоты, и человек, тот, что пострашнее лесного зверя.
Маленький узелок не мешал размахивать руками, босые, привычные к земле ноги легко ступали по прохладной летней тропе.
Родилась она в своих Подлесках, прожила шестнадцать лет и не думала, что может покинуть Подлески, мать, отца, брата, сестер и идти искать свою, отдельную от них дорогу.
Село было маленькое, бедное. Неутомимый горный поток намыл землю, и луг тут был, и куски пашни меж горбами — столько, чтоб не умирали люди с голоду. А еще богатство — лес. Сумрачные смереки — ели — не любили низин, оставались верными сторожами гор, вниз же сбегали деревья повеселее, пооткрытее — дубы, березы, орешник.
В таком селе трудно сказать, какая хата крайняя. Выбирая солнечный затишок, хатки тулились к горбам, где какой удобнее. А та, в которой Иванна свет увидела, из крайних была самая крайняя. И никогда бы, может, не покинула ее Иванна из-за своей великой любви к селу, к горам, к лесу, если бы не отец...
Говорят, когда-то в их хатке жила большая любовь. Отец Иванны, польский чех, ходил по селам, не признавая границ, шил людям обувь и в Чехии, и в Польше, и на Украине. От Карпат далеко не уходил. Так и в Подлески забрел; остался же навсегда, увидев Анну — мать Иванны, которая похожа была на лесную царевну Мавку. Из-под ее черных бровей зелеными глазами светило в их хате неведомое, потаенное лесное царство. Когда Иванна была маленькая, она глядела на мать, притаившись на печи, любила ее за красу и боялась, потому что всем же известно, что Мавки только спереди такие красивые. И она вглядывалась в мамину спину, склоненную то у печи, то над люлькой, то над шитьем, видела плечи, обтянутые белой полотняной сорочкой с вышивкой по вороту. Мама удивлялась, когда Иванна вдруг слетала с печи, обнимала ее, прижималась сзади к теплой живой спине, а лесные озера разливали из маминых глаз зеленый ласковый свет.
Хата была на две половины: одна — слепая, там стайня для скотины, другая щурилась маленькими оконцами — там люди. В такой хате удобно зимой: люди греют скотину, скотина — их, не нужно обуви, одежды, чтоб ухаживать за скотиной. Зато летом — мухи, навозный дух, сколько ни чисть.
Два запаха сопровождали Иванну с детства: зимой — теплого навоза и молока, летом — деревьев, трав, ягод, листьев, грибов — всего того, чем богат лес, чем дышали они, ночуя в стодоле на свежих травах и ветках, пока не было там сена.
Мама часто пела. Иванна, слушая, вспоминала то старое дерево над обрывом, которое всегда скрипело, сползало все ниже, а не падало, то весеннюю воду, которая, не вмещаясь в ручьи и борозды, стекала с вершин светлыми широкими пластами меж деревьев, по листьям и камням, то тихие утренние туманы, со звоном раздерганные солнцем.
Иванне повезло, что видела маму такой. Другие дети, кто был помладше, даже не верили, когда Иванна рассказывала им о молодой маме.
Отец шил людям сапоги, заказы ему приносили даже из соседних сел. Когда заказов не было, сам ходил искать работу.
Сколько раз Иванна слышала от людей: деньги — счастье. Но теперь твердо знала: нет, не счастье.
Несчастье в их хату пришло вместе с деньгами. В Чехии умер дядька отца. Вызвали отца в город, вернулся он богачом: притащил большой узел с деньгами — наследство. Ни мать, ни отец даже не знали, сколько их там, в узле. Оба, беспечные, веселые, радовались нежданному счастью. Работу отец забросил, каждый день приходили люди: тому одолжить на свадьбу, тому на дом. Даже священник пришел — просил на церковь. Тоже дали. Как водится, несли самогон — вспрыснуть. Никаких расписок никто не давал, и никто потом денег не вернул. Водка текла рекой, унесла она и золотые руки отца, и мамины песни, и дивную их любовь, которой завидовали люди. А Иванна возненавидела тот третий запах, который теперь жил с ними в хате, перебивая все остальные,— запах самогона, едучий, грязный. Боялась вечно пьяного отца и жалела мать.
А еще отец стал бить маму...
Вспоминая все это, Иванна не могла понять, как умещается в людской душе за короткую жизнь так много всего, почему может вдруг сгинуть большая любовь, а на ее место приходит злость и жестокость?
Отец — это вечный страх. Полагается, чтоб у детей был отец, но лучше бы его не было...
Когда он кидался на маму с кулаками, они все бросались на него, кусали, царапали, Иванна — первая. Он свирепел, рычал: «У, волчья стая!»
Ни разу Иванна волков не видела и представляла их такими, как отец. А он бил всех подряд, хватал за рубашки, выкидывал голых на снег, на мороз, на дождь...
Страшно зимой — не спрячешься. Из хаты — никуда, потому что голые. Но только весна тронет ласковым теплом землю, зазвенят потоками горы — дети пурх на волю, прильнут ладошками к теплой коре деревьев, бегают босиком аж до осенних ветров, пока не сгонят они с деревьев последние листья и не посыплют стежки ледяной крупой.
Дети — пташки, какие же они волчата?
2
Когда пришла Советская власть, их семья из всех бедняцких была самой бедной.
Что это такое — Советская власть, Иванна, да и не только она, в то время плохо себе представляла. Но жизнь меняться стала сразу.
Никому раньше до них дела не было, а тут пошли по селу молодые девушки, веселые и смелые, никого не боялись, в каждую хату заходили, как в свою, записывали детей в школу. По годам Иванна должна была учиться в третьем классе.
Отец пускать в школу не хотел, собирался отдать Иванну в соседнее село на заработки — гусей пасти, но ему строго сказали, что все дети должны учиться, это закон новой власти.
Раньше она не знала, что оно такое — счастье. Мама, бывало, вздохнет: «Есть же счастливые люди...» Иванна думает: счастливые — это сытые. А в тот день, когда в первый раз пошла в школу, к учительнице Марии Васильевне, решила, что счастье — это школа.
Мария Васильевна как мать, только мама невеселая, отца боится, жалко ее, а эта — веселая, никого не боится, с нею не страшно, и так много всего она знает, что никогда ее не переслушаешь.
На первом же уроке Мария Васильевна рассказала детям про Советский Союз, про Ленина, сказала, что и они теперь, и их село, и соседние, и вся Западная Украина — тоже Советский Союз. Теперь все дети будут учиться, люди пойдут в колхозы, не будет бедных и голодных...
Как быстро пробежали те два года! Иванна училась хорошо, учительница хвалила ее.
Ко всему у Иванны душа лежала — и писать, и считать, и рисовать, и вышивать, и петь. Не понимала тех, кто крутился на уроках, плохо слушал. Как это Мария Васильевна не сердится, спокойно с ними говорит? Иванну бы на ее место, она бы выкинула всех, кто мешает, за дверь — пусть попробуют, хорошо им будет без школы?
За два года прошла Иванна четыре класса.
Те два года — как одно большое теплое лето. Вроде и зимы не было и ничего плохого. Все заслонила большая радость, потому и не запомнилось плохое...
А жилось им тяжело, хотя и дали, как многодетным, корову и большой участок земли.
Отца в сапожной артели держали только ради детей, но денег его они не видели — пропивал. Много работали на огороде, в поле; ждали осени: спасет бульба — картошка,— хорошо уродила, хватит на зиму, на посев весной. Выкопали, ссыпали в погреб, закрыли в ямы до весны.
Вдруг въехали во двор фиры — подводы, — какие-то чужие люди стали раскрывать ямы, грузить бульбу на подводы.
Мама плакала, кричали дети, кидались то к ямам, то к фирам. Сердитый дядька отбивался от них, как от собачат:
— Чего кричите? Ваш батько давно эту бульбу пропил…
Сбежались люди, но никто не знал, что делать, знали только: остаться без бульбы в зиму — это голод. И тогда Иванна побежала за Марией Васильевной...
Никого не побоялась Мария Васильевна: ни пьяного отца, который притащился откуда-то, ни дядьку, который кричал, чтоб ему вернули деньги. Не позволила увезти ни одного мешка.
— Не старые времена — Советская власть, — сказала она дядьке. — Разберется. Картошку увозить не дам. Что глядите, люди? Несите мешки назад!
Иванна мечтала: вырастет — обязательно будет такой, как Мария Васильевна, будет учить и жалеть детей, людей защищать.
Не вернулась после войны Мария Васильевна в село. Ушла, когда началась война, с отступавшими солдатами.
В их маленьком бедном селе немцев не было, Иванна их и не видела, разве когда отступали. Только все пошло по-старому, как до Советской власти. Школу закрыли, на старом месте, на раздорожье между селами, снова открылся шинок, и отец тащил туда из хаты все. Голодали. Соседи кормили картошкой кур, а дети ползком подбирались и ели. Помогал им лес — хворостом, ягодами, грибами.
Бронек научился сапожничать, украдкой от отца брал его инструменты, чинил обувь.
Иванна про школу не забывала. Раз сказала Мария Васильевна, что Советская власть вернется, значит, вернется. А с нею и школа для всех детей, обязательно для всех!
Советская власть вернулась, а Мария Васильевна — нет. Не хотела верить Иванна, что погибла ее любимая учительница, и все дети долго еще ждали и вспоминали Марию Васильевну.
3
Новая учительница, к которой пошла в пятый класс Иванна, была тоже молодая, как Мария Васильевна, но не такая веселая. Потом уж Иванна узнала, что у нее погиб на фронте муж.
И Бронек пошел в первый класс. Мама очень хотела, чтоб ее дети учились. Сапоги на всех были одни. Сначала мама отведет Бронека, сапоги принесет — идет Иванна.
Для Бронека и Иванны хата стала ненавистной. Их дом — школа и лес. Но и лес был теперь не тот, где они, как пташки, летали и кормились. В лесу завелись страшные люди — лесовики, бандеры. Их боялись и ненавидели. Они вредили всему тому, что так ждала и любила Иванна, — Советской власти и школе. В соседнем селе убили учительницу, и Иванна не могла понять, как же позволили такое люди, что учительницу убили?!
Раньше Иванна радовалась, что их дом под крылом у леса, а теперь от этого одни беды.
Первый раз лесовики пришли ночью, когда дети спали. Двое вошли в хату, двое стали на улице с автоматами. Стащили с детей одеяла, занавесили окна, велели Иванне и Бронеку (младшие не проснулись) повернуться к стене. Приказали отцу починить сапоги. Он был пьяный, инструмент валился из рук. Его стали бить. Отец всхлипывал, его голова стукалась об скамейку... Бронек сказал:
— Не бейте, я сделаю, я умею.
Отец заполз под лавку, затих. Бронек стучал молотком. Лесовик спросил у него:
— Ты жовтеня (октябренок)?
— Ни...
— А кто ж ты?
— Хлопчик...
— А твоя сестра комсомолка?
Бронек молчал. Руки у него дрожали, гвозди выскакивали из пальцев.
— Та покинь его, нехай краще чоботы зладнае! — сказал другой, Слива.
У всех бандеровцев были не имена, а клички. У этого, Сливы, нос синий, здоровенный. Другой бандеровец, юркий, цепкий, злой, — Зеленый Змий.
Зеленый Змий подошел к кровати. Иванна заслонилась подушкой.
— Ты комсомолка?
Иванна, как и Бронек, ответила:
— Ни... Я Иванна.
— В какой класс ходишь? — не отставал Зеленый Змий.
— В пятый.
— А выглядаеш вже як дивка.
Иванна заплакала.
— Не плачь. — Слива достал пачку печенья; Иванна не смела протянуть руку, он бросил на постель.
— А кто в вашей школе комсомольцы? — снова разговорчивый, покрутившись по хате, подошел к Иванне.
— Не знаю.
— Так узнай. Придем в другой раз — скажешь...
Печенье есть они не стали, даже пачку не решились распечатать: вдруг отравленное! Положили между собой на подушку и нюхали, пока не заснули. Проснувшись, Иванна завернула пачку в платок, чтоб не увидели малые дети, не просили.
Рано утром побежала к Анне Владимировне, все рассказала, показала печенье.
— Печенье съешьте, ничего, — сказала Анна Владимировна. — Наверное, и не пробовали никогда? А знаешь, за что убили учительницу? За то, что она комсомолка...
— А вы? — У Иванны застыло сердце.
— И я. В Советском Союзе все молодые вступают в комсомол, так завещал Ленин.
— Я тоже буду комсомолкой, — сказала Иванна. Раз Анна Владимировна, значит, и она.
— А лесовиков не боишься?
— Боюсь...
— Так как же?
— Я их ненавижу!
Учительница объяснила Иванне, чего хотят лесовики: чтоб не было Советской власти, чтоб не создавались колхозы, чтоб лучшая земля вся была у богатых, а бедные терпели свою бедность, работали и не стремились учиться. Большинство среди бандеровцев — это те, кто служил немцам, фашистам, в гестапо, в полиции, убивал советских людей.
Теперь Иванна плохо спала, слушала: не идут ли страшные лесовики. Будут выпытывать ее про комсомольцев... Разве может сказать Иванна, что ее учительница — комсомолка?
Пришли другие лесовики. Вынули из печи хлеб, выпили молоко, велели отцу зарезать пять кур.
— У нас только три, — сказал отец.
— Возьми у соседей.
— Вам надо — вы и берите. Я хоть пьяница, да не вор.
Его снова стали бить. Уходя, пригрозили:
— Если про нас расскажешь, вырежем всю семью!
Бандеровцы не давали житья. Только мать посадит хлеб в печь и из трубы потянет хлебным дымком — является из леса бандеровец с мешком, весь хлеб — в лес. Только мать подоит корову — все молоко в лес...
4
Мать отвела корову в колхоз:
— Пусть хоть хорошие люди пьют молоко. Может, и нам когда дадут. Не буду больше кормить эту банду!
Вечером бандиты пришли за молоком. Узнав, что корова в колхозе, забрали все, что еще можно было забрать: посуду, постель, одежду. Пригрозили: молчите. Отец боялся, а мать пошла в сельсовет. Ночью ястребки устроили засаду. Бандеровцев поймали. Сельсовет выделил какие-то деньги. Отец на радостях напился и сшил Иванне сапоги на одну ногу. Так она и ходила. Но никто не смеялся. Смеяться над Иванной не могли: среди своих товарищей и подруг она во всем была первой. В хоре — запевалой, в классе — отличницей, на спортивных соревнованиях — впереди. Получила грамоту и спортивный костюм с тапочками. Костюм отдала Бронеку, в тапочках сама форсила.
Для школы купили гармонь «хромку». Иванна оставалась после уроков, разбирала по самоучителю, что к чему, выучила ноты, могла подобрать любой мотив. Играла на всех школьных торжествах. Потом купили для школы баян. Стала Иванна и на баяне играть.
Снова за два года три класса. Седьмой — с похвальной грамотой. Рвалась учиться дальше. В их селе средней школы не было, нужно ходить в соседнее.
— Учебы хватит! — сказал отец. — Грамотная. Будешь работать.
Мама настаивала — пусть Иванна учится.
Анна Владимировна — она уже была директором школы — вызвала к себе Иванну и сказала, что в городе открывается музыкальное училище, принимают после седьмого класса, отличников — без экзаменов.
— Ты должна учиться, Ива. Стипендия там маленькая, но ведь ты ко всему привыкла. Устроишься работать.
Анна Владимировна помогла оформить документы, школа дала денег. Отец документы порвал, а деньги пропил. Это было первое большое горе в жизни Иванны, оно казалось непоправимым.
Но документы оформили снова, а чтоб заработать денег, они с Бронеком и Данкой все лето собирали в лесу землянику и малину и носили на станцию продавать. Бронек умел делать сопилки, разные палочки с орнаментом, их тоже охотно покупали.
Зато теперь вот у Иванны босоножки голубенькие с белым кантиком лежат в узелке, и даже маленькие каблучки есть. Платье, тоже голубое, ситцевое, с мамой сшили руками. И косынка из того же материала, выкроили косячок. Не стыдно будет в городе показаться.
Мама говорила:
— Иди в свою жизнь, Иванна! Выучишься — тогда и нам поможешь. Учись за меня и за себя.
...С боковой лесной дороги Иванна вышла на широкую, покрытую брусчаткой. Стали попадаться машины, люди на фирах, пешком. А впереди, внизу, во впадине меж горами, показались красные черепичные крыши, заводские трубы — выше гор, прямо в небо дымом упираются. Вот он, город...
Иванна увидела на обочине колонку, вымыла ноги, обула босоножки, зашла за дерево, поглядела туда-сюда — никого, сняла старенькую кофточку, надела платье, поправила косу, повязала косынку и зацокала непривычно по тротуару каблучками.
Мама наказывала: людей не бойся, спрашивай — помогут. То же говорила Анна Владимировна, когда прощалась с нею: людей не бойся...
Иванна дошла до центра, потопталась у витрин еще закрытых магазинов; взгляд перескакивал с одного предмета на другой, но, заманчивые, не приманили они души — полна она была другим: тревогой, неуверенностью, которая так ее всю сковала, что и шагу ступить, казалось, больше не сумеет. И чтоб совсем не растеряться, Иванна пошла вперед, читая вывески на каждом доме, который, как ей представлялось, по виду мог быть училищем. В том, что это здание особое даже по виду, не сомневалась.
Добралась до площади. Посредине белое здание с высокой башней и часами. Над ним — красный флаг. Сразу видно, оно над городом старшина. Послушала, как бьют часы, а времени не разобрала: цифры какими-то палочками, таких Иванна не видела.
Постояла у могилы генерала, прочитала надпись. Значит, тут были бои, даже вот генерал погиб. А возле их села и боя не было, кому оно нужно, их убогое маленькое село...
Остерегаясь пыли — не запачкать бы платья, — подошла к дядьке, который трещал длинной метлой по камням, сгонял мусор в кучу. Дядька перестал шаркать, охотно и подробно объяснил, где училище, сам спросил, откуда она, есть ли в городе родственники. Если в училище не примут (у Иванны сердце заныло), посоветовал походить по домам, поспрашивать; может, кто-нибудь возьмет в няньки, таких девушек из сел к детям берут охотно: на заводы наехало много люду, детских садов и яслей не хватает. Дядька даже до угла проводил, где начиналась нужная ей улица.
Иванна приободрилась, снова вспомнила слова мамы и Анны Владимировны: люди помогут, бояться не надо. Не доходя до того здания, на которое показал дядька, приметила вывеску: «Педагогическое училище». Остановилась. А почему это она идет поступать в музыкальное, когда вот оно, то единственное, которое нужно ей, — педагогическое? Вспомнилась Мария Васильевна, школа, мечты. Наверное, Анна Владимировна просто не знает, что в городе есть педагогическое училище. Иванна направилась к двери.
Никаких осложнений в училище не возникло. Девушка-секретарь сказала, что Иванна опоздала, вступительные экзамены уже закончились. Но взяла ее документы, характеристику из школы, глянула на Иванну с уважением — в табеле одни пятерки, уточнила название села, внесла ее в списки и сказала, что занятия начнутся через две недели, расписание будет вывешено в коридоре, нужно приходить к девяти часам... На удивленный взгляд Иванны девушка ответила:
— Нужны местные кадры. Таких, как ты, принимают без всякого...
Так просто и буднично. Иванна и бояться еще не перестала, и опомниться не успела, а ее приняли в училище. Но одного, очень главного, не спросила девушка: есть ли у Иванны жилье (а дядька вот сразу спросил), ничего не сказала пре общежитие и стипендию — те веские доводы, которыми утешала и подбадривала ее Анна Владимировна. В приемной больше никого не было, дверь с холодной дощечкой «Директор» молчала, и Иванна побоялась спросить, постеснялась, тихо сказала «спасибо» и вышла на улицу, не понимая, радоваться ей или плакать. Все же не заплакала, села на скамейку в сквере на углу улицы, решила все спокойно обдумать.
Можно на две недели вернуться домой, но возвращаться она не должна. Чтобы учиться, нужно устроиться в городе, поискать работу, о которой говорил дядька.
Денег у нее совсем мало, почти нет.
Иванна шла по улице, обсаженной каштанами, под ними даже в жару прохладно, а сейчас, утром, там еще зябли ночные холодки. Наверное, это главная улица: на домах вывески, да и дома все большие, многоэтажные. Слева темное здание костела с острыми шпилями. Красные кирпичи, напитанные временем и воспоминаниями, потемнели, мох узорами полз от фундамента вверх.
Иванна подошла ближе. Ей хотелось посмотреть, как идет служба, послушать орган.
В их селе была плюгавенькая церквушка, туда очень редко, на самые большие праздники, ходила мать. Отец записал детей в католическую веру, так как сам был католиком, но водить их, голых и босых, в другое село, где был костел, не мог, поэтому росли они безбожниками, детьми леса и природы.
Всего один раз была Иванна в костеле. Его было видно издалека, с дороги. Как стали подходить к той костельной горе, показалось Иванне, что из земли пробивается какой-то рокот, проходит через ноги в самое сердце. И чем ближе они подходили, тем рокот густел, перебирался из земли в синий воздух, в деревья, людей.
Иванна не могла понять, что это такое, только сердце ее дрожало и плыло ввысь, как неведомые звуки. Потом она поняла, что звуки и то дрожание — не из земли, а от костела, во всю ширь и глубь. Отец объяснил — это орган...
Позже Иванна пробовала припомнить на баяне то рокотание, но выходили звуки без их особой слоистости и глубины. Значит, те звуки мог рождать только орган.
Иванна обошла вокруг костела. Разъеденные травой дорожки, когда-то выложенные кирпичными плитками, показали ей, что костел необитаем; увидела она и забитые досками двери, большую дыру в куполе, пробитую снарядом, березку, неведомо как прилепившуюся на карнизе, бодрую и веселую.
Зыбкое положение березки снова повернуло ее мысли к себе. Она пошла дальше по улице. Вот и школа, двухэтажная, с большими окнами. Вокруг деревья, цветы, скамейки. Напротив — Дворец пионеров, каменные мальчик и девочка с горном и барабаном, и тоже всюду цветы, на всех окнах, в саду. Кто учится в такой школе, ходит в такой дворец, куда и войти-то страшно по мраморным ступеням? Что это за дети особенные, городские?
Главная улица завернула направо, налево вниз пошел отросток, узкий и еще более зеленый.
Много улиц обошла Иванна с разными домами и ничего не нашла, потому что стеснялась спрашивать, надеялась, что какой-то добрый человек сам увидит и спросит, почему она бродит одна, такая потерянная, усталая, и она скажет, что хочет служить в нянях, ничего ей не нужно, только угол да кусок хлеба да еще чтоб ее пускали на занятия в училище, а все, что не успеет сделать днем, она и ночью доделает, она сильная, все умеет. Но никто ее не спрашивал, город спешил, люди торопливо проходили мимо.
Время шло. Иванна посидела в сквере, съела хлеб, что был с собой, выпила газированной воды. Деньги тратить боялась.
Скитания придали ей смелости, она снова решила пойти в училище, спросить про общежитие и стипендию, но приемная комиссия работала только до четырех, а на ратуше уже пробило пять. Уборщица сказала, что никого нет.
5
Подобрав ноги под себя и накрыв плечи маминым клетчатым платком, который заменял ей и кофту, и плащ, и пальто, Иванна сидела на скамейке.
Она выбрала скамейку на главной улице, на которую падал свет из окон большого дома напротив, где был магазин. Так было не страшно.
Милиционер похаживал мимо, косился: чего она тут сжалась в комок, сразу видно, что забрела откуда-то в город бездомная; но не спрашивал: еще на улице много гуляющих и каждый может сидеть где ему вздумается. Но он все же решил эту девочку из виду не выпускать.
Иванна задремала и не заметила, что рядом сел какой-то человек. Вздрогнула, открыла глаза, увидела пожилого мужчину, спокойное и неулыбчивое лицо, повернутое к ней, лысую голову (шляпа лежала на колене, он придерживал ее рукой), глаза внимательные, сочувствующие. Лицо как лицо, даже некрасивое, но что-то такое исходило от него, что Иванна могла бы определить только двумя словами — доброта и усталость. И еще почуялось Иванне, что человек этот на скамейку присел не ради нее, а чтоб передохнуть, собраться с думами, а потом уж ее разглядел.
— Кто ты, девочка, откуда? — спросил он тихим ровным голосом.
Милиционер подошел поближе, остановился на таком расстоянии, чтоб назойливым не казаться и все слышать.
Весь день ждала Иванна этого вопроса, поэтому рассказала все: из какого она села, зачем пришла в город.
— Приняли в училище?
— Да...
— Что же ты здесь сидишь? В училище нет общежития?
— Не знаю...
— Растерялась? — усмехнулся понимающе. — И напрасно. Ты же молодчина, учиться поступила, а в пустяках теряешься. Не давать им поблажки, этим пустякам, они едучие, как комарье. Вроде и не съедят, а уж изведут... Замерзла? (Иванна кивнула.) Есть, конечно, тоже хочешь? Ну идем! — Он поднялся, протянул Иванне руку.
Она все же испугалась: хоть и хороший, видно, человек, а незнакомый, чужой.
— Да не бойся, глупая, у меня дочка такая, Клара...
С главной улицы они спустились вниз по переулку и вошли в калитку одного из тех красивых домов, в которых, как подумала Иванна, и люди живут красивые.
Глава шестая. Володя
1
Заниматься Володя Сопенко приходил к Алику Рябову. У Володи тесновато, младший братишка со значительным видом раскладывал свой букварь и тетрадки в косую линейку на его письменном столе. Хотя у Володи уроков больше и девятый класс — не первый, он уступал брату стол, стараясь поддержать и развить в нем черту, которая, как ему казалось, была в человеке самой важной — серьезное отношение к делу.
У Рябова своя комната, в ней просто и уютно, как, впрочем, и во всей квартире Рябовых: ничего лишнего, все на своих местах, много света, воздуха, цветов. И даже книги неплохо подобраны на этажерке в столовой, на полке в комнате Алика.
Володя удивлялся расхлестанности Алика, его дружбе с Игорем, считал это все временным, придуманным нарочно, для рекламы. Тот, второй мир, где Алик был прославленным Али-Бабой, Володя воспринимал как детскую слабость и снисходительно прощал ему, как прощал брату деревянный пистолет и эти «ту-ту-ту» и «ды-ды-ды», которыми строчили из самодельных пистолетов и автоматов мальчишки во дворе, все еще воюя с «фашистами».
Голова на плечах у Алика есть, тормозов не хватает. Когда заставишь его сосредоточиться, вникнуть, он решает самые сложные задачи, по истории сам читает шире программы, иногда удивит какой-нибудь деталью, вычитанной в книге или старой энциклопедии, которая валялась у него в ящике под кроватью. Поэтому Володя прощал Алику цинизм и расхлябанность. Алик же искренне им восхищался, завидовал его знаниям, умению распределить свой день, чтоб ни одной пустой минуты. У них было недоговоренное, но принятое обоими условие: о их занятиях, встречах, о их своеобразной дружбе никто не должен знать.
Володя понимал дружбу просто: когда общее дело. Он был уверен, что в конце концов дело перетянет Алика, тот отколется от Игоря. Они с Аликом встречались не часто, но занимались с удовольствием. Эти встречи начались по просьбе родителей Алика позаниматься с их сыном. Отец Володи работал вместе с отцом Алика — не откажешь. Но потом Володя не пожалел: с Аликом ему было интересно. После занятий они разговаривали, Володя читал стихи — чужие, и свои — и наслаждался восхищением Алика. Они оба знали, кто из них выше. Володя заводил с Аликом разговоры на любые темы — от вечности мироздания до каких-нибудь повседневных мелочей, ему было интересно знать, как мыслит его подопечный. В себе он вырабатывал философское отношение ко всему. Колебался, какую дорогу ему избрать после школы, но в конце концов решил что пойдет на философский факультет и целью его исследований будет человек.
Никогда не говорил Володя с Аликом только об одном — о любви. Володе никто не нравился, на девочек он смотрел чуть-чуть снисходительно и даже не предполагал, что среди этого крикливого, занозистого, все время насыщенного какими-то тайнами племени, живет и его будущая избранница, что у нее косички или стрижка и тоненький голосок, что носит она обыкновенную школьную форму. Нет, его избранница явится из другого мира, какого, он и сам не очень отчетливо представлял, но — иного, того, что скрыт за изображениями необыкновенных женщин на бессмертных полотнах, с таким челом, с такой улыбкой, как у Моны Лизы, с такой затаенной глубиной, как у «Незнакомки» Крамского. Любовь была для Володи пока только мечтой.
Когда девчонок перевели в женскую школу, он был даже рад. На расстоянии они становились значительнее, было легче к ним присмотреться.
Чем-то необычным повеяло на него от строгой большеглазой Ники, тогда, в пионерском лагере. И Клара затронула своей жизнерадостностью, которая била из каждой ее клеточки. Они были всегда вместе — Ника и Клара. В своей избраннице ему хотелось видеть что-то и от Ники и от Клары. Но Клара каким-то образом умудрилась попасть в компашку, а Ника долго еще манила его, но уж очень она была сдержанной, да и виделись они совсем редко. Приятным сюрпризом для него было то, что Ника пишет стихи; несколько раз он специально ждал ее у школы, провожал домой, но всякий раз, чтоб подойти к стихам, начинал рассказывать о каком-нибудь поэте, увлекался, его «заносило», он уже мог говорить только сам, а Ника была отличной слушательницей, внимательной и молчаливой. Так же внимательно она слушала и его стихи, в ее внимании чудилось одобрение, а это еще больше подхлестывало.
Когда они уже стояли у подъезда, он спохватывался, говорил извиняющимся тоном:
«Прочитай и ты, ведь ты тоже пишешь, я давно хочу послушать».
Ника отказывалась:
«Нет, нет, у меня ничего не получается».
«В следующий раз непременно почитаешь, ладно?»
Но следующий раз откладывался, не хватало дня, чтоб сделать, прочитать, выучить все, что хотелось. Он и спортом занимался — грудь узковата. Не в секции, сам. Достал у тренера необходимую брошюру, понукатель ему не нужен. И дома по хозяйству кое-что делал: родители работали, брат был на его попечении. Так что на девочек, и на Нику тоже, времени не оставалось.
Как-то Игорь Мищенко сказал ему:
«Никушу не трогай, найди для своих излияний другую».
Из мира своих чувств и восприятий Володя исключал Игоря как явное ничтожество, не способное на иные ощущения, кроме примитивных — пища, одежда, жилище. Игорь был грозой и кумиром девчоночьего царства, признанным сердцеедом, а Володя и девчонок презирал, способных влюбляться в таких вот типов только потому, что они кажутся им необычными из-за сверкающих «молний» на куртках.
Но на Нику Игорь нацелился напрасно, Володя был уверен, что она отошьет его; он бы с удовольствием посмотрел, какое выражение будет у самовлюбленного Гарри, когда он получит щелчок по носу.
И он отступился от Ники, это получилось даже не намеренно, а само собой. Была кислая ветреная холодная зима — ни мороза, ни солнца, по улицам не побродишь. А на школьные вечера Володя не ходил.
Когда у него обнаружился голос, это его не удивило, ведь у него все должно получаться: петь так петь... Правда, музыку он знал слабо, ее тревожные толчки долетали до него как будто из другого мира, иногда привлекали, будили смутные образы и чувства, но предпочитал он все-таки поэзию.
2
Придя на репетицию немного раньше, Володя увидел сидящую у рояля Симу. Освещенная снизу светом рампы, она была так необычно привлекательна — белоснежная блузка и красный вязаный жилет, — что он на цыпочках прошел через темный зал и потихоньку сел в первом ряду. Выходит, чтоб увидеть красоту человека, нужны и фон, и освещение — то, что умеют уловить художники?
Сима, медленно перебирая клавиши, играла в полтона, слегка покачиваясь, волосы скользили по плечам, цеплялись за жилет, вздрагивал на лбу тщательно уложенный завиток, мерцала приколка. Все двигалось, жило: сама Сима, ее отражение, руки, звуки, исходящие будто не из рояля, а из ее пальцев...
Раньше они вместе учились, но Володя не замечал Симу, как и других девчонок, да и переносил на нее и Лену Штукину свое отношение к Игорю Мищенко, потому что они обе были героинями компашки.
С тех пор как отделилась женская школа, он Симу не видел — до Дворца пионеров. Лена уехала, а Сима — перед ним, совсем новая. Она не красива, нет, но — необычна, а ведь изображенные на полотнах женщины, которые волновали его и чем-то привлекли художников, тоже не всегда красивы, не обязательно красивы — они значительны.
Сима перестала играть, но не обернулась. Сидела неподвижно, прислушиваясь к чему-то, и Володя подумал, что музыку тоже, наверное, можно запоминать и повторять, как стихи, соглашаться или спорить с композитором, как и с поэтом.
— Сима, здравствуй! Что ты играла?
— Шопен...
Помедлив, Сима повернулась к нему. Лицо ее, освещенное снизу, тоже было необычным. Яркими пятнами выступали скулы, подбородок, кончик носа, тени ложились у немного выпяченных губ, шли бороздками кверху, совсем западали глаза, и чисто, нежно сиял лоб. Володе захотелось убрать с него искусно уложенный кренделек, отколоть шпильку, пусть волосы ниспадают назад, освободят чистые линии лба.
— Сима, подари мне...
— Что? — Сима приняла его торжественный тон, угадала за ним что-то большее.
— Музыку... Я плохо, я совсем не знаю ее.
— Хорошо. А как?
— Играй и объясняй.
— Ну не здесь же! Знаешь, приходи к нам домой. И мама будет рада.
Ему нравилось у Симы, но бывал он у них редко, сдерживал себя, приучая к самодисциплине, и очень гордился, что не нарушается обычный деловой ритм: спорт, школа, уроки, занятия языками, библиотека, книги. Сюда вклинивались репетиции во дворце, кое-какие хозяйственные мелочи, занятия с Рябовым, не часто, но насыщенно, с толком, к этому он и Алика приучил.
Совсем особыми были вечера у Симы. Приобщаясь к музыке, он радовался: все это нужно, пусть новое бесконечно вливается в него, жажда познания никогда не иссякнет.
Теперь в библиотеке Володя брал книги не только по живописи, истории и литературе, не только стихи на немецком, польском и английском языках. Стоило Симе сыграть что-нибудь новое, он сразу искал, что написано об этом произведении, о человеке, создавшем его, поражал потом Симу и Елену Константиновну своими познаниями. Они воспринимали музыку слишком эмоционально, чувствами. Володе не совсем нравилась манера исполнения, которая перешла к Симе от ее мамы, — немного чувствительная, расслабленная. Сам он, если бы учился, если бы умел, играл по-другому, напористее, энергичнее, чаще нажимая на педаль, утверждаясь. Как тот однорукий музыкант, исполнявший в филармонии фортепьянный концерт французского композитора Равеля, написанный им для своего друга-музыканта, потерявшего правую руку во время первой мировой войны. Такое мощное красочное звучание, будто концерт исполнялся в четыре руки! Вот на что способен человек!
Симин дом — необычный. Каждый в нем — отдельно, каждый занят собой. Отца Володя почти не видел. Он ездил по области в бесконечных, сменяющих одна другую командировках. Домой приходил поздно — и сразу в свою комнату, не вникая в жизнь женщин.
К Симиной маме приходили ученики, она всегда торопилась. Слушала их упражнения, что-то делая на кухне, кричала оттуда: «Ля! Ля!», или: «Си, си!» — и выбегала, жуя на ходу, у нее не хватало времени даже толком поесть. С Симой, кажется, она общалась только во Дворце пионеров. У Симы шла своя жизнь. Всюду ноты, кипы нот. Изредка, когда на Симу находил хозяйственный стих, все это было уложено, но Елена Константиновна быстро все расшвыривала, приводила комнату в ее обычное состояние.
Удивляло, как это они с Симой при таком хаосе и безалаберности ухитряются одеваться модно, одинаково. Но однажды и это объяснилось. Он застал портниху, которую просто поселяли со старой швейной машинкой на несколько дней в доме. Машинка не строчила, а цокала копытами по мостовой и все же умудрялась справляться с тонкими материалами. Что-то перешивалось, что-то подгонялось и комбинировалось. Маленькая худенькая полька, у которой сантиметр висел на шее, как ошейник у комнатной собачонки, в фартуке, утыканном булавками, иголками, жестком и блестящем, как кольчуга, носилась из комнаты в кухню, догоняя Симину маму, — примерить. Ноты были покрыты ворохом лоскутов. Полька садилась за машинку, как всадник в седло, весело припевая детские польские песенки, подгоняла свою старую неутомимую клячу...
У него с Симой сложились простые дружеские отношения, во всяком случае так думал Володя. Только иногда, очень редко, он вдруг будто спотыкался, увязал в Симином взгляде, а ее оттопыренную, слегка отвисшую нижнюю губу хотелось тронуть пальцем... Сима знала этот свой недостаток и губу подбирала, но, начиная играть, забывала и о губе, и об осанке, приникала к роялю, сутуля плечи. Елена Константиновна ругала ее, стукала на ходу по спине согнутыми пальцами, как в дверь стучала, но Сима отмахивалась и тогда уж играла и играла, не объясняя, не останавливаясь. Могла ли Сима стать его избранницей, с которой он наметил встречу на далекое будущее, когда он сам чего-то добьется, будет что-то значить для людей? Может быть...
3
После школы Володя столкнулся с Симой на улице. Она была в вязаной кофточке и кокетливой полосатой шапочке, не такая взрослая, не такая значительная, как за роялем. Девчонки шли гурьбой, смеялись, толкались, лицо у Симы было совсем детское. Увидев Володю, она отделилась от девочек, подбежала, размахивая портфелем, как самая обыкновенная девчонка. Ничего таинственного, мерцающего...
— Хорошо на улице, верно? А у нас последнего урока не было, Оленька заболела, вот мы и решили порезвиться. Проводи меня, хочешь? — Сима доверчиво коснулась пуговки на Володиной куртке.
Но такая девчонистая Сима ему не понравилась.
— Извини, у меня мало времени: братишка из школы пришел, во дворе гоняет. Нужно накормить и усадить за уроки, пусть занимается делом.
Что-то в Симе померкло.
— Эх ты, сверхделовой человек!
Она отвернулась, обиженная, девочек догонять не стала, пошла в сторону дома.
Весь день у Володи был на душе тягостный осадок. Будто ничего не случилось — ведь он сказал Симе правду, ему действительно нужно было домой, и в то же время можно было немного, хотя бы до угла, проводить ее. А почему ей этого хотелось? Она говорила так, будто у нее уже есть право чего-то требовать от него, какого-то особого внимания.
Сдержанность чувств — это тоже величие, доступное лишь сильным душам.
Когда дома все намеченное было сделано, Володя пошел в библиотеку, но что-то терзало его. Он вдруг перестал понимать себя. И впервые ему захотелось с кем-то поговорить о любви, о Симе. Может быть, в разговоре, когда ощущения отступают, а на первое место выходят слова, все прояснится?
Он решил зайти к Алику Рябову, хотя сегодня по расписанию занятий у них не было.
Алик был дома один и, как понял Володя, взглянув на него, в своей стихии: огромные шлепанцы с меховыми помпонами на босу ногу, голова, как чалмой, повязана махровым полотенцем, на плечах полосатый банный халат, вдоль носа и над бровями проведены красные полосы.
Алик немного растерялся, но, сделав восточный полупоклон и приложив руки лодочкой к груди, пропел:
— Али-Баба нижайше просит своего друга Сопу пожаловать во дворец...
— К чему этот маскарад? — Володя подумал, что все же недооценивает в Алике его любовь к кривлянью и шумихе
— Да так...
На кровати валялась гитара, под кроватью — раскрытая книга — видно, читал да швырнул, — в пепельнице окурки, дым вытягивался столбом в открытую форточку Административная карта мира, висевшая над столом, скатана и подвязана бечевкой, на столе разложены краски, а на стене намалеван углем старый знакомый — скелет Пиня в том виде, в каком его несли по школе: на голове кубанка с алым верхом, во рту папироса. Сидя по-турецки, Пиня наигрывал на гитаре и задорно смотрел на девицу (голубые глаза и яркие губы нарисованы красками) с распущенными волосами и очень рельефными формами, которые густо, несколько раз, были обведены углем.
— Картина исполнена по заказу небезызвестного вам Гарри Мига, — все еще кривляясь, объяснил Алик.
— Он по-прежнему ходит к тебе?
— А что? Свойский парень. Конечно, родители не знают. А с ним по крайней мере душу отведешь, на гитаре брынькнешь, рюмашку опрокинешь, пару сигарет выкуришь... От излишней учености и голова раньше времени облезет. Такой вот турнепс, мамочки мои!
Володя заметил, что Алик навеселе, чем-то недоволен и нарочно задевает его. Он терпеть не мог ни его кривлянья, ни этой дурацкой прибаутки. Обычно, когда они были вдвоем, Алик о ней забывал.
— Кончай дурачиться! — Володя опустился в кресло-качалку, оно знакомо заскрипело. В это кресло он садился, когда они собирались поговорить. Качнулся, прикрыл глаза рукой, чтоб не видеть Пиню и вульгарную девицу, не видеть раскрашенного Алика.
Алик дернул за бечевку, карта раскрутилась, спрятала намалеванное.
— Конспирация для родителей, — сказал Алик, поднимая книгу и водружая ее на полку. Окурки он вытряхнул в бумажку, завернул, спрятал в портфель, пепельницу вытер, положил в нее резинку, перья, бритвочку. Пепельница была здесь поставлена именно с такой целью — для мелочей. Вышел, вернулся с чистым лицом, в спортивном костюме и тапочках — каким бывал, когда к нему приходил Володя. Спросил:
— Что-нибудь стряслось?
— Хотел поговорить с тобой кое о чем, да расхотел. Пойду. — Володя еще разок качнулся и встал.
— Постой, — остановил его Алик. — Раз уж ты пришел, я сам хочу с тобой поговорить. Несколько раз собирался, да ты отбиваешь охоту своей деловитостью... — Бледное, даже зеленое — видно, накурился до тошноты — лицо Алика покрылось пятнами, шея дернулась, будто высвобождаясь из жесткого воротничка. — Такой вот турнепс...
Володя снова опустился в качалку.
— Собственно, я спросить тебя хотел... Ты ходишь к Беце?
— Какой Беце? — не понял Володя.
— Не притворяйся. К Симке Бецкой!
— А-а-а...
Володя вспомнил, что когда-то в школе во времена компашки Симу звали Бецей, а Лену — Штучкой. Компашка, кажется, распалась, во всяком случае в школе о ней забыли. Лена уехала, а Сима... Он почему-то ни разу и не вспомнил, что Сима была Бецей, водила дружбу с Аликом, с Игорем. Ходили разные слухи, но тогда ему были глубоко безразличны и компашка и Сима.
Сима и компашка — это что-то непонятное, несовместимое, тут какая-то путаница... Да, кажется, Алик спросил о Симе, ждет ответа, ходит по комнате, даже волнуется. Почему?
— К Симе? Хожу.
— И что же ты там делаешь?
— Слушаю музыку. Сима хорошая музыкантша, после десятого пойдет в училище. Ее будущее, конечно, в музыке.
— Ты что, влюбился?
Такая прямолинейность покоробила Володю. Шел сюда, надеясь что-то в себе прояснить, какую-то сложность, возникшую в его отношениях с Симой, но он никогда не назвал бы ее словом, которым нужно оперировать очень бережно, может быть, вообще не произносить его.
— Сима открыла мне мир музыки, и я благодарен ей.
— Больше она тебе ничего не открыла? — Алик остановился перед ним, его губы, на которых еще остались следы краски, выглядели хищно на бледном лице, кривились в подлую улыбочку. Он почти выкрикнул со злобой: — Зачем ты залез в чужой огород, такой вот турнепс? Разве ты не знал, что я встречаюсь с Симкой? Вся школа знает, а ты не знал. То-то и она, когда ни позвоню, все «нет» да «нет»...
Володя подавил какую-то ноющую боль в сердце, преодолел отвращение, которое испытывал к Алику в эту минуту, спокойно, как мог, спросил:
— Ты ее любишь?
— «Любишь»? Разве я тебе это сказал? Для меня любовь... — Алик грязно выругался.
Он вытянулся перед Володей, даже на цыпочки привстал от напряжения. Испытывал удовольствие, делая больно, унижая этого умника, который всегда на недосягаемой высоте.
— Ты сволочь, Рябов, а я тебя человеком считал.
— Ого, как мы заговорили! Ты дурак, Сопа, а я тебя мудрецом считал.
Володя пошел к двери, обходя Рябова.
Глава седьмая. Сима
1
Сима закрыла крышку рояля, подошла к окну — охладить о стекло ладони, как делала не раз, взглянуть на калитку, на тропку, по которой мог прийти Володя, если бы захотел. Но он педантичен, приходит, только договорившись заранее, а калитка манит ее каждое мгновение — вдруг! Неужели ему никогда не хочется увидеть ее просто так?
Она шла к окну, заранее зная — калитка, конечно, безмолвствует, — и вздрогнула: под окном стоял Володя. Наверное, слушал, как она играет. Но почему не вошел? Что-то в его лице тревожное, даже болезненное, в глазах — недоумение, отчужденность. Это было так несовместимо с обычной Володиной спокойной самоуверенностью, что Симе тоже стало тревожно и больно. Она почувствовала: его состояние связано с нею.
У Симы мурашки побежали от кончиков пальцев по рукам, спине. Она почти поняла, она ждала этого и боялась и все же надеялась — Алик не выдаст ее. Она уже начала забывать и их встречи с Аликом, и сборища компашки, не забывалась только Лена. Тревожило отсутствие вестей от нее.
Однажды вечером Сима решилась позвонить Лениному отцу. Она боялась звонить, боялась его холодного официального голоса, чувствуя и свою вину в том, что случилось с Леной.
Он сразу поднял трубку, сказал обычное:
— Слушаю вас.
Но Сима молчала. Шершавый язык никак не мог повернуться в сухом рту, губы будто приросли одна к другой.
— Слушаю вас! — слегка повышая голос, повторил он.
— Извините, — наконец выдавила Сима. — Это я, Сима, подруга Лены. Она обещала писать и не пишет. Что с нею, как она?
Теперь молчал он, прирос дыханием к трубке.
— Сима, я хочу с вами поговорить. Вы можете сейчас приехать ко мне? Я пришлю машину.
— Не нужно машины, я приду. — Она одевалась нарочно медленно, чтоб успокоиться, но сердце дрожало даже в чулках, которые она натягивала на ноги. Что скажет ей отец Лены, о чем будет спрашивать?
Он встретил ее, как взрослую, помог снять жакет. Сима машинально, чтоб оттянуть разговор, поправляла у зеркала волосы.
Проводил ее в ту самую комнату, где собиралась их компашка, подвинул кресло, сам сел на диван, извинился, спросил — можно ли? — закурил папиросу. За его сдержанностью и чопорностью чувствовалось волнение.
— Я все знаю, — сказал он, и Сима опустила глаза. — Недавно я к ним ездил... — Сима взглянула на него и больше глаз не опускала, так как он на нее не смотрел, внимательно разглядывал струйку дыма от папиросы. — Мы решили, что Лена должна родить...
Сима вздрогнула. Он хоть и не смотрел, но уловил это ее движение.
— Да, да, родить! Ей шестнадцать, она может быть матерью, а калечить ее ни я, ни моя жена (значит, он женился на Лениной тете) не позволим! Поскольку мы с женой тоже виноваты в случившемся, ребенка мы усыновим... или удочерим... — долетал до Симы из табачного облачка трезвый голос. — Лена будет учиться, получит образование... еще устроит свою жизнь...
А Симе думалось: как бы поступили ее родители, случись эта беда с нею? Что бы они делали? Решились бы на такое? Нет, лучше не думать об этом...
— Лена мне все рассказала, кроме одного — кто он?
Требовательные глаза в упор смотрели на Симу. Сима снова опустила голову. Значит, Лена не назвала Игоря. А что называть? Он ничтожество, Лене стыдно...
— Пусть вам скажет Лена, — прошептала Сима, чувствуя, что не в силах сопротивляться этому человеку.
— Она говорит, что он не знает о ребенке, что он никакого отношения не имеет. — Горько усмехнулся: — Она, видите ли, сама виновата, сама воспитает. «Сама»! — подчеркнул саркастически. — А что она может сама? Она еще тоже ребенок... Должен же я знать, кто отец моего внука! Должен и он нести какую-то тяжесть, ответ за свои поступки! Или я ошибаюсь?
Сима молчала. Игорь — и тяжесть? Игорь — и ответственность? Вот если бы его родители узнали, они бы подняли вой, защищая своего толстогубого сыночка, все бы свалили на Ленку. Очень она правильно сделала, что не назвала Игоря.
— Значит, и вы не скажете?
Сима покрутила головой: нет.
— А впрочем, какое это имеет значение? Такой же молокосос... А Лене всю боль придется выхлебывать самой. От этого никуда не денешься — ребенок без отца!
Он прошелся по комнате, быстро, нервно, туда-сюда, туда- сюда, остановился перед Симой, резко наклонился, приподнял ее из кресла, больно стиснув плечи, приблизил свои глаза к ее, приказывая взглядом не прятаться, не увиливать.
— Скажи мне хотя бы, девочка, объясни, почему вы позволили так унизить себя?
— Не знаю. — Сима расплакалась.
Больше он не мучил ее вопросами. Проводил к дому, на прощанье сказал:
— Лена вам передавала привет. Напишет сама, когда справится... Думаю, я не должен вас просить, чтоб вы поберегли доброе имя Лены.
— Конечно, — прошептала Сима, пожимая его холодную сильную руку.
2
Вместе с работой над оперой, которая принесла замечательное чувство нужности, с приходом Володи в Симиной жизни возникло что-то огромное, прекрасное, оно стало таким дорогим, что Сима только удивлялась, как могла раньше жить без этого, находить удовольствие в никчемных развлечениях компашки. А ведь она всегда любила музыку, но и музыка и все в ее жизни обновилось. Прежней Симы, безучастной, плывущей по воле волн, больше нет.
От того, что было в компашке, хотелось избавиться даже в памяти. Да и какое это теперь имеет значение, ведь было все это не с нею, а с глупой Бецей, которая из кожи вон лезла, чтоб казаться современной девочкой. Бедная Ленка, ей одной расплачиваться за их глупость! А у нее, у новой Симы, есть Володя, который никогда ничего не узнает. Нет, узнает, когда они станут такими большими друзьями, что будут говорить друг другу все, плохое и хорошее. Он умный, он поймет, посмеется над ее глупостью, порадуется тому, что сам, даже не зная, помог Симиному прозрению, и потом забудет об этом навсегда, они вместе забудут. Володя тонко чувствует музыку, поэзию, должен же он понять ее, Симу, ее сожаление и воскрешение для того, чтоб любить его одного, быть его другом.
Но в последнее время Алик стал домогаться новых встреч.
Во дворце делал вид, что они почти незнакомы, а потом названивал по телефону по нескольку раз в день. Сима решила поговорить с ним. Встретились в парке после уроков, сели на скамеечке.
— Алик, прошу тебя, — начала Сима без предисловий, — оставь меня в покое. Я не могу тебе объяснить всего...
— И объяснять нечего. Втюрилась в Сопу — вот и все. Разве я не вижу?
— Может быть, — не отпиралась Сима.
— А если я расскажу ему?
— Зачем? — Симу сковал страх, но она не хотела, чтоб Алик приметил его. Сказала как можно непринужденнее: — Что это тебе даст?
— Да так, ничего. Хотя бы удовольствие посмотреть на его самовлюбленную физию в этот момент.
— Прошу тебя... — Симин голос против ее воли задрожал, — не делай этого.
— Ну, нет, я ничего не обещаю. Посмотрю по настроению, такой вот турнепс...
И вот Володя стоит под окном с таким выражением лица, будто обвиняет ее. Значит, Алик предал, значит, ничто не проходит бесследно, не может забыться, тянется за человеком, хочешь ты или не хочешь. За все нужно держать ответ, и не только Лене, но и ей.
Володя без шапки. Сверху хорошо виден его ровный пробор, аккуратно причесанные блестящие волосы. Он немного запрокинул голову, брови его слегка поднялись, а глаза не черные, как всегда казались, а темно-серые. Видно, стоит здесь давно: озябли и покраснели руки, нос тоже красный. Губы плотно сжаты — никакого намека на улыбку, на приветливое слово.
Только вчера они заклеили с мамой окно газетными полосками, но Сима с силой толкнула раму, защелкала, отрываясь, бумага. Сима даже не ощутила, сказала она или подумала:
— Что случилось?
Володе неудобно смотреть вверх и говорить, губы его будто склеились от холода, он разжал их с таким же трудом, как Сима — рамы окна.
— Я был у Рябова...
Сима опустилась на колени, положила голову на подоконник и крепко зажмурила глаза — ничего не видеть, не слышать.
— Это правда? — донеслось до нее. — Сима, да говори же!
Сима поднялась. Посыпались шпильки, завиток соскользнул на нос, она отвела волосы рукой.
— Наверное, — сказала устало.
— Эх, ты! — Володя отвернулся, сунул руки под мышки, зашагал к калитке, подняв презрительные плечи.
— Подожди! Володя, подожди! — Сима заметалась по комнате, сунула босые ноги в тапочки, сдернула с дивана плед, набросила на плечи...
Она молча стояла перед Володей, дрожа то ли от холода, то ли от тех самых мурашек, которые обволокли сердце. Не было ни слов, ни мыслей, и она сама не знала, зачем остановила его. Просто страшно сейчас остаться одной.
— Не могу понять, — первым начал Володя, — как ты могла. Твоя музыка — и то, что сказал Рябов...
— Понимаешь, ведь это была не я... то есть я, конечно, но совсем другая, не та, что сейчас... Володя, мне стыдно, мне очень стыдно, но ведь это уже прошло. Было — и нет. Навсегда нет. Понимаешь?
— В общем-то понимаю, но... Лучше я уйду, Сима...
— Нет, как же ты уйдешь? Ведь я тебе потом сама бы все рассказала. Я думала...
— Я тоже думал... Но мое представление о женском идеале прежде всего связано с чистотой...
— С чем? — переспросила Сима. Она будто оглохла от его холодности, рассудочности. Лучше бы он кричал и обзывал ее, тогда бы она видела, что ему не все равно, что ему больно.
— С чис-то-той! — почти проскандировал он.
— Как жаль, что не с добротой... — прошептала Сима и беспомощно, с мольбой добавила: — Прости, если можешь, ведь я люблю тебя!
— А Рябова? Его ты тоже любила?
— Нет, нет! Разве его можно любить?
— Тем хуже для тебя. Прощай, Сима!
— Прощай, Володя, — ответила она машинально, проводила его взглядом до калитки и села тут же, на скамейке, подобрав босые ноги и закутавшись в плед. Почему она решила, что только Лене приходится расплачиваться за их легкомыслие? Вот и ее черед, и ни от чего нельзя отмахнуться и просто забыть. Каждый за свое расплачивается сам.
3
Холод сковал Симу, а она не могла подняться, не могла стряхнуть с себя бесконечно тяжелую пустоту.
— Сима! Ты почему раздетая? Зимно! — в калитку стремительно вошла Регина Чеславовна, едва волоча тяжеленную авоську с тетрадями.
Регина Чеславовна проведывала захворавшего пятиклассника, жившего в самом конце улицы. Таких послевоенных семей — мама и ребенок: отец погиб на фронте — было много. Вот и тут мальчик дома один, мама на работе. Подтопила печку, разогрела суп, заставила его поесть, почитали вместе немецкий текст, подбодрила, как могла. Все дети — это ее дети, ее жизнь... Шла домой обессиленная, ведь помчалась к мальчику после уроков, даже не пообедала.
Проходя мимо Симиного дома, увидела распахнутое окно. Заглянула во двор — Сима приткнулась на скамейке, синие, застывшие ноги из-под пледа, трагическая обреченность в поникшей фигуре. Откуда только энергия взялась: влетела во двор, повесила авоську на забор, схватила Симу за руку, втащила в дом.
Регина Чеславовна закрыла окно, включила на кухне газ, поставила чайник, подобрала разлетевшиеся с рояля по всей комнате ноты. Сима сидела на диване, даже не пытаясь пошевелиться, согреться.
— Сима, что случилось? Где твои родители?
Но Сима молчала. У нее было такое состояние, будто она и не умела никогда говорить, и даже удивлялась, что на свете существует так много слов, вот Регина Чеславовна сыплет их без меры и некому ее остановить, объяснить, что и слушать Симе сейчас больно.
Но Регина Чеславовна остановилась сама, помчалась на кухню, притащила таз с горячей водой, опустилась перед Симой на колени, стала по очереди окунать ее ноги в горячую воду. От ног холод хлынул вверх, Сима задрожала так, что зацокали зубы, она невольно схватила плед, закуталась, а ногам уже было нестерпимо горячо, и все тело стало обволакиваться теплотой, размякли холодные мурашки у сердца, заныли в носу, в глазах горячими слезами.
Регина Чеславовна растерла ее ноги полотенцем, обмотала газетой, напялила толстые папины носки — как она проворно все отыскала! — и в изнеможении опустилась на пол.
— Уф, теперь, наверное, не заболеешь... — И вдруг попросила: — Сима, напои меня, пожалуйста, чаем, совсем что-то сил не осталось...
Сколько раз видела Сима Регину Чеславовну в классе, но только теперь заметила ее худобу, провалившиеся глаза, тонкую морщинистую шею в слишком широком белом воротничке всегда такой чистой, такой накрахмаленной блузки. То, что единственная блузка всегда чистая, они замечали, а вот живого человека, усталого, иссохшего телом, — нет. Все заслонялось уверенностью, что учитель должен быть таким — участливым к ним, самоотверженным, добрым, будто эти качества приклеиваются к нему вместе с дипломом педвуза. Но разве должна была Регина Чеславовна, теперь даже не ее классный руководитель — ведь она осталась в мужской школе, — растирать ей ноги, спасать от воспаления легких? Делала это из последних сил — даже подняться с пола не может...
Сима встала с дивана, бережно подняла Регину Чеславовну, усадила в кресло, отнесла таз на кухню, заварила чай. Необходимость позаботиться об учительнице помогла ей преодолеть свое оцепенение. Как бы поменявшись с нею ролями, она хлопотала преувеличенно бодро: придвинула стол к креслу, поставила на салфетку чашки, варенье.
Чай одинаково согревал их, бодрил, приближал к неминуемому разговору. Регина Чеславовна думала о том, какая большая часть жизни учеников — вне школы — совершенно неведома учителям. Она присматривалась к Симе на уроках, во дворце — иногда заглядывала туда во время репетиций, — но даже предположить не могла, сколько бы ни ломала голову, что произошло сегодня с Симой. А спросить нельзя, видно, не детские это пустячки, да и Сима уже не ребенок.
Но Сима сама начала разговор. Чтоб жить дальше, она должна была с кем-то поговорить, рассказать о себе, о Володе, разобраться в своей вине, в его правоте или неправоте. А поговорить, оказывается, не с кем. Увлеченная музыкой мама порхает по репетициям, урокам, выступлениям, она бы очень удивилась, если бы Сима остановила это порхание для серьезного разговора на такую тему... Лены нет, Лена сама где-то бьется над своими проблемами. Регина Чеславовна — рядом, понимающая, сочувствующая, это видно по ее осторожным взглядам, по ее деликатному молчанию. Может быть, учительница знает Володю лучше, чем она? Говорят, он ее любимчик.
— За что вы любите Володю Сопенко? — спросила Сима, очень удивив Регину Чеславовну.
Сима нетерпеливо ждет ответа.
Сима и Володя? Вот и разберись попробуй...
— Люблю? Пожалуй, я бы употребила более точное слово — уважаю. За целеустремленность, за жадность к знаниям...
— Правильно! — горячо подхватила Сима, выхватывая из сказанного учительницей самое важное для себя. — Очень правильно! Любить его нельзя — он не добрый!
— Он тебя обидел?
— Нет. Просто я не соответствую его идеалу, а прощать он не умеет. Об этом, наверное, не сказано в тех умных книгах, которыми он так напичкался, — с горечью сказала Сима.
Регина Чеславовна только вздохнула: да, Володя — это не просто. Нужен сильный человек, чтоб притормозить его черствость, разволновать, научить сочувствию к другому. А Сима со своим элегическим мирком, видимо, ударилась о Володю, как весенняя струйка о глыбу, и заметалась, потерялась.
А Сима вдруг спросила с несвойственным ей вызовом, даже злостью:
— Сколько же времени человек должен расплачиваться за свои ошибки? Или всю жизнь умники вроде вашего Володечки Сопенко отворачиваться будут?!
— За иные ошибки и всей жизнью не расплатишься, — в тон Симе ответила Регина Чеславовна и спохватилась: — Да что это мы с тобой разнылись? Дитя мое, у людей есть прекрасное свойство: преодолевать и возрождаться. Поэтому люди живут и счастливы, несмотря ни на что! Знаешь легенду о птице Феникс, которая, сгорая, вновь всякий раз воскресала из пепла? Иным по нескольку раз приходится собирать живые крохи, чтоб воскреснуть... Володя... Он любит победителей. А прощать, быть милосердной умеет только настоящая любовь.
Отвлекаясь от себя и Володи, Сима с сочувствием смотрела на Регину Чеславовну: это она — птица Феникс, не только в переносном, но и в прямом смысле воскресшая из пепла. Как сумела она собрать свои живые крохи после всего, после гибели сына? И с такой щедростью раздает их людям.
Будто отвечая на ее мысли, Регина Чеславовна продолжала:
— Понимаешь, Сима, очень важно видеть вокруг себя людей. Кто-то нуждается в доброте, помощи — и ты уже забываешь о себе, собственная боль присыхает, отпадает...
Такого состояния — забывать о себе ради другого — Сима еще не испытывала. И сейчас важнее всего остального была ее собственная боль. Но от того, что эти слова говорила много испытавшая и все равно не утратившая своей надежды учительница, она верила им и ей становилось легче.
Глава восьмая. Лирические сцены
1
Тихий свет сеялся на землю, спокойно гулял по городу меж домами и деревьями, и все вокруг тоже делалось тихим, дремлющим.
Иванна легко двигалась по кухне, руки проворно сновали в лунных бликах, а ноги, казалось, не касались пола. Такой, летающей, ее делало то настроение, в котором она жила последнее время. Жаль только, что запеть нельзя, песня скребется в горле — выпусти на простор. Но — нельзя, пусть спят хорошие люди.
Иванна плотно прикрыла дверь, придвинула стол к окошку, потрогала утюг — горячий. Стала гладить белье, сложенное в тазу под столом.
Софья Александровна сама стирала, ей помогал Денис Иванович: носил и выносил воду. Иванна рвалась к ним со своей помощью, но они ничего не разрешают ей делать. Можно делать только то, что и Кларе, поровну, а Кларе стирать белье не разрешали, да и куда ей, малышке. Сильные руки Иванны просили работы, тело привыкло двигаться, бездействие ему не по вкусу. Когда что-то делаешь, тогда и жить хочется, тогда и песня рождается в горле. Пусть они спят, отдыхают, она в один миг перегладит белье, ведь завтра ей опять не разрешат, Софья Александровна станет сама гнуться над столом, а у нее и служба и дома забот хватает,
Иванне дали место в общежитии, она сразу хотела уйти туда, но Денис Иванович и его жена Софья Александровна не пустили, пока в общежитии не закончится ремонт.
В первый же день, когда взрослые были на работе, Иванна вымыла все окна. Клара отговаривала: зачем, брось, еще чистые. А Иванна радовалась большим окнам, полсвета в них можно разглядеть, не то что оконца в их хатке, из которых света разве только что лбами не стукаться, а зимой, когда хатку обкладывали кукурузными бодыльями и наталкивали между ними и стенами сухих листьев, окна и вовсе тонули в серости до самой весны. А тут окна — как праздник, на них видно и дождевые потеки, и всякую пылиночку, они всегда должны быть чистыми.
Клара ныла, что ее будут ругать, а все же за тряпку не взялась. Повертела перед зеркалом юбочкой-шестиклинкой, взбила щеточкой и без того пушистые волосы, пристукнула каблучками и, сказав Иванне: «Извини, я сейчас, у меня дело одно...» — улетела из дома, да так до позднего вечера и не приходила.
Иванна приметила, какая тут работа в руки просится, в доме и вокруг него. В саду почистить, пустые грядки перекопать: с осени перекопаешь — летом два урожая получишь. А здесь некому этим заниматься, да и любви, видно, настоящей к земле нет, натыкали по клумбам с весны того-сего, никакой красоты. Посреди клумбы почему-то «мороз» целой горой выпер, ему бы свои голые палки у забора прятать. Цветет он до самой зимы, заморозков не боится, голубыми, будто в инее, цветами радует, только цветы те поверху, шапкой над высокими стеблями, маргаритки расползлись между ними, места себе ищут, но нет им воли, и красоты от них нет, одна бестолковость.
Иванна решила пересадить «мороз» на приглянувшееся ей место у забора; если земля теплая и влажная, маргаритки всю зиму цвести могут. Высокие бальзамины-недотроги красными столбами по огороду, по саду выстроились, им только дай сочную землю да влажную погоду — с человека вымахают. Мимо пройдешь, торкнешься слегка — щелк! щелк! — семенами стреляют. Их тоже поубавить, тоже к забору ближе; они не ждут, когда их посеют, сами сеются, столбов своих наставят — не продохнуть... Так что в саду работы много, это радовало Иванну. И в доме хватит — кухню подбелить, занавески на окнах перестирать, чтоб и на них ни пылинки.
Хорошо, что дома никого, и Клара ушла: стеснялась ее, хотя и быстро поняла, что Клара занята какими-то своими делами, что ей сто раз наплевать и на то, какие окна в доме, и на Иванну... Маленькая еще, подумала Иванна, а потом вспомнила, что Денис Иванович говорил, будто Клара только на год младше Иванны. Все равно она маленькая, изнеженная, пусть живет, как привыкла, помощники Иванне не нужны, лишь бы ее за руки не хватали да не заставляли без дела сидеть.
При Кларе Иванна не решилась переодеться, единственного же голубого платья жаль. А Клара ушла — наряд свой долой, на плечи — старую кофтенку, юбку повыше, чтоб подол не болтался, не мешал, босые ноги охотно ощутили привычную прохладу.
Когда работалось, тогда и пелось. «Червона калына, чом не розквитаеш...» — начала Иванна, тут же перескочила на другую: «Стоить дивча над быстрою водою, стоить дивча и писню гомоныть: «Быстра вода, визьмы мене з собою, бо я не хочу на сим свити жить...» Нет, хочу, хочу! Песни всё какие-то печальные. Любую возьми — жалоба и слезы. Правда, песен с короткими строчками-обрубками Иванна не любила: «тра-ра-ра да тру-ру-ру»! Песни должны быть протяжные, раздольные, чтоб по свету далеко разлетались, чтоб и через горы перемахивали. Но такие песни — все печальные. Сейчас Иванне хотелось другой, и она работала, придумывая свои песни, без слов, голосом. Зачем и слова, ведь голосом многое можно сказать.
Она стала на подоконник, распахнула окно, развела широко, вместе с рамами руки.
— А-а-а-а! — будто у себя дома, на горе стоит, и село видно, и сестры, и мама, а песня поднимается выше, выше. — А-а-а-а! — по вершинам дубов, к земле не никнет, потом за острые смереки зацепилась, за горы улетела.
А если так:
— О-о-о-о! — Голос идет волнами, ближе к земле катится, кружится над потолком, пока не нырнет в его глубину и быстрину.
— И-и-и-и! И-и-и-и! — Как кнутом рубит воздух, во все щели проникает, само такое узкое, щелястое: — И-и-и-и!
А потом вздохнуть всей грудью и:
— Э-э-э-гей! — с придыхом, с посвистом, даже тучи хмурые откликнутся, вернут назад широкое и вольное «Э-э-э-гей!».
Иванна застыдилась: не в лесу же она, не в горах, стоит тут на подоконнике с тряпкой в руках, голосит и, как птица, руками машет. Хорошо, что люди сейчас на работе, не слыхал, наверное, никто...
Она вымыла окна и полы прихватила, успела снова в свое голубое платье переодеться, а тут и хозяева пришли.
Софья Александровна похвалила Иванну, сказала, что давно собиралась, да руки не доходят, а пора было вымыть, окна на зиму уже просятся, заклеить.
Денис Иванович нахмурился, не на Иванну — на Софью Александровну:
— Ты бы лучше Клару заставила потрудиться. Не в дом глядит девчонка, а из дома, всё какие-то побегушки да поскакушки.
— Маленькая она, — ответила Софья Александровна.
— «Маленькая»! Шестнадцать скоро! Она всегда будет маленькой, такой уж уродилась. И ты мне из нее игрушку не делай, запомни и своей Кларе внуши: Иванна — не прислуга, не в няньки я ее для Клары пригласил, помочь нужно человеку!.. Девочка постаралась — спасибо, только впредь чтоб все было поровну: что ей, то и Кларе. И ты, Ива, свое плечо вместо Клариного не подставляй, прошу тебя. Что-то с Кларкой не то происходит...
— Не преувеличивай, — снова возразила Софья Александровна, — девочка как девочка, ты же и не видишь ее совсем.
— Не вижу, а чувствую.
Иванна растерялась: как же так можно, чтоб она жила у людей, ела их хлеб и ничего не делала? Клара — так она дочка, это ее право. Как сказать им это? Не привыкла она так, не сможет. Но Денис Иванович перевел на другое:
— Ну, давайте повечеряем. Редко я дома бываю, даже по своей ложке соскучился. А Клары вот и нету, посидели бы вместе, поговорили. Где она шастает? — снова начал он сердиться.
— У девочки хорошие друзья, пусть погуляет...
— Ты хоть знаешь, где она гуляет?
— Не беспокойся. Во Дворце пионеров затеяли оперу ставить. Клара тоже роль получила. Пусть занимаются, дело хорошее.
Ужинали втроем. Иванну удивляли отношения между Софьей Александровной и Денисом Ивановичем: ни злобного крика, ни тычка, разговаривают, как директор школы с учительницей, а не муж с женой. Подать что-нибудь — «спасибо», попросить — «пожалуйста», чуть что — «извини»... Раньше Иванна считала, что такое бывает только в кино: оказывается, и в жизни так живут люди. Но все равно между Денисом Ивановичем и Софьей Александровной какая-то тревога бьется, какое-то неуловимое недовольство. Может, из-за Клары? Разговор, что сегодня возник, видно, у них давний.
Всей душой была Иванна с Денисом Ивановичем. Конечно, жена его — хороший человек, не ругала, что он Иванну привел, восприняли они это с Кларой как что-то обычное; два дня она тут, а они на нее как на чужую не смотрят, будто она давно им знакома, будто родня. Но если бы у нее, у Иванны, был такой отец, если бы Денис Иванович был ее отцом, разве бы она пурхала из дома, как Клара? Даже не вспоминает об отце, о том, что он с работы придет. Ей бы Иванниного отца хоть на денек, она бы оценила своего, пожалела... И дома-то он почти не бывает, свободный вечер — редкое счастье. А выпал такой случай — Клары нет, ему тоскливо без нее.
Еда у них простая: суп, картошка тушеная, чай с малиновым вареньем. Тут его Иванна впервые попробовала. Иванна боялась за столом что-то сделать не так, глядела — как они, так и она, а они и не замечали, как там она ест-пьет, как вилку держит. Денис Иванович расспрашивал про село: как люди живут, работают, что учительница на уроках в школе рассказывала, спросил, почему она выбрала педагогическое училище. Иванна рассказала про свою первую учительницу Марию Васильевну, про Анну Владимировну, про то, как хотят дети учиться, как любят и уважают в селе учителей, как они там нужны. Про все, про всю свою жизнь рассказала им Иванна. Они даже ложки отложили — слушали.
— Почему же ты передумала, не пошла в музыкальное, как тебе Анна Владимировна советовала? — спросил Денис Иванович.
— Учительницей буду... В селе все люди умеют песни петь, плясать. А грамотных мало. Буду учить детей читать и писать, в чистоте ходить, в косы ленты заплетать, как Мария Васильевна учила. Всю жизнь буду с детьми, так я хочу...
— Спой нам что-нибудь, Ива, покажи, как у вас в селе поют, соскучился я по песням, — попросил Денис Иванович. Как это он ее сразу стал Ивой называть, совсем как мама или сестренка Дана.
Иванна собралась было застесняться, да посмотрела в добрые глаза хороших людей, подумала: хлеб есть не стеснялась, а петь, раз они просят, буду стесняться?
Встала из-за стола, отошла в угол комнаты, немного подумала, подбирая песню, и запела сильным полным голосом, который то взмывал вверх тонко-тонко, то проваливался вниз глубоко и глухо. Денис Иванович и Софья Александровна даже отпрянули от неожиданности, потом наклонились вперед, притянутые песней. Иванна закончила одну, испугалась, что не понравилась, начала другую. Песням, выросшим на просторах, у сильных гор и крутых потоков, было тесно в комнате, они просились за окно, бились о стены...
Песни печальны, и лица у ее слушателей стали серьезными. Иванна решила спеть что-нибудь повеселее. Зацепила большими пальцами платье у плечей, как цепляют девушки за гуцульские кожушки, выставила локти, сказала:
— А так у нас танцуют! — и, притопывая, закружилась на месте, напевая коломыйку: — «А я тее дивча люблю, що биле, як гуся, воно мене поцилуе, а я засмиюся!»
Закончив, поклонилась, как в школе учили.
Денис Иванович и Софья Александровна захлопали. Денис Иванович сказал растроганно, ласково:
— Да у тебя, Ивушка, талант, зря ты все же не пошла в музыкальное училище.
— А зачем? Я играть и так научилась, и на «хромке» и на баяне. И детей научу.
— Э, Ива, талант развивать надо, чтоб он в полную силу народу служил... Ты эту штуку когда-нибудь видела? — Он подошел к чему-то громоздкому в углу, закутанному в серое полотно. — Пианино. Для Клары старались, купили, чтоб всесторонне ребенок развивался, а она «собачью польку» научилась барабанить, пару песенок да вальсов — и забросила, нет у нее тяги к музыке, попрыгунчик наша Клара...
— Хотелось как лучше, — виновато, вроде оправдываясь, сказала Софья Александровна. — Нет у Клары упорства, терпения, что поделаешь...
Софья Александровна сняла чехол, открыла крышку. Блеснули белые клавиши, между ними — черные дольки. Денис Иванович взял Иванну за руку, усадил на круглый вертящийся стульчик:
— Тронь... — и сам осторожно коснулся пальцем белой дольки.
Тто-он! — тонко дрогнуло в глубине. Пальцем Иванны он тронул другую клавишу. Выдохнуло: ддо-он! Иванна даже вздрогнула. Сама коснулась в противоположном конце. Ти-иннь! — пискнуло совсем по-детски. Прислушиваясь, она перебрала все клавиши, отделяя звуки долгими паузами, чтоб лучше запомнились. Немного похоже на орган, но звуки — каждый отдельно, не сливаются в слои, как там. Чистые, звонкие, из них можно сложить любую песню, как она складывала на гармошке и баяне.
— Без этого инструмента, Ива, нет хода в настоящее искусство, — сказал Денис Иванович. — Зря ты все же не пошла в музыкальное... Вот и пианино есть. Не пропадать же ему, учиться будешь. Может, передумаешь?
— Не передумаю, буду учительницей.
Начались занятия в училище. Утром, получив, как и Клара, бутерброд и стакан молока, Иванна уходила из дома, помахивая новым портфелем, который подарил ей Денис Иванович...
Софья Александровна усадила Иванну и Клару пороть свое старое пальто. Куски сукна выстирали, отгладили. В доме появилась портниха, маленькая полька со своим неутомимым «скакуном» — зингеровской швейной машинкой (она домой заказов не брала, кочевала по людям), и Иванна получила теплый длинный жакет. Стипендию у нее тоже не взяли, сказали — приоденься. Купила себе туфли, чулки, косынку. Теперь она мало чем отличалась от других девочек в училище. Не нужно больше носить на плечах мамин теплый клетчатый платок. В воскресенье, в базарный день, отыскала среди возов фиру из своего села, передала с односельчанином маме платок, сунув в него для малышей кулечек карамели. Конфеты иногда давали по карточкам вместо сахара, Софья Александровна сама отсыпала ей в кулечек.
Когда отремонтировали общежитие, Иванна перешла туда, хотя Денис Иванович и Софья Александровна уговаривали ее остаться. И так она благодарна людям, не дали ей пропасть. Права ее учительница: людей не нужно бояться, им нужно верить.
Отец привез из дома бульбы, Софья Александровна дала кастрюльку, ложку, кружку, сама пришла в общежитие, проверила, все ли необходимое есть у Иванны.
Иванна приходила к ним часто, как к своим родным. Знала, где лежит ключ, и когда никого не было, мыла полы, протирала окна, подметала во дворе. А потом сидела у пианино, подбирала песни.
Один раз нашла на столе записку, написанную резким почерком Дениса Ивановича: «Ива! Обижаешь! Перестань быть нянькой! Хочу тебя видеть, обязательно приходи в воскресенье».
«Ну вот, хотела сделать лучше, а тут — «обижаешь»! Такие хорошие люди — и непонятливые».
Обычно Иванна уходила, не дождавшись их, чтоб они ее каждый раз не кормили, пока наконец в воскресенье Денис Иванович не отчитал ее хорошенько:
— Ива, глупая девчонка! Что ты боишься у нас кусок съесть? Мы такого в жизни с Софьей Александровной навидались, столько наголодались и беды всякой насмотрелись, считай, три войны за плечами. Многому научились, поняли. Помочь человеку — это не благодетельство, это обязанность каждого. Может, и ты еще нам в жизни ой как пригодишься, и не тем, что прибегаешь тут тайно полы мыть... — Он грозно поглядел на Клару: — Ты это, с полами, брось! Учись, поможем, вернешь не нам, а тем детям, которых будешь в селе учить.
2
Возле училища Иванну поджидала Клара, попросила зайти часам к шести вечера, не сказав зачем.
— Увидишь сама. Это хорошее, хорошее, не волнуйся!
Она ждала Иванну на крыльце, постукивая каблучками. Туфельки пламенем пролетели над ступеньками, Клара ухватила Иванну за рукав да так и вела ее, подпрыгивая от нетерпения и распиравшей ее веселости. «Легкий человек Клара, и с нею легко», — подумала Иванна.
Клара привела Иванну к красивому дому, самому красивому на всей улице, который Иванна увидела в первый свой день в городе, — Дворцу пионеров. Отворила калитку и по уложенной плитами дорожке подвела Иванну к широкой лестнице.
Иванна поднималась по ступеням, держась за краешек широких перил из светлого мрамора. Взошла, огляделась. С другой стороны лестница убегает в сад; широкие двери, ведущие в здание, выложены цветными стеклами в виде замысловатых цветов на длинных стеблях. Не сразу догадаешься, как и открыть такие двери, если бы не ручка. Иванна тронула ее, дверь тихо, легко отворилась, пропустила в коридорчик, а навстречу ей шагнула какая-то высокая тонкая девушка в очень знакомом бордовом жакете и косынке. Косы короной уложены на голове, брови длинные, строгие, глаза смотрят немного испуганно — вроде Василисы Премудрой из той книжки, что читала им когда-то в первом классе Мария Васильевна. Иванна сделала шаг вперед, и вдруг они с девушкой стукнулись лбами, и лоб незнакомки был холодный, стеклянный. Иванна отпрянула, а Клара, вошедшая следом, рассмеялась:
— Фокус для новичков — зеркальные двери. — Она распахнула створки, и из зеркального коридорчика они попали в огромный вестибюль.
Клара воскликнула: «Ой, кажется, опоздали!» — и втолкнула Иванну в зал, где кто-то пел на сцене. Не обращая на это внимания, Клара торжествующе закричала:
— Вот и Татьяна, смотрите!
Пение и музыка смолкли. К Иванне повернулось столько лиц — со сцены и из зала, что у нее зарябило в глазах, она не знала, куда смотреть, что делать и, как маленькая девочка, закрыла лицо локтем.
— Вот это турнепс, мамонька моя! — донеслось восхищенное.
Все засмеялись, а миловидная женщина с упреком сказала:
— Клара, ну разве можно ставить человека в такое положение? — Она сошла со сцены, мягко взяла Иванну за локоть, дружелюбно подбадривая, улыбнулась. — Не надо так смущаться. Все ребята здесь хорошие, привыкли друг к другу, вот и не церемонятся. И вы привыкнете. — Она усадила Иванну в зале, позади всех, погрозила пальцем, чтоб никто не оборачивался, не пялился. — Как зовут? Иванна? Какое красивое имя. Ну, посидите, послушайте, посмотрите, чем мы занимаемся, потом поговорим.
— Да ты привыкай скорее, — шепнула ей Клара, — ничего особенного. Будешь петь Татьяну, без тебя вся моя роль пропадает, ведь я твоя няня! — И она улетела на сцену, встала в первом ряду хора, блестя задорным носиком, глазами, туфельками.
«Ничего особенного»! Нет, все особенное, вся ее жизнь на каждом шагу теперь особенная. И этот дом с его мраморными лестницами и зеркалами, в которые паны да панны гляделись, а теперь — она, Иванна, и этот зал, и женщина на сцене, которая обрадовалась ей.
— «Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки...» — запели девочки.
Потом они пели вместе с мальчиками, потом парами и поодиночке; одни уходили из зала на сцену, другие возвращались.
Никогда ничего подобного Иванна не слышала и не видела. Совсем иная музыка, иные песни, да и не песни это, что-то другое. К роялю присоединилась скрипка, тоже как будто другая скрипка, не такая, как в их селе, когда на праздниках или на свадьбах выпиливала она под барабан веселые «рута-тута-трута-та».
Иванна и смущение свое позабыла: смотрела на сцену, не пропуская ни одного движения, ни одного звука.
Когда репетиция закончилась, все расселись в зале, в первых рядах. Елена Константиновна сказала:
— А теперь спасибо, поработали хорошо. Вы свободны. Прошу вас, Иванна, останьтесь...
Но никто в зале и не шелохнулся.
— Пожалуйста, быстрее, — поторопила Елена Константиновна, — мы и так сегодня затянули.
— Можно, я останусь? — попросила тонким голоском Клара. — Я потихо-о-о-нечку буду сидеть, и не увидите меня.
— И меня не увидите! — Рябов юркнул в темноту, к заднему ряду.
— Можно, мы останемся? — начали клянчить со всех сторон. Всем хотелось получше разглядеть Иванну, послушать, ведь без Татьяны они уже столько времени топчутся на месте, все мизансцены обмусолили: каждый мог спеть все, что репетировали другие, с начала до конца.
Снова все стали оглядываться на Иванну. Она отвечала смущенными улыбками. Она уже поняла, чего от нее ждут: чтоб она тоже пела там, на сцене, куда и ступить страшно. Ведь она, кроме своих сельских песен да коломыек, ничего не знает.
— Ну, если Иванна не будет смущаться, если разрешит вам... — вопросительно взглянула на нее Елена Константиновна.
Как она могла разрешить или не разрешить? Кто она такая, чтоб у нее спрашивать? Но здесь, видно, это не в диковинку, здесь уважают всех и ее тоже, незнакомую Иванну, хотя еще и не слышали, как она поет.
Иванна сняла жакет, платок, положила на стул и пошла к сцене, где ее ждала Елена Константиновна.
— Послушайте сначала, как я пою. Может, и не понравится; может, и не нужна я вам вовсе...
Было тихо-тихо, а Иванна стояла на сцене и не могла запеть. Она не знала, что петь, боялась, что родные ей песни будут здесь отвергнуты, непоняты. А ее терпеливо ждали. Она уже и не волновалась: лишь бы найти ту, единственную, которая бы прозвучала сейчас так, как ей хочется. И она вдруг вспомнила тот день, когда они с Бронеком, возвращаясь из школы, пели новую песню. Даже отца захватила та песня, на какое-то время сделала человеком. А день был таким радостным, необычным — ее приняли в пионеры, — верилось во все хорошее, и вот оно приходит, оно сбывается, только надо быть посмелее. И она, взмахнув решительно рукой, запела сильно и чисто:
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
К счастью свободы дорогу,
Грудью проложим себе!
Иванна пела по-русски, с мягким украинским акцентом, создавая такую особую торжественность, что казалось, махни она сейчас, позови — все поднимутся и подхватят ее песню.
Закончила. Стояла опустив руки, глядя поверх голов. И в зале молчали, потом тихо прошелестело, как выдох.
Елена Константиновна подошла к Иванне, тронула за плечо, легко погладила:
— Молодец... Молодец... Ну что ж, попробуем. Слыхала ли ты о пушкинской Татьяне?
— Нет...
— Тогда сначала прочитай это. — Она достала из большой сумки, набитой нотами и книгами, толстенькую книжицу в светлом переплете. Название написано витыми буквами, поэтому Иванна не сразу разобрала, — «Евгений Онегин».
3
Сидя на табуретке под лампочкой в пустом холодном коридоре общежития, Иванна читала. Она не знала, который час. Было тихо, ночь шла своим чередом; спали в комнатах девочки, холод елозил по вытоптанным некрашеным доскам, поднимался по ногам, сжимал тело, а Иванна не могла уйти, не могла выплыть из прекрасных, не слыханных ею раньше слов, из сладкого их сплетения. Не все она понимала, но воспринимала все, с самых первых строк: «...Святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты...» Трудной была первая глава. Как понять этот незнакомый быт, отношения, переживания Онегина, иноязычные слова? Она ждала: где-то впереди то главное, ради чего она читает, ради чего было все то, что она видела сегодня во Дворце пионеров. И вдруг окунулась — в чистоту и простоту: «Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок...» Музыка слов сливалась с той музыкой, которую она слышала, мелодия усиливалась от страницы к странице.
Совсем по-другому жили эти люди — Онегин, Ольга, Татьяна, будто на другой земле. И говорили по-особому, и одевались так, что от картинки глаз не оторвешь. А страдали по-человечески понятно. Постепенно Иванна стала видеть их живыми, наделяя чертами знакомых людей. В Ольге много от Клары. И любуешься ею, и сердишься: ну почему она такая легонькая, ей и Ленского не жаль — поэта. Забыла его и замуж сразу выскочила. Печаль ей не по плечу. Онегин — страшно подумать, какой холодный, рассудительный. Юноша, который пел сегодня нравоучительно: «Вы мне писали, не отпирайтесь!..» — очень для Онегина подходящий. А Татьяна!.. Да боже мой, разве может быть она, Иванна, такой красивой, такой сложной, такой грустной и несчастливой, как Татьяна? И что только придумали: она — Татьяна?!
Иванна рыдала, читая последнюю главу. Вот он, гордый, поучающий Онегин у ног Татьяны... Что только делает любовь с людьми, какое это удивительное чувство! Неужели и к ней, к Иванне, оно придет, так все перевернет и опечалит в душе? Нет, нет, пусть лучше не приходит, пусть пока не приходит, она такая счастливая, ей не до него... А сердце сжимается из-за чужой любви, текут слезы.
Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам, и слезам...
Еще и еще раз перечитывала Иванна последние страницы.
Прошлепал кто-то в туалет. «Ивка, с ума сошла, скоро утро!» — донеслось до нее из далекого будничного мира. Прощай, прощай, Татьяна! Нет, она не будет петь, не посмеет.
Иванна подошла к темному окну, вгляделась в свое отражение: взъерошенная девчонка, одеяло наброшено на плечи, зареванные глаза. Какая же она Татьяна?.. Разве что коса по плечу — единственное, что делает ее чуточку похожей на Таню, когда та в ночной рубашке у столика пишет письмо Онегину.
...Иванна молча протянула книгу Елене Константиновне.
— Прочитала?
— Да... Я не могу...
— Что не можешь?
— Не могу... — Ну как объяснить этой славной женщине и всем ребятам, которые надеются на нее, что это ей не по силам?
— Понравилась тебе Татьяна?
— Очень!
— Что-нибудь запомнила?
— Да...
— Почитай на память.
Вспоминая пережитое ночью волнение и слезы, в каком-то невольном порыве Иванна прижала руки к груди и медленно, чтоб не исказить ни единого прекрасного слова, начала:
Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать...
Не заметила, как Елена Константиновна села к роялю, как зазвучала мелодия, вплетаясь в слова.
Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!..
Голос Иванны прервался, она замолчала. А Елена Константиновна продолжала играть, подпевая слабым, но верным голосом. Потом сказала:
— У Чайковского Татьяна не только страдает, не только умоляет. Она горда, решительна, сильна в своей откровенности. Слушайте.
Рояль вступил решительно, требовательно, без оглядки, заодно со словами: «Пускай погибну я! Но прежде...»
Елена Константиновна прикрыла клавиши ладонями, приглушая их, подозвала Иванну ближе, проиграла вступление так, что звук отделился от звука, запомнился. Еще раз проиграла.
— Теперь повторим.
— «Пускай погибну я...» — неуверенно повторила Иванна.
— Еще, сначала...
Так Иванна, незаметно для себя, начала репетировать партию Татьяны.
4
Так сейчас все было необычно в жизни Иванны, что она нисколько не удивилась, когда Елена Константиновна объявила: шефы — воинская часть — дают машину и они поедут во Львов, где возобновил свою работу оперный театр.
Они сидели на длинных лавках в крытом брезентом огромном «студебеккере», тесно прижавшись друг к другу. Солдаты позаботились о них — бросили в машину несколько огромных тулупов, так как уже было холодно.
В кабинке, рядом с шофером, можно было поместиться двоим, но никто туда не захотел, Елену Константиновну и то еле уговорили. Сначала, веселым, разгоряченным, было не холодно, потом, когда в щели засвистел ветер, потянулись к полушубкам.
Ника жалась к Тане, Рябов подчеркнуто опекал Клару, кутал в полушубок, а сам щеголял новым зимним пальто с барашковым воротником. Иванна оказалась рядом с Симой, и было непонятно, на кого из них бросает выразительные взгляды Володя Сопенко, примостившийся напротив. Иванна его считала истинным Онегиным, никогда бы ни за что не полюбила такого, ее сердце чуралось черствых людей. И уж никак не могла догадаться Иванна, что в это время в голове «черствого Онегина» бьются строчки стихов и ее имя — Иванна — рифмуется с высоким словом «мадонна». Сима старалась не показать Володе, что страдает, что ей больно. На первой же репетиции они оба сделали вид, что ничего не произошло, будто договорились. Просто теперь Володя подходил к роялю не со стороны Симы, а со стороны Елены Константиновны, это заметил разве что Рябов. Сима поймала его злорадный взгляд. А в остальном все осталось прежним, если не считать той боли, которая саднила в сердце, не уходя ни на минуту, чем бы Сима ни занималась. И она сразу уловила, что Володя восхищен и взволнован необычайной красотой Иванны. Может быть, кому-то с устоявшимися городскими вкусами она бы и не понравилась, но Володю привлекла именно эта необычайность. Самородок... Природа щедро одарила Иванну. Ее душа отзывается на все прекрасное, нужно только научить ее, обогатить знаниями, и это сделает он, Володя. Открытый, чистый лик, гладкий лоб, косы короной — как нимб. Мадонна. Брови — нежные колонковые кисточки, одна совсем ровная, другая слегка изогнута, в зеленых глазах дна не видно... Но Иванна ни одним взглядом не откликнулась на его восхищение.
Выбитая войной дорога подбрасывала машину, кренила то в одну сторону, то в другую, пробовали петь, но ревел мощный мотор, лязгали цепи, и постепенно все затихли, глядя в прорехи брезента.
Дорога пробегала мимо сел и полей, сквозь леса. Это была первая такая длинная дорога в жизни Иванны. Но она уже и удивляться перестала.
Не удивилась она и огромному городу; да он и не понравился ей, втянул машину в узкие улочки среди высоких мрачных домов с узкими окнами, узкими башнями. Грохотали трамваи, спешили люди, все вертелось перед глазами Иванны. Нет, не хотела бы она жить в этой кутерьме, тут и остановиться, и призадуматься негде.
Но потом, когда слезли с машины и пошли побродить перед спектаклем по городу, он показался ей совсем другим. Старый замок — еще со времен князя Данилы Галицкого — вздымался над городом. Наверное, с его вершины можно заглянуть в любой городской закоулочек.
Вышли к величественному зданию с колоннами, скульптурными группами, высеченными на фасаде надписями.
Иванна подумала, что красивее этого здания нет, наверное, на целом свете. Может быть, это и есть оперный театр?
Но это был университет.
Потом они долго стояли перед памятником Адаму Мицкевичу. Заходило солнце, и все вокруг было розовым: и ледяная пыль от фонтана, и стены домов вокруг, и крылатый Гений, протягивающий лиру великому польскому поэту. Тут толпилось много людей — видно, это место львовяне любили и почитали.
Уже в сумерках бежали к оперному театру. По тротуарам от фонаря к фонарю, как на картинках старого пушкинского Петербурга, ходили газовщики с длинными палками. Крючком отворялась дверца, вспыхивал фитиль, и, медленно разгораясь, фонари наливались зеленоватым светом, делая старинный город совсем сказочным.
Елена Константиновна ждала их у входа в оперный театр.
— Должна вас разочаровать. «Евгения Онегина» сняли. Заболел кто-то из ведущих артистов. Дают балет «Лебединое озеро».
Кроме Тани, никто балета «Лебединое озеро» не смотрел, но все приуныли, а Елена Константиновна успокаивала:
— Может быть, это и лучше. Все равно у вас не получится, как у профессиональных артистов, не будет причин для неверия в свои силы. А ведь музыку к балету «Лебединое озеро» тоже написал Чайковский...
5
Иванна была перенасыщена движением, новизной, просто не могла больше ничего принять, смотрела на окружающее, как через пленку.
Слева возле нее о чем-то тихо думала Сима, справа что-то рассказывал Володя — кажется, содержание балета. Рябов слетал вниз, принес программки. Громко, весело восхищалась театром Клара, что-то назидательно говорила Елена Константиновна. На Иванну нашло какое-то отупение. Если бы это не все сразу, а постепенно...
Но вот начала притухать люстра, померк зал, отодвинулись в темноту ложи, остался только освещенный прожектором занавес. Прошел на место дирижер, прошелестели аплодисменты, он поклонился, повернулся к залу спиной, поднял руки...
Музыка, тонкая, въедливая, как будто в оркестре одни скрипки, стиснула, оплела, приковала к себе и понесла куда-то, где и сладко, и больно... Иванна даже не поняла, для чего вдруг раздвинулся занавес, для чего все эти яркие декорации, девушки в белых сверкающих юбочках, с перышками на голове, семенящие худыми ножками? Разве мало одной музыки?
Иванна откинулась и закрыла глаза. Слушать и смотреть — это не вмещалось в ней. Иногда она взглядывала на сцену, не понимая содержания. Длинноногие юноши прыгали и вертелись волчком, девушки ломали руки над каким-то своим горем. Может быть, это и хорошо, кто знает, просто Иванна не привыкла, но разве движения могут сравниться с музыкой? Неужели ее создал человек, неужели она не существовала вечно, как небо, как солнце? Как же тогда без нее обходилась земля? Но ведь жила же без нее Иванна, и многие люди не слышали ее никогда...
Володя Сопенко тронул ее руку, прошептал:
— Почему не смотрите?
— Не могу...
Антракт затянулся, и все пошли побродить по фойе. Одна Иванна осталась на месте. Ей ничего больше не хотелось смотреть.
Подошел Володя. Тогда он не взял у Рябова программку, сейчас купил сам.
— Хотите, я прочитаю вам содержание балета, будет понятнее. — Он называл Иванну на «вы», как и она его, хотя между всеми было установлено прочное демократическое «ты».
Он вслух прочитал коротенькие пояснения к балету, добавляя свои, подробнее, и о Чайковском, и о том, как создавался этот балет.
— Между прочим, оперу «Евгений Онегин» Чайковский назвал не оперой, а лирическими сценами...
— Откуда вы все это знаете?
— Из книг. Люди потрудились для нас, обо всем написали. Нам остается малое — потрудиться заглянуть в книги. А вы читаете?
Иванне стало стыдно. Как признаться, что читает-то она совсем мало, и не какие-то там особенные книги, а в основном учебники по программе училища. Библиотека в их селе, которую до войны удалось собрать в школе — присылали книги из разных городов Советского Союза, — пропала. Уходя из села, Мария Васильевна раздала книги детям, всем, кто хотел. Ничего от книг не осталось: попалили взрослые, не умеющие читать люди, извели на цигарки да на растопку. Несколько тоненьких детских книжечек, которые тогда Иванна принесла домой, так истерлись, что превратились в пыль. Потом кое-что давала Анна Владимировна, но приходилось прочитывать наскоро, в школе, домой нести боялась из-за отца...
Хорошо, что кончился антракт, все вернулись на свои места и Иванне не нужно было продолжать этого разговора.
Теперь, когда она понимала, что происходит на сцене, впечатление от балета стало иным. Какая беззащитная любовь! Стоило дочке колдуна надеть черные перышки — и вот уже принц поверил, забыл, что у его Одетты перья белые. Он берет обманщицу за руку, кружит, поднимает, он в ее власти. А что творят скрипки! Как выдержать такую красоту и такую подлость? Иванна чуть не застонала. И вдруг рука, которая лежала рядом с ее рукой на ручке кресла слева, дрогнула, потом еще, еще... Иванна увидела: плачет Сима, вцепившись в ручки кресла, смотрит внимательно на сцену и не вытирает слез, чтоб никто не заметил. Иванна отвернулась, но теперь она не могла по-прежнему воспринимать того, что происходило на сцене. Слезы Симы были ближе, горячее, и все ее мысли повернули налево. Иванна и раньше замечала, что у Симы какое-то горе, она таит его, только глаза не справляются, выдают иногда.
А на сцене Одетта уже сбросила перья и стала девушкой: любовь спасла ее от гибели. Сима думала: ее тоже спасла любовь, заставила сбросить старые перья, которые не были такими белоснежными, как у Одетты; но если их сбрасываешь, то какая уж разница, какими они были...
Только принца нет, принц не простил ей грязных перьев. А может, это и не принц вовсе? Сима усмехнулась и перестала плакать. Что ж, каждому свое...
Обратно ехали ночью. Иванна снова села рядом с Симой, крепко обняла ее. Не спрашивала ни о чем. Раз Сима не говорит — не надо. А Сима тоже прильнула к Иванне. Что-то доброе, доверчивое возникло между ними, не обязательно и слова говорить.
6
Иванна стала бывать у Симы. Симе с нею легко: не нужно прятать настроения, можно играть сколько угодно, зная, что тебя слушают с восхищением и пониманием. Ей нравилось, что Иванна легко схватывает музыку, быстро запоминает ноты. Слух у нее отличный. Вот с левой рукой, с басами, не совсем получается, тут уж нужна мамина школа, все те же «Жили у бабуси два веселых гуся...». Елена Константиновна обещала:
— Вот выйдем с оперой в люди, тогда и с тобой займемся серьезно. Не волнуйся, Ивушка, твой талант на ветер не брошу.
Сима подбирала для Иванны книги, вместе читали стихи. Иванна сама предложила:
— Давай почитаем того поэта, что во Львове стоит. Есть у тебя книга?
— Адама Мицкевича?
— Да.
— Конечно, есть. Его стихи помогли мне глубже понять Шопена.
Сима становилась для Иванны тем, кем хотел быть Володя Сопенко, — вводила в мир литературы, искусства, сама отогревалась возле нее душой. Какое это прекрасное чувство — быть нужным человеку.
Однажды она рассказала Иванне и о своей дружбе с Володей и о разрыве с ним.
Теперь Володя Сопенко был для Иванны настоящим Онегиным, у которого не дрогнула рука убить друга, поэта, не дрогнуло сердце отчитать Татьяну. На репетициях она демонстративно становилась к нему боком, подчеркивая, что, кроме гнева и презрения, ничего к нему не чувствует.
Даже Елена Константиновна сказала:
— Ива, ты неправильно трактуешь образ Татьяны.
— Правильно, мама, правильно! — неожиданно для себя и для всех вмешалась Сима и очень смутилась, так как была всегда просто молчаливой исполнительницей того, что требовала Елена Константиновна.
Володе не нравилось, что Иванна зачастила к Симе. Вдруг Сима представит его в невыгодном свете? Хоть он и прав, но все-таки самая малость души тревожилась. Ему хотелось побыть с Иванной наедине, поговорить, но это не удавалось. Как-то, не дождавшись конца репетиции, Володя извинился и сказал, что должен уйти раньше.
Подходя к общежитию, Иванна увидела Володю. Она так и не поняла, ждал ли он ее или просто возвращается откуда-то. Володя остановился, остановилась и Иванна, смело посмотрела ему в глаза.
— Иванна, ваше имя звучит, как «Мадонна»...
— Ну и что?
— Нет, ничего. Просто я хотел предложить вам свою помощь. Вы одарены от природы, но этого мало. Нужны систематические занятия, образование.
— А я ведь учусь. И мне помогает Сима. — Иванна вдруг почувствовала себя по-женски мудрее этого книжного умника, сказала просто, без ломаний: — Ничего у нас с вами, Володя, быть не может. Вы любите тех, кто чем-нибудь сверкает, а просто людей не любите. У меня своя дорога. Может быть, вы необыкновенный человек, поэтому и ищете необычных людей. А я — обыкновенная Иванна, никакая не мадонна, все это вы придумали. Буду учительницей в селе...
— Но вы же погубите свой талант!
Иванна засмеялась:
— Смешной вы. Все о талантах говорите... Ну, мне пора.
Володя смотрел ей вслед. А могла ли стать Иванна его избранницей? Ведь у нее еще такая непробудившаяся душа...
Глава девятая. Алеша
1
Как мало нужно, чтоб было хорошее настроение: нужно, чтоб приснился сон, где ты, как и прежде, здоров, среди людей, такой же, как они.
Алеша никогда не видел себя во сне калекой. Сердце не смирялось с болезнью, не хотел верить и помнить мозг, сопротивлялось тело противоестественной неподвижности ног.
Приснилось ему одно из давних утренних пробуждений. Он вышел на крыльцо, не этого большого каменного дома, где с низенького крыльца ничего не разглядишь, кроме такого же серого дома через улицу, а того маленького, в котором родился и жил до войны.
Дом стоял на взгорке, окнами на улицу, высоким крыльцом в сад, дружно сбегающий с соседскими садами к маленькой речушке. За речкой небольшой зеленый лужок, где перекатывалась за мячом крикливая гурьба ребятишек, по краям паслись телята и гуси, дальше сады и дома снова карабкались на взгорок. Дома с Алешиной улицы и те, на взгорке, перебрасывались солнечными зайчиками. Одни слали ярких, игривых, утренних, другие — вечерних, алых, тяжеловесных.
Он стоял на крыльце. Густо и сочно зеленела листва, а небо было не голубым, как обычно в такое утро, а густо-фиолетовым, по нему шарили прожекторы, высвечивая тесно летящие самолеты. Алеша знал: это не вражеские самолеты, свои, и летят они не в бой, а праздновать победу. Самолеты выпускали яркие купола парашютов, на краю неба, у горизонта, салютовали орудия. Это был Праздник Победы, который Алеша так и не увидел, потому что лежал в госпитале. И он радовался, что все-таки увидел этот долгожданный праздник. Как хорошо, когда кружат по небу мирные самолеты и орудия гахкают не для войны, а для мира.
Алеша смотрел и чего-то ждал: будет еще что-то хорошее, очень хорошее. Да, так и есть. Расстилаясь, хлопнул купол парашюта, из-под него выскользнула Таня и побежала к Алеше. Хотя расстояние было маленьким, бежала она очень долго, и он не выдержал — шагнул ей навстречу раз, другой, был такой сильный и легкий, что вдруг взмахнул руками и полетел...
«Таня! Таня!» — крикнул, пугаясь, что пролетит мимо, и в тот же миг ощутил на своих руках теплые руки Тани...
Почему сны всегда кончаются там, где вот-вот должно случиться самое хорошее? Или сердце так прыгает от радости, что будит человека?
Подошла мама, поправила одеяло, молча села рядом. Его неистовая мама. И когда только она спит?..
Никого не осталось из их большой семьи — он да мама. И дом тот, где на высоком крыльце ловил он еще не проснувшимся лицом радостных зайчиков, остался только во сне. Отец и старший брат погибли на фронте. Младшего убило дома залетевшим в окно осколком. Сестру завалило в погребе во время бомбежки...
Дома своего они больше не увидали — дымящаяся, шевелящаяся, будто живая, земля...
Шли, шли, шли, видели таких же, как они, отупевших усталых людей, выбирающихся из этого грохота и ожившей земли. И когда он вдруг был отброшен от матери какой-то новой силой, он уже ничего не боялся — ничего больше не принимала детская душа. Один так же куда-то шел, тянулся за людьми, голодный, ни о чем не думающий, пока его не подобрали солдаты. И все, что происходило до этого, было как будто не с ним, а с другим мальчиком, которого вела за руку мама, а потом мамы не стало...
Стал сыном полка, бойцом Алешей. Было хорошо среди людей, которые знали, что делать на войне, не тупели, не дичали, били фашистов и оставались такими же людьми, как обычно, — шутили, пели, писали письма, чинили сапоги. Алеша вспоминал только то, что было до войны: его память перескакивала через страшную полосу, душа защищалась, не могла справиться с такой тяжестью.
Не знал Алеша, что тут же, под Сталинградом, сражаются его отец и брат. До конца войны верил, что они живы, расспрашивал, искал знакомые имена во фронтовых газетах... Потом уже, когда стал старше, опытнее, начал писать, разыскивать. В госпитале получил два извещения, на отца и брата, — остались они лежать вечным заслоном для врагов под Сталинградом. Значит, из всей семьи он остался один. И от полка своего оторвался. Уже под самым Берлином получил ранение. Передвигались на новые позиции, шли за машинами, груженными боеприпасами. Загорелась впереди машина со снарядами. Бойцы бросились в кюветы, Алеша — с ними и вдруг остановился. Он увидел, что горит только брезент, ящики со снарядами не задело. Бросился к машине, шинелью стал сбивать пламя. За ним ринулись бойцы, потушить успели. Но тогда же, на машине, которая была хорошей мишенью для вражеских минометов, его ранило осколком в спину. Награду — орден Красной Звезды — получил уже в госпитале.
Рана затягивалась, врачи говорили: счастье, что не задело позвоночник, где-то рядом черкнуло осколком; но когда он начал пробовать ходить на костылях, вдруг отнялись ноги. Надолго? Насовсем? Этого не могли сказать и врачи, надеялись на время, на молодой организм Алеши.
2
Его нашла мама, которую он, уже смирясь с этим, навсегда оставил в той черной полосе шевелящейся земли, о которой даже вспоминать боялся. Объездила, обошла все госпитали — и нашла...
Она устроилась дворником, получила комнату, а потом, когда врачи стали разводить руками и речь пошла о длительном лечении, массаже, упорстве, усиленном питании, забрала Алешу домой.
Алеша верил, что поправится. Нашлась же вот мама, значит, может быть и все остальное. Верить он перестанет только тогда, когда все испытает сам и убедится, что... бесполезно. Сколько на это нужно лет? Хоть и всю жизнь. Вот только одному тяжело. В этом городе — ни родных, ни знакомых. Он и мама.
Алеше дали пенсию. Какого еще ждать сочувствия и помощи, многим труднее, тяжелее. Мама много работала, старалась лучше его питать, а сама высохла, будто из коричневой проволоки скручена. Он сердился, она говорила:
— Ничего, сынок, жилистые — самые сильные.
И действительно была сильной.
Каждое утро начиналось одинаково. Алеша садился в кровати, делал зарядку — до пота, до хрипа в груди. Сжимал холодную спинку и подтягивался, подтягивался. Нет ног — должны быть сильными руки, плечи, легкие.
Мама начинала массировать ноги. Она теперь все делала неистово, будто хотела перелить в Алешу свою жизненную силу. Натягивалась над кроватью веревка, и мама поочередно закидывала на нее Алешины ноги. Они вяло, бесчувственно ударялись о веревку, шмякались на кровать. Алеша мысленно считал: раз, два... десять... пятьдесят...
— Хватит, — говорил маме, которая наклонялась над ним ритмично, будто качала воду из колонки. Она уже так натренировалась, что дыхание у нее было равномерное, будто она совсем не устает. Мама снимала веревку, но Алешу не оставляла. Поднимала ноги, сгибала в коленках, а он старался не смотреть на них, они были такими же, как вчера и позавчера. Прислушивался, ожидая, что вот-вот появятся хотя бы маленькие терпкие мурашки, мышцы отзовутся на то упорство, с каким их разминала, звала жить мама. Но они молчали, ниже пояса была все та же безнадежная немота.
Пока мама отдыхала, Алеша, не давая покоя ногам, начинал массировать сам. Потом мама так же ритмично нагибалась над его спиной, и ее пальцы, как железные горячие шурупы, ввинчивались в позвоночник. Казалось, там и кожи уже никакой не осталось, но в этой боли была надежда, боль радовала — значит, живой! Если бы вдруг так же горячо и оголенно откликнулись ноги!.. Счастливые люди — они чувствуют боль!..
Мама уходила, Алеша оставался один. Читал и думал. Читал без разбора все, что мама приносила из библиотеки. Думал о прочитанном, о себе, вспоминал. И еще слушал радио. Радио — как окошко в тот мир, от которого болезнь спрятала его в этой комнате. Даже в думах Алеша не позволял себе расслабляться. Стоит немного себя пожалеть, чуточку отпустить пружинку — и станет так грустно, одиноко и безнадежно, что вернуться потом в прежнее бодрое, целеустремленное состояние почти невозможно. Каждая такая слабинка — как случайное отступление, когда не уверен, что снова отвоюешь оставленные позиции. Раз или два это было, больше Алеша не позволял. Не имел права ни перед верой и неистовостью мамы, ни перед памятью о той разъяренной силе, которая превращала людей в ничто, ни перед друзьями-однополчанами, которые были ему и братьями и отцами и почти все погибли за долгие годы войны. Он жив — значит, обязан бороться!
Думать о Тане он тоже себе не позволял. Мама права, что отвадила ее: Таня — та брешь, через которую в его душу пролезала слабость, неуверенность, чувство неполноценности.
Когда в госпиталь приходили шефы из школ, институтов, училищ, он воспринимал их так же, как книгу, как радио, как кино, — это отвлекает, помогает жить. А потом пришла Таня со своей скрипкой. Маленькая худенькая девочка. Сколько Алеша ни вспоминал, ему казалось, что с тех пор никаких шефов больше не было — одна Таня.
Таня не только играла, она рассказывала о театрах, об артистах, о Ленинграде; говорила об этом так страстно, красочно, что Алеша стал постепенно хорошо представлять и город, в котором, конечно, не был, и его театры, и артистов с их переживаниями, удачами и неудачами. Новый мир вместе с Таней проник в его душу. А главное — скрипка. Теперь, слушая по радио симфонический оркестр, он отделял особый голос скрипки, который неразрывно был связан с Таней.
Раненых в палате было много, Таня играла и рассказывала для всех; но уже с самого первого раза Алеша знал, что, даже поворачиваясь к нему спиной, Таня вся направлена к нему, только к нему, а когда она, играя, глядела на него, прямо в глаза, неотрывно, то в палате они оставались втроем: он, Таня, скрипка.
Таня стала приходить каждый день. Его жизнь делилась на три этапа. Сначала — процедуры, разговоры с врачами. Но, что бы ни делал, он делал машинально, а в душе радостно и тревожно ждал Таню. Когда она приходила, глядел на нее, слушал, и было ему так бесконечно хорошо, что ни о чем думать просто не мог. Таня ни разу к нему не прикоснулась, не спросила о болезни, будто он совсем здоров, будто для нее это все не имеет значения, ни госпиталь, ни ранение, — только он сам. Слова и прикосновения были просто не нужны. А потом начинался третий, мучительный этап. Таня уходила, и он начинал думать о себе и о ней. Открывалась та самая предательская брешь: у него нет будущего, он не нужен Тане, безногий, ни с чем — ни здоровья, ни образования. У Тани ведь тоже нет родителей, ей нужна опора, а она такая слабая. А он — калека, и, может быть, на всю жизнь. Таня впервые заставила его так подумать о себе — калека...
Мама, которая как раз в это время нашла его, уловила только этот, третий этап. Она стала приходить к Алеше как раз тогда, когда после лекций приходила Таня. Таня, конечно, чувствовала недоброжелательность матери, но была с ней упорно вежлива, приветлива и к Алеше отношения не меняла.
Раненые полюбили Таню и за скрипку, и за то, что она осиротела на войне, что она ленинградка. К тем, кто пережил блокаду, относились особо, как и к тем, кто прошел через фашистские концлагеря. На тяжелой войне это было самым тяжелым. Поэтому Алешина мать ничего не решалась сказать Тане. Но потом, когда Алешу выписали из госпиталя, не пустила Таню к ним домой. Наверное, из-за Тани она и из госпиталя забрала его так поспешно.
Из своей комнаты Алеша слышал, как мама говорила Тане, которая очень быстро разыскала их:
— Девочка, не ходи к нам, не обнадеживай Алешу понапрасну.
— Вы не понимаете! — пылко воскликнула Таня. — Вы...
Но мама перебила ее, стараясь говорить шепотом:
— Я все понимаю, я ведь тоже была молодой. И все же прошу тебя: к Алеше не ходи.
— А Алеша, он сам...
— Он тоже не хочет, чтоб ты приходила.
— Это неправда! Алеша! — крикнула, позвала Таня.
Но мама, видно, просто выставила ее за дверь. Разве Таня могла справиться с нею, с ее жилистыми, натренированными руками.
Если бы он мог встать! Он накрыл голову подушкой, чтоб мама не увидела его лица, но мама в комнату не заходила, тихо копошилась на кухне, пока сумерки не запеленали все предметы, не повисли над кроватью надежным заслоном от маминых глаз... Она права, она трижды права: он должен один пробиваться через свою беду, ну, разве что с мамой, потому что она мать и это ее право. Он не должен никого больше впутывать; пусть не будет никакой отдушины, через которую просочатся боль и сомнения.
И вдруг сердце стукнуло: «Таня!» Он услышал ее скрипку. А может, радио? Нет, радио выключено, там передают что-то спортивное. А скрипка билась в стекло. Таня играла где-то недалеко. Неужели прямо на улице? Зовущее, обнадеживающее и требовательное рвалось в комнату. Проехала машина — заглушила; кто-то звонко пробежал по плитам — увлек музыку за собой; продребезжал смех, которому тоже никакого дела ни до него, ни до Тани. А может быть, это ему чудится? Алеша подтянулся на руках, взял костыль, стоящий у изголовья, поднял им шпингалет, сильно нажал на раму. Окно растворилось.
Закрыл глаза и не видел, как на пороге застыла мама и тихо отступила в кухню. Потом уже музыки не было, а Таня все равно была. Остыла комната, холодные мурашки побежали по телу... Он как-то даже успокоился: эта музыка — как уверение и требование не отступать, ждать, надеяться. Значит, Таня понимает, Таня подождет, пока он справится с бедой. Больше мысли о Тане не были тоской, он часто видел ее во сне, так же счастливо и радостно, как сегодня.
Еще недавно он мечтал о том времени, когда сможет бросить костыли, а теперь мечтает ходить хотя бы на костылях, пусть бы ватные ноги стали третьей точкой опоры, тумбой, на которую могло бы опереться тело.
3
Таня присматривалась к Лене Мартыненко. Внешность — самая обычная: круглолиц, курнос, короткая стрижка ершиком, уши торчат, но во всем облике какое-то особое упрямство, в широких плечах — сила, а тонкая талия перетянута солдатским ремнем. Голова немного набыченная, взгляд из-под бровей, глаза совсем не детские, не мальчишечьи, умные и тоже очень упрямые. Во всяком случае, не с такой внешностью петь Ленского, мечтателя-поэта.
Елена Константиновна принесла из театра несколько старых фраков, манишек, париков. Лене достался парик с замызганными рыжеватыми космами; он растерянно вертел его в руках, не решаясь надеть на голову. Сима взяла парик домой, вымыла, подкрасила, завила. Пришпилили Лене к рубашке кружевное жабо, надели парик — лицо смягчилось, упрямство утонуло в кудрях. Глянул Леня в зеркало и только головой неопределенно покачал, даже не рассмеялся. Его спортсменские широкие плечи невольно расслабились, в лице промелькнула нежность, сквозь упрямую жестковатую внешность пробивался поэт. Может быть, в каждом живет нежность, присущее поэтам беззащитное неумение прятать свое сердце? И как мало иной раз нужно, чтоб оно проглянуло и сделало знакомого человека таким вдруг новым, необычным... Перемены, произошедшие в Лене на глазах у всех благодаря таким незначительным деталям, как парик и манишка, в каждого вселяли уверенность, что и он сможет приблизиться к своему герою благодаря преобразующей силе костюмов, париков, грима.
Но подводила Леню не так внешность, как голос. Он часто срывался, сипел, хрипел именно в тех местах, где ария Ленского была особенно трогательной. А иногда — раз! — и все получалось отлично, Леня справлялся даже с самыми высокими нотами. Елена Константиновна просила Леню — ругать она не умела,— чтоб он бросил курить, чтоб не пел, громко не разговаривал и не кричал на улице, полоскал горло: ведь другого Ленского взять негде. Леня вспыхивал, обижался, уходил, хлопнув дверью. Это должно было означать, что больше сюда он не вернется, но, покрутившись на улице, приходил снова и снова начинал: «Ах, Ольга, я тебя люби-ил...» А Елена Константиновна пыталась растормошить Нику, говорила, что такая сдержанная, замкнутая Ольга не может вдохновить Ленского на пылкое признание в любви.
— Довольно решать мировые проблемы. Неужели нельзя представить, что ты — Ольга и больше никто? Есть небо, есть солнце, есть васильки во ржи, и глаза у тебя тоже как васильки. Ты всегда нарядна, тебя все балуют, в тебя влюблен поэт!..
Ника всеми силами заставляла себя перевоплощаться в беззаботную и шаловливую Ольгу. Если бы ей быть Татьяной, совсем бы другое дело, но — не тот голос. С Иванной ей не тягаться.
Таня не принимала этих репетиций всерьез, вернее, того результата, который за ними ожидался. Елена Константиновна, как смогла, упростила исполнение. Разве эти сцены, которые перемежаются чтением поэмы Пушкина, могут воспроизвести прекрасную оперу Чайковского? Но главное, что все в этой самодеятельной оперной группе искренне увлечены, стали серьезно относиться к музыке, сами как-то переменились. И Таня была такой же ярой энтузиасткой, как и Елена Константиновна, которая часто советовалась с ней.
Таня жила обычной жизнью: домашние дела, тетя, занятия в училище, репетиции, какие-то общественные нагрузки, которых у нее была масса, редкие вечера у Ники. Вторая ее жизнь, не известная никому, кроме Ники, — это Алеша, думы о нем: как убедить Алешу и его маму, что она ему нужна, что он ей нужен, что никакие трудности и болезни ее не испугают? Она прекрасно понимала, почему ее выставили за дверь, понимала, что Алеша заодно с мамой, но не обижалась на них. И все же его мама не права, самое страшное для Алеши сейчас — одиночество. Ну, пусть не Таня, пусть кто-то другой, у Алеши должны быть друзья...
Совершенно случайно Таня узнала, что Леня — Ленский — тоже сын полка. Другой рекомендации ей было не нужно — вот кому она расскажет об Алеше.
Таня не привыкла лукавить. Чувство ложной девичьей стеснительности было ей совсем не присуще. Зачем ломаться, когда обо всем можно поговорить так, что тебя поймут правильно. Когда они после репетиции шумной гурьбой вывалились на улицу, сказала Лене, совсем не заботясь, слышат ее другие или нет:
— Проводи меня, пожалуйста.
Что-то пытался сострить Рябов, таких моментов он не пропускал, вопросительно глянула Ника, но промолчала, а в общем-то, никто не придал этому значения: за время репетиций успели друг к другу привыкнуть, даже сдружиться.
— Ты должен помочь одному человеку, которому плохо, — сказала Таня, когда они остались одни.
...Леня начистил, нагладил свою солдатскую форму, натер до блеска зубным порошком бляху на ремне, «наблистил», как говорили солдаты, сапоги. Форму он уже не носил, форма стала ему тесноватой, берег ее как память. По-новому вгляделся в звездочку на пилотке: кусочек эмали отбит, раньше этого не замечал. Что-то стало забываться о войне, и к костюму, который ему сшили родители, привык, и медаль свою в класс больше не носит, лежит она в аптечной коробочке. Думал, что никогда не избавится от тоски по армии, не станет домашним Леней, каким его хотят видеть мама и папа; ведь вот курить не сумел бросить, как его ни просили родители, но прошлое незаметно отходит. О небе, о летном училище мечтал по-прежнему, но уже по-другому: летать, чтоб летать, быть летчиком, а не таранить, не атаковать ненавистных «мессеров» и прочих фашистских гадов. Как быстро и незаметно забывается война и даже то, что он был на этой войне солдатом!.. Потому что жив и цел...
Надел форму, приколол медаль и почувствовал, что ему немного неловко, что он даже стыдится своего бравого вида, которым еще так недавно гордился. Раньше ему мальчишки завидовали, тот же Рябов, а теперь бы и Рябов сказал: «И чего вырядился?» — и еще что-нибудь в том же духе...
Таня ждала его на углу, проводила до подъезда, предупредила
— Смотри же, обо мне ни слова! Узнал — и все, в военкомате сказали.
Дверь открыла высокая худая женщина с черным лицом и недоверчивыми глазами. Она молча ждала, в квартиру не пускала.
— Я к вашему сыну, — стараясь не замечать этого взгляда, сказал Леня, вошел в дверь, не дождавшись приглашения, тем боком, где на груди висела медаль, пилотки не снял, чтоб не нарушать формы. — Сюда? — спросил он официально и прошел в комнату, дверь которой была открыта. Остановился у порога и сразу встретился с глазами юноши. Эти глаза смотрели так, будто ждали Леню.
А Леню поразило лицо Алеши: все в нем неправильно — и длинноват нос, и глаза узковаты, и выпирают скулы, и слишком острый подбородок, но от всего вместе какая-то особая чистая теплота. Такому человеку сразу веришь, тянешься к нему.
Алеша тоже разглядывал Леню. Улыбнулся, и улыбнулось все его лицо. Машинально провел рукой по волнистому светлому чубчику — все в его внешности светлое — и протянул руку Лене:
— Садись, солдат!
Леня сел, заметил на стуле возле окна наброшенный на спинку темно-синий военный китель с привинченным к нему орденом Красной Звезды.
Алеша не расспрашивал, почему вдруг пришел Леня, откуда узнал. Медаль на груди Лени и его форма говорили сами за себя. Они дружелюбно присматривались друг к другу, перебрасывались незначительными словами.
Алешина мама несколько раз подходила к двери, прислушивалась, но никакого разговора не уловила. Видела спину в солдатской гимнастерке, голову с таким же ершиком, как у Алеши, только потемнее, пожестче. Пилотка солдата лежала на столе, ремень висел на стуле. Видела улыбку на лице Алеши. А они молча играли в шахматы. Предложил Алеша:
— Умеешь? Сразимся, добре? А то я сам себе маты ставлю...
Таня топталась у дерева на противоположной стороне. Промочила ноги, промерзла, пропустила занятия в училище, а уйти не могла. Кинулась к Лене через дорогу, не заботясь уже, что ее может увидеть Алешина мама.
— Ну что? Ну как?
— Молодец он, твой Алеша, отличный парень.
— О чем вы говорили?
— В шахматы играли. А о чем говорить? И так все ясно.
— Что же ясно? Как его ноги? Как настроение?
— Я же сказал: молодец Алеша, главное — не скис!
Леня забегал к Алеше чуть не каждый день. Теперь они говорили обо всем: где воевали, где жили до войны, Леня подробно рассказывал о школе, о занятиях во дворце. А однажды, когда у Елены Константиновны был в музучилище отчетный концерт и репетиция не состоялась, «артисты» всей гурьбой завалились к Алеше — рассказывали, показывали, пели. Не было Тани. Она сослалась на то, что в училище собрание, ходила вокруг дома и плакала. Не было Володи Сопенко — из-за репетиций он запустил английский и решил подогнать.
— Жаль, что Таня не пришла, не смогла, — сказал вдруг Витя Хомяков. — А то бы она нам на скрипке подыграла.
Подвижное лицо Алеши вдруг застыло.
— А что, Таня тоже ходит во дворец?
— Да, она играет на скрипке. В настоящей опере целый симфонический оркестр, а у нас только рояль да скрипка, — простодушно объяснял Витя. — В следующий раз Таня обязательно придет; послушаешь, как она на скрипке здорово играет.
— А мне и без скрипки все понятно, — сказал Алеша, удивляя Витю и остальных неприязнью к неизвестной ему скрипачке Тане.
Только Нике была понятна эта перемена в настроении Алеши. Она присматривалась к нему украдкой и понимала Таню: какое хорошее лицо, светлое и теплое, с таким лицом нельзя быть плохим человеком. А губы совсем детские: припухшие, яркие, почти бантиком. Алеша извинился, закурил; держал папиросу этим бантиком за самый кончик, выпячивая губы, как младенец, когда тянется к соске.
Об Алеше говорили много, постоянно, старались решить его судьбу — как да что с ним будет, сможет ли он ходить.
4
Володя Сопенко решил пойти к Алеше один.
Обычный мальчик с хорошим открытым лицом, сильными мускулистыми руками, широкой развитой грудью. Книжки пестрой грудой на столе — случайный набор, лишь бы убить время. Хороших, стоящих — две-три...
Обычный мальчик, если бы не мертвые ноги под одеялом, рана на спине да орден на военном кителе. Младше Володи на год, был на фронте, воевал, видел, познал что-то такое, чего никогда не увидит и не познает он, Володя, сколько бы ни прочитал книг. Видел, как сражались и умирали за Родину солдаты. И теперь ему всю жизнь сражаться с непобедимым врагом — болезнью... Так кто же сильнее? Кто из них двоих — личность? Он, знающий в девятом классе три языка, систематически обогащающий себя лучшим из сокровищницы мировой культуры, или этот вот мальчик? Он, Володя, борется за высокое место сильной, необычной личности, Алеша — за право быть обычным человеком с живыми ногами...
Алеша чувствовал, что этот паренек с умным лицом и понимающими глазами высматривает в нем что-то особенное, ищет ответа на какие-то свои мысли.
Пересмотрев книги, даже не спрашивая, а утверждая, Володя сказал:
— Я сам буду подбирать для тебя книги. Нельзя тратить время зря.
— А я и не трачу. — Алеша невольно взглянул на неподвижные ноги под одеялом.
Володя понял его, но все же упрямо, жестко продолжал:
— Я знаю, что ты тренируешься, вижу по твоим плечам, рукам. Дай такую же нагрузку и голове, мозг тоже нужно тренировать, обогащать, ему тоже нельзя расслабляться. Мозг — вот что главное. Сколько ты закончил классов?
— Четыре... До войны...
— Видишь, четыре. Представляешь, какой тебе нужен темп, чтоб догнать. Хочешь, я помогу? Все равно буду к тебе приходить, а нерациональное расходование времени — преступление.
Алеша был немного обижен, он считал, что делает все возможное, что его можно похвалить, а его вдруг чуть не ругают. Но заниматься с Володей согласился.
Для занятий с Алешей Володя отвел те часы, в которые раньше занимался с Рябовым. Но иногда, принести или забрать книгу, учебник, он забегал по пути. Даже сам удивлялся появившейся в нем потребности не только самому накапливать знания, но и делиться с другими.
Теперь мама Алеши двери на ключ днем не запирала, и однажды, войдя в комнату, Володя застал Алешу за упражнениями. Алеша закидывал свои ноги руками на веревку
Делал это ритмично, с закрытыми глазами, дышал тяжело, пот капал с бровей, с носа, а Алеша хрипло считал:
— Сто пятьдесят... сто пятьдесят один...
Сначала Володя хотел отступить, потихоньку выскользнуть и зайти потом, когда Алеша закончит эту мучительную процедуру, но передумал: он должен знать, видеть, на что способен человек, его воля, сила.
Досчитав до двухсот, Алеша откинулся на подушки, на ощупь схватил со спинки кровати полотенце, вытер грудь, шею, лицо. Лежал, тяжело дыша.
— Здесь я! — сказал Володя громко и подошел к кровати.
Алеша открыл глаза, потянулся к одеялу — прикрыть ноги.
— Подожди, — остановил его Володя таким докторским голосом и так по-докторски стал прощупывать пальцами его ноги, что Алеша подчинился, как подчиняются люди врачу.
— Кое-что по этому поводу я прочел. Да, Алеша, человек должен и может во многом разбираться. Пример тому великий Леонардо да Винчи. Он, конечно, был гением, исключением, но ведь он не с другой планеты, свой, землянин, а его пример показывает, чего может достигнуть человеческая личность. Итак, медицина... Ты знаешь, что говорит о твоем будущем медицина?
— Надеется на чудо, как и я. — Алеша прикрыл ноги, подтянулся на руках, сел удобнее.
— А я не верю в чудо. Извини, может быть, это жестоко, но самое жестокое — необратимость времени. Его нельзя разбазаривать. Я за то, чтобы знать реальные возможности. Если есть хоть один процент надежды, надо тренироваться, сделать все, чтоб этот процент превратился в сто... А если его нет? Даже этого одного процента? Зачем же такие нечеловеческие усилия?
— Ты говоришь так, потому что это не с тобой.
— Нет, просто я верю, что можно полноценно жить и без ног.
— Жить, конечно, можно, да не хочу я ни жалости, ни сочувствия, а без них не обойтись, пока ноги такие. Все смотрят, будто меня нет, а только эти ноги...
— Преувеличиваешь.
— И потом... хочу двигаться, ходить!
— А разве все это недоступно? Мы с Леней были в военкомате. Инвалидам Отечественной войны помогают приобретать коляски. Значит, двигаться будешь. Руки у тебя мощные, справишься.
— Ну, двигаться, допустим… А любить? Разве я имею право кого-то привязать к себе, испортить жизнь, я, калека?
— Калека — низкое слово! Ты человек, и нечего себя унижать. Не знаешь просто, какие есть замечательные женщины. Плевать им на твои ноги — ты сам, вот что главное!
— А ты их знаешь, таких женщин?!
— Да, я читал о них, они были всегда, в самые отдаленные времена, они тем более есть сейчас.
— Так то в книгах!
— Но книги пишутся людьми, и все это не придумывается, все есть в жизни, так или иначе. Только самому не скисать, быть в высшей степени человеком! Ну, давай заниматься, времени мало, а тебе ведь нужно чуть не с таблицы умножения начинать...
Теперь к Алеше ходили когда кто мог. Старались принести что-нибудь вкусное, хотя Алеша сердился. А Рябов притащил кресло, в котором когда-то любил пофилософствовать Володя Сопенко. Узнав об Алеше, мама Алика предложила отнести ему кресло, ведь в кровати все время тяжело, в кресле удобнее заниматься. Алик и сам любил покачаться, но все же решил кресло отнести. Во-первых, не будет напоминать о Сопе, которого Алику очень не хватало. Конечно, Алика злило, что Симка так категорично отвернулась от него, но он сделал глупость, что свое раздражение вылил на Сопу. Сопа принципиальный, на все попытки помириться отвечает холодным презрением. И мама уже спрашивала, почему они перестали заниматься. Алик ответил, что справится сам, но у самого ничего не получается. Во-вторых, мама будет считать, что привила сыну добрую черточку, в-третьих, вся эта братва из дворца станет его уважать, ведь все равно косятся на него из-за дружбы с Игорем.
Кресло он понес вечером, задами, чтоб никто не увидел, но, как назло, выходя из переулка, наскочил на Гарри.
— Куда прешь? — удивился Игорь. — Барахолка закрыта.
— Да тут солдатик один, ранение в спину. Мамаша моя решила ему подарочек сделать.
— Тоже мне благодетели! А я в чем буду сидеть? — недовольно сказал Игорь. — Тащи обратно!
— Нет, не могу.
— Продаешь меня, Али-Баба? Бросаешь? — Игорь теперь часто заводил такие разговоры.
Как обычно, Алик стал уверять его:
— Что ты придумал? Я друзей не продаю! — И он сделал выразительный жест: зацепил ногтем большого пальца за зубы, потом провел по шее, как бы отсекая голову.
— Ну, так покажи мне этого уродика.
— Что ты, у него мать как тигрица, как-нибудь потом, — уклонился Алик.
Особенно часто приходил к Алеше Витя Хомяков. Сидел тихонько в углу, что-нибудь читал. Обязательно приносил цветы или яблоки, на Алешины упреки неизменно отвечал, что передала мама, она сама все это выращивает.
Однажды, когда они были вдвоем, Алеша спросил:
— Витя, ты говорил о девочке... скрипачке... Тане... Она ходит на репетиции?
— Конечно. А что?
— Пусть придет ко мне. Только чтоб никто не знал. Хорошо?
— Хочешь научиться на скрипке играть? — попробовал пошутить Витя, но замолчал, увидев Алешины глаза. Он почувствовал, что даже имя — Таня — Алеше не просто произносить. Витя был человеком деликатным, больше расспрашивать не стал...
Улучив минутку, когда в репетиции наступила передышка, Витя отозвал Таню в сторону:
— Тебя просил зайти Алеша. Знаешь, раненый солдат, сын полка?
— Что? Что ты сказал? — Таня наклонилась к самому его лицу.
Витя даже испугался: разве он обидел Таню?
— Тебя просил зайти Алеша! — повторил он громче.
Не ожидая больше никаких объяснений, Таня ринулась к сцене, схватила скрипку, на ходу нахлобучила свою шапчонку, которая не хотела садиться на место, ухо с завязочкой болталось у Тани перед глазами, так она и прокричала Елене Константиновне через это ухо:
— Извините, мне срочно, очень срочно нужно уйти! — Наконец сообразив, что так дольше, она положила скрипку, надела пальто, шапку и, не отвечая на недоуменные вопросы, помчалась к выходу, шепнув Нике, которая догнала ее уже на крыльце: — Меня позвал Алеша!
После разговора с Володей Алеша не бросил тренировок, так же занимался зарядкой для туловища и рук, так же подбрасывал ноги на веревку, так же мама каждое утро ввинчивала ему в спину свои железные пальцы, но думать, сосредоточивая на этом всю жизнь, будет он ходить или нет, оживут его ноги или нет, стал гораздо меньше. Прав Володя: нужно учиться, и так потеряна, уйма времени. Он штудировал учебники, читал по программе, составленной Володей, а тот требовал больше и больше, передышек не давал, только хвалил: «Молодец!»
И мама изменилась. На ее лице уже не было отчаяния, постоянной тревоги. Иногда она улыбалась. Как-то даже напоила всю ораву проголодавшихся «артистов» чаем и накормила свежими картофельными блинчиками — дерунами. Володю встречала с особым почтением. Она чутко уловила перемену в Алеше. Все чаще он казался ей не больным, обездоленным войной ребенком, которого нужно жалеть, опекать, оберегать, а мужчиной, который был солдатом на войне и твердо знает, чего хочет. Поэтому ее не удивило, когда Алеша вдруг сказал ей, глядя прямо в глаза:
— Мама, сядь, я хочу с тобой поговорить.
Она села, приготовилась к долгому разговору, но разговора не было, просто Алеша сказал категорическим тоном, не допускающим ни вопросов, ни возражений:
— Придет Таня. Я позвал ее.
Она ничего не сказала. Все ее сомнения и возражения против Тани были бы очень неубедительны и теперь, новому Алеше, не нужны. Она только вздохнула:
— Пусть приходит.
Таня прибежала в тот же вечер. Без стука — ведь ее позвали! — распахнула дверь, промелькнула мимо Алешиной матери, даже не взглянув, даже не бросив «Здравствуйте!», остановилась, прижимая скрипку, не нашла Алешу на кровати, испугалась — и увидела его в кресле.
Он был таким же светлым, лучистым, его широкие плечи и руки — он держал тетрадь, что-то писал до ее прихода — стали совсем мужскими, в лице пропала госпитальная бледность, исчезли трагические черточки. Она радовалась этим переменам и в то же время что-то кольнуло — он без нее смог стать таким! А он улыбнулся, сказал просто:
— Таня, как хорошо, что я снова вижу тебя!
И сразу стало не нужно никаких слов.
— Я тоже... Я тоже... Хорошо!
Оба рассмеялись, облегченно и счастливо.
— Сыграй, Таня, что тогда играла... я слышал.
— А-а-а... У Ники на балконе, она как раз напротив живет. Но у меня сейчас совсем другое настроение!
— Ничего, сыграй.
Таня вынула скрипку, начала настраивать. Вот такой Алеша мысленно видел Таню — тоненькую, в неизменном темном платье с воротничком, белой полоской окружающем смуглую шею, немного отчужденную — до того момента, пока заиграет, и тогда скрипка расскажет, что Таня вовсе не отчужденная, не холодная, что она стремится к нему, верит ему так же, как он ей.
5
Регина Чеславовна тихо шла по улице. Закончился педсовет. Последнее время они стали проходить более мирно, спокойно. Меньше разговоров о нарушителях дисциплины: они были, как в любой школе, не без этого, их просто стало меньше. Больше говорили об успеваемости, организации кружков, проведении вечеров, налаживании отношений с другими школами. Регину Чеславовну всегда немного пугали шумные мероприятия, само это слово она не любила, боялась, что за суетой, за броской удачей можно проглядеть человека, ученика.
Недавно в пятом классе, где она вела немецкий, произошел такой случай: славный парнишечка Митя, которого учителя любили за его спокойный, покладистый характер, в один день нахватал двоек. Первую двойку ему поставила математичка — Митя отказался идти к доске. На перемене Митя плакал. На следующем уроке — русского языка — его снова вызвали. Митя попросил, чтоб ему разрешили отвечать с места. Учительница восприняла это как каприз и тоже поставила двойку. На этот раз Митя не заплакал. Вид у него был унылый — будь что будет.
Урок Регины Чеславовны был последним. Перед этим на перемене учителя обсуждали в учительской Митины двойки и возмущались его непонятным упрямством. Регина Чеславовна сказала, что здесь что-то не то, не похоже на простое упрямство.
В пятом немецкий знали лучше, чем в восьмом. Регина Чеславовна спросила Митю по-немецки, может ли он отвечать, знает ли урок.
— Могу, — ответил Митя. Он бойко, не выходя из-за парты, проспрягал глагол, прочитал и перевел текст. Регина Чеславовна поставила ему пятерку.
Митя разрумянился, глаза у него сияли. Он даже повертелся немного и пустил бумажный самолетик. Регина Чеславовна сделала вид, что не заметила. Много ли нужно ребенку, чтобы забыть свои беды и быть счастливым?
После урока она попросила Митю остаться. Притянула к себе и заглянула в глаза. Он не оттолкнулся, ответил доверчивым взглядом.
— Скажи мне, кинд, почему не слушался сегодня учителей?
Он оглянулся на дверь, спросил:
— А смеяться не будете? — Повернулся к Регине Чеславовне спиной, задрал пальтишко и показал две круглые заплаты на штанах.
— Глупе дитысько! Эка невидаль — заплаты! Да если бы ты посмотрел мою юбку на свет, то увидел бы решето...
— Решето — это ничего, — убежденно сказал Митя. — У меня тоже было решето, ну пусть бы и было. Я просил маму не латать, а она говорит: разлезутся, тогда совсем нечего одеть будет. А в классе смеются.
— Кто смеется?
— Кто-то...
— И ты бы смеялся?
— Нет. Эх, если бы мне мама спортивный костюм купила, как у Борьки! Я ей сказал, что без хлеба посижу, пусть купит, а она говорит: у нас же еще Маришка — это сестра моя, — она не может без хлеба. Ну ладно, Регина Чеславовна, побежал. Только вы — никому!
На следующий день на переменке в дверь учительской просунулась голова Мити. Глаза его кого-то выискивали среди учителей. Увидев Регину Чеславовну, заморгали, заулыбались, просунулась и рука, энергично махнула: «Сюда!»
Митя молча, несколько раз повернулся перед Региной Чеславовной.
— Ну как?
— Здорово! Чудесно! А ты обижался на маму...
— Оказывается, мама понемногу откладывала деньги, а вчера пошла и купила тот самый спортивный костюм. Как у Борьки! — И Митя еще несколько раз повернулся, чтоб Регина Чеславовна могла полюбоваться.
Скорее бы кончились трудности, чтоб побольше радостей детям, конфет — и никаких заплаток!
Сегодня что-то нездоровилось. Был тихий влажный вечер, когда воздух не освежает, а тяжестью прилипает к человеку. Какое время года, не разберешь: то зима, то снова осень. Потеплело, все покрылось налетом влаги, туман холодными кусками оседал в груди, дышалось трудно. Тело всегда откликается на перемену погоды. Если дух храбрится, не сдается, то тело не такое упорное, покорно уступает времени и всем пережитым невзгодам.
Вдруг из окошка плеснуло на тротуар смехом, чей-то знакомый голос запел: «Ви — роза! Ви — роза, бель Татиана-а-а!» Снова смех. Да это Витя Хомяков. И девочки там. Дружно, слаженно запели офицерский вальс: «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука...»
Регина Чеславовна перешла на другую сторону. Окно на втором этаже не занавешено, над подоконником чуть-чуть торчат макушки сидящих, зато хорошо видна кружащаяся по комнате пара. Кажется, Ника и Леня Мартыненко. Что это за вечеринка? Ведь родителей предупредили, чтоб никаких вечеринок. Слух о вечеринках с танцами, вином и бог еще знает чем просочился не только в школу, об этом заговорили в гороно, в горкоме комсомола. Заведующий гороно поднял бучу: дескать, плохо смотрят учителя. Разве за всеми усмотришь? Пока что вот такая мера: просьба к родителям не разрешать безнадзорных вечеринок. Но ведь могут и без родительского разрешения: взрослые загружены на работе, трудный восстановительный период. Но почему обязательно думать плохое? Молодежь должна собираться, танцевать, петь... Молодежных клубов для старшеклассников нет. Дворец пионеров тоже приютить всех не может. Так пусть лучше на глазах, в школе, чем собираться вот такими безнадзорными компаниями.
А за окном уже другая песня — «Любимый город может спать спокойно». Ну что ж, иди и ты, Регина Чеславовна, спокойно спи, пусть молодые поют...
В это время она увидела Володю Сопенко, который тоже остановился под окном и стал слушать. Ей захотелось с ним поговорить.
Володя, как видно, колебался, пойти или не пойти к ребятам. Потом направился к подъезду. Кто же там собрался, почему и Сопенко туда?
— Володя! — позвала Регина Чеславовна.
— Регина Чеславовна, вот хорошо! — совсем по-детски обрадовался он, удивив Регину Чеславовну. — А я как раз хотел с вами поговорить. Нужна помощь, ваша и других учителей. Обязательно! Идемте, я познакомлю вас с Алешей...
У Регины Чеславовны появилась новая забота — Алеша. Она рассказала о нем в школе, в гороно. К Алеше прикрепили учителей. У него приняли экзамены за пятый класс, перевели в шестой.
Теперь у Алеши дома было что-то вроде клуба. Пришлось даже установить часы приема «вольных посетителей», чтоб не мешали ему заниматься.
Дня не хватало. Алеша был счастлив. Раньше он не знал, куда девать время, сутки казались огромными, как неделя, а теперь — раз! — и нет, и не все еще успеваешь сделать.
Володя составил ему железный график, сказал: «Если хочешь чего-то добиться, дисциплинируй себя, не отступай даже в малом».
По секрету от Алеши решили первое представление оперы сделать платное, билеты распространить по школам, а все деньги отдать Алеше для поездки в Москву к самым главным врачам. Теперь у репетиций, у всей подготовки — и костюмы шили, и билеты писали, и декорации рисовали — появился особый смысл.
Но произошли события, которые отодвинули на второй план и оперу, и даже Алешу.
Глава десятая. Хомячок
1
Вите Хомякову очень не хватало Лены Штукиной, он скучал по ней, хотя даже с Симой никогда о Лене не говорил. Лена обращалась с ним, как с ребенком, тормошила, жалела.
Правда, Витю, как сына погибшего генерала, все немножко баловали. Ему даже нравилось быть всеобщим мазунчиком, ходить в ореоле отцовской славы. Об отце Витя не очень печалился; он гордился и, конечно, хотел бы, чтоб отец был живым героем, живым генералом, но хотел этого больше для мамы, чем для себя. Витя страдал из-за того, что так сильно страдала мама. Она не любила общество, никуда не ходила и даже со скульптором, которая делала памятник отцу, встречалась неохотно. Любила она быть только с Витей вдвоем. Они разговаривали, что-нибудь вместе делали по дому, в саду, иногда ходили в кино. Но Витю тяготила постоянная грусть и печаль мамы, и он охотно убегал из дому.
С Леной Штукиной они раньше жили в одном доме, через стенку. Прилетели сюда с мамой сразу после гибели отца. Но без отца мама не хотела жить в большой генеральской квартире, перебрались в другую, поменьше, в более уединенном месте. Витя по-прежнему ходил к Лене, там и приобщился к компашке.
После отъезда Лены он несколько раз был у Алика Рябова, был даже на вечеринке у Игоря Мищенко.
Ни водки, ни вина не пил — совсем. Когда была Лена, к нему не приставали, она к нему относилась, как к ребенку, которого нельзя обижать. Потом компашка увеличилась, перестала быть такой дружной и тайной, всякий раз появлялись новые ребята и девушки, совсем взрослые, незнакомые. Над Витей смеялись, называли сосунком, заставляли пить насильно. Он перестал ходить. Не ходили туда и Клара, и Сима, и Леня. Верным другом Игоря оставался только Рябов. Иногда Витя встречался с Игорем и его друзьями в сквере напротив Дворца пионеров, когда во дворце не было репетиций. Вите не очень с ними нравилось — их шуточки, анекдоты, выкрики вслед прохожим, но ему немного было лестно в глазах других ребят находиться под опекой компании. Игорю нужен был его авторитет генеральского сына.
— Не могу понять, Хомячок, ты мужчина или нет, — сказал однажды Игорь, когда они сидели на лавочке, перекидываясь скучными пустыми словами. — Может, ты переодетая девочка, а?
Компания, в которой Витю знали только Алик и Игорь, заинтересованно насторожилась, ожидая развлечения.
— А что? — спросил Витя. Он знал: сейчас последует какая-нибудь непристойная шуточка. Все это было ему мерзко, чуждо, встать бы и уйти, но почему-то не уходилось.
— Если ты мужчина и хочешь, чтоб мы тебя уважали, стукни вон того типа под дыхало. — Игорь показал на незнакомого парнишку, который купил в газетном киоске «Крокодил», сел на свободную скамейку и рассматривал карикатуры, не обращая внимания на окружающих.
Витя был вежливым и услужливым, его часто посылали то за папиросами, то с записочками, то еще с какими-то мелкими поручениями, и он выполнял их безропотно. Но бить...
— Зачем? Он тебя обидел?
— Попробовал бы! В первый раз вижу этого грамотея. Личность мне его не нравится, понимаешь? Скажи, пусть больше сюда не ходит, это наш сквер... Да дело не в нем, а в тебе, Хомячок. Что ты за размазня? Небось и стукнуть не умеешь?
Игорь подначивал. Друзья прислушивались к его словам с одобрением.
Витя молчал.
— Да не бойся, в обиду не дам. Ты только начни.
Алик подтолкнул Витю в спину. Витя встал.
— Не хочу, — сказал он своим обычным вежливым голосом.
— Я так и знал! Этому дитяти только сисю сосати!
Компашка заржала.
Витя с возмущением оглядел их. И что это за люди, у которых потребность кого-то бить, унижать... Будто впервые увидел он пустые светлые глаза Алика, его маленькую голову на тонкой цыплячьей шее, толстогубое, раскормленное лицо Игоря. И вдруг ему захотелось ударить, но не того ничего не подозревающего парнишку, а этого, нагло ухмыляющегося и считающего себя царем природы Игоря, да и всех их неплохо бы схватить за шиворот и стукнуть головами об скамейку, чтоб закрыли довольно хохочущие рты! Но он еще никогда никого не бил, и разве это так уж обязательно, так непременно — выражать свои чувства кулаками?
Засунув руки в карманы куцей курточки, Витя зашагал прочь.
— Хомячок, стой, я же пошутил! Иди, иди сюда, у меня сосочка есть! — крикнул Игорь, но Витя уже не слушал ни выкриков, ни смеха.
Все. Больше с ними ему делать нечего. Раньше ему нравились их песни, танцы, бесшабашность и... Лена. А теперь там только пустота и противность. Лучше вообще быть одному.
Витя медленно шел домой. Они жили с мамой в смешном двухквартирном домике, вытянутом вверх, узком, как водонапорная башня. Домик стоял в большом саду, из-за этого сада мама и выбрала его; она возилась с кустами, цветами весь день, не уставая. Свежие цветы на могиле их отца были выращены мамой, каждый день она меняла букеты, складывала их особо, со смыслом, который Витя не всегда мог угадать.
Сад, Витя, могила отца — вот чем теперь жила Витина мама.
Квартиры в домике, сложенном из красного кирпича и пламенеющем среди деревьев, как экзотическое растение, были устроены непривычно: внизу кухни и все хозяйственные уголки, узкая лесенка вела на второй этаж, где были комнаты мамы и Вити.
В другой половине дома жила семья инженера с нефтезавода. Это были местные украинцы — муж, жена и двое детей. Оба коммунисты, патриоты своего завода, о них писала и местная и областная газеты, помещали их портреты. Не раз они получали записки с угрозами от украинских националистов, но только отмахивались и продолжали жить и работать, как сами считали нужным и правильным. Когда их смены совпадали, они оставляли детей на попечении Витиной мамы. Мама бралась охотно за эти хлопоты, потому что тогда Витя не уходил из дому, возился с ребятами, утром сам одевал их и отводил в детский сад.
Сегодня соседи дома, на их половине свет — и внизу и вверху. На Витиной половине темно, включена настольная лампочка в маминой комнате. Витя знает, что мама сидит в кресле и делает вид, что читает, а сама прислушивается к шагам — не идет ли он. У Вити свой ключ, на всякий случай, но мама просила звонить, ей приятно самой открыть ему дверь, встретить. Как-то он не позвонил, вошел потихоньку, увидел маму одну в этом кресле, напряженную, ожидающую. Тогда решил, что не будет больше оставлять ее вечерами, лучше они вместе пойдут в кино или побродят по городу. Но перетянула компашка. Он говорил себе, что идет в последний раз, но какая-то недобрая сила притягивала его к этому, в общем-то, чужому ему сборищу. Теперь-то уж он наверняка не пойдет. Чтобы быть с ними на равных, он должен пить, бить. А... зачем?
Витя открыл ключом дверь парадного, но закрыть не успел. За ним в коридор вошли двое незнакомых парней. Сначала Витя подумал, не послал ли Игорь кого-то из своей свиты, чтоб проучили его, но парни были взрослые, Витя их, видимо, не интересовал. Один подошел к двери соседей, позвонил. «Наверное, с завода, что-нибудь случилось», — подумал Витя, из вежливости поворачиваясь к ним спиной, и подошел к своей двери.
Время было позднее, соседка спросила, не открывая:
— Кто там?
Парень схватил Витю за плечи, подтолкнул к двери, прошептал:
— Скажи, что ты!
При свете маленькой лампочки, которая еле теплилась в запыленном плафоне, разглядеть лица парней было трудно. Но ясно, что они затеяли недоброе. А если спустится мама и откроет дверь? Ведь она ловит каждый звук. И Витя тихо ответил:
— Вы звонили — вы и говорите.
Куда его ударили, он не разобрал. Стукнулся об стенку, в голове зазвенело, перехватило дыхание. Парень придавил его к стене, зажал рот курткой. Другой снова позвонил.
— Кто там? — На этот раз спрашивал сосед.
— Дежурный с завода, срочно вас вызывают.
Загремел засов, одновременно за Витиной дверью послышалось движение, мама снимала цепочку.
Головой двинул Витя парня под подбородок, толкнул в грудь и закричал изо всей силы, чтоб было слышно и маме и соседям:
— Не открывайте, не открывайте! Бандиты!
Мама распахнула дверь...
2
Когда хоронили маму, Витя все еще был без сознания. Больница, в которой он лежал,— почти рядом с кладбищем. Правда, это старое кладбище, обсаженное высокими деревьями и огороженное непроницаемым каменным забором в два человеческих роста, обычно не очень смущало живущих рядом. Там был свой мир, здесь — свой.
Трагедия, разыгравшаяся в Витином доме, потрясла город. Бандиты рассчитывали страхом, угрозами парализовать население, но насилие и террор вызывали возмущение, протест, жажду борьбы, только мелких и подлых душой отпугивали и предостерегали.
Услышав Витин крик, сосед выпрыгнул в окно, поднял тревогу. Бандитов удалось задержать. Они не скрывали, что посланы на задание: уничтожить инженера и всю его семью — «за зраду[1] Украине». И если бы не Витя...
Витя поправлялся трудно, медленно. Ему не решались сказать правду. Говорили, что мама ранена, лежит в другом отделении, прийти к нему не может
Соседи каждый день приносили кисели и бульоны. Из школы было к Вите целое паломничество. Но в палату к нему никого не пускали: вдруг кто-нибудь ненароком проговорится.
Витя тосковал и все время думал о маме. Что бы ему ни говорили, раз она не идет, ей очень плохо; значит, пойти к ней должен он, Витя. Он пил и ел все, что ему давали. И лекарства, и кисели, и тошнотворный мед. Он терпел перевязки и уколы. Не стонал, а плакал только ночью и совсем немного, когда знал, что никто не увидит.
Ради мамы... Ведь он слышал, как она сбросила цепочку. Это было за какой-то миг до того, как сунули ножом... А что она могла против тех двоих, с ножами?
Он попросил у сестры бумагу и карандаш.
— Зачем?
— Напишу маме записку
Сестра даже руками замахала:
— Нельзя, что ты! Твоя мама не знает, что ты в больнице, ранен... — Сестра быстрехонько вышла из палаты.
«Как же не знает? — размышлял Витя. — Ведь она видела, что я упал...»
Первыми в больницу к Вите прорвались Клара и Ника. Клара несколько дней просила отца, чтобы он позвонил главному врачу и уговорил пропустить их. Она доказывала: Вите тяжело одному, это неправильно — изолировать его от всех, ведь так он дольше не поправится. Мама взяла Кларину сторону, и Денис Иванович, ничего не обещая Кларе, позвонил в больницу. Узнав, что Витя пошел на поправку и к нему не пускают только из опасения, как бы не проговорились о смерти матери, высказал врачу сомнение, полезен ли для мальчика такой карантин. Ребята считают Витю героем, проговориться никто не должен.
— Идите, вас пустят, — сказал он Кларе, — только смотри не подведи меня!
Зима чуть-чуть повернула к весне, и цветов еще не было, даже веточек с котиками не продавали на рынке, только букетики засохших бессмертников.
Клара купила такой букетик, но Ника сунула его в пустую чернильницу у себя на столе и срезала несколько стеблей ярко цветущего «декабриста».
Когда они вошли во двор больницы, Ника еще раз напомнила Кларе: молчок. Клара, что бывало редко, даже обиделась: не такая уж она дурочка и пусть лучше Ника за собой последит. Но ссориться было некогда. Сестра набросила на них халаты, проводила.
Витя лежал один в длинной узкой палате с высоким потолком, далеким от кровати окном, холодным кафельным полом. Здесь было так чисто, одиноко, даже холодно, что девочки утратили нарочно приготовленные бодрые улыбки. Клара стала на колени и припала лбом к Витиной руке, чтоб скрыть слезы: острая жалость к Вите и его погибшей маме казалась просто непереносимой. Ника склонилась над тумбочкой, поставила веточку «декабриста» в стакан, придвинула на самый край. Цветы повисли над Витиным лицом.
Он улыбался. Он был очень рад: значит, его одиночество закончилось, значит, он и о маме сможет что-то узнать.
Сестра принесла еще один стул, сказала, что нельзя разговаривать громко и много. Пусть говорят девочки, а Витя молчит.
Клара рассказывала о школьных делах, о дворце и репетициях, о том, какая кислая погода, непохоже ни на зиму, ни на весну, не хочется из дома и нос высовывать; так что пусть Витя не горюет, к настоящей весне, когда цветы и солнце, он выйдет из больницы. Потом, когда разрешат, ему будут приносить уроки, придут учителя — заниматься прямо здесь. Захлебываясь от жалости к Вите, от желания сделать для него хоть что-нибудь приятное, Клара сказала, каким молодцом все считают его, как им гордятся: ведь если бы не он, не удалось бы поймать тех двоих бандитов, да и людей он спас, могло быть больше жертв...
— А мама? Что с мамой? — В груди у Вити захлюпало.
Клара испуганно замолчала, виновато посмотрела на Нику: ну придумай же что-нибудь, спаси!
— Сосед успел выскочить в окно и поднять тревогу. Твою маму ранили, она лежит в женском отделении, — четко выговаривая слова, веско сказала Ника.
— А мне почему-то кажется, что все меня обманывают... И вы тоже, — прошептал Витя и закрыл глаза. Подбородок, на котором от напряжения удержать слезы проступили мелкие ямочки, задрожал. — Проведайте ее, пожалуйста... — чуть слышно попросил он.
Клара вдруг громко всхлипнула и выбежала из палаты.
— Мама! Мама! — изо всех сил крикнул Витя и сел.
— Нельзя тебе, нельзя! — бросилась к нему Ника.
Вбежала сестра, засуетилась:
— Я же говорила — рано к нему посетителей.
— Я все понял... — Витя откинулся на подушку. — Я еще раньше все понял...
Клара дожидалась Нику на улице, боязливо выглядывая из-за столба.
— Как можно быть такой... несдержанной? — Ника подобрала слово помягче, потому что по сморщенному виноватому лицу Пупочки непрерывно текли слезы.
— Жалко...
— Если Вите станет хуже, это на твоей совести, учти!
3
К Вите в больницу пришел командир полка, который воевал вместе с его отцом.
— Я тебя усыновлю. Хочешь? — спросил полковник.
— Нет.
— Почему?
— У меня есть отец. Буду солдатом, как он.
— Твой отец был генералом.
— Значит — солдатом. Так считал отец.
— В суворовское поедешь?
— Да...
После санатория Витя прощался со школой, с товарищами и учителями. В актовый зал набилось много народу — ученики и учителя изо всех школ.
Витя стоял на сцене: маленький, бледный, серьезный, в пригнанной по росту солдатской форме — подарок полковника, — герой Хомячок...
Выступали учителя, ученики, офицеры, солдаты, которые пришли с полковником. Говорили высокие, неравнодушные слова. О самом главном, что делает даже маленького человека сильным, — о долге перед Родиной, перед людьми. Желали Вите быть таким же сильным, как его отец, который погиб в бою за Родину, как его мать, которая не побоялась бандитов, чтоб защитить сына.
В углу, за всеми, стояли Рябов — Али-Баба и Гарри Миг — Мищенко, на лице которого блуждала обычная ухмылочка, но никто этого не замечал, потому что никто не обращал на них внимания.
Глава одиннадцатая. Современная девочка
1
Город, как и полагается городам, расположенным в предгорье, распустил свои улицы во все стороны от центральной площади с ратушей в таком порядке, как им удобнее было приладиться к подъемам и спускам. Среди этого нагромождения извилистых улочек и переулков была одна, которую Ника как-то обнаружила прошлой осенью, во время листопада, бродя по засыпанным листьями тротуарам. Бродить она любила, мама называла ее киплинговской кошкой, которая бродит сама по себе, и даже нарисовала эту кошку с Никиными глазами. Бродить-то приучила ее мама, раньше она чаще бывала с Никой, вот и приучила к задумчивым молчаливым прогулкам, когда каждый думает о своем.
Эту неширокую каштановую улицу Ника открыла случайно, быструю и медленную, бегущую стремительно вниз, ползущую вверх, мимо военного городка с одной стороны, мимо небольшого леска — с другой. Эту улицу не подметали так усердно, как другие улицы, и здесь можно было шуршать широколапыми листьями сколько угодно.
Мощноствольные деревья стреляли каштанами. Если стать под большой каштан у ствола, то кажется, что он гудит, как колокол, медленно вращается и втягивает тебя в свою желто- зеленую глубину. А из этой звучной торжественности вдруг — щелк, цок, скок-скок! — полетели сквозь ветки и листья, завертелись на мостовой гладенькие прохладные каштаны.
Ника не понимала людей, которые не любили, не замечали природы. Себя она чувствовала единым целым и с этими деревьями, и с горами, которые грустят на горизонте, когда бы ни взглянул на них, и с ветром, таким разным, как и настроение людей... Ей очень нравилось смотреть, как работают люди в садах, на огородах, она завидовала им, близким к земле, сожалела, что они с мамой живут в доме, где нет и клочка земли, чтоб развести цветы. Они пытались что-то посадить в ящиках на балконе, но ветер был беспощаден к их высотному цветнику, вырастали хилые, скукоженные росточки. Мама обещала: как только они вернутся в Киев и она получит гонорар, они обзаведутся какой-нибудь полосочкой в дачной зоне и насадят деревьев и цветов.
Иногда Ника заглядывала в кружок к Ольге Матвеевне во Дворце пионеров, где были в основном пятиклассники и шестиклассники, помогала копать, сажать, полоть, но в кружок просила ее не записывать, потому что ходила только по настроению, когда уж было совсем одиноко и грустно.
Ника переходила от каштана к каштану — каждый со своим звоном-гудением. Взобралась на горку, откуда город как на ладони. Вынула из портфеля книги, несла их в руках, а портфель набила каштанами. Решила непременно прийти на эту улицу в начале лета, когда каштаны зацветут. Ожидание этого мига жило в ней, помнилось. Ника поглядывала на каштан в школьном саду. И вот когда над листьями поднялись бело-розовые свечи цветов и деревья стали похожи на новогодние елки, но еще лучше, она решила: пора. Думала зайти за Таней — Таня поймет ее волнение, в такие мгновения рядом должен быть кто-то близкий, кого не стыдишься, или пусть уж никто...
Но Таня теперь всегда занята — у нее Алеша. И все же в этот день Ника решила отвлечь Таню от всего, пусть и она послушает, как звучат колокола каштанов в цвету, почувствует, как они завораживают, возносят над землей. Но когда Ника закрывала дверь квартиры, кто-то зажал ей глаза ладошками, потерся носом о шею, лизнул ухо. Это могла быть только Клара. Значит, за Таней не придется заходить, Клара и Таня несовместимы. А Клара предложила сама:
— Идем побродим, красотища какая на улице!
Ника взглянула на нее удивленно: Клара бродить вовсе не любила, предпочитала сидеть на лавочке в сквере и разглядывать прохожих — кто как одет, какое у кого лицо, фигура, — или носиться по спортивной площадке, удивляя всех своим маленьким ростом, который не мешал ей отлично играть в волейбол. Клара умела прыгать, падать и увертываться не хуже волейбольного мяча.
Может быть, на нее тоже подействовала весна, весь этот теплый влажный день и то, что зацвели каштаны?
Они шли по направлению к каштановой улице. Ника спросила:
— Клара, ты умеешь чувствовать?
— Умею, разве я не человек?
— Тогда зажмурь глаза. — Ника взяла Клару за руку и вывела из-за угла на пригорок. Вывела и остановилась.
— Уже можно? — тоненьким детским голоском спросила Клара.
Ника не ответила, и она открыла сначала один глаз, потом другой.
— Ну что, что ты мне хотела показать? — дернула Нику за руку, посмотрела ей в лицо и осеклась: на лице у Ники было столько боли и гнева, что Клара испугалась.
А Ника смотрела на улицу, которая уже больше не была каштановой. По ее сторонам не вздымались царственные деревья, и не было никаких цветов, похожих на торжественные новогодние свечи. Совсем недавно, видно, когда деревья уже и почки выпустили, кто-то обкорнал их безжалостною рукой, срезал гордые ветки, и стройные великаны превратились в кургузых плешивых стариков. Свежие срезы белели как шрамы, хилые веточки и листочки не могли прикрыть их, не могли дать прохлады ни домам, ни улице, не могли они дать и красоты человеческому сердцу, а вызывали протест, как любое насилие.
— Зачем, ну зачем это сделали?! — воскликнула Ника.
— Видимо, так полагается, — ответила Клара и постаралась утешить Нику: — Ничего, на следующий год отрастут, зато все деревья кругленькие, одинаковые...
— А зачем им быть кругленькими и одинаковыми?
— Наверное, так красивее. — Клара пожала плечиком.
Никиного отчаяния она не понимала, тем более что ее мысли были заняты совсем другим. Из-за угла выглядывал Алик Рябов. Она знала: он не один, с ним Игорь Мищенко. Сегодня они сидели на лавочке, на обычном месте, где собиралась компашка. Игорь и Алик стали уговаривать, чтоб она вытащила из дому Нику, с которой Игорю так и не удалось познакомиться ближе.
«Человек погибает от любви, а ты не хочешь помочь», — сказал Алик.
Погибает от любви — как романтично! И не кто-нибудь ее просит, а сам Гарри Миг, сам Али-Баба. Поговорить с Никой — что тут особенного? Клара сделала глазки Алику и согласилась.
И вот они крадутся сзади, ожидая удобного момента, чтоб подойти к девочкам.
— Так и будем стоять? — Клара потянула Нику. — Идем...
Они шли мимо изуродованных деревьев, и Нике было так бесконечно их жаль, что она ни о чем другом и думать и говорить не могла.
Молча прошли впадину, стали подниматься на горку. Совсем близко, за широкой придорожной канавой, — лес, вернее, лесок, где кустов орешника и ежевики больше, чем деревьев. Кое-где пробивались сквозь спутанную зелень кустарников меловые стволы берез, а дальше колыхали черными вершинами высокие старые ели. Там начинался настоящий лес, но ходить туда не рекомендовалось: кто знает, кого могли прятать сырые сумрачные овраги, промытые горными ручьями.
Когда в школах делали венки для погибших, школьники приходили сюда за цветами. Маленький лесочек был на удивление богат цветами; кусты и деревья не могли удержать их возле себя, цветы разбегались во все стороны, на поляны и тропинки, карабкались через канаву прямо к дороге. На венки их собирали не пучками, а охапками — и белые с желто-зелеными точечками на венчиках, и голубые с пятью правильными лепестками и оранжевой сердцевиной, и фиолетовые, похожие на тюльпаны на мохнатых ножках. Это были первоцветы, каждый со своим именем, но называли их одинаково — подснежники.
Пора подснежников прошла, и сейчас в лесочке буйствовали белые и голубые ветреницы. Легко осыпающиеся, они были хороши не в букетах, а именно здесь, на влажной земле, на стеблях с резными листочками.
— Пойдем, а? Посидим с краешку на пеньке... — предложила Клара.
— Не боишься?
— А мы не будем заходить далеко. — Клара не боялась, она видела, что Алик и Игорь следуют за ними, переходя от дерева к дереву.
Девочки перебрались через канаву и сразу оказались в окружении других запахов, цветов, звуков. Дорога была совсем близко, за спиной, проезжали машины, прошли солдаты с песней, но все эти звуки долетали до первых кустов и деревьев и застревали там, замирали, не решаясь тревожить лесной мир.
— И совсем не страшно! — Клара побежала по тропинке, отводя руками ветки орешника, смеясь и прыгая.
Нике не хотелось веселиться: еще не покинули сердце печаль и обида за поруганные каштаны. Но уже сходило на душу тихое умиротворение.
Клара взобралась на пень. Ее коротенькая юбочка-шестиклинка надувалась цветочным венчиком, маленькие ноги в изящных туфельках с пряжками, купленных мамой на толкучке, притопывали от радости. Клара запрокинула голову, раскинула руки. Сейчас она напоминала Нике ту Клару, беззаботную певунью и хохотушку, с которой она встретилась в пионерском лагере.
Клара запела:
— «Если б я птичкой по небу летела, я б для тебя, мой друг, только бы все пела, а не для рощи, а не для леса-а-а...» — Клара оборвала песню.
«Ти-ти-ти! Ти-ти-ти!» — как будто продолжая, так же тонко и резко прокричала птица. Девочки рассмеялись.
Они побрели дальше, уже не думая, страшно или не страшно в лесу. А Клара примечала мелькающих за кустами Алика и Игоря. В случае чего они не дадут в обиду, что бы о них там ни говорили.
Ника заметила ребят, когда, обежав тропку стороной, они вышли из кустов и пошли навстречу медленным шагом, будто уже давно бродят здесь.
— Клара, привет! — махнул веточкой Алик и вежливо, будто совсем незнакомой, кивнул Нике: — Здравствуйте!
Игорь молчал, поглядывал из-за Алика своим насупленным взглядом, и Ника подумала, что эта постоянная насупленность оттого, что маленькие глазки сидят глубоко, близко к носу, а брови для таких глаз слишком щедрые.
— Привет, мальчики! — прощебетала Клара, будто тоже видела их сегодня впервые. Она подумала, что на пеньке, конечно, выглядела эффектно, и они это оценили. Ее давно привлекал Алик Рябов, обижало его снисходительное отношение к ней, как к несмышленышу.
— Не боитесь в лесу? — спросил Игорь с обычной ухмылочкой.
Ника ответила:
— Как видите, даже вас не испугались,
— А мы не страшные. Наоборот, если возьмете нас в телохранители, можно и дальше прогуляться! — Игорь многозначительно хлопнул себя по карману галифе, обшитому кожей. Получился звук, будто похлопал он по твердому металлическому предмету.
«Может быть, у него даже револьвер, — подумала Ника, — стащил у отца или еще где достал, теперь этим не удивишь».
Клара поглядела просительно на Нику, и Ника решилась. По крайней мере лес посмотрят. Когда и с кем еще можно прийти сюда, а лес манит давно. Эти двое, в случае чего, и подраться умеют, не слабачки. Да и что может случиться? Разве случается что-нибудь плохое в такие светлые солнечные дни? Вокруг пустынно, никто их не видел. Кому они нужны? Если уж кого остерегаться, то своих телохранителей, вернее, одного из них. Но не посмеет же он приставать к ней, когда их четверо, рядом Клара.
Тропинка вывела на широкую просеку, ее пересекала другая, как будто кто-то прорубил аллеи в парке — такие они были прямые, чистые, поросшие нежной, сочной травой. Сюда солнце светило вовсю, и они даже немного побегали, поиграли в догонялки; пожалели, что нет мяча. И Алик и Игорь показались Нике обычными ребятами, как все школьные товарищи.
— Так неинтересно, — сказала вдруг Клара. — По аллеям можно и в парке гулять. Давайте побродим по настоящему лесу. — Ей во что бы то ни стало хотелось очаровать Алика, хоть немножко побыть с ним наедине, чтоб никаких других девочек и не с кем сравнивать ни ее рост, ни характер. Алик увидит, что она не дитя, а такая же девушка, как и все, что она может преданно любить и быть любимой, хотя понимала эти слова пока только теоретически. Мысленно Клара сравнивала себя с американской киноактрисой Диной Дурбин, озорной и веселой, как мальчишка, и в то же время, когда наступал нужный момент, Дина затмевала своим женским очарованием томных кинокрасавиц.
Стали продираться сквозь кусты. Ника упорно, ни на шаг не отпускала Клару от себя. Кларе стало досадно: и чего цепляется, чего боится? Игорь в нее давно влюблен, готов делать все, что Ника скажет, если бы только она захотела. Эх, если бы за ней, за Кларой, ухаживал такой парень, о котором говорит весь город!
Набрели на овраг. Тянуло мшелым холодком, внизу гремел ручей, но он окружил себя таким дремучим кустарником, что сверху его не разглядеть. Глубину оврага увеличивали сосны, подступающие тесной стеной к его краям. Место было мрачным и неуютным, но Клара предложила:
— Давайте посидим! — и первая бухнулась на мох, вытянула ноги, которым в новых туфельках было тесновато.
Ника стоя прислонилась к сосне. Игорь развалился на мху. Алик спустился до первого куста, срезал длинный прут, стал строгать, искусно оголяя от коры квадратики, кружочки, полосочки.
Говорить было не о чем.
Алик с Игорем переглянулись. Алик взобрался наверх, позвал Клару:
— Можно тебя на минутку?
— Клара, не уходи! — строгим голосом сказала Ника.
Но Клара с готовностью вскочила, будто и не слышала, отряхнула иголки с юбочки, протянула Алику руку:
— Идем...
Алик и Клара выбрались в более веселое, открытое место. Клара уселась на пенек, прикрыв его венчиком юбочки, положила ногу на ногу, кокетливо прищурясь и склонив голову, поглядела на Алика. Однако у него был такой вид, будто и не он звал ее для какого-то особого разговора. Алик сидел, привалившись к пеньку, строгал палочку.
— Что ты хотел мне сказать? Говори. — Клара игриво дунула ему на макушку.
— Ничего...
— Зачем же звал?
— Не понятно разве? — Алик снизу поглядел на нее бесцветным взглядом. — Надо же когда-нибудь Гарри выяснить свои отношения с Никой.
— А-а-а... — разочарованно протянула Клара и вскочила с пенька. — А как же я? — с обидой спросила она.
Алик, не подымаясь, схватил ее за руку, снова усадил.
— Спокойно, детка! Дай людям поговорить.
2
— Сядь, устала небось! — не поворачиваясь к Нике, сказал Игорь.
— Нет...
Игорь поднялся, подошел так близко, что Ника невольно опустила голову, чтобы не видеть его, не ощущать дыхания.
— Будешь со мной встречаться?
— Нет, конечно! — Ника взглянула ему в глаза, отвернулась.
— А я говорю — будешь! — Он взял ее за плечи.
— Нет! — Ника оттолкнула его обеими руками и отошла от дерева.
— Все равно будет, как захочу я! Ты же знаешь, что я тебя люблю.
— Не говори этих слов, они не для тебя.
— Ты сама-то что смыслишь в этом, девочка?
— Мое время еще придет! — с вызовом ответила Ника.
— Вот оно и пришло. Никто другой — я сам растолкую тебе, что к чему... — Игорь медленно приближался к Нике.
— Клара! — крикнула она.
— Можешь не кричать: возле Пупки — Али-Баба!
— Негодяи! — Ника схватила с земли обломок обуглившейся коряги, угрожающе подняла.
Игорь сделал шаг назад.
— Слушай, давай по-хорошему, ты же современная девочка.
— Убирайся, пока цел! Ничтожество!
— Нет уж, я не дурак, чтоб упустить такой случай. — Игорь достал из галифе пистолет и покрутил перед глазами Ники.
Нике стало смешно. Все это похоже на кривлянья киноактеров в трофейном кинофильме про любовь. Она рассмеялась.
— Слушай, сейчас ты действительно не Игорь, а ковбой Гарри, соблазняющий красотку. И тебе не стыдно? Ты же все-таки человек!
— Ну, раз я все-таки человек, то ничто человеческое мне не чуждо.
— Противно, противно, и больше ничего! — Ника даже топнула от гадливости и презрения.
Игорь согнул левую руку, положил на локоть пистолет, стал целиться в Нику.
Ника смеялась.
— Ну, хватит. Ты мне ясен на двести процентов. Эта комедия надоела. — Она бросила корягу в овраг, отряхнула руки, повернулась к Игорю спиной.
— Один шаг — и я стреляю!
— А что же ты потом скажешь своему папочке? Ведь это его пистолет?
— Скажу, что на нас напали в лесу бандеры, в тебя выстрелили, а в меня не попали. Выбегу на дорогу и буду орать во все горло: «Бандеры! Бандеры! Спасите!» Разве не поверят? Поверят...
— А ты еще и подлец к тому же! Я тебя недооценила. Ну что ж, если ты такой храбрый — стреляй! — Ника снова прислонилась к дереву. Она почувствовала, что устала, ей хотелось домой, в город, к людям. Вот бы закрыть глаза, и чтоб ничего этого не было — ни наглого Гарри, ни этого оврага, ни... Клара! Что же с Кларой? Неужели и Алик такой негодяй? С Кларкой-то справиться легче, что она понимает, Пупочка! Да нет, это все затеяно ради нее, другого способа подобраться Гарри не нашел.
Ника зажмурилась. Она нисколько не боялась, она не верила, что Игорь осмелится на то, о чем так ловко болтал и бахвалился. Ника вспомнила свой разговор с Таней об Игоре. Она спросила Таню, можно ли перевоспитать такого человека, как Игорь.
Таня ответила категорически, это была ее манера — горячность и категоричность:
«Когда речь о таких типах, нужно выбросить из головы все возвышенное, романтичное. Он слишком сытый! Таких ненавижу!»
«А я все же не верю, что человека нельзя перевоспитать», — возразила Ника.
«А фашиста, полицая, который убивал, издевался над людьми, можно перевоспитать, а? Сделать из него не фашиста, не убийцу?.. Что, молчишь? Это необратимые процессы!»
«Но Игорь все же не такой...»
«Если бы его оторвать от жирной родительской миски да туда, где работа, где люди горячие, где спуску не будет! А что учителя со своими нотациями на вечную тему: «Не вертись, не получай двоек»... Или мы... Да плевать он хотел на наше мнение! Он из породы пустоглазых и мне противен... Послушай, Ника, а почему ты так много говоришь об этом ничтожестве? Он что, ухаживает за тобой?»
«Вроде...»
«Берегись, никаких поблажек! — сказала Таня. — Это шакал, ни одной смазливой девчонки не пропустил. Подожди, ты еще сама убедишься, какое это неисправимое ничтожество, так что обходи его десятой дорогой! Убедила я тебя?»
«Да...»
Но Ника немного покривила душой. Она все же верила, что если Игорь по-настоящему полюбит кого-нибудь, ну, например, ее, то повлиять на него можно. Но она ошиблась в главном: любовь могуча, но при чем здесь Игорь? Права была Таня.
Нике почудилось какое-то движение, она открыла глаза и вздрогнула: за спиной у Игоря, который все еще стоял в манерной позе «угрожателя» и держал Нику под прицелом, появились двое незнакомых парней, в телогрейках, кудлатых шапках и высоких резиновых сапогах. Один держал в руке автомат за ствол, как палицу, и, пряча, слегка заводил его за спину, у другого оружия не было, на шее болтался фотоаппарат. Они подошли так тихо, будто все время стояли тут, за деревьями, и только сейчас отделились от них. Игорь все еще не замечал их, его лицо было пришлепнуто ухмылочкой.
Видно, эти люди привыкли ходить по лесу таясь, сливаясь с деревьями. Может, это лесные объездчики или парни из отряда ястребков, которые иногда прочесывают лес? Наверное, сидели в укрытии, в овраге, и слышали весь их разговор. Нике стало легче: она же знала, что ничего плохого не случится.
Парни были выше, крепче Игоря. Один протянул руку и хлопнул снизу по пистолету. Пистолет выскользнул, парень придавил его сапогом.
— Али-Баба, что за шутки, мы же договорились... — недовольно сказал Игорь, оборачиваясь, и вдруг закричал тонким хриплым голосом, будто кукарекнул: — Сюда, на помощь!
— Молчать! — Парень сунул ему в спину автоматом так, что Игорь ляпнулся на колени и носом клюнул землю.
Он поднялся и, еще больше набычившись и насупившись, чем обычно, сказал:
— Отдай пистолет!
Тот, что с фотоаппаратом, усмехнулся:
— Вiддай йому, Гупало, тую играшку, нехай си бавить, а я клацну... [2]
Гупало поднял пистолет, вынул патроны, оставил один, проделал это перед носом Игоря, чтоб тот видел, протянул ему пистолет:
— Стреляй.
— В кого? — не понял Игорь.
— В нее, — кивнул Гупало на Нику. — Ты же в нее целился, так стреляй.
— Я шутил!
— А я не шучу. Стреляй! — Видя, что ни Ника, ни Игорь не понимают, что происходит, он рассмеялся и, прикрыв рот рукой, сказал своему товарищу: — Вони не розумiють, хто ми такiе [3].
Они поняли оба одновременно — Ника и Игорь: это бандеровцы, лесовики, настоящие, живые. Ника все так же стояла у дерева, мысли ее напряженно работали. Можно броситься за деревья, это спасет от пули, бегает она быстро. Но тогда они прикончат Игоря. А если сюда, на шум, вернутся Клара и Алик? Значит, и они попадутся? Что они, даже вчетвером, могут сделать против автомата? Неизвестно еще, сколько здесь бандитов, может, целая шайка засела в овраге... Так близко от города, в каком-то полукилометре от воинского гарнизона, но кричи не кричи — никто не услышит, даже выстрел заглохнет в деревьях, проглотит его овраг, а кричать нельзя, чтоб сюда не прибежала Клара.
— Гупало, нема часу![4]— поторопил тот, с фотоаппаратом. Он достал его из чехла, приготовился фотографировать.
— Стреляй, кому говорю! — Гупало приложил дуло автомата к затылку Игоря. — Вб’еш ii единим пострiлом — даруем тoбi життя! Ну?[5]
Игорь целился. Он был скован страхом, руки дрожали так, что пальцы с трудом удерживали маленький удобный пистолет. Выстрелить в ногу… Ника упадет... Неужели не догадается притвориться мертвой? Его отпустят: у них нет времени, спешат. Хотя разве много нужно времени, чтоб выпустить пулю в затылок? Не дотрагивается, а все равно от него холод. Затылок заледенел... Нет, нет, его не убьют... Нику могут — у нее значок комсомольский так и сверкает на груди, режет глаза... Они не дураки, давно заметили, конечно, а он и сказать им может, что его из комсомола исключили. Пока еще не исключили, грозятся только, да какая разница, какой он комсомолец... Наверное, его отпустят... Отпустят! Не убьют!
— Ну? — Холодное толкнулось в затылок. Игорь стал целиться в ногу, выше колена.
— Не туда целишь, — сказал Гупало. — Останется жива — пощады не жди.
Он подстукнул локоть Игоря, приподымая его:
— Вище, вище! Целься в той самий, червоний, що на грудях...
Игорь смотрел только на значок, не мог поднять глаз выше, чтоб не видеть лица Ники, ее глаз. Все равно погибать обоим... А так хоть он живой... Кто узнает? Никто!
Он нажал курок. Щелкнул фотоаппарат.
Что-то темное ожгло Игоря по глазам, его куда-то волокли, он не успевал переставлять ноги, цеплялся за кусты, за корни, проваливался в ямы, повисал в воздухе. Упасть ему не давали, толкали, тянули, только красные круги в туго, до боли чем-то плотным стянутых глазах...
3
Клара ходила вокруг пенька, рвала листочки, нанизывала на прутик — делала себе лесную шапочку, что-то тонко мурлыкала. Долго сердиться и унывать она не умела. Алик все еще трудился над палочкой; ее незатейливый орнамент был готов, подчищал его ножичком. Чтоб утешить, Алик пообещал подарить ее Кларе. Они оба услышали возглас Игоря, слов не разобрали.
— Идем к ним, хватит! — встревожилась Клара. — Слышишь, нас зовут!
— Да подожди ты! — снова удержал ее Алик. — Пусть еще позовут.
Но больше ничто не перебивало обычного лесного шума. Однако Клара уже не пела. Выбирая красивые листочки ветреницы, ходила по кругу, все дальше от Алика, напряженно прислушиваясь. Теперь ее беспечное согласие устроить свидание Игорю с Никой не казалось таким пустяковым. Кто знает этого Игоря... Ее он ни разу не обидел, но ведь не зря ходят слухи, что с девчонками он не церемонится.
Отойдя подальше от пенька, Клара побежала к оврагу, не слушая больше окриков Алика. Он догнал ее, схватил за руку; Клара дернулась, боднула его головой в грудь. Не сумев вырваться, хотела завизжать, уже набрала полную грудь воздуха.
— Ненормальная! — Алик зажал ей рот рукой. — Тихо! — приложил палец к губам.
И Клара сразу испугалась: с того места, где они оставили Нику и Игоря, долетали чужие голоса.
Осторожно разводя ветки, они подбирались к оврагу: Алик впереди, за ним Клара, уцепившись за его куртку.
Увидели последнее: выстрелил Игорь, упала Ника, двое парней поволокли Игоря, скользя по склону, в овраг.
Не разбирая дороги и не соблюдая больше тишины, мчались они прочь, через просеку, по тропинке — к городу, к дороге, где люди и безопасность. Клара первая выскочила на дорогу, замахала проходящей машине.
— Зачем? — крикнул Алик. — Туда! — Он показал в сторону военного городка...
Когда они вернулись к оврагу, Ника все так же лежала у сосны, но ни парней, ни Игоря обнаружить не удалось, как ни прочесывали солдаты лес и овраг.
Клара боялась подходить к Нике, боялась страшного, непоправимого. Однако врач, наклонившись над Никой и повернув ее лицом вверх, сказал, обращаясь к лейтенанту:
— Немедленно в госпиталь!
Слезы хлынули из Клариных глаз: жива, жива!
Бойцы положили Нику на палатку, бережно подняли и понесли, стараясь не задевать за кусты. Клара и Алик шли сзади.
— Романтики захотелось? — спросил лейтенант. — Небось мамочка сто раз предупреждала: «Не ходите, детки, в лес гулять...»
Клара ничего не ответила, заплакала в голос, размазывая слезы по лицу. Да, да, это она виновата, она заманила Нику в лес... И что только теперь будет?
Алик сорвал несколько листьев, протянул Кларе:
— На, вытрись да не реви. — Он нагнулся к ней, прошептал: — В лесу мы встретились случайно, никакого уговора не было. Поняла? Про Игоря и Нику молчи. Поняла? Мы с тобой пошли собирать цветы, а в это время на них напали. Кто стрелял, мы не видели. Поняла?
Клара покорно кивала головой.
Глава двенадцатая. Гарри Миг
1
Его не били. То есть не били специально. Связали руки, чем-то вонючим заткнули рот. Толкали в спину кулаками и прикладом, тянули под руки. Слепые ноги лезли на пни, в ямы, в голенище сапога попала палка или шишка, разъедала ногу... Потом где-то отлеживались, пахло землей, прелым листом. Не развязывая глаз и рук, швырнули в телегу, на ноги навалилось что-то тяжелое — то ли люди, то ли поклажа. Он не чувствовал, живое это или нет — ноги и руки омертвели, — но он был рад, что хотя бы изо рта вынули мерзкий кляп. Людей вокруг стало больше, он понял это еще в лежке, по дыханию, по еле слышным движениям. Но все молчали — ни слова, ни звука. И он молчал, даже когда не стало во рту тряпки. Любые слова — бесполезно... Что сказать, как, кому? Не то что каких-то слов, которые разжалобили бы этих лесных людей, а самых простых у него не осталось. Ощущал себя как оболочку, внутри которой — пустота.
Постепенно страх сменялся надеждой. Его не убили. Почему? Могли ведь щелкнуть там же, на поляне, где он сам убил Нику... А может, не убил? Может, жива? А, не все ли теперь равно! Он ведь тоже в лапах у бандитов, его тоже убьют... Убьют? Почему обязательно убьют? Он же совсем не жил!.. Как же так: не жил и вдруг умереть? Нет, нет!.. Его отпустят, он все расскажет — и что его из школы исключили, и что его все ненавидят, что он и не комсомолец вовсе. Что угодно скажет, только бы отпустили домой... Он хотел крикнуть, попросить, объяснить, но голоса не было — в горле что-то скрипнуло, прошелестело. Попробовал приподняться, но едва плечи оторвались от дна повозки, как сверху шлепнули чем-то тяжелым, кто-то приглушенно, угрожающе сказал:
— Тихо будь!
Задергало, замотало — видно, продирались через лес напролом, — стукало по краям телеги, молотило снизу, будто земля кидала в днище булыжники. Игорь отупел так, что даже не понял, засыпает он или теряет сознание...
Не били его и теперь. Выволокли из фиры, поставили, но ног не было, не было и туловища — одна голова. Казалось, что сейчас, когда его отпустили, голова, под которой нет туловища, брякнется о землю, расколется и ее сметет неизвестно куда. Он закричал гнусно, дико и тут же почувствовал, что его держат с двух сторон, развязывают руки; в них хлынула кровь, и они отозвались горячей болью.
Сняли повязку с глаз. Увидел, что и ноги есть, никуда не делись, а боль уже поплыла к ним: заныло, закололо так, что, позабыв обо всем остальном, затопал еще чужими, глухими пятками, стал крутить кистями рук... Его отпустили, но, боясь упасть, он сам ухватился за чей-то рукав. Раздался смех. Вокруг суетились люди, что-то снимали с подводы, носили в хату, а многие просто стояли, смотрели на него и откровенно потешались.
Свет из окна падал на него, его специально так поставили.
Кто-то сзади поднял руку, он думал — его ударят, отшатнулся, едва устоял на ногах, и снова все рассмеялись, потому что его не ударили, а просто надвинули на голову кубанку, которую он потерял в телеге.
Его снова не били, хотя он все время ждал, что его будут бить, и мучительно боялся этого. Его еще никогда не били, только он сам, бывало, бил. Даже в драках ему не попадало, так как за него дрались дружки.
Гупало показал под хатой бочку с водой, подтолкнул его:
— Умойся, чтоб на людыну был похож, а то подумают, что мы тебя замордовали...
Потом он ел вместе со всеми за столом в хате картошку, жаренную в печи на противне в сале, куски вареной свинины, запивал кислым молоком. Все были голодные, ели молча, жадно, быстро, и он — тоже, голод прогнал даже страх.
После еды в хате остался он, Гупало, фотограф и еще какой-то парень, совсем молодой. Он отлично говорил и по-русски и по-украински, у него были румяные щеки, черный лоснящийся чуб, не от грязи, а от блеска хороших здоровых волос, синие глаза и черные брови, про которые поется — «как шнурочек». Вышиванка с кисточками у горла. Ну совсем не бандеровец, а участник сельской художественной самодеятельности.
— Теперь послушаем, что ты нам скажешь...
Парень произнес это таким спокойным мирным голосом, и сам он был такой мирный, не лесной, что Игорь вдруг поверил: его не убьют. И — заговорил. Он совсем не тот, кто им нужен. Он давно порвал и со школой, и с комсомолом, он просто живет себе, гуляет, ни во что не вникает, никакой он не идейный, зачем его убивать?..
Парень в вышиванке задавал вопросы очень спокойно, и постепенно Игорь рассказал все, что знал о городских делах, о людях. Из своей памяти выскребал все, что там где-то когда-то застряло. Может, выспросят и отпустят?..
Фотограф записывал — видимо, он был у них кем-то вроде писаря и корреспондента.
— Может, и отпустим тебя, — сказал парень. — Только ты как раз тот, кто нам нужен... Стефка, ходь ту!
Вошла девушка, Игорь ее хорошо знал: Стефка совсем недавно была у них прислугой. Его мама часто меняла местных девчонок: желающих пойти в услужение, чтоб получить городскую прописку, было много.
Стефка взглянула на него ехидно, крутанулась так, что юбка в сборку чуть не мазнула Игоря по носу, выбежала, хлопнула дверь. Глухо долетел ее смех. Что она тут про него наговорила, эта ехидина?
В хату вошел кто-то сумрачный, лица не разглядишь. Лампа на столе с таким колпаком, что свет падает маленьким кружком на потолок, большим кругом стелется по лежащим на столе рукам, по полу, а лица — в тени, только глаза блестят. Свет доставал до пояса вошедшего, на поясе висели гранаты. Он буркнул:
— Людей собрали.
Все встали.
Хлопец — было видно, что он тут, хоть и молодой, без всяких там гранат и без автомата, старший над всеми, — сказал Игорю:
— Иди вперед.
Село было темным, неживым — ни светлячка в окне, ни голоса, ни собачьего переклика, будто и не село вокруг, темные какие-то купы стоят. Но возле большой хаты, видимо заменяющей клуб, народ был, стояли и фиры, и кони тесно привязаны к забору, огоньки цигарок усеяли стены, ярко светились окна.
Вошли в тесно набитый «зал». В углу, на возвышении, пиликал на губной гармошке парень, другой выкрикивал частушки. В них высмеивался вуйко — дядька, который решил записаться в колхоз, чтоб разбогатеть, а остался без сподней[6], потому что Советы весь хлеб забрали в Москву. Так что, Вуйко, не будь дураком, Советам не верь, в колхоз не спеши, а бери оружие и иди к своим братам в лес, чтобы гнать проклятых Советов с украинской земли...
Когда парень выкрикнул последние слова, по залу прошел шумок, потом вооруженные дядьки, стоявшие у стен, образуя вторую, вооруженную стену, засмеялись, захлопали, тогда раздались хлопки и из середины зала.
Подталкиванием в спину Игоря вынудили пробиться к сцене. Он остановился, но его снова выразительно толкнули к двум ящикам — ступенькам. Он поднялся на сцену, следом парень в вышиванке; внизу примостился фотограф, с другой стороны стал Гупало с автоматом.
В зале стихло. Игорь посмотрел туда — люди стояли, сбившись тесной кучей, лица начинались прямо у ног, всё больше молодые парни и девушки, такие, как сам Игорь, а дальше мелькали и усатые, и тетки выглядывали из-под платков. Все с интересом смотрели на Игоря, и он не знал, куда прятать глаза, потому что, даже если опустить голову, глаза у самых ног натыкаются на обращенные к нему лица.
Парень в вышиванке сказал:
— Поглядите на этого юнака[7], люди. На его хромовые чоботы.
Игорь невольно взглянул на себя — сапоги блестят, Гупало заставил почистить и куртку сам обтер рукавом ватника. Сапоги хорошие: мягкие, облегающие ногу, как чулки, в них ходишь по земле — будто по воздуху скользишь, и не черные, а коричневые, даже шоколадные, с лоснящейся сливочной искрой. И все из зала теперь тоже смотрели на его сапоги.
— Чи есть у кого из вас такие чоботы? — продолжал парень.
В зале застыла тишина. Люди не понимали, к чему клонит парень.
— Молчите? Ваши чоботы — то ваши порепани[8] пятки, а таких чоботов и в городе, наверное, больше ни у кого нет... А поглядите, люди, на эту червонную, как огонь, курточку. — Он помял полу куртки в кулаке, выпустил — куртка сияла, будто до нее и не дотрагивались. — Видали? Мягкая, как шелк, не мнучая. Может, у кого из вас где-нибудь завалялась такая одежина?.. Что? Нет?.. Так я вам скажу: нет и не будет, не ждите, потому что кто вы? Никто, простые люди, быдло. А этот пупьянок[9], думаете, министр? Так, может, Советская власть такая богатая, что всем, кто еще и зерна не бросил в землю и гвоздя не забил, раздает такие сапоги, куртки, такие вот смушковые[10] шапки? — Он сбил с головы Игоря кубанку, покрутил ее в руках, чтоб все видели алый верх с белым шнуром, каракуль — завиток к завитку. — Нет, у Советской власти кишка тонка... Кто ты есть, хлопче, отвечай! — Он повернулся к Игорю, тот смотрел на него непонимающе, сцена под ним колыхалась, и он только думал, как преодолеть это колыхание, чтоб не упасть. — Ну, отец твой кто?
— Мищенко Фома Пантелеевич, — сказал Игорь тихо, как провинившийся ученик.
— А ты посмелее, погромче, ты же атаманишь в городе, — насмешливо сказал парень, и Игорь увидел, что лицо его не такое уж молодое и румяное. — Так вот, люди, перед вами сынок обыкновенного торгового работника, который поставлен, чтоб о вас заботиться, едой-одеждой снабжать. Как и о ком он заботится, вы видите. Так что же о других говорить? Хлопцы этого парубка в лесу встретили, когда он девчонку хотел насиловать, а потом сам же и застрелил ее. Свою же, комсомолку. Может, я придумал это? (Игорь молчал, только сцена сильнее закачалась.) А ты отвечай, пока тебя по-хорошему спрашивают. Правда это?
— Да...
— В каком классе учишься?
— В девятом.
— А лет сколько?
— Семнадцать.
— Сколько раз на второй год оставался?
— Два...
— Так тебе не только такие сапоги и шапку давать не за что, а и хлебом кормить... Правда, люди? (В зале смех. Никто не сочувствует Игорю.) Кто еще дома, кроме тебя и отца?
— Мать.
— Работает?
— Нет...
— Кто еще?
— Бабка.
— Работает?
— Нет...
— Стефка, ходь ту! — позвал парень, а Стефка уже и через ящики перемахнула, не задев ни ногой, ни юбкой: она под самой сценой стояла, этой минуты ждала.
— Прислуги еще у них, прислуги! — затараторила она. — Одну выгонят, другую берут. А добра-то, добра! Ой, людоньки, пусть меня бог покарает, век такого не видела! А вы хоть и двести лет проживете, такого не наживете!..
Парень прервал ее жестом, спросил у Игоря:
— Откуда это все у вас?
— Не знаю... — Игорь и в самом деле в это не вникал. Какое ему дело, чем там родители занимаются. Раз дают всего вволю, значит, могут.
— Я знаю, я! — подскочила от нетерпения Стефка. — Отец его посылал машины за добром аж в самую Германию, все ночами потом разгружали, ночами, чтоб люди не видели... А так им шофер и среди белого дня то мяса оковалок привезет, то яиц, то масла целые ящики, то вино всякое... Ставить некуда, у них целая комната барахлом завалена!
— Врешь! — крикнул Игорь.
— Что это вру? — засмеялась Стефка. — Да вон морда у тебя до сих пор лоснится, как ты по полкурицы за один раз сжирал!.. А мать у него, — обратилась она к залу, — как самая настоящая пани ходит. И на голове лисица, и в руках лисица... — Стефка сложила руки на животе и с важным видом покачалась на месте, так как пройтись по узкой сцене было негде.
— Видали? Слыхали? — спросил парень. — Так чего же вы от Советов ждете? Бить их всех нужно, гнать с нашей земли!..
«Ну все, теперь конец», — думал Игорь. Смысл происходящего доходил до него урывками, главная, одна мысль владела им — убьют или не убьют? «Не хочу умира-а-а-ать!»
Но его не убили и даже снова не били. Правда, после собрания куртку сняли, она прикрыла вышиванку парня; алый цвет очень шел к черно-белой вышивке крестиком на груди. Парень с удовольствием поглядывал на себя, как в зеркало, в закрытое ставней окно. Кубанку заработал Гупало, и сапоги, коричневые, с шоколадным отливом, исчезли. Игорю дали старые солдатские ботинки с тупыми носами и широкими задниками — ноги в галифе были в них уродливо тонкими, — швырнули ему солдатскую гимнастерку, не совсем чистую. Игорь содрогнулся: может, с убитого содрали, но — надел.
Игорь боялся ослушаться, каждую минуту ждал, что его прикончат. Но для чего-то его держали, даже учили стрелять из автомата и пулемета. Раньше он видел пулемет только на плакатах в школьном кабинете военного дела. А теперь, стреляя в лесу, ощутил его грозную убойную силу. Днем уходили из села в лес, вечером возвращались. Село это было лесное, глухое, людей Игорь почти не видел: сидели в хатах. Бежать отсюда — не выберешься из леса, из гор. Да и как убежишь? Вроде его и не сторожили, а стоило отойти от хаты на лишний шаг, как уже чувствовал рядом чьи-то глаза.
— Хочешь жить? Вижу, что про другое и не думаешь. Жизнь себе купишь, — сказал ему Хижак (парень в вышиванке, а теперь и в его куртке). — Ты же сын своего отца: купить — продать... А как, потом увидишь.
Замечал еще, что его фотографируют в разных положениях, особенно когда он разговаривает с бандеровцами, сидит с ними за столом, лежит за пулеметом с Гупалом. Фотограф появлялся, щелкал и исчезал.
Постепенно Игорь понял, что это своего рода агитбригада. Хижак выступал в селах с лекциями, бандеровцы устраивали концерты для населения, писали антисоветские лозунги, составляли листовки, которые печатались где-то в лесном тайном схроне. Игорь покорно помогал им, даже сам раскрасил лозунг «Смерть Советам!», а фотограф его, конечно, при этом щелкнул.
От его прежнего задора, бахвальства, скептической ухмылочки ничего не осталось, будто и не он грозный Гарри Миг. То все ребячество, а это — жизнь, он не мог сопротивляться, как раздавленная колесом лягушка, которая только и может еще конвульсивно подергивать лапками.
2
Легковую машину, обкомовскую «эмку», пришлось оставить в районе: прошли дожди, дороги были пригодны только для лошадей и повозок. Из машины на повозку переложили плащи и сапоги, так как и среди лета не только частые ливни охлестывали землю, а начинал вдруг моросить затяжной, самый осенний дождь, будто чем-то едучим выжимался из земли, деревьев, гор, а тучи, которые слоились черными клочьями наверху, не имели к нему отношения. Такой дождь разъедал не только дороги, он пропитывал все сущее на земле; казалось, и люди становились рыхлыми, тяжелыми. Без плащей, брезентовых накидок, без резиновых сапог нечего из города высовываться, пусть бы там солнце вовсю гуляло по небу. У гор, среди лесов, холмов, глубоких долин свой климат. А ехали они на несколько дней. Денис Иванович — с лекциями и другими делами, комсомольская молодежная бригада из района — с концертами.
В селах дел много — началась коллективизация. Селянин, хозяйничавший всю жизнь на клочке земли величиной с подошву, получив от Советской власти надел, с которого можно было прокормить семью, вдруг должен был этот надел отдать. Выходит, Советская власть дала, поманила, Советская власть и взяла. Колхозы — это что-то непонятное. Всегда были такие, кто хотел бы взять кусок послаще, да так, чтоб руки не окунуть ни в навоз, ни в землю. Вот и подумай, как оно получится гуртом, в колхозе.
Насильно никого не заставляли — уговаривали, разъясняли. Сомнениями, тревогой и болью мужиков за землю пользовалась вражеская пропаганда: вот вам, дескать, Советская власть, а мужик как был с голым пупом, так и останется; в колхозы сгоняют, чтоб все были на виду, работали в три шеи, а потом всё до единого зернышка с общего поля заберут Советы... Да мало ли еще о чем трубили в заросшие страхом и недоверием мужицкие уши враги Советской власти, а фашистское охвостье, фашистские недобитки — бандеровцы к словесной пропаганде добавляли и весомые, зримые аргументы: пули, удавки, ножи для тех, кто верил Советской власти, кто вступал в комсомол, в партию; даже детей, надевших пионерские галстуки, не щадили.
Горячо, постоянно помнилось и болело в сердце страшное преступление, весть о котором облетела всю Западную Украину, всю советскую землю. В одном прикарпатском селе после выступления комсомольской бригады и бесед с ребятами школьники вступили в пионеры. Ночью, когда агитбригада уехала, ребят, даже самых маленьких, бандиты повытаскивали из хат и повесили в школьном саду на пионерских галстуках!
Вот и ищи пути к сердцу запуганных людей, веками угнетавшихся, которые под дулами бандитских автоматов отворачиваются от нового...
Разбили фашистов, разобьют и их охвостье! Нет силы на земле, которая бы сокрушила советский народ, но жертв пока много, и обиднее всего, что это послевоенные жертвы...
Работники обкома, горкома, райкомов партии, комсомольцы, партийцы из городских советских учреждений почти безвыездно жили в селах, работали с населением, помогали местным советским органам. Многие из них уже не возвращались сами — их привозили убитыми, изувеченными, а то и вовсе не находили.
Денис Иванович изъездил область вдоль и поперек. В каждом селе обязательно заходил в хаты, вникал во все, чем живут люди. Что бы ни говорилось с трибуны, так не узнаешь ни людскую нужду, ни настроение, как в доме, где человек становится смелее, откровеннее.
Плохо живут люди. Попадались такие хаты, такая бедность, какой он за всю свою жизнь не встречал. Он был беспощаден к трусам и бюрократам, к тем, кто мог бросить тень на Советскую власть. Заглядывал в самые опасные закоулки, где не убережет и охрана в несколько красноармейцев, которая хотя и была необходимой, раздражала, не хотелось идти к населению под охраной автоматов. Денис Иванович предпочитал, чтоб рядом были не солдаты, а такие же штатские люди, как он сам. Теперь все умеют оружием пользоваться. После такой войны мужчина или парень, даже подросток, не умеющий держать винтовку, казался смешным. В одиночку ездили только в районы, где стояли хоть небольшие воинские гарнизоны, а по дальним глухим селам — бригадами, группами, каждый в которой, от мальчишки-комсомольца до старого коммуниста, в опасный момент становился бойцом. Очень помогали ястребки, местные ребята, бывшие фронтовики. Иной раз несколько ястребков не пускали в село целую банду. Но ястребков было мало.
Опасность, возможность быть убитым — это было не главным, чем-то сопутствующим, как дождевые хмары, висящие на горизонте в солнечный день, — дождь то ли будет, то ли нет, а солнце светит, и даже если туча его застит, это временно, оно там, на небе, оно все равно будет светить.
Лошадьми правит Дмитро, райкомовский кучер. Молодой парень в полотняных споднях, в линялой гимнастерке. Левый рукав заткнут за ремень, он живой только до половины, до локтя. Когда правая взмахивает кнутом, он тоже топырится за нею, манжет выскакивает из-за ремня. Тоже знак войны; мало кто теперь без таких видимых и невидимых отметин.
Дмитро ловко управляется и одной рукой, повьекивает на лошадей: «Вье! Вье! Виста!»
Война закончилась, и — война продолжается. Как много нужно успеть сделать для людей. В этом смысл жизни, в этом счастье.
Самое прекрасное, самое сложное на земле — человек. Каждая встреча с хорошим человеком — радость. Денис Иванович благодарен тому усталому вечеру, который привел к ним в дом Иванну. Она для него — символ красоты, талантливости народа, его огромных возможностей.
С Иванной они говорили обо всем. Ее безрадостная жизнь была знакома ему в мельчайших подробностях, и он удивлялся, как сохранила Иванна такое светлое восприятие мира, такую доброту, готовность помочь людям, удивление и радость перед всем хорошим. И сожалел, что Клара не такая.
— А что наивысшее на земле? — спрашивает Иванна. — Искусство? А может, любовь? — Спрашивает и сама раздумывает, ищет ответа.
Он отвечал серьезно, высказывал самое заветное, что прочувствовал всей своей жизнью:
— Наивысшее на земле — братство людей по борьбе...
Иванна верила ему.
А Клару такие вопросы не тревожат...
Иванне очень хотелось побывать дома. И Денис Иванович взял ее с собой. Ее село немного в стороне от намеченного маршрута, ну, потеряет он несколько часов, беда не велика. У Иванны скоро экзамены за первый курс, на одни пятерки девчонка идет. Пусть побудет денек-другой дома, передохнет.
Наговорилась, а теперь сидит, притихла. Наверное, представляет, как встретят ее дома. А может, просто на горы засмотрелась. Фира ползет медленно. День такой чистый, умытый, зелень тут всегда сочная, влажная, а солнце как будто пританцовывает от радости. Все, что может отражать, от бляхи на хомуте до самой маленькой капельки в траве, брызжет светом, солнечными зайчиками.
У Иванны — свои думы. В село тянуло не только потому, что соскучилась по своей хате, по родным. Так ни разу за зиму в селе не побывала. Приезжал два раза отец. Ну, теперь совсем по-другому он к Иванне относится — как к какому-то начальству, с почтением и уважением, даже заискивал перед нею, будто и не он когда-то вышвыривал ее на снег.
Один раз и мама была. Мама стеснялась своей убогой одежды, боялась города. Вспоминала потом Иванна это свидание и принималась плакать: жалко ей было своих родителей, совсем другими ей хочется видеть их. Может, в селе по-иному они встретятся, не будет смущения и отчужденности. Скорее бы выучиться, вернуться в село, чтоб помочь родителям, чтоб по-иному мама улыбалась, не приниженно, а как полагается людям. А уж дети ей обрадуются! Ведь никто не знает, что она уже так близко. Как хочется ей увидеть Бронека и Данку! А Стефця маленькая, конечно, не узнает ее. Гостинцы для них давно собрала. Как только удавалось копейку-другую подработать, что-то себе покупала и о них не забывала. Обрадуются ей малюки, да они ее и без подарков любят, а с подарками еще радостнее встреча.
Перед экзаменами дали несколько дней для подготовки. Экзаменов она не боится. Пусть зубрят те, кто больше в кино да на танцульки заглядывал, она всегда всё учила.
Не только с родными хотелось Иванне повидаться. Думала она и о встрече с родной школой, с Анной Владимировной, пока еще не начались каникулы и школа не опустела.
Недавно Иванна стала комсомолкой. Комсомольский билет в жакетке лежит, во внутреннем кармане. Рука то и дело сама туда ныряет, проверяет — на месте ли, хотя бояться нечего: карман надежно булавкой заколот. А на груди — комсомольский значок. Пусть все видят в селе, что она комсомолка.
Может, для кого-то это и обыкновенное дело — быть комсомольцем. Вот Клара, например. Значок для нее — как брошечка, билет валяется среди книг и тетрадей на полке. О своих комсомольских делах никогда не расскажет. Может, и нет у нее этих дел? Если в школе комсомольское собрание, ноет, что вечер пропал. А разве это не интересно — собраться всем вместе, поговорить начистоту о своих делах? И не бояться, что тебя за это расстреляют или повесят на вербе... Ну, Клара, может, не чувствует этого, потому что и бояться ей ничего не приходилось, и калачиком сворачиваться под рядном под взглядом бандеры Сливы или Зеленого Змия не приходилось, когда они выпытывают, кто в селе комсомольцы, чтоб расправиться с ними, как с той учительницей, которую прямо на уроке, при детях убили...
Нет, она не будет снимать значка, по всему селу пройдет — пусть смотрят. Бояться ей нечего: с нею Денис Иванович, с нею люди, которые ничего не боятся.
Никогда не забыть ей того дня, когда ее в комсомол принимали. Боялась, что из Устава что-нибудь забудется от волнения. А по Уставу ее и не спросили. Может, потому, что рекомендацию давал Денис Иванович? Расспрашивали подробно о селе, о родителях, о том, как в школе училась. А потом секретарь спросил:
«А скажи, Иванна, для чего ты в комсомол вступаешь?»
Вот чудаки — для чего! Да ясно же: чтоб быть такой, как Мария Васильевна, как Анна Владимировна. Ответила вопросом, даже немного с вызовом:
«А какая же это учительница, если не комсомолка?»
Они все тогда, члены бюро горкома, заулыбались. Секретарь вручил билет, ласково и сильно пожал руку:
«Поздравляю, Иванна, верю, ты будешь настоящей комсомолкой и хорошей учительницей».
А девушка прикрепила значок к ее жакету.
Иванна снова пережила ту острую радость, как тогда, какая-то волна подхватила ее, она встала на фире во весь рост, подняла руки и закричала:
— Эге-ге-е-ей!
И горы призывно ответили: «Э-э-эй!»
3
Данка взлетала на холм, стараясь не замедлять бега. На вершине выпрямлялась, раскидывала руки, сдергивала косынку с головы. Ох, красиво, все село видно, хата из-за хаты выглядывает, копошатся люди во дворах, кто-то по стежке покатился, маленький, вроде собачки, а — человек. Далеко забежала Данка от дома, высоко взобралась. И лес видно лучше, и долину, намытую потоком, и вершины гор пониже стали: кажется, если до того самого высокого горба добежать и на него залезть, то и за горы заглянешь...
Данка туго затягивает косынку под подбородком, вскидывает руки и мчится по склону, зубы выцокивают, стискивает их, чтоб язык не прикусить, а ветер, как ножом, разжимает рот, и опять зубы — цок-цок!
А меж холмов дорога. По ней ушла из дому Иванна. Каждый раз Данка смотрит на дорогу — вдруг сестра мелькнет в своем голубом платье? Будет же такой день, будет! У Иванки сердце доброе, скучает и она без них, как Данка скучает без нее, как Бронек. Стефце — той еще все равно, той лишь бы мама была. А мама и плачет по Иванне, и радуется за нее. Да и все они радуются, что Иванка учится в городе, станет учительницей. И отец радуется, больше не хорохорится, не воюет с женой и детьми. Увял, постарел. Пьет, но потихоньку. Напьется — и в стодолу, в сене, а то и просто на земле переспит свой стыд. Дома что он есть, что его нет. Не помогает, но и не мешает. А им все же легче живется: люди помогли, и сельсовет, и школа.
Добралась Данка и до самого высокого горба. Нет, и отсюда за горы не заглянешь. Чтоб за них заглянуть, надо вырасти и уйти из дома, как Ива. И вырасти хочется, и посмотреть хочется, а из дома уходить — нет, не хочется: есть ли еще где такие холмы, такие горы, такое село?
По привычке стала вглядываться Данка в дорогу. Рано еще Иванну ждать, экзамены у нее. А уж потом придет непременно — каникулы. По малину в лес будут ходить, теперь и ее, Данку, возьмут.
Мама хату побелила — хата тоже Иванну ждет, — двор принарядила, от перелаза вдоль стежки цветов насеяла; уже и ромашки цветут, и ноготки, чернобривцы. Данка поливает их, а Стефця хворостиной кур гоняет: любят они по теплым вскопанным грядкам копаться; разворошат, а потом в пыли лежат. Ищите, куры, себе другое место, это Иванкины цветы...
Домой Данка бредет по дороге: устали ноги бегать по холмам вверх-вниз. Дорога щиплется застывшими колеями, галькой, жесткой травой, — не часто по ней ездят. Эта, хоть и короче, все у гор, через лес, до города есть другая, дальняя, зато через равнину, через села, туда бандеры редко заглядывают.
Мама уже стоит возле дома, Стефця, как всегда, трется у ее ног. Бронек в школе.
— Слава богу, пришла, — говорит мама. — И где тебя ветер носит? Идем до хаты, и тихо мне будь! Бандеры пришли...
Мама со Стефцей в хату зашла, Данка в дверях стала, на село посмотрела. Оно будто присело, притихло, хатки поменьшали и людей не видно.
Страшно, когда приходят бандеры. Придут — что хотят, то и заберут; кто им не понравится — убьют, уведут с собой в лес, а потом и следа от человека не находят.
Данка всматривается в село, во дворы, в тропинки. Ни людей, ни бандеров.
— Мамо, не видно никого, — говорит Данка, заходя в хату. — Тихо в селе.
— А они, дытынко, не в селе, они туда подались, до леса, затаились... Может, ждут кого? Сама видела. Бульбу на огороде сапала, а они идут, пятеро. С гранатами, рушницами, и этот... пулемет у них. Я как увидела, так в борозду и повалилась, а один грозится: молчи. Я и сапу бросила, скорее до хаты...
— А в селе про то знают? — всполошилась Данка.
— Отец в сельсовет побежал, скажет. Ястребков соберут… А ты сиди, доню, дома. Может, стрелянина пойдет; пуля слепая: ей хоть враг, хоть ребенок; не глядит, в кого метит.
Данке дома не сиделось, ерзала у окна, будто на лавку соли насыпали. Мама прилегла со Стефцей на топчане, а Данка выскользнула из хаты. За стодолу — от дерева к дереву, от куста к кусту. Сняла белый платок, засунула за пазуху — белое всегда манит глаз...
Увидела: те пятеро затаились на холме, лежат, свои автоматы на дорогу навели. Ждут кого-то или ястребков на бой вызывают?
Данка прокралась на соседний холм, позади. Им видно село и дорогу, а ей — и село, и дорогу, и их. Как и они, легла на живот, ноги расставила, пятками уперлась, будто у нее автомат в руках. Эх, если бы!.. Скосить бы их всех сзади, чтоб не наставляли на людей свои пукалки!
4
Игорь лежал у пулемета. Теперь он понимал, какой ценой ему придется покупать жизнь. Не знал только, в кого будет стрелять, этого ему не говорили. По бокам — Хижак, Гупало, сзади — фотограф и тот, сумрачный, которого так и звали — Хмурный. Игорь бы дал ему другое прозвище — Зуботычина, в компашке по части прозвищ он был мастером. Хмурного держали для раздачи зуботычин, на посылках.
А фотограф успел и здесь щелкнуть Игоря несколько раз, у пулемета, в такой яркой компании. Гупало даже кубанку снял и на Игоря надел, а Хижак накинул на плечи куртку. Для чего им этот фотомонтаж?
Курить хочется. Но никто не курит, молча лежат. «Отпусти домой, Хижак», — про себя просит Игорь, и губы у него начинают трястись. Вслух попросить не смеет... Посмотрели бы дружки на своего атамана, да еще в этой линялой гимнастерке! Был атаман — только писк остался...
Еще ничего не слышно, не видно, но что-то изменилось, какая-то тревога нависла над дорогой, над холмами, над селом, будто горячие грозовые слои воздуха придавили землю и людей.
Вот издали долетела песня, и чем слышнее она становилась, тем гуще ощущалась тревога.
Песня рванулась из-за холма, вслед за нею выкатили две фиры, и слова грянули вольно, сильно.
— Целься! — прошипел Хижак.
Игоря сдавили с двух сторон, прижали к пулемету. Он напряженно вглядывался в людей на фирах. Кучер стоял во весь рост, загораживая остальных. Когда дорога пошла на поворот и фиры оказались боком, Игорь разглядел на первой очень знакомого человека и обмер: отец Клары, а рядом Иванна, еще какие-то девчата и парни. На другой фире тоже полно людей, все незнакомые, одно ясно — это свои.
Песня, ухнув в последний раз, замолкла. Иванна что-то оживленно говорила, показывая Денису Ивановичу на горбы, на горы.
— Ближе подпусти, ближе, чтоб наверняка... — шипел Хижак, а Гупало держал свои руки на его руках.
Значит, стрелять... В своих... Кто простит это? Кто поймет?!
— Жми! Жми! — гаркнуло над ухом, и в затылок сунулось холодное дуло.
— Нет! — закричал он и оттолкнулся от пулемета, его тело само вспомнило, что было сильным, могло сопротивляться. Он стал сворачиваться, как гусеница, месить кого-то ногами, кто не пускал.
Что-то мелькнуло внизу тонко орущее, машущее белым.
— Ива-а! Иванка-а-а! Назад! Тикайте! Бандеры!..
Это отвлекло бандитов, дало Игорю несколько секунд, он бросился вниз по откосу, за деревья, в кусты, в траву, в листья — исчезнуть, слиться, сникнуть, чтоб не нашли, не увидели, не стреляли...
Переползал от дерева к дереву. К своим, только к своим... Как будет, так будет, но — к своим! Он не замечал и не помнил, что совсем рядом идет бой, строчит пулемет, рвутся гранаты. Он знал, чувствовал только одно — живой, живой!..
Стреляли и от села, где залегли ястребки, и из-за горба, куда уползли фиры и перебежали люди, и с холма, где еще недавно был Игорь. Там с пулеметом остался Хмурный, остальные — Хижак, Гупало, фотограф — юркнули в лес. Никто Игоря не искал, не гнался за ним.
Пулемет строчил, пока кто-то из ястребков не подполз с тыла, не закинул на холм гранату. Ухнуло и замолчало.
Бандеровские пули не зацепили никого, даже Данку. Это потому, что она легкая, как перышко, думала Иванна, обнимая плачущую сестру.
От села бежали люди, бежала мать, Бронек, отец, школьники, а впереди — Анна Владимировна. Иванна выпустила Данку, побежала навстречу.
И тут из леса вышел Игорь, растерзанный, грязный, с синяком под глазом. Все молча, удивленно смотрели на него.
Данка прильнула к Иванне, сказала громко:
— То бандера! Он из пулемета строчил!
— Не строчил я! Они меня забрали... били... — Игорь вдруг заплакал, задергался, толстые губы повисли, как размокшие бублики.
Он подошел к Денису Ивановичу, который тоже ничего не мог понять, кроме того, что на них была устроена засада. Но откуда Игорь?..
Убитого Хмурного стащили с холма. Никто не хотел, чтоб на холме, который стоял, как страж, у села, был похоронен бандит. Его зарыли в лесу и затоптали могилу
Глава тринадцатая. Клара
1
Клару вызывали к следователю. Она говорила так, как условились с Аликом: встретились случайно, ничего не видели, услышали выстрел, побежали в часть.
Она путалась, плакала. Ведь Ника в больнице и по-прежнему не приходит в сознание. И Клара все время видела тот страшный момент: Игорь стреляет, какие-то парни волокут его к оврагу, а Ника лежит под деревом... Ведь это она, Клара, заманила Нику в лес, доверилась Игорю. Его нисколько не жалко. Пусть только никто никогда не узнает правды, иначе она умрет от стыда!..
Теперь ее не надо было просить сидеть дома — из школы сразу юрк домой. Если бы не следователь, она бы и не вылезала целый день. Даже грядки в саду принялась полоть. Усядется в межу, бальзамины укроют от всего белого света, о чем хочешь думай, плачь — никто не видит
Следователю она могла не говорить правды. И маме могла просто не говорить всего. А вот папе... Он видит ее насквозь и все понимает. Во всяком случае, жить с ним в одном доме и не сказать правды она не сможет.
Теперь к ней часто наведывался Алик Рябов — морально поддержать. Его тоже вызывали к следователю, но ему легче: он привык обманывать, он даже гордился этой своей способностью.
Когда-то Клара мечтала о посещениях Алика, но теперь...
С каким удовольствием она отказалась бы от всего, что пришло к ней вместе с компашкой! Пусть бы из этого года в ее жизни остались только Ника, Иванна и Дворец пионеров. Им так было хорошо с Никой в лагере!..
Счастье еще, что папа в командировке. Мама к ней относится, как к больной, считает, что девочка пережила большое потрясение. Но она и представить не может, из-за чего так переживает Клара. Думает, из-за Ники. Да, конечно, но больше все-таки из-за себя. Ника поправится. Но ведь тогда она скажет, кто в нее стрелял, как они оказались в лесу. И все узнают, что Клара обманывала. Значит, пусть Ника не поправляется?.. Нет, нет, что это она подумала! Просто, когда Ника начнет поправляться, Клара проберется к ней в палату и уговорит, чтоб Ника не рассказывала про Игоря. Но почему? Как объяснить? Ведь Ника не знает о ее договоре с Аликом и Игорем, о том, что встреча с ними в лесу была подстроена...
Может, все как-то образуется? Игоря бандеры живым не выпустят. Выходит, она и Игорю желает смерти? Ох, до чего только может довести обман!..
Бедная Пупочка совсем поникла. Золотые кудряшки угасли, веснушки на лице выступали не золотистой пыльцой, а какими-то грязными пятнами. И новыми туфельками она больше не щеголяла, почему-то видеть их не могла; нашла старые босоножки на деревянной подошве и носила их.
И вдруг по городу, от школы к школе, от человека к человеку, пронеслась весть: Игорь Мищенко убежал от бандеровцев.
Игорь стал героем. Еще бы! Его увезли в горы, заставляли стрелять в своих, но он успел подать знак нашим, что бандеры в засаде, и убежал от них. Из рассказов Игоря выходило даже, что он спас жизнь Денису Ивановичу и комсомольцам из культбригады. Игорь ходил в новой куртке, несмотря на то что стояли душные грозовые дни, в новых сапожках, не хуже старых, в кубанке. Он разгуливал по главной улице, по площади около ратуши в компании друзей, сопровождаемый восхищенными мальчишками.
Всеми силами Клара избегала встречи с Игорем. Но однажды, когда мама была на работе, а Клара сидела на одеяле под яблоней, обложившись учебниками, и делала вид, что готовится к экзаменам, на самом же деле просто страдала, Игорь вместе с Аликом сам пришел к ней. Зыркая маленькими глазками из-под насупленных бровей, он с прежним самодовольным видом рассказывал, как стреляли в Нику, а он пытался ее отбить, как он себя геройски держал в банде и, если бы не он, то пулемет скосил бы и отца Клары, и Иванну, и ястребков... Но в этих зырканьях из-под бровей было что-то суетливое, тревожно-вопросительное, и Клара избегала его взгляда, не верила ни единому слову, хотя и кивала в знак одобрения головой. Она должна скрывать свои мысли и чувства, она просто боится Игоря. Игорь хорохорился, но Клара подумала, что Игорь не может быть спокойным, потому что жива Ника. Она обхватила голову руками и закрыла глаза.
— Тебе плохо, Пупка? — спросил Алик.
— Да нет, просто устала, эта чертова геометрия не лезет в голову!
Они ушли, но скоро Алик вернулся, сказал, наклонившись к самому уху Клары:
— Учти: Игорь ни в коем случае не должен догадаться, что мы знаем правду. Он на все может пойти. Ты не знаешь, что это за человек, терять ему нечего.
— Ты боишься?
— Тут вопрос жизни и смерти.
— А если Ника умрет?
— Тогда Игорю все спишется. А от нас никто не должен узнать, поняла?
— Но ведь она не умрет!
— Тем хуже для Гарри! Значит, сама Ника обо всем расскажет, а мы с тобой ни при чем. Мы ведь ничего не видели, правда?
— Правда, — покорно прошептала Пупочка.
— Крепись. Поменьше говори — меньше шансов проболтаться.
Клара осталась одна, упала лицом в учебники. Страшно! Страшно узнавать такую подлость, такой цинизм, молчать и незаметно становиться соучастницей. Чем она лучше Алика или Игоря?..
Кларе казалось, что ее голова лопнет, за всю свою прежнюю жизнь она не думала столько, сколько за эти несколько дней.
Прибежала Иванна, разыскала ее в саду. Заставила съесть теплую, распаренную солнцем малину — первую, по ягодке выбирали они с Бронеком и Данкой, знают такое местечко на пригреве недалеко от села. Бандеров сейчас там нет, можно и малину собирать. Даже из того дальнего села угнали их в горы; ястребки собрались из всех сел, солдаты пришли, бой гремел в горах, теперь бандиты в ямы позабивались, пусть сидят там, нелюди...
Иванна подробно рассказывала, как хорошо и весело они ехали, пели песни, как вдруг птичкой с горба слетела Данка с белым платком в руке, затакал пулемет, да пули миновали Данку, только в платке дырка, как из лесу вышел Игорь, стал жаловаться и плакать. Его с ястребками сразу отправили в город.
Иванна рассказывала быстро-быстро, она была переполнена впечатлениями и не замечала, какой странной стала Клара. Иванна говорила, что очень соскучилась по репетициям во дворце, по всем хорошим людям, теперь у нее будто два сердца: одно там, в селе, другое тут, в городе.
— Иванна, — перебила Клара ее рассказ, — разве ты ничего не знаешь?
— Нет, а что? Я же только сегодня приехала. Вчера по малину сходили, а сегодня утром я тут, в училище сбегала — и сразу к вам. Председатель сельсовета в город ехал, так что и пешком не пришлось идти.
— Ника в больнице... Ее ранили.
— Кто?!
У Клары чуть не слетело с губ — Игорь, но спохватилась, отвела глаза, сказала привычно, заученно:
— Те же бандеры, что забрали Игоря. Разве он не рассказывал?
— Нет. Ты была в больнице?
— Никого не пускают. Ника без сознания, легкие пробиты, много крови потеряла. Операцию сделали, неизвестно, как будет. С нею ее мама.
Иванна угасла, устало сказала:
— И когда это уже кончится? Когда только люди смогут спокойно жить, когда же уничтожат этих бандитов?!
Помолчали. Иванна поднялась:
— Ладно, пойду. Прогуляла ведь я все денечки, а завтра экзамен. Пробегу по учебнику, повторю. Завтра после экзамена загляну, сходим в больницу. — Она пошла к калитке, остановилась: — Да, Денис Иванович передавал тебе и Софье Александровне привет. Он с бригадой дальше поехал, говорил, чтобы не беспокоились, если задержится.
— Хорошо! — облегченно вздохнула Клара.
— Что хорошо? — не поняла Иванна.
Клара покраснела. Как трудно обманывать. Нужно следить за каждым словечком. И еще эта способность краснеть ее подводит.
— Хорошо, передам маме привет, она всегда так беспокоится, — нашлась она.
— A-а! Ну, бывай! Не беспокойтесь, люди любят Дениса Ивановича, в обиду не дадут. У тебя, Клара, такой отец!
Иванна еще раз махнула рукой. Задребезжала сеткой калитка: уголок надорван, так противно бренчит. Папа собирался починить, да все некогда; вспоминал о ней, только когда входил и выходил.
Хорошо, что папа вернется не скоро!
2
Комсомольское собрание во время экзаменов — событие, да еще двух школ вместе, мужской и женской.
Клара шла на собрание с замирающим сердцем. Бывает так, что не знаешь — и знаешь наверняка, что все это очень касается тебя, потому что очень уж ноет сердце.
Комсомольцы собирались в большом зале Дворца пионеров. Клара хотела сесть в уголочке сзади, за колонной, чтоб быть незаметней, но туда уже набилось полно мальчишек. Девочки садились поближе, постепенно заполняя и передние ряды, весело перекликались, делились впечатлениями, кто как сдает экзамены. Им всем, беззаботным, хорошо, можно и поболтать и посмеяться. Ее окликнула Сима Бецкая, но Клара сделала вид, что не слышит, разглядела свободное местечко в середине зала, втиснулась между семиклассниками.
Было много взрослых: учителя, директор дворца, воспитатели, даже Елена Константиновна.
На сцену, за стол, покрытый красным полотнищем, прошли несколько человек, и Кларе захотелось сделаться еще меньше, чем она была, вроде мурашки, чтоб ее и на стуле не разглядеть. Там, кроме секретаря горкома комсомола, — следователь, который мучил ее вопросами и которому она до сих пор не сказала правды. А еще ее отец. Он вернулся из командировки раньше, чем его ждали, был встревожен, расстроен, дома почти не бывал и с Кларой не разговаривал.
Доклад делал секретарь горкома комсомола. Говорил о классовой борьбе в районах Западной Украины, о начавшейся коллективизации, создании комсомольских и пионерских организаций в районах, селах, о том, что часто за одно только право быть пионером и комсомольцем платят жизнью. Секретарь предложил почтить память погибших в этой борьбе, всех мужественных и стойких, которые не побоялись бандитских угроз, пуль и удавок...
Загрохотали стулья, потом — тишина.
Сели. Секретарь продолжал:
— Ни один советский человек, ни один комсомолец не может, не должен быть равнодушным наблюдателем. Мы здесь все, от первоклассника до комсомольца-старшеклассника, — посланцы Советской власти. Проступки каждого, даже мелкие хулиганские выходки: недостойное поведение на улице, плохая учеба — бросают тень на всех нас, вредят нашему общему делу, за которое и сейчас платят кровью лучшие люди. А кое-кто маскирует свои мелкие гаденькие душонки, подрывает авторитет комсомола, Советской власти. Я надеюсь, что сегодня мы откровенно поговорим о некрасивых, мягко говоря, делах некоторых комсомольцев, что разговор этот будет искренним и принципиальным!..
Каждое слово секретаря било Клару, она относила его к себе и соглашалась: да, да, вот она такая и есть, мелкая, эгоистичная, трусливая Пупка! Ей было больно и стыдно, но она знала, что будет еще хуже, вот оно, страшное, надвигается неотвратимо, не уйти от него, не заслониться...
— Пупка, держись! — шепнул сзади кто-то в самое ухо.
Не оглядываясь, поняла: Алик Рябов. Специально, значит, сел близко, чтоб поддержать ее. Боится, конечно, что она может все рассказать. А почему бы и не рассказать? Комсомолка она или нет? Почему она должна укрывать этого убийцу, этого губастого нахала Гарри, который чувствует себя героем? Но ведь меньше всего она думала об Игоре — боялась за себя, боялась стыда и осуждения. А в больнице умирает Ника...
Клара не заметила, как секретарь закончил речь, сел на место. К трибуне подошел следователь, в военной форме, на груди ордена и медали. Раньше Клара видела его только в штатском. Но этого человека в любом костюме среди тысячи других она бы узнала сразу; он снился ей ночами: его пытливые глаза, спокойный голос. Хоть он и знал, что она не говорит правды, он даже голоса на нее не повысил, он не смел ее обидеть, не смел на нее влиять. Это ей разъяснил Алик.
Следователь обвел взглядом зал, сказал своим спокойным голосом:
— В больнице, в тяжелом состоянии, ваш товарищ, комсомолка Ника Макиенко. Обстоятельства, которые привели к этому трагическому случаю, не совсем ясны, потому что... — он сделал паузу, и у Клары занемели ноги, — потому что те ребята, которые причастны к этому случаю, не говорят правды. А они комсомольцы и присутствуют в этом зале. (Кларе показалось, что все люди в зале теперь глядят на нее. Каждая клеточка ее тела и души была под наблюдением.) От имени прокуратуры, — продолжал следователь, — от себя лично обращаюсь ко всем комсомольцам с просьбой помочь нам, рассказать все, что известно, об отношениях Игоря Мищенко, Алексея Рябова, Ники Макиенко, Клары Шевченко... Обо всем, что касается так называемой компашки...
Тишина. Тишина. Даже дышать страшно, чтоб не подумали, будто ты первый хочешь выйти на сцену, хочешь говорить. Секретарь постукал карандашом по графину, чтоб прервать эту напряженную тишину, как иной раз стучал, чтоб унять шум. Зал вздохнул и снова замер.
— Можно мне? — вдруг раздался звонкий голос, и на сцену поднялся Леня Мартыненко. — Вот вы говорили здесь о компашке, — обратился он к следователю. — Что ж, я тоже был в компашке и не скрываю этого. Ну, собирались, веселились, пели...
— И пили? — перебил его секретарь горкома.
— Я, например, не напивался, — не смутился Леня. — И потом, это — пройденный этап. Насколько я знаю, компашки больше не существует.
— С каких пор?
— С тех пор как уехала Лена Штукина, собирались-то больше у нее.
— Кто еще был в компашке? — спросил следователь.
— Кто был, пусть скажет сам. Я могу только о Хомячке сказать... о Вите Хомякове. Он тоже приходил на вечеринки. Но отношения к компашке, в общем-то, и не имел. Так, тепла искал, трудно ему было... Но о Вите вы знаете. Пишет мне. Он в Киеве, в летной спецшколе. — Не дожидаясь других вопросов, Леня сбежал со сцены.
Тишина...
Кларино сердце громыхает, будто люстра раскачивается туда-сюда и бьется о стены. Ей казалось, что все слышат этот грохот, смотрят на нее и ждут. Нет, нет, только не она!
Поднялась Сима Бецкая, направилась к сцене, машинально одергивая свой красный вязаный жилет. Взглянула в зал и увидела испуганное лицо своей мамы, отвела глаза...
— Я тоже... тоже веселилась... Но ведь это было давно! Уже несколько месяцев мы не собирались! И потом, Ника... Она ведь не была в компашке. Правда, Гарри... Игорь пытался за нею... — Сима поискала слово, — волочиться, что ли. Но ведь он, все знают, к каждой девчонке прилипал, а Ника его сразу отсекла. Не пойму, почему она оказалась с ним вдвоем в лесу. Не верю, что сама... Больше мне нечего сказать. — Сима постояла и добавила: — Разве то, что мне очень стыдно...
— Почему вы все были так снисходительны к Игорю Мищенко? — спросил секретарь горкома.
Сима пожала плечами:
— Не знаю... — В тишине, которая колебалась вздохами, будто зал дышал одной грудью, она сошла в зал.
И опять — тишина.
Клара не сразу расслышала голос, не узнала своей фамилии, ведь она привыкла, что ее, как в детском саду, называют только Кларой или Пупочкой.
— Пусть на сцену выйдет Клара Шевченко, — повторил ее отец, Денис Иванович.
Алик Рябов положил руку на плечо Клары, придавил ее к спинке стула, но она стряхнула его руку и, как во сне, поднялась. Видела только яркий стол, лица расплывались перед глазами, по сторонам взглянуть она не смела.
Денис Иванович смотрел на нее, такую маленькую, жалкую, но не жалел. Или она сейчас найдет в себе силы сказать правду, станет человеком, или... Ну что ж, бывают неудачные люди... неудачные дети. Но ведь она у него одна! Одна — тем более... И все-таки верил, надеялся, что Клара скажет правду. Он знал гораздо больше, чем думала Клара, больше, чем следователь, с которым он специально оттянул встречу.
В районах, в селах была распространена бандеровская листовка-фотомонтаж. Под красочным заголовком: «Вот они, советские комсомольцы!» — фотографии Игоря Мищенко в различных ситуациях и краткие подписи: Игорь стреляет в Нику — «Насилие и убийство», Игорь на сцене в клубе — «Охотно отвечает на все вопросы, чтоб спасти свою шкуру», Игорь за столом, тянется ложкой к миске — «Комсомолец ест бандеровский хлеб-соль», Игорь у пулемета — «Стреляет в своих, чтоб купить себе жизнь».
Внизу призывы: «Не верьте Советской власти! Комсомол — это обман! Колхозы — это ловушка! Смерть Советам!»
Впервые Денис Иванович увидел эту листовку в одном из районов. Когда он читал лекцию в клубе, кто-то прилепил ее у входа. Потом такие же листовки-плакаты ему показали и в другом районе. Он решил прервать свою поездку и вернуться в город.
На сцене Клара всегда чувствовала себя просто, непринужденно. Плясать, петь — это совсем другое, ты всем нравишься, тебе аплодируют. Но сейчас, когда в тебя впилась стоглазая тишина, когда смотрят следователь, учителя, отец, в зале сидит Рябов и делает предостерегающие знаки, а все ждут правды, только правды...
— Говорите, Клара, — подтолкнул ее голос следователя. — Расскажите все, с самого начала. О компашке, об Игоре Мищенко, о их взаимоотношениях с Никой Макиенко.
— Никаких взаимоотношений с Никой у него не было. Она ни при чем. Только я... — Начав говорить, Клара уже боялась остановиться, боялась того, что будет, когда она закончит. Она рассказала о первой встрече на озере, о фальшивом «дне рождения» у Лены, о том, как она в первый раз напилась и было ей ужасно, отвратительно...
Все выжидательно смотрели на Клару. А Клара, которой становилось легче от собственной откровенности, не щадя себя, подробно рассказывала о том роковом дне.
— Нику в лес заманила я. Игорь просил и Рябов. Я же верила, что это любовь... Я же не знала, что у него оружие... — Клара вдруг разревелась, потоки слез затопили ее маленькое лицо. Она ловила их пальцами, размазывала по щекам, а они лились и лились. Платка у Клары не было, она стояла беспомощная, готовая поднять подол и вытереть лицо.
Денис Иванович протянул ей платок, сказал строго:
— Вытрись и успокойся.
— Рябов Алик, а вы знали, что у Мищенко есть оружие? — спросил следователь.
Молчание. Потом из зала:
— Знал. А у кого его сейчас нет?
— Значит, и у вас есть?
— Есть. Трофейный. Выменял на папиросы.
— Где же он?
— В шкафу под барахлом.
— А с собой вы его носите?
— Иногда ношу.
— И стреляли?
— Стрелял. В карьерах за кирпичным заводом.
— Завтра же сдайте в милицию!
Молчание.
— Вы слышали?
— Слышал...
— Продолжайте, Клара.
Она рассказывала, как Рябов и Мищенко попросили позвать Нику, как Ника повела ее на каштановую улицу, как они оказались в лесу, встретились с Аликом и Игорем и разделились на пары, хотя Ника этого не хотела, как потом Алик не пускал ее, Клару, к Нике.
— Ты и сама этого хотела! Липла ко мне, на шею вешалась! — крикнул Алик.
И если Клара еще колебалась, сказать ли все до конца, то теперь колебаться перестала: вот как Рябов дрожит за свою шкуру, готов и ее обгадить.
— Ну что ж, и хотела, я же верила вам! А в Нику стрелял Игорь!
— Врешь! — крикнул Алик; он вскочил с места, размахивая руками. — Не верьте ей!
— Не вру. Мы испугались и убежали, а потом договорились не рассказывать того, что видели.
— Почему? — спросил Денис Иванович.
— Стыдно... — прошептала Клара. «И страшно...» — добавила про себя.
— А вам, Рябов, тоже стыдно?
— Я друзей не выдаю! — вызывающе крикнул Алик.
— Ну что ж, вы будете привлечены к делу не как свидетель и не как друг, а как сообщник, — вежливо вставил следователь.
— А я что? Я с ним и не дружил. Вместе в компашке валандались. У меня с Сопенко и то больше общего. Правда, Сопа? — сбавил тон Рябов.
Но Сопенко промолчал, даже не оглянулся на этот жалкий голос.
— Клара, почему такое могло случиться? — спросил Денис Иванович очень горько.
— Мне хотелось быть современной девочкой...
В зале хлюпнул смешок и замер.
— А что это — современная девочка, ты хорошо знаешь? Объясни нам!
Клара стояла молча, в голове мелькали какие-то обрывки жалких фраз, не раз слышанных от Игоря, от Алика: «раскованность», «широта взглядов»... «пей, веселись, такой вот турнепс!»... Любая из этих фраз прозвучит жалко, фальшиво, снова вызовет смех.
— Сказать-то тебе и нечего! Иди, Клара, садись...
Больше Клару не спрашивали. Она сошла со сцены, но идти на свое место, рядом с Рябовым, побоялась. Кто-то подвинулся и дал ей местечко в первом ряду.
Денис Иванович не пошел к трибуне. Стал у края сцены, и его тихий, но четкий голос достигал самых дальних закоулков за колонной:
— Мне тяжело... Перед вами выступала моя дочь Клара... Я тоже просмотрел. Трудно. Много дел, мало времени. Верилось, что вы понимаете, что вы справляетесь сами: ведь вы — это современные мальчики и девочки, привыкшие к трудностям, среди вас есть воевавшие на фронте...
Клара хотела быть современной девочкой. Что же это значит — быть современным? Посещать модные кинофильмы, подражать артистам, демонстрирующим чуждую нам жизнь и нравы, модно одеваться? Это все внешнее, мелочи, они ничего не решают. Может быть, пить, гулять? Нет, это просто ведет к распущенности, вырождению человеческой личности. Быть современным всегда, во все времена — это быть сознательной частицей своего народа, думать в первую очередь о своем долге, а потом о своих нуждах и потребностях. Что же можете вы, школьники? Очень многое, выполнять все комсомольские поручения, стремиться приобрести максимум знаний, чувствовать себя ответственными за все, что происходит вокруг вас. Поэтому все ответственны за то, что случилось с Никой Макиенко.
Разве вы не видели, чем занимается Мищенко? Не видели, что Рябов способствует его грязным делишкам? Так чего же ждала комсомольская организация? Преступления, которое в конце концов совершилось? Так называемая компашка распалась, но ее плоды — вот они, живучи и действенны. Жизнь — это закономерный процесс. И преступление, совершенное Мищенко, — тоже закономерность, подготовленная паразитическим образом его жизни. Мищенко случайно не убил, а мог убить, морально он был готов к этому, к насилию и убийству. И не только к этому. К самому страшному — к измене Родине во имя спасения своей шкуры. Своим гнусным поведением он принес вреда больше, чем самая дерзкая бандеровская диверсия. Вот. — Денис Иванович достал плакат, развернул: — Каждый его подлый шаг зафиксирован, ему дана достойная оценка, наши враги не так глупы, как иногда пытаются их представить. Малейший наш промах — их победа, а вывод у них всегда один: смерть Советской власти! Вот он «образ советского комсомольца» Игоря Мищенко — показывают враги простым людям. Фотографии подлинны, факты — упрямая вещь. А Рябов был бы лучше на его месте?
Враги не расскажут людям о Зое Космодемьянской, о молодогвардейцах, о тех комсомольцах, коммунистах из местного населения, кто борется за Советскую власть, выступает против бандитов. Нет, они потянут на плакат наши ошибки, подхватят и размножат такие вот гнусности и сунут каждому в глаза: мол, не верьте Советской власти.
Мы здесь говорили о современности. Современность — это способность духовно подняться на уровень проблем времени. Проблем у нас, как видите, много, и самых сложных, требующих и вашего серьезного участия. Обогащайтесь знаниями, растите духовно, будьте воистину современными!
А Мищенко предстанет перед судом, ответит за свои преступления. И он, и его родители...
Денис Иванович постоял в напряженной тишине, перебирая в памяти, не забыл ли чего еще сказать, такого наболевшего, скопившегося в душе самой горькой горечью...
На сцену из зала быстро прошел Штукин.
— Извините, что без приглашения. Но не могу быть равнодушным. И считаю себя тоже ответственным за все происходящее. Как коммунист, как отец Лены. Вначале я не хотел, чтоб здесь узнали о судьбе Лены. Но теперь вижу — это неверно. Пусть горький пример моей Лены послужит вам уроком. Она была в некотором роде вдохновителем компашки, это привело... — он поискал слова, потом сказал прямо, жестко: — Лена родила сына... Вы поражены, встревожены? А почему? Ведь рождение человека — это не стыд, это радость. И все-таки то, что должно быть радостным, естественным, может стать горечью и трагедией. Чтоб вырастить человека, нужно очень много. И прежде всего — зрелость, потому что это большая ответственность. И сейчас в моем сердце горячая боль! За Лену... За всех вас... Юноша, мужчина — какие благородные понятия. А тот, кто обесчестил мою дочь? Нет, это не устаревшее слово — обесчестил, оно современно так же, как и современная подлость. Кто же он, спрятавшийся от ответственности, совершивший самую гнусную гнусность? Какими словами определить его поведение? Сами подумайте, сами определите. После всего, что вы узнали сегодня, что говорилось здесь, вам есть о чем подумать.
Мы — поколение, пережившее войну. Когда-то, в будущем, это будет как почетная медаль. Люди, вышедшие из горнила войны, должны быть чистыми. Душой и делами. Современный юноша, современная девушка — это такие высокие понятия! На нас, победивших, смотрит весь мир, это много значит...
Глава четырнадцатая. Сомнения
1
Многие дни после операции все оставалось прежним: неподвижная Ника на высокой кровати, запах лекарств, холодная чистота, и только по тому, как меняли тона тени — сиреневый, розоватый, голубоватый, фиолетово-серый, — Варина Михайловна, мать Ники, определяла, что вот уже взошло солнце, вот полдень, вот день склоняется к закату, уходит. Ее глаза схватывали эту смену механически, передавали в мозг, и тот фиксировал: прошел еще один день.
Варина Михайловна безотрывно находилась при Нике. Как угасало и снова начинало биться сердце Ники так же, короткими импульсами, билась в этой комнате надежда. Все дела отпали сами собой, все вдруг стало ненужным, осталось одно — вырвать Нику у смерти. Почему же, пока Ника была здорова, не находилось даже половины этого времени для нее? Почему тогда владычествовали иные меры? Главным всегда было дело, все остальное — потом, даже Ника — потом... А ведь если бы она была больше с Никой, если бы больше знала ее, такого наверняка бы не случилось. Кто он, Игорь Мищенко, что значил он в жизни ее девочки? Поговорить бы с ним, с Кларой, но страшно уйти даже на минутку.
Варина Михайловна мучительно вглядывалась в лицо дочки. Сомкнутые сухие губы, маленькая родинка в уголке казалась неестественно яркой на бескровном лице, плотно сомкнутые глаза, неподвижные ресницы. Брови все время в напряжении, слегка приподняты, будто спрашивающие. Холодный высокий лоб, волнистые волосы аккуратно разложены на подушке. Варина Михайловна перебирала их осторожно, укладывала, чтоб не спутались, чтоб потом Нике не было больно расчесывать.
Ника не чувствовала ни ее присутствия, ни прикосновений, была за какой-то недоступной живым гранью белизны и холода, только ее цепкое, верное Нике сердце упорно пробивалось через этот белый холод еле слышным, но настойчивым тук-тук, тук-тук... Нике вливали кровь, много крови. Варина Михайловна готова была отдать ей всю, лишь бы хоть слабый розовый отсвет пробился сквозь матовость на щеки, лишь бы ожили ресницы и губы откликнулись на прикосновения влажной ватки, которой Варина Михайловна время от времени пыталась стереть их холодную сухость.
А Никиного портрета у нее так и нет. Только карандашные наброски. Так и не удосужилась написать ее, все откладывалось «на потом», пока Ника не выросла. Много раз Варину Михайловну одолевали порывы написать Нику, но всегда перебивали думы о какой-то новой работе, более значительной для нее как для художника. Ведь Ника никуда не денется, всегда под рукой. А вдруг... У нее даже портрета не останется...
Варина Михайловна написала записку, из товарищества художников ей передали большой кусок картона с пришпиленным к нему листом ватмана, набор пастельных карандашей.
Она взяла черный. Рисунок черно-белый, иного сейчас не может быть. Резкие линии. Она их не выбирала, не задумывалась, как писать, они сами ложились такими на бумагу. Лицо Ники получалось холодное, мертвое, в нем было ее, материнское отчаяние и не слышалось настойчивого, обнадеживающего тук-тук, тук-тук… Руку сковал и направлял страх перед смертью, в рисунке выливалось то, что она хотела скрыть даже от себя — что порой она уже не верила...
Варина Михайловна свернула в трубку белый ватман с черным трагическим рисунком, засунула за шкаф, который поблескивал хирургическими инструментами и наводил на Варину Михайловну тоску.
Картон под ватманом оказался золотистого, почти медового теплого тона. Варина Михайловна перебрала карандаши. Вот карандаш такого же тона, слегка темнее, не будет резкого, пугающего контраста. И потом, это Никин цвет, живой Ники — смуглой прохладной кожи, вся теплота которой скрыта глубже. Ника никогда не была румяной, разве в большой мороз или сильно возбужденная, да и то чаще краснел кончик носа, выступали розовые пятнышки над бровями и на подбородке.
Варина Михайловна увидела ее прежней: голова немного склоненная — это манера Ники, над светлым лбом гладкие волосы. Она с детства приучила Нику зачесывать волосы наверх, не пускать на лоб, удерживать обручиком или бархаткой, сама шила ей такие бархатки, украшала то бисером, то вышивала, но Ника больше любила просто гладкие.
Никаких челок, никаких прядей и локонов на лбу. Стремление скрыть лоб, чтоб казаться более женственной, — это тоже пережиток, утверждающий, что женщина должна быть только нежной, красивой и не обязательно думающей. Ее Ника — думающая девочка... Приносит ли это женщине счастье? Но разве счастье — бездумность? Нет, думать, осознавать себя человеком, беречь свое достоинство — это главное, за это бороться, этого достигать.
Ника всегда смотрела сосредоточенно, вопросительно, всегда с грустинкой. Ну почему в ней никогда не пропадала эта грустинка? Все-таки плохо, когда с детства в человеке живет печаль. Значит, что-то в жизни не так.
Может быть, Ника обижалась, что у нее нет отца?
Нелегко быть женщиной, нелегко. Пусть она знает, пусть будет к этому готова...
Варина Михайловна сознательно лишила себя нормальной семейной жизни, целиком отдалась творчеству. Сколько видела она угасших талантов из-за того, что женщина постоянно должна держать в руках весы: на одной чаше — творчество, на другой — семья, долг перед детьми, тот самый быт, который беспощаднее самого злейшего врага. Она не хотела разъедающих душу, убивающих талант колебаний. Но лишить себя материнства не могла. Разве можно заглянуть в человеческую душу, не изведав материнства, не пережив, не познав того, что заложено природой в женщину, ведь мать — исток всего сущего...
Ника — дитя любви, страданий, сомнений, и все-таки Варина Михайловна выбрала одиночество и не считала это одиночеством. Думала, что и Нике хорошо с нею вдвоем, что ей больше ничего не нужно. Считала так до этой палаты, до омертвевших Никиных ресниц, до этого золотистого, немного размытого портрета. Она достает Нику из своего сердца и переносит на картон и солгать себе не может.
Светлая, теплая, светлолобая мыслящая Ника — и боль, и грусть в светлых глазах. Порывистость, которая даже на бумаге не может быть застывшей, вопросы к жизни, на которые Ника не могла ответить, а Варина Михайловна не помогла ей...
Варина Михайловна поставила портрет на стул. Сквозь густую, в два слоя марлю на окне сеялся матовый солнечный свет. Господи, пусть только Ника поправится! Она сделает все, чтоб Ника улыбалась, она ответит на все ее вопросы. Как бы там ни было, что бы там ни было, в детстве человек должен улыбаться!
Варина Михайловна опустилась на колени перед кроватью. Так она стояла часами, согревая дыханием холодную мягкую руку Ники, ловя неощутимое движение пульса, обращаясь неизвестно к кому: «Сжалься!»
2
Комсомольское собрание закончилось поздно. От Дворца пионеров расходились во все стороны школьники, учителя, разговаривая, обсуждая, останавливаясь группами.
Темнота была тяжелой, влажной; над городом висели тучи, накапливала силы гроза, подавляя все живое тяжелым ожиданием.
Клара сбежала в сад, перелезла через забор и оказалась на другой улице. Только не домой, только не к людям! Вот и знают все... А может, ее тоже как сообщницу будут судить? Нет, она же не нарочно, она же не знала, что может быть такая подлость и низость! А если Ника умрет? Что тогда?.. Тогда всю жизнь над нею будет эта страшная вина. Как же жить, не радуясь, с придавленной к земле совестью?
Нет, Ника должна жить, Ника будет жить! Может, ей что-нибудь нужно, Нике? Может быть, ей нужна кровь? Почему она не подумала об этом раньше? Пусть возьмут у нее, у Клары, она разделит ее с Никой, оставит себе столько, чтоб не умереть самой. Почему она с самого начала не побежала в больницу, не спросила, не узнала? Боялась, думала о себе. Только о себе!.. Как это страшно, когда человек думает только о себе, он забывает даже такое большое и главное — умирает человек...
Клара бежала, подгоняемая этими мыслями. Она забыла, что уже ночь, что в больницу не пустят. Но разве можно ждать до утра? Обычно ночью больным тяжело, ночью они преодолевают смерть или сдаются. Так, может, этой ночью не хватит Нике немного ее, Клариной, теплой крови, чтоб победить? Как можно ждать до утра, вдруг окажется поздно...
Клара пробежала мимо высокой кладбищенской стены, что-то возилось и вздыхало в вершинах деревьев, но она не испугалась, хотя в другое время в эту пору ни за что бы не прошла здесь.
Вот и больничный двор. Калитка заперта, но распахнуты ворота, у подъезда дежурит машина «скорой помощи». Тут и ночью борьба за жизнь. Почти во всех окнах свет, тусклый, болезненный, больничный.
В коридор Клару не пустила пожилая женщина в белом халате, дремавшая на стуле у входа.
— Тебе в «скорую помощь»? — спросила она, сочувственно глядя в лицо запыхавшейся Клары. — Это в соседнем подъезде, здесь хирургия. — Клара молчала, не могла отдышаться, и женщина снова с участием спросила: — Что-нибудь случилось?
— Нет... то есть да... Я хотела узнать, как Ника Макиенко... Ну, та девочка, раненная в лесу. Я ее подруга. Может быть, кровь нужна? Спросите у врача, пожалуйста!
— Ты поздно пришла.
— Как поздно?! — испугалась Клара.— Что поздно?!
— Ночь уже, поздно, завтра приходи.
— А Ника?
— Крови ей много влили, да не всегда помогает чужая кровь, если свою потеряешь, — вздохнула няня.
— Плохо ей, да? — прошептала Клара.
— Сердце у нее сильное, врачи надеются...
— Где ее окошко?
— За углом третье, только нельзя туда, не ходи, там тяжелые больные.
— Я потихоньку. — Клара проскользнула вдоль стены за угол.
Во всех окнах тускло мерцали ночники. В третьем окне — мертвый зеленый свет, лампочка прикрыта зеленым колпаком. Какая-то тень бесшумно кружила по палате, туда-сюда, туда-сюда. Наверное, Варина Михайловна, мама Ники. И — ни звука.
Клара попятилась, прислонилась к дереву, пахнущему свежей известкой. Не могла оторваться от зеленого окна, уйти: казалось, именно тогда случится что-то страшное, непоправимое. И виновата — она...
Услышала осторожные шаги вдоль стены, спряталась за дерево. Кто бы это?
Двое. Идут с другой стороны, приглядываются. Она похолодела — Игорь и Алик. Стали молча, смотрят в зеленое окно. Игорь чиркнул зажигалкой, закурил. Алик выдернул папиросу, бросил:
— Нельзя.
— Хоть бы она выкарабкалась, — сказал Игорь. — Иначе меня будут судить за убийство.
— И меня, — шепотом отозвался Алик.
Вот чего они боятся!
— Может, лекарство какое особое нужно, потормоши отца. — Это Алик.
— Отец теперь тоже полетит.
— Пупка разболтала. Да и чего было ждать от такой пискли!
— Все равно узнали бы, вон какой плакат бандеры сляпали, а я думал: для чего это они меня фоткают...
— Страшно было?
— Не помню как. Наверное... Отец сказал, что и его будут судить. Мать барахло прячет, могут конфисковать.
Тень в комнате перестала метаться, остановилась у окна — напряженный силуэт. Игорь и Алик скрылись в темноте, пошли через сад; было слышно, как они перелезали через забор.
Вот чего они тут ходят — боятся Никиной смерти. Раньше Гарри, конечно, хотел этого. Судить... А она, Клара, будет свидетелем. Страшно! Но разве сравнить с тем, что пришлось пережить Нике, что сейчас переживает ее мама?
У Ники сильное сердце. Клара вспомнила стихи, которые любила Ника:
Нет, лучше с бурей силы мерить,
последний миг борьбе отдать,
чем выбраться на тихий берег
и раны горестно считать...
Это написал Адам Мицкевич, тот самый, чей памятник они видели во Львове. Но стихи Ника читала Кларе еще в пионерском лагере, задолго до поездки во Львов, до всей этой компашки и Гарри Мига.
3
Подымаясь на гору мимо кладбища, Регина Чеславовна задыхалась. Тяжелая предгрозовая ночь вталкивала воздух в легкие шершавыми липкими кусками. Почему говорят, что воздух невесом, неощутим? Каким тяжелым он бывает — не продохнуть.
Эта дорога ей хорошо знакома. По ней она ходила к Вите Хомякову, к маленькому соседу Славке, когда он заболел корью, проведывала всех учеников, кто попадал в больницу.
Учитель — как много стоит за этим! Не только дать знания — научить добру, достоинству, гражданству. Вся жизнь на самоотдаче, и этого, выходит, мало. Нельзя было упускать Игоря, надо было бороться. Ведь она многое поняла после визита к нему домой.
Все еще не верилось, что человек может быть потерян. Но иллюзиями себя тешить не надо — может быть потерян, может. Предатель. Продажная шкура. Палач. То, что в родителях накапливалось постепенно, дало такие буйные всходы в молодом, полном сил Игоре. Горький урок всем...
Однажды она попыталась поговорить с Игорем; увидела из окна школы алую кубанку в сквере, послала шестиклассника — чтоб Игорь зашел в школу. Мальчик вернулся один, смущенно сказал, что Игорь прийти отказался. Тогда она сама пошла к нему. Игорь покосился на нее, но не встал; сплюнул, плевок шлепнулся на землю между ними, как раз посредине. Тут бы ей повернуться и уйти, но сказала, хотя понимала, что это все ни к чему:
«Отойдем в сторонку, я хочу с тобой поговорить».
Он, нагло ухмыляясь, глядя прищуренно, снизу, ответил:
«Это мои друзья. Секретов у меня от них нет».
Никто из «друзей» не пошевелился. Они все сидели, а она стояла под их насмешливыми взглядами. Вспомнить стыдно, как это было глупо, беспомощно! Как будто цепляясь за соломинку, настойчиво повторила:
«Отойдем...»
Игорь вспылил:
«Хватит меня воспитывать! Не старайтесь, я так и буду жить невоспитанный! Мне так удобнее! Выгнали из школы — будьте довольны, и привет вам с кисточкой! Пошли вы все со своими моралями подальше!»
Он приподнялся и выпустил ей дым в лицо.
Чуть его не ударила. Остановило то, что в окнах мелькали глазастые лица учеников.
Ушла униженная. Жалкая попытка, так ей и надо. Как они беспомощны со своими моралями, разговорами — учителя, родители. Что могли дать разговоры в этом варианте с Игорем! Но ведь есть и другой путь — принуждение. Разумное, обоснованное принуждение. Нужно было заставить Игоря учиться, работать. Кто должен был это сделать?
Регина Чеславовна шла медленно. От этих воспоминаний и самобичевания разволновалась, дышать стало совсем трудно.
Кто-то догонял ее быстрыми, молодыми шагами. Оглянулась — Ольга Матвеевна в своем куцем плащике.
— Вы куда, Оленька? — спросила ее. — Нам по пути?
— Да, Регина Чеславовна. Не могу сейчас остаться одна.
Регина Чеславовна продолжала думать, теперь вслух, будто Ольга Матвеевна слышала все ее прежние думы:
— Учитесь, Оленька, на наших ошибках. Всю жизнь учитель должен учиться, накапливать опыт, знания. Не признаю закостеневших авторитетов: раз учитель — значит, прав. Не заметишь, как отстанешь, будешь не впереди, не вести, а путаться в хвосте и кричать вдогонку. Критическое отношение к себе, самоанализ — это для учителя обязательное. Прав только справедливый, умный, знающий учитель, а не просто учитель... К сожалению, не все наши ошибки и просчеты можно исправить. Того, что случилось, я себе никогда не прощу!
— А что можно было сделать? — расстроенно спросила Ольга Матвеевна.
— Не знаю, но — можно, не такие уж мы беспомощные перед подлостью и ложными авторитетами.
4
Володя Сопенко догнал Симу. Она шла одна и почему-то в противоположную от своего дома сторону. Шла медленно, ссутулившись, наклонив голову; ее руки машинально крутили поясок от жилета. Обогнать ее Володя не мог и вот так идти сзади — тоже...
Сима не замечала, что кто-то идет за ней, думала о своем, очень грустном. Володя ощутил жалость, ему захотелось положить ей руку на плечо, чтоб оно не сутулилось. Чувство это было неожиданным, непривычным.
Но разве Сима — не сильная? Разве так просто пережить то, что она пережила сегодня, когда стояла на сцене перед комсомольским собранием, или тогда, когда он пришел за исповедью и бросил ее одну в саду? А ведь она ни словом, ни взглядом никогда не упрекнула его, старалась быть спокойной, прежней, и никто, кроме него, не знал об этом. Нет, знал — Алеша. Подошла такая минута — они часто разговаривали на разные темы, — когда он сам все выложил Алеше. Ведь его поступок не давал ему покоя, что-то мучило его.
Алеша удивился:
«Ты же сам рассказывал, какие есть замечательные женщины. И я тебе поверил, и Таня теперь со мной. А разве мужчины — хуже? Ты любил Симу?»
«Не знаю».
«Вот видишь. Но ведь ты дружил с нею — и бросил. Я думал о тебе лучше», — со своей обычной прямотой сказал Алеша.
Володя молча проглотил этот упрек; он не знал, что ответить, он всегда хотел быть объективным, справедливым. То, что сказал Алеша, нужно было обдумать. И он думал, все это время думал о Симе, и вот сейчас идет позади, жалеет ее сутулые плечи, хочет что-то сказать и не знает что.
Сима оглянулась. Увидев его, не удивилась. Он подошел совсем близко, внимательно вглядываясь в ее лицо. Она больше не укладывала волос на лоб колечком, волосы свободно падали на плечи, не удерживаемые никакими заколками. Близко-близко ее глаза, совсем темные сейчас, глубокие; тревога в них и ожидание не связаны с ним, он это почувствовал, но не мог преодолеть нахлынувшей жалости, переключиться на другое, на ум пришли строчки из Мицкевича, и он прочитал их вслух:
Не плачу я, с тобою разлучаясь,
Чувств не лишаюсь, вновь с тобой встречаясь,
Но все ж, когда разлука дольше срока,
Мне кто-то нужен, жить мне одиноко,
И я томлюсь вопросом без ответа:
Любовь ли это или дружба это?..
— Как ты можешь: сейчас — и стихи? Это неуместно!
— Стихи всегда уместны. Это же не просто слова. Их создали люди, которым было больно и трудно, которые тоже не знали, как быть, что делать.
— Разве тебе может быть больно?
— Наверное...
— Не верю.
— Я сам не знал.
Сима повернулась и снова пошла так же медленно. Рядом — он. «Совсем мне не обрадовалась», — подумал Володя.
— Мы все виноваты, — наконец сказала Сима. — Мы же так часто были рядом с Никой, а выходит, ничего не знали. Тебе ведь она даже нравилась одно время, верно?.. И мы знали, какой подонок этот Игорь, и ты знал, и я, и другие. Все мы хороши, комсомольцы! Идем быстрее! — Она схватила Володю за руку.
— Куда?
— Как куда? В больницу, конечно!..
5
Во время собрания Таня стояла в коридоре. Народу набилось много, дверь была открыта, и она хорошо все слышала.
После собрания побежала к Алеше. С тех пор как с Никой случилась беда, она все время себя казнила. Поглощенная Алешей, она совсем отошла от Ники, забросила только было начавшуюся дружбу. И Ника тактично устранилась. Она вообще многое понимала, чувствовала — Ника. Почему же нужно было непременно жертвовать дружбой? А ведь она знала, как одинока Ника. И дружить можно было втроем. Не поделишь на троих любовь, это только их — Алеши и Тани. Но такое богатство должно делать душу щедрее. А она забросила Нику, для подруги не хватило времени... Некогда? Что же это за всесильное слово — некогда? Может быть, просто синоним равнодушия? Ведь последнее время она и не думала и не вспоминала о Нике, пока не случилось беды, а теперь думает все время, корит себя. А что толку?
Таня была так взволнована, расстроена, что Алеша предложил ей прогуляться. Недавно из Киева ему прислали коляску.
Алеша не стыдился коляски, внимания и сочувствия людей, все его страхи затмила огромная радость: распахнулся мир, он больше не прикован к кровати, к комнате. Они бывали с Таней и в кино, и в парке, даже на репетициях во дворце.
Алешина мама помогла Тане вынести коляску — недавно поменяли второй этаж на первый, чтоб упростить эту процедуру, — вместе они усадили Алешу.
Алеша двигал рычаги, коляска легко катилась по тротуару. Впервые Таня подробно рассказала Алеше о Нике.
— Вот видишь, счастливыми быть вредно, — невесело пошутил Алеша. — От счастья человек становится слепым, невосприимчивым к боли других. Ну, не реви...
Таня порывисто обняла Алешу. Только бы Ника была жива!
Незаметно для себя они направлялись к больнице, как будто можно было прямо сейчас получить ответ.
6
Когда закончилось собрание, Иванна хотела пробиться к Кларе. Бедная Пупка, как она настрадалась за эти дни, даже внешне стала другой, будто даже выше.
Иванну оттеснили; она заметила, как мелькнула на садовой дорожке Клара, побежала следом, но Клара уже перелезла через забор.
Иванна лезть через забор стеснялась, но в саду никого не было, а Клара уходила неизвестно куда, и Иванна решилась, тоже перелезла через забор и пошла за Кларой. Она понимала, что Клара убежала не зря, ей хочется побыть одной.
Так они дошли до больницы. Иванна слышала весь разговор Клары с няней, потом тоже притаилась в кустах под окном, тоже смотрела на зеленый свет. За этой стеной, за этим слоем марли, — Ника, жизнь или смерть, надежда или отчаяние. Иванна даже о Кларе забыла. Почему такое случается на свете? На войне — то другое дело. А чтоб вот так просто человек взял и убил человека? Бандита, врага, может быть, даже наверняка, она смогла бы убить, сколько от них вреда людям! Но — человека...
Иванна очнулась, когда Клара скользнула за дерево, и оказалась почти рядом с нею. Увидела — Рябов и Мищенко, услышала их разговор. Ничтожные людишки, пусть только попробуют тронуть Клару, она им покажет! Но они быстро ушли, они больше не храбрились.
Клара всхлипнула, прислонившись лицом к стволу. Иванна шагнула к ней, хотела приласкать: ведь Клара по-детски всегда тулилась к тому, кто сильнее. Но Клара отшатнулась, крикнула, зажимая рот руками, сквозь пальцы:
— Уйди, уйди!..
Иванна отошла. Пусть побудет одна. Может, в ней, в Кларе-Пупочке, только сегодня, только сейчас стал зарождаться человек.
7
Варина Михайловна остановилась у окна. Там, за марлевой завесой, все время кто-то есть, какой-то шепот, движение. То ли люди, то ли в ожидании томится предгрозовой вечер. Душно, липко. Кажется, если не впустить в комнату свежести, наступит мгновение, когда нечего будет вдохнуть усталым легким, задохнется она, задохнется Ника... Как тяжелы эти предгорные грозы. Всегда так давят, сегодня — особенно.
Варина Михайловна кинулась к Нике. Как облегчить ее девочке эту тяжесть? А вдруг? Со страхом и надеждой прильнула к груди. Тук-тук, тук-тук... Тронула лоб — испарина… Воздуха!..
Кинулась к окну, вцепилась в марлю, рванула. Посыпались кнопки. И в это же мгновение духоту потряс удар прорвавшегося грома, духота раскололась, пахнуло ветерком, хлестнул дождь.
Варина Михайловна закрыла глаза, подставила ладони под густые тяжелые струи, дождь брызгал в лицо, и она не чувствовала, что с дождем смешиваются слезы, первые за много дней.
Открыла глаза и отпрянула: под окном стояли люди. Их сек тяжелый дождь, но они не уходили, смотрели на нее, подняв лица. Узнала только маленькую Клару, одиноко стоявшую сзади.
Поняла, чего они ждут, безмолвно, горько покачала головой и вдруг услышала из глубины комнаты с трудом произнесенное:
— Ма-ма...
АЛЮН
1
Алюн висел на заборе и смотрел в большие окна спортивного зала, где танцевали старшеклассники. Вечер отдыха для восьмых — десятых. А он — в седьмом. Для седьмых таких вечеров — с танцами — не проводили.
Алюн не очень завидовал: на следующий год все это будет его — официально разрешенные танцы с девочками. А пока можно и так — на именинах, в компаниях. Приглашений хоть отбавляй.
В эту школу он приехал шестиклассником. Школу менял несколько раз: отец — строитель, ездили от объекта к объекту всей семьей. К этому привык. Менялись учителя, ребята, а школьная жизнь все равно везде одинаковая.
Учительница сказала о нем, как обычно:
— К вам новенький, Александр.
Класс на мгновение замер — и завопил:
— Александр тринадцатый! Еще один!
Но «Александром тринадцатым» оставался недолго. Мама и, папа были примерными родителями, контакт с учителями налаживали сразу, ходили в школу, особенно мама. Как-то мама окликнула его в школе по-домашнему, привычно: «Алюн!»
Ребята подхватили, и стал он в школе, как и дома, Алюном. Лучше быть Алюном, чем «Александром тринадцатым».
Алюн висел на локтях, упираясь подбородком в железные перильца забора-сетки, куртка и свитер задрались, по голой спине ерзал ветер, но все равно было хорошо, уходить не хотелось: из окон доносились милые сердцу Алюна ритмы, в притушенном свете покачивалась плотно сбитая толпа танцующих. Алюн блаженствовал. Он тоже танцевал.
Он танцевал всегда. Когда шел. Когда отвечал у доски урок. Когда сидел за партой и обеденным столом. Когда спал, наверное, — тоже. Ему и музыка не нужна: он ее слышал внутри себя, не какую-то определенную мелодию, а те самые захватывающие ритмы, которые нельзя ощущать спокойно — сразу хочется выбрасывать в стороны руки, ноги, извиваться, приседать и возноситься вверх.
Чаще всего этого делать было нельзя, и он танцевал мысленно, не замечая, что зад его сам собой начинает вилять, ноги даже ступать разучились просто — все с каким-то вибрированием в коленках, с завихрением, вывертом.
Когда это началось, Алюн не помнил. Может, когда старшему брату — у него вдруг прорезался слух — купили электрогитару и проигрыватель с кучей самых модных пластинок и брат стал сколачивать свой ансамбль. Когда не было родителей, ребята репетировали дома.
Алюн немел в соседней комнате от грохота и зависти, и все в нем до последней клеточки подергивалось, пританцовывало.
Родители обнаружили свою оплошность, брат с ансамблем перебрался в клуб, проигрыватель с пластинками продали, но Алюн уже увяз в тройках, учить уроки совершенно разучился. Ритмы прочно завладели Алюном, искать их было не нужно: они пробивались из соседних квартир через стены и потолок, вылетали из окон домов во дворе, насыщали воздух в электричке, на пляже, в кинотеатрах, звучали по радио и телевизору. Алюн слушал, упивался — и танцевал.
Вот как сейчас, повиснув на заборе и даже не замечая своего неудобного положения, покачивался, постукивал коленками по сетке, ввинчивал носки кед в сырую землю — вытоптал, вытанцевал воронку.
В школе к имени Алюн прилепилась кличка «Плясун». Пионервожатая (он догадывался — по инициативе мамы) предложила ему записаться в танцевальный кружок, которым руководила сама, но он не умел и не хотел танцевать так, как учили в кружке — два прихлопа, три притопа, он хотел безотчетно растворяться в ритмах, когда руки и ноги сами, без команд, делают что хотят, подчиняя и голову и все остальное, когда ты как бы перестаешь существовать, а есть только эти движения.
В конце концов пионервожатая сказала, что о танцах у него никакого понятия нет, его привлекает только дерганье, и Алюн из танцкружка выбыл.
Но в классе дерганье Алюна оценили, Плясуном называли, только когда хотели обидеть, и то мальчишки, но ни одни именины без Алюна не обходились. Вот уже год никому из девочек и в голову не приходило, что именины можно отпраздновать без него. И дружил он в основном с девочками, от именин до именин переходя в близкие друзья от одной к другой.
Наверное, благодаря ему, именины в классе стали такими популярными. О них говорили заранее, их обсуждали потом. Если не было ни одного мальчишки (даже приглашенные мальчики на именины часто не являлись), Алюн был всегда. Ему было хорошо с девочками, а «программа» утвердилась одна и та же: ужин с лимонадом и родителями (мамами), потом родители удалялись на кухню или к соседям, притушивался свет, включался магнитофон или проигрыватель и начиналось «растворение».
Алюн танцевал по очереди со всеми девочками, не различая — с кем. Они все сливались в одну — партнершу. Держал ее нежно, не очень близко к себе, чтоб не мешать движениям, обеими руками, испытывая какое-то легкое блаженное волнение, иногда клал голову партнерше на плечо, иногда ее голову прислонял к груди, как делали старшеклассники на вечерах, за которыми он не раз подглядывал в окна, как делали ресторанные киногерои и всякие люди, знающие толк в современной жизни. Не именинница — центральной фигурой был он.
Его родители выходили из себя.
— Раньше таких называли «дамскими угодниками», что ты за мужчина! — возмущался отец.
Мама тоже пробовала уговаривать: частые именины отражаются на занятиях, постыдился бы других мальчиков, прошаркал все ботинки.
Что понимали родители! При чем здесь прошарканные ботинки, дамские угодники! Девочки были его партнершами, союзницами, и ничего ему было не нужно, только танцевать с ними в полумраке под приглушенные ритмы (ревом был сыт со времени братового ансамбля. Рев бил, глушил; ритмы же должны вливаться тихо, обволакивая, растворяя, томя...).
Мама решила просто: денег на подарки не давать. И он был вынужден брать сам, вышаривать по родительским кошелькам и карманам неучтенную мелочь, подбирать в скверах и подъездах брошенные пьянчужками обслюнявленные бутылки и сдавать их, выдумывать всякие школьные мероприятия по вечерам и воскресеньям, чтоб именины не пропускать. Он не мог без них — как это объяснить родителям? Может, в этом его талант, призвание — испытывать удовольствие, танцевать, слушать музыку. Кому от этого плохо, кому мешает? Одна радость, сладкая, томящая, тихая радость.
...Музыка за окном умолкла, ребята на сцене положили инструменты, вышли из зала — перерыв.
Алюн перестал дергаться на сетке, онемевшие руки соскользнули вниз, он с унынием вспомнил, что пора возвращаться домой.
Родители — вот кто портил ему жизнь!
2
Алюн стоит в углу. Бровки от переносицы вопросительно вверх, как разведенные мосты, уголки маленького рта запятыми вниз. Притухли ямочки на всегда румяных щеках. Голубые круглые глаза еще больше круглеют, смотрят с упреком, недоумением: за что, я ничего плохого не сделал, а если сделал — сейчас же осознаю, исправлюсь.
Алюн хорошо знает своих родителей: им нужно именно такое лицо и покорное стояние в углу, куда Алюна никто не загонял, он сам становился между стеной и холодильником в коридоре, чтоб маме удобнее было выговориться, проходя мимо него из комнаты в кухню и обратно; «чистосердечное раскаяние», когда мама устанет поучать; привычные слова — «Прости, я больше не буду», — после которых, выждав несколько дипломатических минут, можно выходить из «застенка», как называл Алюн свой угол, начинать привычную жизнь.
Алюн удивлялся: как легко прощают родители, как нужна им его бездумная фраза «Я больше не буду». И он, дав маме (или папе, но чаще — маме) разрядиться, выдавал необходимую фразу все при тех же ямочках на щеках, круглых глазках и поднятых бровках. Чтоб жить спокойно, охотно подчинился нужному родителям ритуалу, не переставая удивляться их наивности.
Измениться он не мог, потому что не считал нужным что-то в своей жизни менять. Его жизнь ему нравилась.
Оценки в школе у него сносные, на уровне классного стандарта. По теории вероятности, как большинство мальчишек, он разработал для себя схему, когда и что учить, высчитав примерные сроки по разным предметам. Теория эта здорово выручала, класс был большой, учителя едва успевали спросить всех хотя бы по два раза. А домашние задания и контрольные — тут уж выручали девочки. Двоек избегать удавалось, родители с привычными тройками смирились, конфликты на этой почве возникали редко, когда родителей вдруг осеняло вникнуть в программу и поговорить на общие, интересные (ох!) для обеих сторон темы. Например, совсем недавний «пушкинский конфликт».
Мама, подписывая дневник, скользнула взглядом по страничке и с восторгом воскликнула:
— Да вы уже Пушкина прошли! Ну как? — спросила, будто наконец преподносит ему давно желаемый «дипломат», с которыми щеголяли в школе старшеклассники.
Он толком ничего не мог сказать ни о Пушкине, ни о его стихах даже из хрестоматии. Ну, великий Пушкин. Ну, всем известный Александр Сергеевич. И — хорошо. Для чего еще что-то? Пусть вникают те, кто увлекается литературой, поэзией. А ему зачем? Он мальчик, выберет что-то техническое, точные науки ему ближе. Но если бы отцу захотелось найти «общие интересы» в алгебре или физике, Алюну трудно было бы выкрутиться.
Но родители увлеклись возможностью показать ему, как велик и прекрасен Пушкин, как необходим каждому человеку. Они рассказывали интересные факты из биографии поэта, вспоминали, как сами проходили его в школе, читали наперебой стихи, и те, что Алюн слышал в классе и должен был знать (так и не выучил, ответил кое-как, на подсказке и открытом учебнике), и совсем другие. Они их почему-то знали много, и Алюн все-таки почувствовал, что стихи эти хорошие, но — для чего они ему?
А родители вдохновились, взволновались, у мамы разгорелись щеки, заблестели глаза, отец закурил, хотя (из-за сердца и маминых упреков) позволял это себе не часто. Алюну даже стало как-то жалко их, неловко и стыдно, будто они обнажили перед ним что-то свое, сокровенное, недозволенное.
Он тогда изо всех сил делал вид, что ему интересно, но в общем-то ему было скучно, он ничего с этим не мог поделать и с облегчением вздохнул, когда «пушкиниана» кончилась и родители удовлетворились его обещанием прочитать и даже выучить стихи Пушкина, радуясь, что помогли сыну приобщиться к прекрасному. Чудики!..
Иногда отец с сожалением говорил, что учится Алюн формально, безвкусно, после восьмого надо определять его в профтехучилище, пусть войдет в другой, более деловой коллектив, приобщится к трудовому процессу, получит до армии специальность. Мама категорически возражала: пусть закончит десятилетку, получит аттестат, чем он хуже других? Разве они не в состоянии учить сына в институте, дать ему образование?
Отец в споры не вступал, он почти во всем подчинялся маме. Алюн тоже не считал себя хуже других, но ни о каком институте не думал. Институт, какие-то хлопоты и перемены — это все потом, когда-то, очень не скоро. А пока ему живется хорошо, привольно, зачем заранее портить жизнь? Минимум усилий в школе, дома, чуть-чуть дипломатической игры с учителями и родителями — можно жить хоть сто лет. Куда торопиться, выдумывать какие-то проблемы? Хорошо — и все, и пусть так будет всегда!
Единственное, что сближало Алюна с родителями, — письма брата Аркадия из армии. После десятого Аркадий в институт не попал. Может, потому, что родители вынуждали его поступать в политехнический, а он хотел в институт культуры («Кем будешь? Руководителем захудалого ансамбля в сельском клубе?»). А может, брату действительно помешало увлечение музыкой — репетиции, выступления. Целый год родители упрекали брата (он работал на заводе, о своей работе говорил шутливо: «Плоское тащим, круглое катим», играл в том же ансамбле при заводском доме культуры), а весной Аркадий ушел в армию, и теперь Алюн ему горячо завидовал: родители больше не пилят, не поучают — жалеют и уважают. Аркадий перешагнул линию, отделяющую взрослых от детей, обрел такие желанные для Алюна независимость и равенство.
В новой жизни брата Алюн воспринимал почему-то только это, хотя служилось Аркадию не легко: трудно привыкал к армейскому режиму, несколько раз болел из-за своей неприспособленности. В доме появились новые слова из солдатского лексикона: «подъем — зарядка», «километровый пробег», «строевая подготовка», «наряд вне очереди»...
Наряды «вне очереди», как видно, частенько доставались Аркадию. То из-за «небольшой задержки с портянками», то из-за нерасторопной чистки оружия... И Аркадий был «вечной посудомойкой» и «ложкарем» (ложки почему-то пропадали, и за это тоже не хвалили), мыл полы и грузил уголь.
Алюн смеялся — что это в самом деле Аркадий такой растяпа. Родители вздыхали, жалели Аркадия, посылали ему пластырь для натертых ног и наседали на Алюна, особенно после того, как Аркадий написал: «Все свои неудачи я воспринимаю как хороший урок для себя. Мама все делала за нас, я ничего не умею...»
Теперь Алюну приходилось чаще ходить в магазин, самому гладить свои брюки и иногда даже мыть посуду и полы. Лучше бы Аркадий воздержался от своей откровенности! Раз в армии придется все делать, так зачем уже сейчас закабаляться, с седьмого класса?
Аркадий ничего о себе не скрывал, писал большие подробные письма, очень тосковал по дому, особенно по маме. Попросил ее сфотографироваться специально для него, а потом написал, что товарищи не верят, будто это — мама, такая она молодая, красивая.
Читая эти строчки, мама покраснела, разволновалась до слез (письма читались вслух, сначала Алюну, потом — папе, когда тот приходил с работы). Алюн страшно удивился: он никогда не смотрел на маму так: красивая она или нет. Мама — и все.
Письма Аркадия привлекали и раздражали: Аркадий писал о доме так, как, казалось Алюну, писать не должен и уж сам Алюн никогда не напишет. У Алюна по отношению к родителям одна линия: увернуться, чтоб не мешали, не докучали, не портили жизнь. Аркадий совсем недавно тоже норовил улизнуть из дома то в клуб (придумывал репетиции чаще, чем они были, Алюн знает), то в кино. На правах старшего это ему удавалось, Алюну приходилось оставаться с родителями, отвлекать их на себя, отдуваться за двоих. И вот — чуть не в каждом письме: «Только теперь я понял, что жалел себя, мало трудился, всему надо учиться заново...», «Я благодарен армии за то, что она дала мне понять, какой заботой и теплотой я был окружен дома...», «Алюн, береги маму, папу, перестрой свою жизнь, пока не поздно...».
Алюн не очень верил Аркадию. Наверное, по просьбе мамы воспитывает его, влияет, взрослость свою показывает. Иногда он писал брату, вскользь жаловался, что ему трудно, родители угнетают, наказывают, мама, например, отказалась приготовить его любимые вареники, но об этом — редко. Боялся, что размякший душой Аркадий донесет маме, обострять же отношений с родителями не хотел. Чаще писал о том о сем — в общем, ни о чем, в свое заветное не пускал, ни о каких именинах, танцах, девочках — ни-ни. Еще высмеивать начнет.
Брат любил только свою гитару в оркестре, танцевать не умел и не стремился, из женского мира признавал, наверное, одну маму.
Алюн не понимал брата и не одобрял, поэтому откровенничать не спешил. Но любил его и предвидел в его судьбе свою: не видать ему института, знаний — даже верхушек не задел, и ждет его тот же путь — в армию. Но когда это еще будет! А сейчас — жить, как нравится: ходить на именины, танцевать, ничего не осложнять ни в школе, ни дома, пусть поучают, пусть наставляют — со всем соглашаться (разве трудно?) и делать так, как приятно, как хочется...
Алюн знает: поднимать бровки, округлять глаза и говорить «я больше не буду» — рано. На этот раз даже доверчивая мама сжалится над ним не скоро. На его счету два преступления: ботинки и деньги. Лишь бы все это утряслось до прихода отца и все упреки и разбирательство не пошли по новому кругу.
— Не танцуй! Весь угол вытер! — Мама бросила испепеляющий, презрительный взгляд. — И что у тебя в голове? И есть ли она вообще?
Алюн опускает глаза, не возражает, не грубит, не оправдывается: только его смиренный вид успокоит, примирит маму.
Мама уже десятый раз выговаривает одно и то же. То — за ботинки. То — за деньги. И все этот дождь, откуда он только взялся? Не дождь — ничего бы мама и не заметила, что сделалось бы отцовским ботинкам за один разочек?
У Алюна ботинки исшарканы, истоптаны, чуть не каждый месяц родители покупают. Всю его старую обувь мама отнесла к сапожнику, сказала, что новых покупать не будет, пока он не отучится плясать, не научится беречь обувь. «Научится — отучится» — а тут новое приглашение на именины. Не пошлепаешь же в гости в каких-то обносках. Алюн решил обуть папины праздничные чехословацкие «мокасинчики». Но пошел дождь, и прошмыгнуть мимо мамы в мокрых заляпанных туфлях не удалось. Пришлось сознаться — ходил на именины. Откуда деньги? Накопил... Как — накопил? Завтраки-то в школе не на деньги — на талоны, они покупаются мамой. Так откуда же деньги? Украл?.. Бровки умоляюще полезли вверх, глазки округлились, упрекая: как ты могла обо мне подумать такое?
— Где же взял?
— У тебя в кошельке...
— И считаешь, что не украл?
— Так ты не даешь...
— И не дам! На танцульки — не дам! В кого превратился? В плясуна! Никаких именин знать не хочу!
Слышала мама его кличку или сгоряча сама придумала?
— Когда взял?
— Вчера... Ты с соседкой разговаривала, а кошелек твой на холодильнике лежал.
— Сколько?
— Рубль... мелочью...
— Что же купил на рубль?
— Ручку, открытку, пробный флакончик...
Алюн мысленно просит: хватит, ну хватит! И сердится: сами говорят, что вещи для них ничего не значат, а из-за каких-то ботинок, из-за рубля — скандал. Но сердится и возражает про себя, на лице все то же покорно-умоляющее выражение.
Хорошо, что мама не выпытывает про деньги: сколько раз брал да зачем, считает, что этот раз — единственный. А он приспособился чуть не каждый день нырять то в папин, то в ее кошелек. Брал по пятнадцать — двадцать копеек, и резерв у него постоянный в тайничке: в деревянном стакане для карандашей на письменном столе. В донышко вставил кругляшок, монетки — под ним, сверху — карандаши, резинки, точилка. Сто раз мама пыль вытирала и не догадалась. И не догадается.
А он, конечно, не признается. И так слишком много сказал. Правильно сделал, мама сразу тон сбавила, ей легче стало. У нее такая теория: признался — осознал. Для мамы это главное — осознал.
Алюн устал. Пора. Момент, кажется, подходящий. Все средства — в действие: бровки вверх, глазки вниз, стал прямо (маму раздражает вихлянье), голосу — просительно-виноватый оттенок.
Мама проходит мимо, совсем близко. Не смотрит, но, конечно, видит его боковым зрением.
— Мама, я больше не буду, я все понял... Прости!
Несколько выжидательных минут. Мама молчит, но Алюн знает — прощен. Выходит из угла, садится за письменный стол, с глубокомысленным видом открывает учебник. Мама будто не замечает его, это ее воспитательная хитрость. Все она видит сейчас, каждое его движение. Для ее полного успокоения только этого и не хватает: Алюн должен сам, без понуканий, сесть за уроки.
Алюн старается изо всех сил, переписывает упражнение, решает задачу. Еще одного нужно добиться обязательно: чтоб мама ничего не рассказала отцу. Она и так наверняка не расскажет: пожалеет отца (тот очень устает, приходит поздно: конец квартала, сдают какой-то новый объект, что-то не ладится), да и инцидент наверняка считает исчерпанным. А отец начнет заново все выяснять, кричать, волноваться. Маме же теперь хочется провести спокойный вечер, она выдохлась, выговорилась.
Но для спокойной жизни Алюну нужна полная гарантия. И он просит, когда мама устало опускается в кресло с вязанием (вязать научилась из-за него — нервы успокаивать):
— Мама, не говори папе, а? Я ведь больше не буду.
— Посмотрю, — уклоняется мама от обещания, но Алюн знает: это — все, дальше можно жить спокойно.
Он быстро заменяет учебник истории детективом. Хватит премудростей, можно читать, что нравится, мама на него больше не обращает внимания, в самом деле вязание — хорошая штука. Все эти исторические деятели давно в земле истлели, а ты лысей из-за них, зубри, кто да что давным-давно сделал или сказал.
Снова в «застенке». Сейчас легко не отделаешься: отец, открывая ему дверь, учуял запах вина. Он и дыхание затаил — все равно учуял. Сам виноват, надо было на полчаса раньше прийти. Тогда бы дверь отворила мама и никто бы к нему не принюхивался. А теперь — настоящий допрос. И из спасительного угла пришлось выйти, сесть за стол напротив отца и мамы.
У мамы лицо вовсе трагическое, взглянуть страшно: ну, докатился, дальше — некуда. Отец старается быть спокойным, выдержанным, найти верный тон. Но выдержки его хватит ненадолго, скоро перейдет на крик, как обычно.
Алюн с тоской готовится все выслушать, перетерпеть: мамины трагические глаза, слезы, поучения, крик и угрозы отца.
Лучше бы уж били. Коротко и ясно: провинился — получай. Зато каждый удар — как искупление. Стукнут пару раз — и ты уже чистенький, квиты: я — вам, вы — мне. Но это все теория и предположения. Интеллигентные родители даже в мысли не допускали такой возможности — бить. Да и как на самом деле чувствует себя человек, когда его бьют, Алюн не знал. В классе ребят, которых били дома, жалели все, и ученики, и учителя. Учителя даже от родителей, которых не могли убедить, что бить — нельзя, кое-что скрывали...
И все-таки лучше бы сегодня стукнули.
— Где был?
Алюн ерзает на стуле, шаркает ногами.
— Не танцуй! Ну?
— В школе. Тематический вечер...
— Никакого вечера! — рубит отец. — В школе темно, пусто.
— Мы не следили, — поспешно вставляет мама. Она все боится нарушить принципы демократического воспитания. — Мы просто гуляли, шли мимо.
Да, «не следили». А гулять-то направились в сторону школы! Никак родители не поймут, что бывают моменты, когда они совсем, ну совсем не нужны! Ни шага без них не сделаешь! К каждому движению присматриваются, к дыханию принюхиваются. А считают себя родителями-демократами, и он, Алюн, по их мнению, должен умирать от благодарности за это.
— Выкладывай! Правду! Где пил? С кем?
Мама вздрагивает от этих слов. Она уже, конечно, видит его в детской комнате милиции, в вытрезвителе, тюрьме… А всего-то ничего — одна рюмка.
Мама ушла на уколы. Не успела и дверь захлопнуться, он выбежал следом — сидеть дома просто не мог. Хоть ненадолго — от родителей, к своим — ребятам, во двор, в свободу.
Без этого, кажется, умрешь. Даже когда родителей дома нет, они будто есть, все переполнено их поучениями, недоверчивыми взглядами: стены, мебель, воздух, которым дышишь.
Но во дворе своих, привычных ребят — никого. Всех родители зажали — учи, читай. А может, по телеку что-то. У них дома телевизор включается редко, ему самому даже трогать не разрешают. Чтоб не привык торчать перед экраном. Хотя бы мама перешла на другую работу! А то лишь он из школы — и она на порог. Вечером еще уйдет часа на два уколы делать, когда уже отец дома. Считают, что Аркадия упустили (иначе бы он в институт поступил), теперь вот его, Алюна, душат своей бдительностью.
Посидел на детской площадке, перевернул металлическую лестницу-дугу, качнулся на ней разочек. Скучно... Прошвырнулся в соседний двор — там только первоклассники у подъезда толкутся под присмотром бабушек. Вышел на бульвар.
Сбоку, из темноты кустов послышалось:
— А, Плясун, танцуй сюда!
Ребят этих он знал не очень хорошо, примелькались их лица по-соседски — в одних и тех же магазинах, на автобусной остановке. Если они учились в школе, то в другой и жили в дальних домах микрорайона. Чувствовалось, что старше его на год-два.
Их было трое. Курили с оглядкой. Значит, тоже под присмотром.
Дождь не дождь, туман не туман, что-то мокрое, скользкое растекалось между землей и небом. И на душе было примерно так же — зябко и неопределенно. Алюн обрадовался оклику, незнакомым ребятам, но курить отказался: запаха не скроешь, домой хоть не приходи. Один раз попробовал — закаялся. Самому тоже не понравилось, а родители просто взбесились. И бровки подымал, и глазки округлял, и «не буду» сто раз заставили повторить, потом долго принюхивались к одежде, наверное, и карманы выворачивали. Аркадий — он тогда еще дома был — поднес к его носу кулак, очень выразительно сказал:
— Сам чертей дам, если не усек. И так хлипкий, а то и вовсе скиснешь.
Аркадий, конечно, не курил и не пил, даже когда школу закончил и работать пошел. Наверное, кроме его ансамбля, ничего ему было не нужно. Родители же, чтобы не приучались сыновья, даже по торжественным дням не ставили на стол бутылки с вином. Мама специально научилась делать какой-то компот, который называла «напитком», им наполнялись хрустальные бокалы, чокались издали, символически. И как могла нравиться родителям такая постная жизнь?
Ребята подсмеивались (мамка курить не велит?), но не настаивали. Потоптались вместе, погуляли. Мокреть залезала в башмаки, под куртку, зябли руки, отсырел нос. Делать на улице было нечего, но отчаливать домой не хотелось, тем более, мама еще не завершила свой круг уколов, а отец последнее время приходит домой поздно. Болтали — ни о чем, слова пустыми шариками перекатывались от одного к другому.
Наткнулись еще на одного, его Алюн совсем не знал. Тот мыкался по тротуару из стороны в сторону: выбрав нужное направление, сосредоточившись, пробегал несколько шагов и замирал, вибрируя, сводя плечи, стараясь удержать равновесие, но его опять начинало мотать поперек бульвара, пока не вырывался из этого зигзага и снова не совершал рывка вперед на несколько метров.
— Ну, Гузька, допрыгаешься до милиции, — сказал один из ребят. — Не дадим пропасть человеку, а? Пока не появились представители власти или члены родительского комитета, поможем? Где ты нахрюкался, Гузька?
— Именины у меня, — миролюбиво ответил Гузька, растопыривая руки, чтоб удобнее было подхватить его с обеих сторон.
Алюн мог благополучно свернуть домой, но любопытство толкало его вслед за Гузькой и его приятелями. Алюн боялся пьяных, обходил стороной и так близко еще никогда не сталкивался с ними. Судя по мирному Гузьке, бояться было нечего, а вот посмотреть было на что. Гузька болтал всякие пустяки, пробовал петь, вывертывал ногами всякие смешные штуки, и Алюн, шагая сзади, подтанцовывал ему.
Алюну вдруг стало весело: совсем не так противно, когда пьяный, не обязательно же бегать с ножом и ругаться матом, можно веселиться, как Гузька, смешить товарищей.
Алюну очень хотелось увидеть, как встретят Гузьку родители, но когда они ввалились в подъезд и подошли к Гузькиной квартире, тот пошарил в карманах, достал ключ, отдал приятелю:
— Открывай. Дома — никого. Родители мне — полную свободу. Именины-то мои, и друзья-гости были мои. А родители умотали к тетке. Заходи!
Такого Алюн себе даже не представлял, чтоб его родители «умотали к тетке» на весь вечер, оставив его с какими хочешь друзьями. И он зашел в квартиру, где на столе еще было полно всяких вкусных вещей, во всю мощь орал невыключенный телевизор.
Немного протрезвевший за дорогу Гузька достал из холодильника недопитую бутылку вина, и Алюн сел вместе со всеми за стол. Ему было весело, свободно.
Выпили они только по рюмке (больше вина не оказалось), а потом слушали магник и плясали. Тут уж Алюн, над которым посмеивались, как над «маменькиной дочкой», показал класс, никто перетанцевать его не мог. Он позабыл обо всем — о маме, о доме, о том, что в чужой квартире: захлестнуло то самое упоение, какое он испытывал, когда мог взахлеб отдаваться танцу, увлек в танец своих новых приятелей, но они не чувствовали ритма, вертелись и топали изо всех сил, и все равно Алюну было хорошо, комната стонала и вибрировала до тех пор, пока из соседней квартиры не заколотили в стену.
Спохватившись, Алюн помчался домой и впопыхах налетел на отца, забыв даже о выпитом вине. В последний миг затаил дыхание — и вот допрос и вся та сцена, которая так часто повторяется в жизни Алюна, что ему наперед все ясно: допрос — мораль — раскаяние. Но раскаяться все же нужно так, чтоб выглядеть в лучшем свете, и, растягивая паузы между вопросами отца и своими ответами, он придумывал...
— Где пил?.. С кем?..
Несмотря на эту тягостную сцену, Алюн был благодарен и Гузьке, и тем ребятам, с которыми так отлично провел время. И выдавать своих новых приятелей он не собирался. И придумал: гулял один, потом к нему подошли какие-то парни, от них пахло вином. Стали приставать. Он сопротивлялся, но не очень, так как их — «целая шайка». Заставили его несколько раз глотнуть из бутылки, прямо насильно вливали, двое держали за руки, третий за голову, четвертый вливал, хотя он и пытался сцепить зубы. Сами они тоже пили из горлышка по очереди.
Мама испугалась, заахала, пожалела («Говорила — не надо в темноте на улицу ходить, говорила!»), но отец смотрел недоверчиво, стал подробно расспрашивать, что за ребята, где живут, встречал ли раньше. Проверил его куртку — почему не облита вином, если поили насильно, но Алюн твердил свое.
Чего только не пришлось выслушать ему о пьянстве в этот вечер, и на следующий день, и еще через день, и бесчисленное множество раз!
Мама притащила из поликлиники брошюры с картинками и диаграммами, вслух прочитала страшные вещи об алкоголиках, их будущем и будущем их детей. Алюну пришлось клясться — и не раз! — что он все понял и больше не будет, не будет, не будет...
И от брата пришло письмо. Мама теперь брала Аркадия в союзники, хотя совсем недавно воспитывала его теми же методами и словами, что и Алюна. Аркадий писал: «Алюша, не повторяй мою ошибку, ты что-то долго задерживаешься в детках. Задумывайся почаще о себе: кем ты есть и кем должен стать в жизни. Закаляйся физически и духовно. Брось слюнтяйство, не жалей себя сейчас, чтоб потом не так мучительно привыкать к трудностям, как приходится мне. Делай зарядку, обтирайся, купи гантели. Это не пустяк. Если сможешь пока хоть это организовать, значит, сможешь и другое. Вот попробуй, и ты увидишь, как здорово чувствовать себя сильным, умелым...»
О последнем происшествии с Алюном тоже, конечно, написано: «Ты там, кажется, в бутылочку заглянул? Мама очень переживает, Алюша, а я тебя просил и прошу: маму — береги, тут я тебе ничего не прощу! Сам я потребности выпить, тем более напиться пока не испытывал. И не потому, что дома сухой закон, а потому, что все мерзкое, античеловеческое, с чем мне иногда приходилось сталкиваться, в основном шло от пьяных бесконтрольных морд. В армию тоже попадают такие типы. Когда увидимся (до чего же я соскучился по дому, по тебе, Алюша!), расскажу подробнее, с примерами. А пока просто прошу: никаких дружков не слушай, вырабатывай свой самостоятельный характер. Я убедился: для полноценной жизни человеку нужен четкий распорядок и контроль, так что на родителей не обижайся. Надо мной старшина, такой же мальчишка, как я, а я его должен слушать, бегу выполнять все приказания. Твой старшина — мама и папа...»
Алюн все это читал, выслушивал, но к себе не прикладывал: алкоголики — и он? Смешно! Неужели родители такие наивняки, что верят, будто он вообще вина никогда не пробовал? Бывало ведь и раньше: на именинах некоторые родители наливали по паре глотков шампанского или домашней наливки, просто он дома не говорил об этом, иначе бы и вовсе на именины не пустили. Они не замечали, не принюхивались, а он, в общем-то, к этим глоткам вина и не стремился. На именинах весело и так, вино и чоканье — ритуал.
Движение, ритмы, томящие душу мелодии, непонятные слова, по-особому выдыхаемые под музыку прославленными зарубежными певцами — вот что опьяняло, будоражило, влекло его к себе постоянно, и еще то волнующее, почти неосязаемое, что исходило от девочек, от прикосновения к ним...
Но в тот вечер, у Гузьки, он ощутил еще одну, неведомую раньше возможность — испытать блаженное состояние и без именин, без девочек, а вот так — с вином и хорошими веселыми парнями. И хотя он обещал маме и папе — не буду! не буду! — и брату сразу ответил, не вдаваясь в откровенность и подробности, а просто соглашаясь «быть хорошим и в бутылку не заглядывать», Гузьку и его приятелей искал. Но вечером во двор его не пускали, он и сам знал, что надо перетерпеть, чтоб поверили и снова ослабили контроль, «дышать воздухом» мог только после школы, а в такое детское время уважающие себя люди гулять не выходят. Поэтому их ни разу не встретил, но хорошее воспоминание о Гузьке, таком смешном, веселеньком, пьяненьком добряке и его товарищах, не бросивших Гузьку одного на темной мокрой аллее, жило в Алюне, как и надежда все-таки еще повстречаться с ними и хорошие часы-минуты повторить.
Родители решили, что ему очень приятно общаться с ними, почти все время теперь кто-нибудь при нем находился; то ли отец, то ли мама и очень часто — они оба. Даже о своих объектах и уколах они стали меньше заботиться. Часто покупали билеты в кино и театры, ходили вместе, хотя Алюну еще не исполнилось шестнадцати.
— По твоим данным этого не скажешь (голова Алюна возвышалась над маминой и даже чуть-чуть над папиной), и лучше ты будешь ходить с нами на взрослые фильмы, чем пить вино неизвестно с кем, — сказал отец.
По воскресеньям кто-то из них вел его в музей или на какую-нибудь выставку. Алюн с тоской подсчитывал, что музеев в городе и всяких мемориальных мест, которые можно созерцать с маминой воспитательной точки зрения, великое множество. Да еще всяких передвижных выставок навалом!
Не все было таким уж безынтересным. Может, сделай Алюн усилие, сбрось с себя привычное недоверчиво-настороженное отношение к родителям, он бы сумел пережить вместе с ними что-то хорошее, сближающее, понять, почему люди так рвутся и в оперу, и в драму — билетов не достанешь. Но его возмущало, что это навязывают насильно, с воспитательной целью, а потом родители до тошноты расписывают друг перед другом свои чувства и впечатления, выворачивают его вопросами наизнанку.
Иногда ходили в театр или в оперу всем классом, но это совсем другое дело. Только терпения набраться на первое действие, пока классный руководитель бдительно смотрит, а потом можно и в зал не ходить — посиживай себе в буфете, попивай лимонад, ешь бутерброды и пирожные, пока Татьяна с Онегиным завывают на сцене.
Алюн ждал, дождаться не мог, когда схлынет эта воспитательная волна. Но родители навалились широким фронтом, решили приобщить его и к хорошей литературе, к чтению. Мама сама выбирала в библиотеке книги, и перед сном проводилась читка вслух. Детективчики приходилось прятать глубоко под учебники, в стол, и выслушивать историю угнетенного негра дяди Тома в затерянной за океаном далекой Америке в давние-предавние времена. Правда, попадались интересные, даже захватывающие книги, как «Брат молчаливого волка», которую Алюн, не дожидаясь следующей читки, дочитал сам, но потом еще прослушивал и в мамином исполнении, скрывая интерес и волнение даже там, где мама плакала: чего доброго, родителям понравится, станут бесконечно душить его всякими умными книжками, воспитывающими, показывающими, что вот же есть примерные мальчики и девочки, не чета ему, Алюну (мама очень умело расставляла голосом нужные ударения).
Алюн пожаловался брату. Но брат, конечно, был на стороне мамы. И когда он успел так поумнеть? Или это его армия перевернула, облагородила? А может, и раньше Аркадий был таким мудрым, только Алюн не очень-то к нему присматривался. Даже уход брата в армию как-то пропустил, не пережил, занятый созерцанием своих ощущений.
Аркадий ответил:
«Мне кажется, ты плохо читаешь мои письма, слишком легко со всем соглашаешься, а мне бы хотелось, чтоб ты поразмышлял, даже повозражал. А то и переписываться неинтересно.
Кажется, твое главное стремление я все-таки уловил: ты хочешь, чтоб тебе постоянно было только хорошо и никто тебе ничего не навязывал. Не все бывает, как хочешь. Поймешь, когда пойдешь работать, а особенно — в армию. Придется стойко переживать все тяготы и невзгоды воинской жизни. Твое настроение я расцениваю как эгоизм и жадность. Жадность к постоянному удовольствию. Я тебе как-то писал, что нужно задумываться о себе. Теперь я все это немного переосмыслил: о себе относительно других людей. Вот когда начинается человек! Я, например, человеком становлюсь только сейчас. До этого — извини! — был таким же, как ты, Алюном. Я — человек! Среди живущих на земле существ я один могу осмысливать происходящее. Вот мы — пришли на все готовенькое: штаны, чтоб тебе тепло было и удобно, кто-то придумал и сшил; «наполеон», который мама для нас печет, тоже кто-то придумал; иголку, пуговицу и тысячу других вещей, которыми мы так бездумно пользуемся. Для нас трудилось все человечество много веков. А мы даже имен не знаем тех, первых... Я, наверное, теперь просто чудиком становлюсь. Беру в руки что-нибудь нужное — и сразу мысль: кто же это, умная голова, придумал? Спасибочки ему! Слышишь, Алюша, понимаешь, о чем я говорю? Вернувшись из армии, я тоже (тут я многому полезному научился и учусь) включусь в эту непрерывную цепь — создавать для людей. Что — сам еще не знаю, не решил, лишь бы для людей.
Ответь, что ты обо всем этом думаешь, мне так хочется знать, какой ты (почему-то мы с тобой никогда серьезно не говорили). Если еще не задумывался о таких серьезных вещах, то прошу: задумайся, сделай такое усилие и напиши мне...»
Но делать усилия Алюн не стал — не только не хотел, но и не умел, он жил своими ощущениями: хорошо — плохо, приятно — неприятно, а не мыслью: зачем, откуда, что потом?
Для чего все эти сложности, которые навязывает Аркадий? Действительно, чудик — и хитрец: сам жил, как нравилось, а хочет, чтоб Алюн делал все, как родители велят. Нет, он еще порезвится, потанцует, он еще побудет Алюном.
С внешностью вот только не повезло, действительно, хоть куклой в витрину детского универмага нанимайся! А может, ничего внешность? Девочкам нравится, и все-таки такое лицо здорово выручает: родители легко верят. Алюн, когда никого дома не было, подолгу себя разглядывал в зеркале: ни на маму, ни на отца не похож. Наверное, кто-нибудь из предков через свои гены в нем пробудился, такой кукольный.
Постепенно и эта воспитательная волна схлынула. Отец уехал в командировку, маме трудно было все вечера проводить с Алюном, комбинируя это с работой медсестры на участке, и жизнь Алюна постепенно возвращалась в прежнюю колею.
На именины он ходил, мама даже деньги снова стала давать, иногда и сама покупала для девочки подарок (всякий раз приговаривала: неужели у мальчиков нет именин?). Наверное, были. Но мальчики Алюна не приглашали, и на свой день рождения он пригласил только девочек.
К счастью, папы не было. Мама, наблюдая за ним, удивленно, почти как Алюн, вздымала брови (они у нее другие: не бледно-рыжие коротышки, как у Алюна, а длинные, черные, но кончики их могли так же вот вдруг изламываться у переносицы и становиться торчком, как у сына). И даже сказала ему современное словечко:
— А ты — пижон. За девочками ухаживать умеешь. Когда только научился?
Он не понял, осуждает его мама или даже как-то похваливает. Во всяком случае, нотации за этим не последовало. А он и не учился, само собой выходило. Себе он честно сознавался, что и в школу ходить хочется только потому, что там дружески к нему расположенные девочки.
А мама все удивлялась: кто это из предков передал ему свои женолюбивые гены (из живой родни ни о ком такого не скажешь) — и полушутя, полусерьезно наставляла, что даже самые стойкие гены все-таки нужно воспитывать, не давая им воли.
Если это от предка, то, конечно, от того самого, кто передал ему и свое безмятежное личико.
Произошло событие, которое ошарашило, обескуражило, потрясло Алюна: его не пригласили на именины. Не пригласила девочка! Не пригласила его! Девочка, которая в прошлом году не нарушила этой всеми признанной закономерности, так же благоговейно была послушна ему, умело и бережно втягивающему в ритм, расслабленность и неведомо еще во что, чего не выразишь словами.
Алюн, отметив в записной книжке прошлогодние дни рождений, примерно знал, когда и кто его пригласит. Готовился, придумывал, как сказать дома, чтоб отпустили с миром и подарком. И вдруг — такое! И — любопытные глаза, шушуканье за спиной. И сразу из «общей девочки», какой он воспринимал всю женскую половину класса, выплыла одна, не похожая на других. Со своими особыми глазами, руками, походкой, со своим нежеланием общаться с ним, Алюном, в привычно сложившемся русле. А ему казалось, что с девочками всегда будет только приятно и дружно. В классе он во всем им уступал, носил их портфели, помогал дежурить. Они тоже выручали его. На насмешки мальчишек внимания не обращал — таков я есть и мне хорошо.
И вдруг все это, приятное, сложившееся, распалось, разлетелось... Строптивая девчонка, выделившись сама, как бы высветила и остальных. Алюн даже растерялся, очутившись вдруг среди таких разных и, в общем-то, незнакомых девчонок, со своими отдельными глазами, носами, мыслями. Он даже испугался: что же дальше? Не представлял свою жизнь без именин, танцев, покорного обожания, без девочек, восторженно и благодарно окружающих его.
Собрав все свои душевные силенки, не показывал виду, что ему непривычно больно, но бровки сами обиженно надломились и скрыть от хитрых девчонок ничего не удалось. Правда, на следующие именины его снова пригласили, но что-то уже было утрачено, что-то беспокоило, мешало самозабвенному растворению: а вдруг кто-то еще вывернет фокус, как Лизка? Лиза — разве сейчас так называют девочек? Он даже не предполагал, что в классе есть Лиза, хотя она была не новенькой. Наверное, у нее было прозвище или звали по фамилии.
На именинах Лиза тоже была. Танцуя, он все время ощущал насмешливый взгляд этой ехидины. А когда переходил от девочки к девочке, касаясь то одной, то другой, царя над ними, сцепляя их в общий круг, Лиза небрежно молча отстранила его рукой, даже с тахты не поднялась. Сидела, спокойно перелистывая журнал, равнодушная к захватившим всех ритмичным движениям, и это ее равнодушное присутствие, насмешливо-презрительный взгляд сбивали Алюна с ритма, удовольствие сменялось раздражением. Нет, не зря ее назвали Лизкой, с этой въедливой буквой «зз-з», которая сверлит воздух своей вредностью, как и тонкий вздернутый носишко Лизки.
В порыве раздражения Алюн вдруг изменил своему правилу — не задирать, не обижать девочек: расцепил танцующих, остановился перед Лизкой (ноги и вся нижняя часть его вихлялись, он был похож на человека, впервые надевшего коньки, балансирующего на льду) и запел противным, скрипучим от раздражения голосом неизвестно откуда пришедшую на ум песенку:
— Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это, и за это, и за то, ну а больше ни за что! — и сделал несколько выразительных пошлых жестов, что, в общем-то, было ему не свойственно. Лиза резко, ни на что не опираясь, поднялась с дивана, и гневная волна, хлынувшая от нее, отбросила Алюна назад, а она ему даже ничего не сказала, прошла мимо, к имениннице Светке, стала прощаться:
— Извини, Света, я должна уйти. Спасибо. Было очень весело.
Света заволновалась — всем же было ясно, почему уходит Лиза, — стала уговаривать, другие девочки тоже окружили ее, загалдели:
— Мы еще чай не пили, есть вкусный торт, не уходи...
Но Лиза ушла. И хотя Алюн изо всех сил старался развеселить девочек, и те послушно танцевали и веселились, и чай пили с вкусным тортом, который сама Светка испекла, уже все было не то. Алюну вдруг тоже захотелось уйти, хотя по времени можно было домой не торопиться.
С того вечера к имени «Лиза» Алюн мысленно приставлял слово «заноза», и три «з», сливаясь, своим дребезжанием выражали то, что он чувствовал в присутствии Лизки в классе и даже дома, когда вспоминал ее.
И в «застенок», в который он снова забился, на этот раз безнадежно надолго, попал из-за этой занозы, вернее, из-за всего случившегося только потому, что за это дело взялась она.
Он вихлялся в «застенке», дожидаясь, когда мама начнет «разряжаться», но мама, убитая его новыми подвигами, сидела молча на кухне, подперев голову руками и безнадежно глядя в окно. Вытягивая шею, Алюн видел ее бледное красивое лицо (что она красива, стал замечать после писем Аркадия), усталое, отрешенное. Но Алюн ее не жалел, а жалел себя: наказывать-то должны не ее, а его и наказывать должна она. Наверное, сидит и придумывает, как и что сделать, чтоб наконец дошло и Алюн перестал быть Алюном. А что, собственно, должно доходить? С кем не бывает? Ну, нашло, ну, завертело! И если разобраться, то не один он виноват, все эта Лизка.
Хорошо им, его правильным родителям, знают наперед, что нужно, что не нужно. А может, взрослые перед детьми притворяются, что все знают и поступают только правильно? Наверное, так и есть. Зачем бы тогда суды и милиция всякая, дружинники с красными повязками, фельетоны в газетах, выговоры с занесением в личное дело, о которых иногда после собрания рассказывают мама и папа. Вот, взрослые — и то... А ему — легко ли?
Сейчас мама изречет какую-нибудь умную фразу, надо что-то ответить, чтоб мама начала наконец говорить, возмущаться и поучать. Чем скорее она выговорится, тем ближе момент прощения и тяжесть сползет с души. Скорее бы уж начала поучать!
Но мама вдруг произносит тоскливо, обреченно:
— Господи, когда же ты станешь человеком? И станешь ли им вообще? Может, это все зря — и я, и папа, и жить-то нам, в общем, незачем, свое главное дело не можем сделать — тебя по-человечески воспитать! Аркадию-то мы уже не нужны, сам пойдет.
Впервые что-то рванулось в душе Алюна навстречу матери, затопило острой жалостью, раскаянием, он готов был кинуться к ней, заплакать, пожалеть, но пока топтался в нерешительности, растерзанный этими необычными едкими чувствами, мама встала, прошла мимо него и начала говорить, говорить…
И Алюн, от ее привычного тона и привычных упреков, втянулся поглубже в «застенок» и даже слушать перестал, перебирая в уме все, что произошло.
...Лизка, которая вдруг так въелась в него со своими ехидными «з-з», была старостой класса, что-то там делала и организовывала.
Алюн будто проснулся и все это только сейчас увидел, раньше никакой классной жизни не замечал и ни в каких мероприятиях никогда не участвовал. Снисходительные девочки, занимавшие все «руководящие посты» в классе, прощали ему, тем более что уж в этом он не был оригинален, большинство мальчишек тоже избегали общественной деятельности.
И вдруг Лизка завопила, настырно лезла и в уши, и в души, категорически и непреклонно заявила, что намечается важное мероприятие — просмотр военной кинохроники в детском кинотеатре, после этого — возложение цветов на Холме Славы. Прийти должны все, так как классный руководитель Елена Ивановна заболела и поручила ей, Лизке, провести этот поход. Кто не придет, тот подводит Елену Ивановну, так что имейте совесть, «классной» из-за нашего разгильдяйства и так достается.
Конечно, пришли не все, но больше, чем собирается обычно на «мероприятие». Удивительнее всего, и не только для ребят, но и для самого Алюна, было то, что он тоже пришел. Мама обрадовалась, что он идет участвовать в таком хорошем общественном деле, сунула ему цветы из вазочки на столе. Цветы он держал завернутыми в газету — трубочкой, и вело его не какое-то вдруг возникшее «общественное самосознание» (слова мамы), а желание поглядеть на Лизку, будто она зацепила вдруг его своим острым носом и потянула за собой.
Лизка с важным видом собрала монетки, деловито растолкала мелюзгу у кассы и взяла длинную ленту билетов. И они все, девчонки и мальчишки, потянулись за ней покорным рядком.
Лизка оказалась далеко от Алюна. И на него вдруг нашло, стало все до лампочки — и ребята, сидящие рядом, и очень боевое и в другое время, наверное, интересное кино. Ему не хотелось, чтоб Лизкино матовое лицо было устремлено только к экрану. Она сидела, слегка подавшись вперед. Поворачивая голову, Алюн хорошо ее видел.
В общем, он «завелся», стал острить, услужливые шуточки неизвестно откуда так и выскакивали на язык, толкал всех, кто был слева, справа, впереди, сзади. Но Лизка почему-то не реагировала, ее нос так же был направлен к экрану — вперед и чуточку вверх. Тогда он стал трясти ногой, раскачивать стулья, затрясся весь ряд, от кого-то сзади и сбоку получил затрещину, сам отвесил, закричал «ура!» совсем некстати.
Когда зажегся свет, Лизка, даже не взглянув в его сторону, стала пробираться к выходу, и все цепочкой выталкивались за ней из кинотеатра на улицу. Увидев Лизку при дневном свете, Алюн понял, что все она заметила, все его старания. Лизка была не просто зла — она клокотала от возмущения, наверное, могла бы сейчас закричать и заплакать, затопать ногами, надавать ему пощечин. Это Алюн уловил в ее мелькнувшем взгляде, хоть она упорно не замечала его, отводила глаза. Алюн испытал удовольствие, ему хотелось еще чем-нибудь досадить этой занозе! Но повода прицепиться к Лизке не было, она сдерживалась изо всех сил. Конечно, хочет благополучно довести мероприятие до конца, поддержать авторитет старосты и отчитаться перед Еленой Ивановной.
Лизка сказала:
— Не обязательно всем идти на Холм Славы, достаточно нескольких человек, кто хочет... — Она наконец взглянула в его глаза, и он понял, что это сказано специально для него, уйти должен он.
Кое-кто действительно ушел, как всегда, кому-то нужно было на хор в музыкальную школу или просто с мамой-папой в гости к бабушке. Но Алюн потащился со всеми. Подумаешь, Лизке не хочется, чтоб он шел. А ему хочется! Даже цветы у него есть. Не для нее же он старался, берег их в газетной трубочке.
Возбуждение его угасло, да и не такое это было место — Холм Славы, где можно раздавать тумаки и свои плоские шуточки. Здесь всегда были люди, особенно в воскресные дни, шли сюда парами, семьями, притихнув, прервав разговоры, входили в улочку, ведущую к Холму, под которым были погребены воины, павшие при освобождении города.
Строгие однотонные заборы с траурными полосами, притихшие, будто не участвующие в жизни города, дома за ними, немеющие в постоянном созерцании непрерывного потока людей — как бесконечная нота в неслышно звучащей здесь траурной мелодии. Такой же нотой были четко организованные клумбы, где росли цветы, стлался мох, зеленели круглый год туйки, елочки, кусты самшита — дар разных городов, жителей, юннатов… Впереди — фигура матери, поднявшая на ладони чашу огня — символ живой памяти и жизни грядущих поколений. И — ширь, высь, зовущая неоглядная водная гладь Днепровского моря, слева, справа, позади Холма... Все это сливалось воедино, приглушало все остальное, оставляя в человеке щемящую причастность к смерти, к вечной красоте и движению жизни, в которой все это нераздельно слито, а человек — на грани слияния...
Здесь прерывалась повседневность. Даже дети становились значительны и серьезны, касаясь чуткими душами исходящей от взрослых сложности.
Алюн не любил приходить сюда именно из-за этой неизбежно здесь возникающей тревоги, вроде кто-то цепко хватал за душу: остановись, вглядись в себя, каков ты есть, ведь это всё, мы, здесь лежащие, — во имя тебя!
Алюн не стремился понять, что происходило здесь в его душе (успеется!), под разными предлогами ускользал от родителей, которые, как и другие жители города, помимо торжеств, связанных с военными героическими датами, просто так ходили сюда, влекомые чем-то слишком высоким и сложным, преждевременным, как считал Алюн, для него.
Впервые, хотя и смутно, издалека, сознательно отодвигаясь, почувствовал какую-то причастность ко всему этому, когда вместе с родителями и Аркадием, бродя по городу в прощальный вечер, пришли сюда. Молча постояли у надгробных плит. Потом, спустившись с Холма к морю, долго гуляли по набережной, и все разговоры были какими-то умиротворенными, не о главном — об уходе Аркадия в армию, но каждая фраза была значительной, как и молчание у подножия Холма.
Таких моментов — единства, понимания — было в семье очень не много, и трое взрослых чувствовали торжественность и особую близость, а он, Алюн, только примыкал к ним, и было ему как-то тягостно, будто дали подержать что-то очень ценное, хорошее, но — чужое.
И сейчас Алюну совсем не хотелось идти сюда, в эту торжественность и недозволенность обычного, но его несло за ребятами, за Лизкой что-то, что было сильнее его понимания. Мама называла это «что-то» завихрением, эмоциональной перегрузкой нервной системы, после каждого его стояния в «застенке» и покаяния заваривала по утрам успокоительный чай из трав, который пили в основном они с папой...
Он понимал: самое правильное сейчас — услышать призыв Лизки и уйти, но его уже «несло», и никакая доза «успокоительного чая» не сдержала бы его, потому что главным становилось одно — насолить Лизке, чтоб она, пусть гневно, с презрением, как угодно, замечала его, возмущалась им, боролась с ним, воспитывала, только не отводила глаза и не отсылала домой. Ну, сейчас она лопнет от удивления, и все ее ехидные «з-з» сдвинутся со своих позиций.
Алюн приотстал, развернул газету — боялся, что цветы измяты, изломаны, но это были стойкие ко всяким безводным передрягам хризантемы, они как ни в чем не бывало встрепенулись, выглядели молодо и бодро.
Когда девочки уже положили букет на общую, не иссякающую гирлянду цветов (почти никто сюда без цветка, без веточки не приходил), Алюн выдержал паузу, растолкал ребят и положил на середину плиты свои хризантемы... Все его мысли, все его жесты были нацелены только на одно: чтоб увидела Лизка. Он не выдержал, торопливо оглянулся. Лизка, конечно, оценила — удивилась, даже смутилась, лицо ее стало добрым и благодарным, но только на одно мгновенье. Лизка, будто отгоняя свою доброту, дернула головой, нахмурилась, задрала нос и взглянула на него резко, недоверчиво, с насмешкой — зря стараешься, Алюн!
Что-то горячее взмыло в нем, ударило по ушам, по глазам, он схватил свои цветы, изогнулся, кривляясь, протянул ей, будто преподносил, но рука как-то сама размахнулась и цветы полетели Лизке в лицо.
Лизка отшатнулась, глаза прикрыла локтем, а он подскочил к ней близко и со злобой, неизвестно почему оглушившей его, отдирая ее руку от лица, зашипел прямо в застывшие черными кругляшками Лизкины глаза, в задрожавший острый носишко:
— Что, испугалась, мероприятие срываю, галочку не поставишь, Елена Ивановна не похвалит?
Он подобрал цветы, снова бросил в Лизку, и они все — Лизка с застывшим и в то же время каким-то плачущим лицом, девчонки, мальчишки — пятились, отступали, глядя на него с удивлением и страхом, а он, разведя руки, заплясал перед Лизкой, яростно вскидывая голову, виляя туловищем, с каким-то сладостным удовлетворением глядел в Лизкино перекошенное лицо. Лицо это вдруг затрепетало, изломалось, будто он прошелся по нему каблуками, она крикнула жалко, неестественным тонким голоском:
— Плясун! Плясун! — и заплакала.
И они все, его одноклассники, увлекая Лизку, шарахнулись от него, чтоб отгородить его от себя перед людьми, застывшими вокруг в недоумении перед таким кощунством. Люди отхлынули, давая ребятам дорогу, он бежал следом, изо всех сил выкрикивая:
— А, испугались! А, побежали!
И было ему от этого их испуга необъяснимо радостно.
Почему никто не взял его за шиворот, не встряхнул, не ударил? Взрослые — не захотели, не успели вмешаться?
В общем, в тот момент пронесло, но он понимал — это ему не простится.
Ему стало тошно, бесприютно, когда оказался один в каком-то тупике, не видя больше перед собой ни Лизки, ни ребят, и горячая волна откатилась в тишину и безлюдье. Тошно — хоть сгинь, убеги ото всех и всего.
А почему бы нет? Но — куда? Голодный, в одной курточке... Побродив по улицам и немного успокоившись, Алюн решил подкрепиться в кафе и все обдумать. Несколько монет в кармане было, взял два пирожка, кофе, уселся у окна. Мимо спешили люди. Счастливые — ничего им решать не надо. Поглощая пирожки, Алюн вздыхал: да, на этот раз завертится всерьез. Простыми обещаниями не отделаешься. Опять эти бесконечные нотации, поучения со всех сторон...
Сколько он слышал правильных слов, истин дома, в школе, в кино! Кто сомневается, что они правильные? Он — не сомневается. Наверное, из этих правильных высказываний он мог бы целую книгу составить. А для чего? Все равно применить, приложить к себе он их не мог и не хотел — слова, а в жизни все катится по каким-то другим, более простым и более трудным рельсам. Вот как сегодня. Разве он хотел? Подмывало что- то сделать, но чтоб вот так накатило. Отдувайся теперь. У него уже просто сил нет оправдываться, выслушивать нотации. Что же придумать? Может, действительно сгинуть, убежать?.. Но ведь где-то надо жить, что-то есть, пить...
А если не всерьез, притвориться? Испугать? Разжалобить? Лизка тоже испугается... Какое у нее было лицо! Он вообще еще не видел у людей таких лиц. Из-за него — такое лицо. Может, такие лица бывают у людей при виде подлости? Он ведь все-таки не идиот, понимает: то, что он сделал, так и называется — подлость. Люди погибли на войне. Горит вечный огонь. А он... Но ведь он не специально так, в этом месте. Он просто перестал ощущать, какое это место. Зарвался. Можно понять или нет? И все-таки какое у Лизки было лицо! А ведь он ради нее старался. Она не знает, но он-то знает это. И в «мероприятие» ввязался ради нее, и потом завихрился, потому что она глядеть на него не хотела.
Тогда же в кафе, прямо на салфетке, написал большими буквами: «Вел себя гнусно. Все осознал. Меня не ищите. Решил начать жизнь сначала. Все расскажи моим родителям и Елене Ивановне. Прощайте! Алюн». Свернул, надписал сверху печатными буквами — ЛИЗЕ. Засунул салфетку в Лизкину дверь, позвонил, сбежал по лестнице. Внизу услышал, как отворилась дверь Лизкиной квартиры.
Бродил по городу, слепо слонялся по музеям, в картинной галерее, скользя пустыми глазами вокруг, а в голове было такое, будто вертел перед глазами калейдоскоп и сам вертелся вместе с ним: вверх ногами — вниз головой — наоборот и снова вверх ногами — вниз головой — наоборот...
После двух кинофильмов с этим вот ощущением верчения оказался на вокзале, там и уснул в уголке дивана, там и нашли его милиционер, родители и Елена Ивановна. И он, разбуженный, дрожащий, молча шел за ними, ничего не слыша из того, что они все разом говорили ему, потому что он знал все эти слова наперед. Ему хотелось побыстрее в свой дом, в свою постель, чтоб все осталось позади и продолжалась прежняя привычная жизнь.
Утром даже в школу не разбудили, спал долго, потом уже и не спал, а выжидал, когда мама уйдет на работу, но мама не уходила. Значит, он действительно сделал что-то серьезное? Все внутри у него заскулило, свернулось клубком, как виноватая собачонка, пытающаяся втиснуться в щель, уйти от расплаты. Но он не позволил этой собачонке скулить и метаться, надо вставать, покорно все пережить, быстрее с этим покончить, чтоб снова стало легко и хорошо. Его душа не приспособлена для страданий.
Он поднялся, оделся, все делал тихонько, подчеркнуто виновато, покорность и виноватость так и откатывались от него волнами, но маму почему-то эти волны не задевали, она сидела тихо и грустно за столом. А на столе — чисто, никаких признаков завтрака, ничего не булькало, не шипело на плите. Значит, что-то в маме очень перевернулось, раз она не торопится его накормить (знает же, что вчера он весь день голодал и даже, сонный, не поужинал), а ведь в любых обстоятельствах, при любых конфликтах она старалась прежде всего накормить Алюна.
Вот тут-то Алюн затосковал по-настоящему, снова что-то заскреблось, заскулило под сердцем, заныло в животе. Он не хотел видеть маму такой жалкой, растерянной, беззащитной перед ним, пусть бы лучше она была привычно нападающей, возмущенной, поучающей... И все они вдруг пришли в его мысли — отец, Елена Ивановна, Лизка — совсем по-другому, чем прежде. Он действительно перед ними виноват, им всем сейчас плохо, как маме, никого не пожалел, выгораживая себя. Смутно выплыла слышанная ночью фраза: «Господи, я за этот день поседела...» Кто сказал ее — мама, Елена Ивановна? Он издали, из-за холодильника приглядывался к маминой голове: блестящие, гладко зачесанные назад волосы — и седая полоска от лба к затылку, через всю голову, но он не знал, была ли эта полоска раньше или возникла только сегодня. Он действительно ничего не знал и знать не хотел, кроме своих ощущений. И вот такая мама, и все плохо, плохо до невозможности! И тут мама сказала те горькие слова:
— Господи, станешь ли ты человеком!..
И Алюн готов был рвануться к ней, обхватить ее милую скорбную голову, найти какие-то особые слова, верные, обнадеживающие, которые бы не только маму успокоили, но, будучи сказанными, и его от себя не отпустили, заставили быть таким, как сказано, как обещано. Чтоб было совсем по-другому, чем сто раз до этого, когда обещания-слова исчезали бесследно, так и не став делом.
Но как-то застеснялся в себе непривычного порыва, съежился, затоптался, завихлял, пританцовывая от волнения, и мама, раздраженная этим вихлянием, встала, начала привычно ходить мимо него из кухни в комнату и обратно, и привычные слова хлынули на Алюна, и он привычно отключился от них, втянулся поглубже в застенок, стал перебирать события минувшего дня, отыскивая для себя оправдательные лазейки и дожидаясь, когда мама выговорится и вспомнит, что он не завтракал.
И все-таки, кроме голода, томило предчувствие, что мама — это теперь не самое главное, еще придет отец, начнет выкладывать истины, но не выдержит, сорвется на крик. Но и это еще не главное, дома они все быстро выдыхались и спешили поскорее конфликт утрясти. Главное — то, что в школе, что раздуется там из-за его глупой выходки. И не объяснишь теперь, почему такое получилось. Тогда, из-за Лизки, жгло, раздражало, было неизбежно, а теперь выглядело так глупо, бессмысленно. Не хотелось, чтоб в классе думали о нем, будто он — дубина бесчувственная... «Плясун!»... Плясун? Согласен. Это его стихия, ничего не поделаешь, но... Сколько ни думал, за этим «но» ничего убедительного не выстраивалось, как ни подбирал оправдательные слова: «не убил», «не ограбил»... Все это смешно и жалко. И если даже себе не можешь доказать, выбарахтаться из пустых слов, то как докажешь другим, что ты «не...», «не...» и «не...», а всего лишь безобидный плясун?
Увлекшись непривычным самоанализом, Алюн пропустил звонок, встрепенулся, когда мама торопливо прошла к двери. Звонок повторился. Алюн присел за холодильником — наверняка разгневанная делегация из школы, вырвут его из защитного угла, поведут на расправу.
Услышав слово «телеграмма», успокоился, высунулся из закутка и застыл, не понимая, что происходит с мамой. Она плотно прижалась спиной, затылком к стене, изо всех сил стараясь не сломаться, не сползти, смотрела на Алюна, не видя его, и Алюну вспомнилось изломанное лицо Лизки, чем-то сейчас похожее на мамино — лицо потрясенного человека, пытающегося осознать происшедшее и еще не верящего в беду.
Алюну стало страшно: неужели так — из-за него, но почему и откуда телеграмма?
Мама хотела оторваться от стены, шагнуть — и не могла. Алюн бросился к ней, но она отчужденно, неприязненно отвела его рукой, все-таки шагнула и пошла деревянными ногами в комнату, к телефону. Он плелся следом, близко, боясь, что мама упадет. Но она не подпускала его, не хотела видеть в своем горе (случилось горе, это понятно), он был недостоин разделить его. Алюн хорошо понял отстраняющий жест мамы, топтался на пороге, не решаясь спросить, дожидаясь, что мама скажет отцу, она, конечно, звонит ему.
Но мама не стала читать телеграмму, срочную, с голубым кантиком, которая, как опрокинутый кораблик, отражалась в полированном столике. Сказала твердым, застывшим голосом:
— Приезжай немедленно, надо лететь к Аркадию... — и положила трубку, хотя отец, конечно, задавал вопросы, просил объяснить.
Родители улетели в тот же день, и Алюн остался один, не наказанный, не прощенный ни дома, ни в школе. Собираясь, родители будто забыли о нем. Впервые оставляя его, не давали никаких наказов, никаких запретов. Между ними выросла беда. Какая — он не знал. Не понимал, что может случиться с Аркадием в армии, когда нет войны, а есть командиры, порядок и дисциплина. Но он видел, что эта страшная беда для родителей слилась с его виной, чувствовал себя так, будто его вина стала причиной того неведомого, что случилось с Аркадием, и теперь он родителям совсем не нужен, может уезжать, убегать, плясать, делать, что хочет, — им уже все равно. Их душевные силы, отпущенные на него, иссякли, он слишком быстро, бездумно расходовал их. Теперь они берегли силы, чтоб поддержать друг друга и встретить, перенести то, что ждало впереди. Из коротких слов телеграммы, вызывающих срочно в часть, можно было предполагать самое страшное, так как вызывают родителей на такое расстояние, конечно, не по пустяку.
Алюну оставили деньги на еду. О школе, о его делах — ни слова. Мама вообще его не замечала, отец на молящий взгляд «А как же я?» от порога жестко сказал:
— Ты — как хочешь. Тебе жить — тебе решать...
Исключили его из общей беды, как из семьи. Вот и расплата.
Один. Никто не руководит. Не поучает. Не давит. Можно наконец поесть. Весь день ничего во рту не было. Можно что угодно — танцевать, пить вино — деньги ведь есть, ходить или не ходить в школу. Но ничего этого не хотелось, а одному — страшно, будто ты не дома, а в темном лесу. Наверное, дом человека — это когда в нем есть еще кто-то, кроме него самого.
Когда же он узнает, что случилось с Аркадием? Что могло с ним случиться? Да что угодно! Ведь теперь Аркадий не тот испуганный кролик (Аркадий сам себя так называл), каким был в первые месяцы, он механик-водитель танка, второго класса. На учениях Аркадий все выполнил отлично, его хвалило командование (присылал вырезку из армейской газеты с фотографией: он возле танка). А танки такие, что под водой по дну идут. Когда танк под водой, залезать в него надо через высокую трубу. Вдруг труба эта сломается или застрянешь в ней?
Мало ли что может случиться, если человек занят таким сложным делом — водит танк! Это с ним, с Алюном, ничего не случится. Одни ничтожные выходки.
«В жизни всегда есть место подвигу» — привычное выражение, которое скользило из сочинения в сочинение, не задевая души, вдруг наполнилось живым смыслом. Да, да, он читал и про летчика Юрия Козловского, который почти месяц полз по тайге к людям, выбросившись из самолета, перенес сложнейшие операции и выжил, и про студента Мишу, выносящего с поля на руках снаряд, чтоб спасти своих товарищей. Снаряд разорвался... И про многое другое «классная» Елена Ивановна, хочешь не хочешь, заставит прочесть, и Лизка читает такие вещи на классных часах, на политинформацию ребята приносят вырезки из газет про всякие подвиги в мирное время. Он относился к ним с иронией — какие-то абстрактные люди, их далекие подвиги. Подумаешь! И вдруг — на месте каждого из них можно представить Аркадия. Может, он участвовал в какой-нибудь операции по спасению населения от наводнения или тайги от пожара? Искалечен, обгорел?
А он, брат, писал ему пустые, неискренние письма. Вся его жизнь, все переживания казались Алюну сплошным, очень длинным, очень одинаковым пустяком, растянутым на множество одинаковых дней. А в жизни есть какие-то события, важные, значительные, которые сразу отметают все ничтожное, начинают пробиваться тяжелые, важные вопросы, требующие искренности и мысли. Для чего, например, он сейчас один в этой квартире? Для чего он вообще? И почему обязательно должна случиться беда, чтоб человек начал задавать себе такие вопросы?
Из коридора почему-то не мог уйти, слонялся от входной двери к холодильнику и обратно. Зацокал в подъезде почтовым ящиком почтальон. Машинально взял ключ, вынул почту и вздрогнул — письмо от Аркадия! Ему!
Читал торопливо, перескакивая через строчки, будто мог узнать, что случилось с братом, хотя знал, что письмо написано раньше. Хорошее дружеское письмо, с обычным описанием службы, воспоминаниями о семейных событиях (Аркадий все-таки здорово скучал по дому) — это всегда перемешивалось в его письмах, — и совет Алюну был постоянным — заниматься самовоспитанием, и просьба — жалеть и беречь маму... Уберег...
Может быть, только сейчас Алюн смог бы написать брату настоящее письмо, всю, всю о себе правду, и начиналось бы оно словами: «Я еще ничего, ничего о себе не знаю!»
Он действительно ничего не знал о себе, кроме одного: какая-то сила, что-то страшное вышибло из привычных ощущений, взяло за шиворот, встряхнуло — и все в нем смешалось, он уже не Алюн...
Теперь он готов от всего приятного отказаться, стать таким, как хотят они все, лишь бы вернуть прежнюю маму, навсегда исключить день, когда пришла телеграмма. Думая, он все больше верил, что это он виноват в налетевшей на них беде, его лживость, изворотливость. Он теперь переживал то же, что и Брат Молчаливого Волка в единственной по-настоящему взволновавшей его книге, который, конечно, не был виноват, что чьи-то лыжи подрезали слепящую корку склона и хлынула снежная лавина, похоронив девочку Яну... Вроде никто ни в чем не был виноват, и все-таки все они были виноваты, потому что не может не быть виноватых, когда погибает человек.
Так вот как пишутся хорошие книги, вот почему нужно их читать — они никогда насовсем не уходят, возвращаются снова, выждав подходящий момент, чтобы объяснить, показать тебе тебя самого. А может, помочь, утешить: были, есть еще люди, которым больно, горько, и все-таки они все пережили, перебороли, стали другими, потому что оставаться прежними уже невозможно.
Он ничего сейчас о себе не знал, кроме одного: прежним не будет, не сможет.
Ну почему должно случиться что-то трагическое, чтоб человек поглядел на себя, о себе подумал? Где же раньше была его коробочка, его серое вещество? А может, ничего и не случилось? И с Аркадием — ничего, ну мало ли что, заболел — так поправится, родители проведают его и вернутся, и все его, Алюна, грехи за это время забудутся, все снова будет хорошо и приятно? А школа?
Да, еще ведь есть школа, есть все то, что он вытворял на Холме Славы, оно никуда не денется — и Лизкино перекошенное лицо, и то, как ребята убегали от него, стараясь отмежеваться, и презирающий крик «Плясун!», — пока он не выхлебает эту кашу, не расплатится за все...
Алюн томился в квартире, ходил от окна к окну, от двери к двери, вышел во двор. Притихший теплый осенний вечер, свобода, призывно мерцающие огоньки бульвара, знакомые голоса ребят, его дворовых, не школьных, товарищей, с ними можно просто потолкаться по бульвару, посидеть рядом, чтоб не одному. Они, наверное, ничего не знают, так что ничего объяснять не придется, но, постояв в нерешительности у подъезда, Алюн побрел в дом. Везде, везде сейчас ему будет плохо и одиноко.
Утром он не пошел в школу. И не потому, что боялся. Ну, объяснит, ну, скажет, и не так, как прежде — лишь бы отделаться. Скажет, как есть на самом деле: да, это свинство. Да, это кощунство. Ему — стыдно. И — страшно... Может, именно из-за этого кощунства стряслась с братом беда... Мистика? А что он знает о взаимосвязи жизненных явлений?.. Нет, нет, конечно же, его поступок и телеграмма никак не связаны, и все-таки отделаться от мысли, что он тоже виноват, не мог. Наверное, чтоб не испытывать вины, человек изо всех сил должен стараться быть хорошим, чтоб, в случае чего, хотя бы знать, что делал все как надо.
Алюн не привык столько думать, голова его просто раскалывалась, не мог так долго оставаться один. Но и в школу или еще куда-то к людям идти тоже не мог.
Алюн вышел из дома, направился в противоположную от привычного маршрута сторону, дошел до железной дороги, которая как бы отсекала крутой насыпью новый жилой район большого города от всего, что городские жители называют «природой», — от соснового леска, насаженного давным-давно, ровные ряды деревьев уже нарушились, сцепились кустами, разобщились полянками, перепутались тропками.
Родители, как и другие люди, живущие поблизости от этой «природы», ценили возможность в воскресные дни прямо от дома пешком, без надоевшего транспорта, дойти до леска, побродить между деревьями, подышать сосновым воздухом, посидеть у костерка на поляне, приготовить какую-нибудь лесную еду: кулеш с дымком в котелке, шашлык над костром.
У них была своя, заветная полянка. Аркадий не раз в письмах вспоминал ее, даже как-то написал, что пока у него в жизни ничего лучше этой полянки не было — все вместе, вся семья, медленный неторопливый день, разговоры, еда у костра, вкуснее всякой другой на красивых тарелках, за накрытыми скатертью столами.
Вот теперь Алюн мог бы согласиться с братом: да, было хорошо, никакой беды, а тогда он томился, не понимал умиленных этой чахлой природой родителей, стремился умчаться к своим товарищам и очень злился на письма брата, считал, что они написаны в назидание ему: разве можно искренне вздыхать по скукоте с родителями в воскресный день, да и мама читала эти места в письмах Аркадия подчеркнуто назидательным тоном.
А в общем-то, родители ничего плохого ему не делали, только докучали контролем и поучениями. Лучше бы взяли хорошенько за шиворот! Да что теперь перемалывать это! Хотя бы Аркадий был живой!
В этот лесок он приходил не только с родителями. Во время летних каникул, в перерыве между пионерлагерем и поездкой с мамой по турпутевке, когда родители были на работе, он несколько раз сам бывал здесь со своими дворовыми друзьями. И даже был магник с любимыми ритмами, и девочки, и бутылка вина, одна на всех, по глотку прямо из горлышка, затуманенное блаженство, то ли от этого глотка, то ли от любимых танцев с девочками, то ли от всей бесконтрольности и вольности — эх, хорошо, хорошо жить!
С упоением вытаптывали траву, острили и выламывались друг перед другом, мальчики и девочки, и ничего Алюну лучшего в жизни было не надо. Но эту развеселую компанию на свою полянку он не водил. Наверное, удерживали письма Аркадия. Родители об этих веселых моментах в его жизни не знали.
Наученный горьким опытом после посещения Гузьки, он уж постарался, чтобы никакого запаха родители не уловили, да и оставался ли запах от одного-двух глотков?
Алюн, с досадой на себя за эти воспоминания, потоптался на месте, будто сбрасывая их и притаптывая ногами, чтоб не привязывались. Пританцовывая, пошел дальше.
Ему было тяжело, горестно, горбились плечи, голову клонило к земле, а он все равно шел-танцевал, по-другому просто не мог. «Ну, затанцевал!» — одергивали его родители, раздражаясь, когда приходилось идти вместе. И сейчас, пританцовывающий, вихляющийся, он выглядел нелепо и жалко в короткой курточке с короткими рукавами, со своим кукольным личиком, которому природой не дано быть печальным, а оно все-таки печально, растерянно, несмотря на румяные щеки с ямочками...
Все деловое, шумное, чем переполнялся город с утра, осталось позади, за насыпью. Лесок в утренней тишине и задумчивости, в долгожданной отъединенности от людей казался усталым и печальным.
Никогда прежде Алюн не замечал природы, в книжках пропускал все красивые описания. Река для него была вроде большой ванны, в которой привольно купаться, этот лесок — местом удобнее подъезда, дающий возможность уединиться, повеселиться без помех. А сейчас почему-то защемило душу от этих печальных, множество раз обижаемых людьми деревьев, как в авоське, запутавшихся корнями в стежках-дорожках, общипанных, закиданных консервными банками кустов, от паутины, развешанной глупым трудягой-пауком в таком месте, где имеют право распоряжаться лишь люди.
Алюн постоял перед этим хрупким бесполезным сооружением, обошел куст с другой стороны. Шел медленно, ни о чем сложном уже не думая: все боли и сомнения отходили, отодвигались в утреннюю прохладную тишину, на душе становилось как-то печально-хорошо, вроде он сейчас окончательно приобщался к незнакомому прежде миру, становился частицей и этих сосен, их тихой задумчивости, мудрого упорства жить в человеческой суете, и не только терпеть, но еще пытаться что-то дарить, украшать, и всего-всего, что вокруг, позади и впереди.
Лес становился чище, на кустах алыми пуговками мелькали еще не везде обобранные ягоды шиповника. Прошлой осенью и они с мамой и Аркадием выщипывали с веток ягоды, мама вялила их на веранде и потом добавляла в настой «успокоительного чая» витаминный напиток из шиповника. Аркадий, мама... Сколько мама делала для них, для него...
Алюн уперся лбом в холодный шершавый ствол сосны, стоял, покачиваясь, сознательно, с болью вдавливаясь в дерево, испытывал от этого облегчение.
Их семейная полянка была с другой стороны леска, мама все-таки отыскала более уединенное место, где реже оседали шумные компании, меньше было мусора и суеты, а сквозь деревья проступало поле, небо, какие-то сады и дачные низенькие постройки вдали.
К Алюну опять прихлынула та волна нежности и виноватости перед мамой, которую он уже однажды ощутил, но не сумел выразить, не посмел. Как хотелось ему тогда обхватить ее скорбную голову, как хотелось ему это сделать сейчас... Как там мама? Аркадий? Отец?..
Алюн снова приник к дереву, жестко, с болью, и было ему скорбно и прекрасно, как никогда прежде, что-то в нем струилось, растекалось, омывая какие-то новые, чистые и трудные берега, и, достигнув лица, вдруг горячо и облегчающе хлынуло из глаз.
Обессиленный, он сидел потом долго, бездумно, прижавшись спиной к сосне, а перед ним было чистое, будто выметенное поле, за полем, в прозрачных, оголенных деревьях сквозили цветные дачные домишки, покинутые до следующего лета, а еще дальше — небо, незнакомо влекущее, втягивающее в глубину, приобщающее к движению и тайне. Идти бы туда — неведомо куда, только чтоб знать: там все начнется сначала, по-новому, чисто и хорошо.
Прижавшаяся к дереву спина не чувствовала тепла, что-то другое влекло к живому стволу, который дышал затаенно в глубине, поэтому, наверное, у дерева было не так холодно и одиноко, не хотелось отрываться, уходить, искать чего-то другого. Не осознавая, Алюн прятался за этой тишиной, за деревьями от всего, что нужно было делать и решать, когда наконец оторвется, поднимется, пойдет домой — куда же еще, не к горизонту, в самом деле! Нечего тянуть, надо все сделать до возвращения родителей, пройти через все и утвердиться в себе новом, еще не совсем понятном, но неизбежном. Как это произойдет, он не знал, но знал одно: вихляться в своем «застенке» больше не сможет, смотреть на маму невинными глазами и врать, бесконечно врать, выгораживаться тоже не сможет и многое другое, что было раньше, не сможет.
Алюн встал, не отряхнув штанов, побрел по опушке. Вот только еще заглянет на их полянку — и надо возвращаться. Пусть трудно, пусть стыдно, но все равно будет что-то делать... Пойдет в школу, к последнему уроку еще успеет, сейчас около полудня, бледное солнце едва коснулось верхней точки своего малого осеннего полукруга. Пусть останутся после уроков ребята, Лизка, пусть придет Елена Ивановна, завуч, кто хочет — все выложит о себе, все выяснится, он примет от них все, что решат, что сочтут нужным, зато он будет не один.
Он шагал, уже не вглядываясь ни в себя, ни в то, что было за полем, что таилось в деревьях, по привычке приплясывая и вывертывая ноги. Руки свободно и радостно подхватили привычный ритм тела, оберегая от заносов в сторону, как-то сами собой выпрямились плечи, поднялась голова, растерянность и мучительная мысль сошли с лица, оно, румяное, светилось ямочками, было привычным, и все же не таким, как раньше: это было лицо человека, решившегося на что-то трудное и нужное и потому просветленное и даже умиротворенное.
3
— А, Плясун, привет!
Он налетел на этот возглас, как на колючую проволоку, руки застыли в неоконченном движении вперед, он еще не мог понять, что это и откуда, хотя ясно видел приближающихся к нему ребят, и что-то знакомое в их лицах, и их приветливость и недоумение от того, что он смотрит на них, не узнавая.
— Плясун, да ты что?!
Гузька! Гузька и его приятели, с которыми он провел когда-то памятный вечерок, которых искал и не нашел тогда, много раз вспоминая и сожалея, что они так бесследно исчезли. И вот — они перед ним, их куртки, гитара, что-то еще на разостланных газетах валялось посреди полянки, и эта полянка была их, заветная — мамы, Аркадия, отца. Дымился костерок на том же, выжженном их костром месте. Незаметно, уже не стремясь к ней, он все-таки пришел сюда, как бы завершая круг своих новых ощущений.
— А мы тебя искали, — весело балагурил Гузька, — я даже ходил на витрину «Детского мира» глядеть, не устроился ли ты туда манекеном. Ну, идем, идем!
Его подхватили под руки, усадили возле разложенной на газете закуски. Гузька плеснул в единственный стакан вина, протянул ломтик хлеба с кружочком колбасы.
— Давай, подкрепись. Мы — уже...
Алюн машинально глотнул, стал жевать, не ощущая ни запахов, ни вкуса, будто набивал рот ватой. Он еще не утратил своего нового состояния, с которым несколько минут назад шагал по лесу, и сейчас все делал механически, будто вдруг отключили в нем одну пружинку и включили другую, но он еще по инерции живет, как велела прежняя, хотя поступает, как требует другая.
Почему они тут, в такой ранний час, и уже навеселе, и им хорошо, и ничто их не мучает, и почему он не может присоединиться к этой их беззаботности, чтоб ему было просто так, ни от чего, хорошо и весело, как бывало много раз прежде? Тоскливое, ноющее поднялось откуда-то снизу, от живота, заломило в груди, он пятерней обхватил горло, сдавил, чтоб боль не перекатилась выше, в голову, не разломила ее на куски. Он сидел с глупым, растерянным, напряженным лицом, уставившись круглыми глазами перед собой, а они, ребята, уже смеялись над ним, не понимая, не воспринимая его иным, не Алюном.
— Алюн, очнись! — теребил его Гузька за волосы. — Хватит тоску наводить, давай-ка спляшем, у тебя это здорово получается!
— Не могу... Телеграмма… С братом, Аркадием, несчастье... Мама...
— Плевать на все! — прервал его Гузька, даже не вникая в смысл того, что пытался объяснить Алюн. — Плевать, слышишь? Веселись, танцуй!
Они, трое, подхватили его, поставили на ноги. Им действительно сто раз плевать на его беду, на Аркадия, на маму, они не хотели его слушать, они хотели, чтоб он смешил, веселил их, как тогда, вечером.
Гузька схватил гитару, лихо забренькал, зацокал языком, задергал плечом, запритопывал, а двое других закружили Алюна, затолкали с двух сторон.
— Ну, пляши, пляши, давай, Плясун, это твоя стихия, сам говорил. Не ломайся! Брось умничать, ни о чем не думай, все будет хорошо, все будет хорошо! Эх, ого-го-го! — речитативом, под гитару выкрикивал Гузька, выламываясь перед ним. Лихая удаль рвалась из него, захватывала его товарищей, они то бросали Алюна, кружились и прыгали сами, вколачивая в землю свою лихость, задирая к небу орущие рты, мотая головами, руками, то снова цеплялись за него, толкали, гнули, втягивали в круговерть, в которую он сам еще недавно бросался с наслаждением и бездумностью. И уже что-то захватывалось в нем, поддавалось, втягивалось помимо его воли, но он не мог, не смел — перед Аркадием, перед мамой, перед самим собой, решившим жить по-другому.
Алюна замутило. Ему казалось: если они не перестанут, он сейчас разорвется на две половины, на двух Алюнов, которые отталкивались в нем друг от друга, и упадет, а Гузька с товарищами затопчут его своими безумными ногами.
— Хватит! — заорал он изо всех сил, чтоб сбить их шум, их движение. — Хватит!
Остановились мгновенно. Облегченно замерли кусты, деревья, а тяжелое разгоряченное дыхание, казалось, шло не от запыхавшихся парней, а от истоптанной, вздрагивающей земли.
— Ты что психуешь?
Из них троих Алюн реально воспринимал только Гузьку, двое других были приложением к нему. И именно Гузька, минуту назад веселый, бесшабашный, больше всех хохотавший его приятель Гузька надвигался на него недобрым безулыбочным лицом.
— Ты что, смеешься над нами, воспитываешь? Может, в детскую комнату милиции побежишь, донесешь, что мы здесь развлекаемся?
Что это Гузька? Зачем? Ведь просто невозможно сейчас так, разве нельзя понять человека?
— Гузька, я пойду, мне надо... — просительно-жалобно сказал Алюн, пятясь от недоброго лица Гузьки. — Понимаешь, надо, не могу я сейчас веселиться...
Но Гузька ничего не хотел понимать.
— Меньшинство подчиняется большинству, — изрек он категорически. — Нам хочется плясать — и ты пляши. Ну!
Гузька топнул ногой и уже так, без гитары, выбивая такты, поцокивая языком, щелкая пальцами, завертелся вокруг Алюна, но лицо его было недобрым и голос, которым он понукал Алюна (Ну! Ну!), будто кулаками толкал в лицо.
Алюн не двигался. Его вечно танцующие сами по себе ноги приковались к земле — не оторвать. И чтоб не видеть назойливого Гузьку и два других мелькающих чужих лица, он спрятал голову в согнутые руки, будто защитился острыми локтями от этой недоброты и назойливости.
Кто его ударил первым, он не видел. С одной стороны, с другой, в зад ногой так, что он пропахал защитно сложенными локтями землю и уткнулся носом в теплую золу.
Как они скрючивались над ним, задыхались от смеха, хватались за животы!
Поднимаясь, он отчетливо видел себя со стороны — испуганного, с черной блямбой на носу, всю свою человеческую жалкоту — и возмутился, захотел быть могучим, высоким, чтоб не словами, а могучими руками вытряхнуть из них это судорожное веселье, вышвырнуть их с заветной полянки!
Но ничего этого он не мог, даже голосом не мог возмутиться так, чтоб они поняли, сказал — как проскулил:
— За что? Что я вам сделал?
— Ничего, — доброжелательно ответил Гузька, стирая ладонью последние всхлипы смеха с лица. — И мы тебе ничего. Вот потанцуешь немножко — и отпустим, не боись. Так что валяй, не тяни!
Но танцевать он не стал, и его снова били, на этот раз не так добродушно, с каким-то удовольствием всаживали в него свои башмаки и кулаки. Поднимаясь с земли, с трудом и болью, и видя перед собой улыбающиеся разрумянившиеся лица Гузьки и его друзей, в которых проступало подзадоривающее любопытство к нему (ну, а что ты будешь делать дальше?), Алюн понял, что они еще и еще будут валить его, бить, пока не остынут, не насытятся. Измочалят его тут, может, даже убьют. И будь он с ними сейчас заодно, таким, каким он раньше хотел быть всегда — беззаботным и веселящимся, а на его месте кто-то другой, наверное, и он вот так же смог бы бить и унижать этого другого, ни за что, ради развлечения, взвинчивания нервов, за компанию. Подумаешь, пусть попляшет для общества человек, что ему сделается!
Будто кто-то другой вскинул руки Алюна вверх, со сжатыми кулаками, он выпрямился так, что зазвенела спина, и пошел на Гузьку. А тот отступал, хлопал перед его носом ладошками, вызывал, понукал на танец, сам слегка выкидывал ноги, и Алюн, тоже подтанцовывая под эти похлопывания и выкидывания, приблизился к Гузьке вплотную, они молча, с застывшими лицами и уставленными зрачок в зрачок глазами выламывались друг против друга.
Сейчас, через мгновение, танец этот должен был завершиться дракой. Нестерпимое напряжение от Алана передалось Гузьке, напряженно, недвижно стояли двое других, предвкушая зрелище.
Вдруг Гузька изогнулся, изловчился, крутанулся вокруг Алюна и с силой лягнул его. Гузька не принял серьезности момента, напряжение лопнуло, измельчилось, и, подымаясь, снова жалкий и униженный, Алюн услышал Гузькино насмешливо-миролюбивое:
— Ну, танцуй отсюда! Да поживей, пока не передумал!
И хохот, ржание троих вдоволь повеселившихся людей...
Алюн плелся домой, ни о чем определенном не думая — все чувства и ощущения были в нем смяты. Мысли всплескивались и пропадали, упорно держалось только состояние безнадежной раздавленности.
Ну почему, когда ему были нужны люди, когда он нес им себя нового, попались эти морды?
А что он о них знал и хотел ли знать раньше что-то другое, кроме тех маленьких минут беззаботности и веселья, которые пережил возле них и так горячо стремился повторить еще? Вот и получил! За что? Плясун — вот за что. И может, не они его били, а он сам, бездумный, веселящийся Алюн, проплясал по своей душе?
4
Алюн лежал на кровати, слюнявя грязным лицом подушку, обтирая ботинки и куртку о покрывало, не разжимая век, чтоб как-нибудь даже через подушку не пробился к нему дневной свет. Пусть будет только тьма! А ему ничего не надо! Ни от кого, все одинаковые, все готовы подставить ножку, пнуть, бросили его, избили, истолкли... Раздражение, обида против всего света горячим кольцом заклинила затылок, и он передвигал голову туда-сюда по подушке, чтоб сбросить это давившее его кольцо.
Звонок был настолько нереальным сейчас, что сознание никак на него не отозвалось, и уже только стук в открытую дверь вслед за звонком пробудил в нем движение — встать, кто-то пришел, наверное, он не запер дверь.
Перед ним стояла Лизка, и в ее растерянном, удивленном лице с брезгливой гримасой отражался он весь — побитый, грязный, жалкий. И то раздражение, что так непонятно сковывало затылок, стало вдруг реальным, обрело цель, захлестнуло его всего, пробежало по сознанию горячими колкими словами: «А, и ты! И все вы! Бейте, топчите! Люди, называется! Гады, всех ненавижу, всех! Никто не нужен, никто! Вы — сами по себе, я — сам по себе! И не лезьте!»
И он выдохнул в лицо Лизке злобное, остервенелое:
— Мотай отсюда, ну! Чего пришла? Учить? Воспитывать? Небось весь пионерский отряд за дверью топчется, плакатики с лозунгами держит. Никуда я с вами не пойду! Мотай, слышишь? Обойдусь!
Лизка напряженно смотрела на него, и лицо ее менялось, будто кто-то доброй ладошкой стирал с него растерянность, брезгливость и гнев. Распаленная староста класса, полная решимости прочистить ему мозги, все выложить его родителям, вытащить его в школу, выставить перед учителями, ребятами в самом позорном виде, какой он увидел Лизку в первые минуты, превращалась в жалеющую, понимающую, услышавшую в злобных словах, от которых только бы повернуться и уйти, пронзительно-жалкую человеческую беспомощность, маленькую женщину, способную неожиданно прозреть, простить, отвести беду. Они оба, ошарашенные, молчали, не сводя друг с друга глаз.
Лизка шагнула к нему совсем близко.
— Саша, успокойся... — И несмело тронула кончиками пальцев его волосы.
Саша? Да, ведь это он — Саша, Александр. Алюн — влипло в него так, что настоящее имя показалось чужим. Почему Лизка, которая звала его, как и все, полупрезрительным, легковесным — Алюн, сказала так значительно, именно сейчас, будто обращаясь к кому-то другому — Саша...
Он вглядывался в подобревшее, просветленное лицо Лизки, тянулся всем своим изнеможенным существом к ее светлоте и доброте, немного даже пугаясь этой новизны и близости. Это — Лизка? Да, нос ее, острый, Лизкин, выпирал неумолимо въедливо, как всегда, но были еще и глаза, и брови над ними, летящие, длинные, передающие глазам свой летящий свет и широту. Этот теплый свет — для него, и Алюну вдруг нестерпимо захотелось уткнуться в добрую, понимающую Лизку, как в маму, выплакать все свои обиды, но плакать, увеличивать свою жалкоту было невозможно постыдно, и он весь трепетал, преодолевая томление к слезам, щемило в носу, глазах, но все-таки он перемог, не заплакал.
Лизка, уловив этот его трепет и преодоление, облегченно вздохнула, шагнула от него, стала смотреть по сторонам, давая ему возможность справиться с собой.
И он оценил это, окончательно поверил в ее доброту, сказал:
— Посиди тут, — и шмыгнул в ванную.
Вошел в комнату умытый, переодетый, причесанный, сел за стол напротив Лизки, которая спокойно ждала его. Еще час назад Алюну и померещиться не могло, что может произойти такое: Лизка с ее доверчивым милым лицом и он перед нею, готовый рассказать все, что она захочет: и о Гузьке, и о том, что происходило у него с родителями, об Аркадии, но она не спрашивала об этом, хотя наверняка должна была спросить, глядя на выразительный синяк под глазом и, конечно, не забывая того, что произошло на Холме Славы.
Но она спрашивала совсем о другом, уводила вопросами от Гузьки, от всех его примитивных штучек к чему-то более значительному, пробивалась к каким-то его глубинам, о которых он ничего и сам не знал, и он вдруг испугался, что она там ничего не найдет и разочарованно отшатнется, утратив к нему свою светлоту и доверчивость.
— Почему ты все время танцуешь? Тебе нравится или просто хочется чего-то особенного? О чем ты любишь думать? Ты что-нибудь слышишь вокруг себя, видишь?
— Как это? — совсем растерялся Алюн.
— Ну, о людях разных, у нас, везде, думаешь?
Алюн молчал: ни о каких людях он не задумывался, и отвечать ему было нечего. Лизка стала объяснять, и было видно, что это она не специально для Алюна придумала, чтоб поучить его, она действительно об этом думает всерьез и сейчас выкладывает свое, сокровенное, чтоб показать, как доверяет ему.
— Мы так хорошо живем, такие сытые, довольные... Ешь — не хочу, пей — не хочу, развлекайся. А я вот кинохронику смотрела недавно. На земле война идет, убивают, дома разрушают. Дети с распухшими животами от голода. Я их все время вижу, забыть не могу... О таком — ты когда-нибудь думал?
Лизка говорила так, будто это не он, а она читала умные письма Аркадия, его вопросы: что ты об этом думаешь, а как же все вокруг? Может, эти вопросы, в конце концов, должен задать себе каждый человек, становясь взрослым? Так почему это волнует Лизку? Она ведь не взрослая, она — как он, Алюн. Или — нет? Гузька об этом, конечно, не думает. Значит, он — как Гузька, а Лизка — как Аркадий? Будто из разных племен...
— А что я могу? — безнадежно проговорил Алюн, пряча глаза от светлого Лизкиного взгляда. Лизка, облегчив, обнадежив его своим добрым пониманием, теперь наваливала на него что-то непосильное, невыносимо непривычное, и он снова испугался, что все хорошее между ними вдруг исчезнет от его неспособности стать таким, каким хочет и ждет Лизка. Но Лизка сказала раздумчиво, видно, для себя это говорила не раз:
— Может, пока — ничего. Для них, тех голодных детей — ничего. А для себя кое-что все-таки можно. Думать об этом, знать об этом. — И вдруг добавила строго и неожиданно грубо: — Не обжираться, понял? Ничем не обжираться!..
Лизка встала, походила по комнате, остановилась перед увеличенной цветной фотографией Аркадия на стене, в военной форме, с гвардейским значком. Спросила, тут же утверждая:
— Брат? В армии служит?..
Сейчас можно было все рассказать о брате, о том, что случилась беда, улетели родители, о его понятой вине перед всеми ними. Лизка поймет, это не Гузька с его компанией, посочувствует, поможет уладить в школе. Но Алюн ничего не сказал. Это все он должен пережить сам. А Лизка ждет, чтоб он, выворачивая себя до донышка, ответил на ее вопросы. Что отвечать? Такие мысли, которые по-серьезному тревожат Лизку, и в голову ему не приходили. Все его проблемы и желания вертелись только вокруг него самого.
«Что ты, Лизка, наваливаешься на меня? — спросил бы он ее сейчас. — Я же не злостный, я просто такой вот... расслабленный... И думать еще не умею, и ничего, ничего о себе не знаю! Подожди, Лизка, я так сразу не могу!..»
Но выразить этого вслух он не смел. Вдруг Лизка не разберется, уйдет? Она — совсем другая... Пришла, говорит с ним, смотрит своими летящими светлыми глазами, ждет от него чего-то хорошего, чувствует по-особенному, заманчиво и недоступно для него, влечет его к этому заманчивому, заставляет... А он — сможет ли? Он, Алюн-плясун?
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Г. Демыкина. Не размыто временем
СОВРЕМЕННАЯ ДЕВОЧКА. Роман
АЛЮН. Повесть