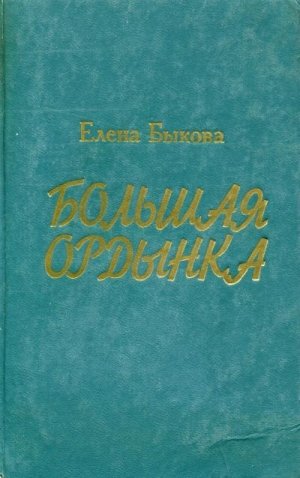
Уроки музыки
…Все у них произошло как-то само собой. Было это год назад. Весь их отряд работал тогда в тайге, и только одна Инна осталась в Чульмане, накопилось много проб, надо было делать анализы. Ей разрешили работать в промысловой лаборатории. Жара нестерпимая — весь день там жгут уголь, определяют зольность, работают в две смены. А Инна без смен, с утра до ночи — не успевает. Как она только выдерживала, все удивлялись. Наконец в воскресенье решила сделать передышку. Пошла к реке и все-таки забрала с собой рабочий журнал, счетную линейку, чтобы на берегу поработать. Уселась, солнце припекает. Решила окунуться, хотя вода в Чульмане ледяная, всю так и обожгло. Она выскочила, оделась. Сидит, разглядывает себя в зеркало, порозовела, даже сама себе понравилась. Вдруг ее окликнули. Кто бы это? Оглядывается — Гена. Слез с мотоцикла, идет к ней. Увидел журнал разложен:
— Вы и здесь ухитряетесь работать, мало вам по суткам торчать в лаборатории? Я этого допустить не могу. Собирайтесь-ка, поехали за грибами!
До этого Инна уже видела его: как-то зашел в лабораторию, ей сказали, что это старший геолог управления, потом в поселке встретила. Особого внимания не обратила, хотя и запомнила, потому что уж очень зорко он оглядел ее.
— Никакой работы. Собирайте манатки. Поехали, — говорит с ней хоть и шутливо, но настойчиво, — Не вздумайте возражать.
Помог собрать вещи. Она села за его спиной, он велел держаться крепче. Мчал в Чульман с лихостью, перелетая через бугры, ямы, делая бешеные повороты, В его повадках было много мальчишеского.
— Входите и хозяйничайте. В холодильнике продукты. Порцию бутербродов надо удвоить. Подумаем о таре. Предупреждаю, грибов будет много, — говорил, почти втолкнув ее в дверь своей квартиры.
Две комнаты завалены книгами, журналами, вещами, часть которых еще не распакована. Коричневое пианино сразу бросилось в глаза. Повсюду разбросаны одежды, обувь. Казалось, здесь вообще никогда не убирали.
Квартира напоминала сам Чульман. Когда Инна приехала в первый раз, поселок поразил ее неприбранностью. Никому не было дела, что прямо на дороге битые бутылки, банки из-под консервов, изношенные кеды, рваные ватники. Никто и не думал наводить порядок, все ненужное бросалось куда попало. Отчего это происходило? Наверное, от ощущения временности пребывания. Его испытывало большинство жителей поселка. Приедут, собираются прожить год, не больше, но оседают, привыкают, перестают замечать все неудобства, годами живут и только рассуждают о своем скором и непременном отъезде.
Инна повозмущалась, повозмущалась и решила наконец устроить субботник в отряде, разгрести свалку, прибрать хотя бы около их корпуса. Ее осмеяли:
— Кому это нужно?! — Но сделали.
Гена не позволил Инне забежать в общежитие, нарядил ее в свою куртку с капюшоном. Они опять помчались на мотоцикле, на этот раз уже из Чульмана. Навстречу попадались мотоциклы, нагруженные корзинами и ведрами, тщательно повязанными сверху. Инна волновалась, что поехали они слишком поздно и все грибы уже собраны. А он только смеялся.
Ехали долго. Неслись так, что дух захватывало, пестрело в глазах, и Инна ничего не видела, кроме земли, ускользающей под ними.
Место действительно оказалось грибным. Низкий лиственничек, кустарниковая береза — маслята и рыжики повсюду. У Инны разбежались глаза. Она была заядлым грибником. Он привез ее и подарил целое богатство. Она собирала, не разгибаясь. А он ходил около, посмеиваясь, радуясь всему — и грибам, и лиственничку, и полянкам, и солнцу, и Инне, и тому, что он такой ладный и хороший.
— Ты во всем такая жадная? — спросил Гена, и она не удивилась, что он назвал ее на «ты». — Ну, подожди… Уже некуда их класть, — он наклонился и поцеловал ее в затылок. — Затылок-то розовый… Стрижка-ерыжка, стрижка-ерыжка… — повторял он, проводя ладонью по ее коротко остриженным волосам. — Ты и сама, как рыжик, и «ухи» тоже, маленькие, тверденькие, — добавил он, теребя пальцами ее ухо. Потом повернул к себе, крепко и коротко исцеловал в губы и отстранил от себя.
— Вот оставлю здесь одну, что будешь делать? — сказал он и направился к мотоциклу.
Инна укладывала грибы в ведра, в рюкзак поплотнее, чтобы не растрясти дорогой, полная чувством ожидания и уже счастливая настоящим.
Вернувшись, они вывалили грибы на пол, их оказался целый ворох. Вода в квартире не была еще подключена, ему пришлось идти на колонку.
«Пусть натаскает целую ванну, вода нужна, а я пока хоть немного наведу порядок», — думала Инна. Постепенно командовать начала она. Он безропотно передвигал вещи, выносил мусор. Хоть уборка длилась недолго, но в квартире сразу стало приличнее. Вместе чистили грибы, которым не было конца. О чем-то разговаривали.
Сели ужинать поздно. Инна заторопилась к себе в общежитие.
— Никуда тебя не пущу, Рыжик, поняла? — Ее возражений он не слушал. — Умывайся, а я постелю, — говорил он, прижимая ее к себе, — никуда тебя не отпущу. Поняла?
Она осталась.
— Я еще не знаю, Рыжик, какая ты, но группа кожи у нас одна, — шептал он в темноте.
— Групп кожи не бывает, — смеялась она.
— Ты еще маленькая. Вырастешь, поймешь.
Утром, ни на минуту не уснув, она побежала на работу. Она всегда-то работала быстро, а сегодня особенно, все так и спорилось в руках. О встрече они не условились, и Инна думала — что будет?
Еще в Москве, на всякий случай, она уложила во вьючный ящик крышки для закрутки банок, а вдруг пригодятся. Сейчас она вспомнила о них, достала, надо же закончить с этими грибами. Развела уксус — лучше всего их замариновать.
Гена зашел за ней в лабораторию, когда сотрудники еще не разошлись, вторая смена только начала работать. Он никого не постеснялся, и Инне это было приятно.
Опять он не отпустил ее в общежитие. Тогда она послала его в магазин за банками. Начала уборку. Нагрела воды, выстирала его рубашки, носки, носовые платки — все это было свалено в ванной. Приготовила маринад. Когда он вернулся, заставила его опять чистить грибы.
— Какая ты у меня хозяйственная… Ну, пожалей же меня. Я смотреть уже на них не могу, — жаловался он, бросал чистить грибы, обнимал, отвлекал ее, и это ему удавалось.
Все было просто, никаких вопросов, никаких объяснений, так естественно, будто и не могло быть иначе. Он ни о чем ее не спрашивал, Инна сама ему рассказала, что с мужем давно нет ничего общего, что брак ее был ошибкой, что муж продолжает пьянствовать в Петропавловске, а она перебралась в Москву, что у нее маленькая дочка, которая сейчас у матери.
— Будешь жить у меня и никаких общежитий, — сказал он ей, и она переселилась.
Оставалась у него и тогда, когда он на пять дней улетал в Якутск. Вот тут-то ей удалось навести настоящий порядок. Он вернулся и не узнал своей квартиры — все блестело.
После Якутска он стал еще ласковее. На левом плече у Инны родимое пятно, розовое, как будто от ожога, она всегда его стеснялась, а он целует, говорит:
— Это твоя отметина, тавро, как у лошадки, теперь всюду тебя найду. Я правда по тебе соскучился. Не веришь?..
Ну, как не поверить!..
Но зачем она теперь вспоминает об этом?
Ледяная вода чавкает в сапоге, Инна надела резиновые, брезентовые натерли ноги, и не заметила, что один сапог порван. Надо разуться и высушить портянку.
Олени пасутся неподалеку от берега совершенно равнодушные, отъедаются. А маленький олененочек — как привязанный к матери. «Сколько же они будут отъедаться?..»
Их отряд подошел к Леглегеру. Красивое название у этой реки, и сама река необыкновенная. Вода кое-где еще подо льдом, бежит как в тоннеле, лед выгнулся, повис мраморными арками, иногда начинает гудеть, и тогда видно, как по нему разбегаются трещины. Вода в Леглегере зелено-прозрачная, несется быстро.
Виталий, новый начальник отряда, рыболов, решил взглянуть, не пошел ли хариус[1].
Вдоль берега цветы тянутся в две полосы, как две ленты — одна голубая, другая розовая. Удивительный край! Инну особенно поражали карстовые озера. Холодные, круглые, как зеркала. Деревья, небо отражаются в них. Приходишь через неделю — будто и не было. Лед, на котором они стояли, подтает, вода уйдет вглубь по расщелинам.
Виталий огорчился, хариуса нет. Может, рано ему еще, а может, вообще пропал.
Солнце печет, спина взмокла, а куртку снять рискованно, потому что моментально обгоришь до волдырей, солнце здесь очень коварно.
В этом маршруте все загорели, совсем стали черные. Виталия не узнать — и похудел, и вид замученный. Конечно, работает он больше всех, не умеет организовать работу как следует. Подбирать людей надо так, чтобы можно было положиться на них. А здесь обучение новичков и компромиссы.
«Когда наконец олени начнут на нас работать?» — думает Инна. Напрасно Виталий пошел на сделку с этим каюром. Она ведь предупреждала. Не нравится он ей, обмухлюет их.
Немного отдохнули, наслушались, как гудит и трескается лед, и пошли дальше. Инна хоть высушила портянку.
Почему-то она совсем не загорает, только краснеет. Недаром Генка прозвал ее Рыжиком.
…Когда в прошлом году их отряд вернулся с Таежки, сначала все удивились, что она не живет в общежитии. Потом поняли. Конечно, может быть, в отряде ее и осуждали, но виду не показывали. Да и кому какое дело, каждый живет, как он хочет, лишь бы работа шла. А работала Инна за пятерых. Недаром без аспирантуры у нее почти готова диссертация по гидрогеохимии Алданского нагорья. Тысячи анализов самых различных микроэлементов в надмерзлотных водах сделаны ее руками. Геннадий ей не мешал, наоборот, даже помогал — притащил из управления счетную машину, и по вечерам они сидели вдвоем и делали расчеты к ее анализам.
— Никому и в голову не придет, чем мы с тобой занимаемся, — шутил он, — но это лучше, чем оставлять тебя до полуночи в лаборатории, так мне спокойнее.
Все у них было очень хорошо. Инна поняла, что впервые ей не хочется уезжать. Обычно после полевых работ уже как-то переключаешься на Москву, а теперь хотелось задержаться. Если бы рядом еще была дочка!
Отряд с оборудованием и пробами уехал.
Инна улетала из Чульмана одна. Трижды Геннадий провожал ее к самолету и все неудачно. На маленький аэродром в Чульмане самолеты не подавали, они были заняты на тушении пожаров, горели леса. Инна волновалась. А Гена радовался, что опять она останется. На четвертый день она улетела.
В Москве какая у Инны жизнь?! Все рассчитано до секунды. Утром завозит дочку в детский сад, сама в институт. В троллейбусе читает, иногда сидя, иногда стоя, как придется. В эту зиму Инна сдавала кандидатский минимум по специальности. В субботу — уборка, стирка, магазины, редко когда — кино. Воскресенье только мелькнет. И снова понедельник, и все начинается сначала. Когда же тут предаваться воспоминаниям?
Но она вспоминала… Иногда приходили и такие мысли: смеет ли она думать о ком-то, когда есть дочь? А почему бы и нет?! И правильно ли это оставаться одной, без мужа. Ведь если Инна будет счастлива, то и девочке будет хорошо. И мечтала, как она снова приедет в Чульман и увидится с ним, а после вдвоем в Москву. Она запрещала себе думать об этом. И все-таки думала. Иногда все это казалось нереальным. Реальными оставались лишь колонки цифр с результатами проведенных анализов, ею построенные кривые, подтверждающие закономерность миграции микроэлементов в надмерзлотных водах Алдана.
Об этом Инна блестяще доложила на конференции младших научных сотрудников.
На Новый год она получила от него поздравительную телеграмму — обычные слова, очень милые, не более, — и тоже ответила телеграммой. Его поздравление к Восьмому марта показалось ей несколько официальным. Вот и все. К маю она послала ему открытку. Но он не ответил. Мало ли где он мог быть в это время, открытка могла не дойти. Вообще-то ни телеграммам, ни письмам Инна особого значения не придавала.
В июне, когда началась подготовка к новой экспедиции на Алдан, Инну охватило волнение. Как встретятся?.. И решила — будь, что будет.
В Чульман Инна прилетела первой из всего отряда и сразу к Геннадию, конечно, не в управление, а домой. Вошла, не постучав, может, от волнения. Вошла и остановилась. Музыка. Женщина, бросила играть, оглянулась, красивая, волосы темные, гладкие, длинные.
Инна растерялась, не знает что сказать.
— Вы к Геннадию Яковлевичу? Он в Якутске, — поднялась. — Проходите, пожалуйста, присаживайтесь, — стул пододвигает.
Так вот почему пианино. Значит, был женат. Почему не сказал? Но Инна ведь ничего и не спрашивала. Хотя нет, она удивилась, зачем пианино, если он не играет? Но что он ответил тогда?.. Она не помнит.
— Что же вы стоите? Проходите.
Инна села. Объяснила, что только что прилетела из Москвы, никого из отряда еще нет, извинилась.
Женщина выслушала внимательно, предложила:
— Может быть, хотите помыться? С дороги очень приятно. Нам только что подключили горячую воду. Чаем вас напою. Меня зовут — Люся.
Значит, был женат.
Инна еще немного посидела для приличия и поднялась, а Люся говорит:
— Буду рада, если вы зайдете, я здесь совсем одна. Если с общежитием какие-нибудь осложнения, прошу не стесняйтесь, прямо к нам…
Как она устала сейчас тащиться по жаре с тяжелым рюкзаком. Конечно, Люсе не под силу шлепать по ледяным болотам, мучиться от комариных укусов… Она из другого мира.
Пора оленям приниматься за работу, каюр не позволяет их вьючить, откормились, хватит.
Придется сделать передышку перед подъемом. Подъем не так уж велик, но развал скал всегда опасен, особенно для новичка тем, что обычно затянут плотным мхом. Ступаешь, как по мягкому, толстому серебристому ковру, а надо проверять, пробовать каждый шаг. На секунду зазеваешься, ступишь неверно — сломал ногу. Особенно опасен спуск. Спускаешься всегда быстрее, многие прыгают как со ступеней, вот тут-то легче всего угодить ногой в расщелину.
Инна на каждом таком развале больше всего боится за новичков. Они ничего не хотят слушать — скачут, лишь бы скорее спуститься.
Благополучно перевалили развал. Опять можно идти спокойно. Тайга пореже, не нужно продираться сквозь заросли, встречаются поляны, все в цветах. И удивительно — птицы не поют. Вообще их не слышно, не долетают до этих мест. Тайга поражает разнообразием цветов, трав, деревьев… Запахи так неожиданны — то терпкие, то пряные, то нежные, и все-таки лес без птичьего гомона, без этой многоголосой переклички какой-то застывший.
Люся тоже жаловалась: «Птиц здесь совсем не слышу. Очень тоскую по птицам».
…Второй раз Инна увидела ее в магазине. Люся подошла, спросила, как она устроилась, зазвала к себе. Глупо было бы отказываться, и Инна пошла. Она сразу заметила, что в квартире все по-прежнему, порядка только меньше. У нее создалось впечатление, будто Люся в своей квартире не успела еще освоиться, хотя живет уже с прошлой осени. Казалось бы, достаточно времени. Она накрывала на стол так, слоено не знала, где что лежит, откуда что достать. Инна несколько раз удерживала себя, чтобы не подсказать. Инна поняла, что Люся совсем не хозяйка.
— Водки выпьем? — спросила она. — У нас еще прошлогодние грибочки остались.
Интересно, Инна их собирала, мариновала, а Люся ее угощает. Подумать только!
Они выпили по рюмке за дружбу. Инна никак не могла понять, что собственно нашла в ней Люся, почему хочет подружиться с ней. Неужели ничего не понимает? Святая, что ли… Трудно ее понять.
— Нескучно вам здесь? — спросила Инна.
— Мне нескучно. Встретить бы человека, с которым было бы интересней, чем одной. Пока не встретила такого.
Инне даже стало как-то обидно за Генку — что же, значит, ей скучно с ним? Увидела бы она его тогда, в березничке, на грибных полянках…
Чтоб там ни было, но все свободное время они стали проводить вместе.
Как завороженная сидела Инна, когда Люся играла. Часами могла слушать с каким-то щемящим чувством грусти, может быть, даже обиды за то, что сама ничего не может. Когда-то она мечтала учиться музыке, но ее матери было не до этого. Что могла тогда простая вальцовщица, одинокая женщина, потерявшая мужа на войне, до музыки ли ей было…
Гаммам Инну мать не научила, зато деньги научила считать. С малых лет Инна знала, цену копейке, и за эту школу благодарна ей. Недаром ее назначают казначеем и в месткоме год от года, и в экспедициях. Знают, что Инна рубля на ветер не бросит ни казенного, ни своего. Правда, дочке она ни в чем не отказывает, еще бы не хватало экономить на детях, зачем тогда их заводить. У ее девочки все есть, и ей-то она обязательно купит пианино и будет учить музыке, и в школу поступит она только в английскую.
Люся недовольна звуком пианино:
— Инструмент никуда не годится, нет чистоты.
— Какой чистоты? — спрашивает Инна.
— Чистоты звука. Это когда каждая струна настроена на свою строго определенную высоту. Пожалела отправить в Чульман свой Бехштейн, а теперь мучаюсь. Понимаешь, вот — ля, — Люся ударяет по клавише, — разве таким должен быть этот звук… Ля — прозрачная, чистая капля, падающая на льдинку. А фа?.. Фа, как замша, мягкое. И ре?.. Глубокий, как чистая валторна…
Люся окончила Ленинградскую консерваторию, работала концертмейстером, а вот приехала сюда.
Значит, какая любовь!.. Теперь учит школьников. При клубе организовали что-то вроде кружка, очень много желающих. Все накупают инструменты. Пианино контейнерами завозят в Чульман. Работы у Люси хоть отбавляй.
Инне нравится следить за ее руками. Они взлетают и падают на клавиши. Большие сильные руки. И сама Люся тогда кажется большой и сильной.
О нем они никогда не говорят. Хотя Инне очень бы хотелось узнать, как такие разные люди смогли полюбить друг друга.
Много она сыграла Инне за это время, и Баха, и Бетховена, и Шопена. Особенно Инна любила слушать Шуберта. В поселке тишина, работа окончена, все разошлись по домам, детей не слышно. Лиственница пахнет. Только по вечерам в поселке чувствуется запах лиственницы, доносится из тайги. Чульман-река шумит, бежит, ударяется о камни… Люся играет Шуберта. И так это все похоже на то, что она играет.
А потом объясняет Инне:
— Ты чувствуешь, какая прозрачность в этих трелях? — Она играет правой рукой в верхнем регистре. А потом берет несколько аккордов. И Инна поражена, как вдруг все застыло вокруг. А потом полилось, полилось. Такая свежесть, такая сила. Жизнь, жизнь. За одно это можно уже полюбить.
Со странным чувством уезжала Инна из Чульмана в тайгу. Расставаясь с Люсей, она как бы расставалась и с ним, рядом с ней и он был ближе. Но Инна понимала, что рано или поздно надо найти решение в так странно сложившихся отношениях с Люсей…
У конечного пункта маршрута отобрали пробы, сели перекусить. Виталий любит брать с собой сало, считает его самым калорийным продуктом, ну а Инна предпочитает сгущенку, и другие тоже ее любят, намажут на хлеб — вкусно и сытно.
Сегодня Виталий был в хорошем настроении, проб отобрали много, все успели. Навьючились как ишаки и двинулись в обратный путь, надо было спешить.
Инна решила воспользоваться настроением начальника. Стала убеждать его, что пора припугнуть каюра, нельзя же без конца навьючиваться самим. Люди устали. Конечно, Виталий попал в кабалу. А почему? Потому, что оформил с ним договор по безналичному расчету. Оленей в договоре значилось больше, не одиннадцать. Каюр договор подписал, а получил только за своих одиннадцать оленей, остальные деньги идут на нужды отряда. Нужд много, всюду надо платить, перечислений никто не любит — давай наличными. Вот Виталий и влип, потому что скомпромиссничал. Деньги с него каюр взял, а олени его не работают. Зато люди надрываются, таскают все на себе.
— Каждый вправе поступать, как он хочет. Но работа не должна страдать, — доказывала Инна.
На другой день состоялся разговор с каюром. Он пообещался в следующий маршрут вьючить оленей. Но назавтра же сообщил, что олени сбежали, наверно, пугнул медведь, теперь придется ему рыскать по тайге, искать. На этом все и кончилось.
По утрам опять каюр раньше всех появлялся к завтраку со своей собачонкой, уходил, а к ужину возвращался.
Инна понимала, Виталий дурак, каюр обманывает их. Присутствие лжи постоянно раздражало, тяготило ее.
Виталий с отрядом вынужден был задержаться в тайге еще недели на две. Но основные пробы были отобраны, необходимо было их срочно везти на стационар для анализа, и за Инной пришла машина из Чульмана.
Тут она сорвалась:
— Обман всегда останется обманом. И работа потому у нас не ладилась, — выговаривала она Виталию. — Нечестность, даже самая малая, доведет тебя… Надо отвечать за каждый свой шаг. На тебя люди смотрят и поступают так же.
Она выговаривала Виталию, как бы выговаривая себе за обман, за свою нерешительность… «Каюр обманывает нас, я свою совесть. Как же будет расти моя дочь?..»
Уже совсем стемнело, когда они двинулись в путь. Луна взошла огромная, совершенно круглая, поднялась и осветила все кругом. Подъехали к заброшенному поселку, и тут спустил баллон. Пока шофер менял колесо, Инна тоже вышла из машины. Жуткое это зрелище, разобранный поселок, да еще ночью. Одни трубы торчат да уборные — тени черные, четкие. Такие поселки возникают мгновенно. Потом, заканчивается разведка, подсчитают запасы, разъедутся, и все. Остается свалка.
— Не боишься? — окликнул Инну шофер.
— А чего тут бояться?
— Говорят, здесь покойник ходит, тот, что из-за любви застрелился.
— Ерунда какая-то. Кто это теперь стреляется из-за любви?
— И очень даже просто.
— Что это? Смотри, смотри! Видишь? Что это? — испуганно спросила Инна.
Через пустырь, черная и огромная в свете луны, двигалась человеческая тень.
— А ты мне не верила…
«Не верила и была права», — подумала Инна, когда увидела и поняла, что рядом с человеческой тенью двигались тени оленей. Их было одиннадцать и двенадцатый малыш.
Так оно и есть, этот каюр нагло обманывал отряд, оберегая своих оленей от работы.
«Обман остается обманом…» Пришло решение.
В Чульман приехали на рассвете, сгрузили у лаборатории ящики с пробами. В общежитии умылась, переоделась и сразу к Люсе.
Постучалась, никто не ответил. Тишина. Вышла соседка:
— Вещи собрала и уехала. Обратно. В Ленинград.
Если раньше Инна допоздна задерживалась в лаборатории, то теперь и совсем уходить не хотелось. Работала, работала, и это спасало ее, в общежитие возвращалась только спать. Одна и та же мысль мучила Инну — не успела. Не успела сказать правду.
Но как это ни странно, московская ее мечта соединить свою жизнь с Геннадием вдруг снова начала прорастать. Не зная причины Люсиного отъезда, Инне все больше и больше казалось, что Люся, со своей высотой, музыкой, непохожестью на других, поняла то (то, о чем Инна гасила в себе даже мысли), что Инна больше ему подходит.
Геннадий вернулся из Якутска, зашел к Инне не сразу, — на третий день. И чего только она не передумала за это время. Зашел в лабораторию поздно вечером, она уже собиралась уходить, как будто нарочно подгадал.
— Здравствуй, Рыжик! Ты что это меня избегаешь?
— Это ты избегаешь меня. Три дня уже здесь.
— Ты вот что мне скажи, почему уехала Люся? Ты с ней ни о чем не говорила?
— Говорила о многом. Только не о нас с тобой.
— Уехала, даже записки не оставила.
— Полетишь догонять?
— Ты даже не представляешь, что она значит для меня. Я горжусь, что она моя жена.
И как наяву Инна услышала Шуберта. «Ты чувствуешь, какая прозрачность…»
— Не гордись, она к тебе не вернется.
Назавтра отряд возвращался из тайги. Забыв все распри, неполадки, обман каюра, Инна всей душой рванулась к своим.
Уезжала в Москву вместе с отрядом.
Прощай Чульман!
Триптих
1. Татьяна Павловна
Ложилась спать, уже легла под одеяло, вдруг что-то ужалило меня в левую лопатку. Поймала, сжала, бросила. Утром встаю — лежит пчела. Надо убрать. Беру — ужалила. Мертвая пчела?! Но это не имеет никакого отношения к делу.
…Я не очень люблю детей. Конечно, я никогда бы не могла обидеть ребенка, даже с ними ласкова. Но ребенок для меня всегда загадка. Ведь все они в детстве пухленькие, беспомощные, улыбаются. А что из них выйдет, не знаешь и не можешь знать. Конечно же, вырастают и герои, и гении, но ведь из кого-то вырастают предатели, негодяи…
Девочка, о которой пойдет речь, не вызывала у меня никогда особой симпатии. Зато родители ее были мне приятны. Отец — археолог, мой коллега, немного странный, возможно фронт так повлиял, была контузия, замкнутый, всегда занят своими черепками, но милый человек. Мать, прелестная женщина, пришлась мне очень по душе, была она поглощена своей работой, общественными делами. Понятия ее о жизни, о семейных обязанностях, были весьма своеобразны, хотя по-своему она и была очень предана мужу, считала его чуть ли не гением. Конечно, я бы сказать этого о нем никак не могла.
Леночка родилась за несколько лет до тогда, как я познакомилась с ее родителями. Почти ежегодно приезжая по работе в этот азиатский город, ставший для меня особенно привлекательным и из-за этой семьи, я почти не замечала ребенка.
Годы шли. Девочка росла. В первый раз я обратила на нее внимание, когда ей было, пожалуй, лет четырнадцать. Показалась она мне сутулой, но мордашка обещала быть хорошенькой. Рисовать начала девочка. Однажды мать показывает ее рисунки. Вижу — несомненно есть способности.
— Что делать? Оставлять здесь? Нет педагогов. Посылать куда-нибудь?.. Боюсь, ребенок сложный.
Говорю:
— Что значит сложный?! Есть способности, желание, значит, надо учить. Пусть окончит школу и приезжает в Москву. Помогу ей с институтом. Может, и выйдет что-нибудь из нее.
Прошло еще несколько лет.
Приезжаю опять. Расцвела девочка. Правда, матери в красоте уступает. Кончает десятилетку. Мать говорит:
— Трудная, трудная девочка. Вымотала нам все нервы, перекрутила все на свете, плохо занимается. Вы представляете, какой она здесь номер выкинула? Встречаю на днях учительницу русского языка. Она ко мне: «Здравствуйте! Как я рада вас видеть! Значит, все обошлось?» Я смотрю на нее, ничего не понимаю, спрашиваю: «Что должно было обойтись?» Она мне: «У вас же был инфаркт! Я так переживала за Леночку…» Спрашиваю: «Какой инфаркт?»
Оказывается, прибегает Леночка на экзамен трясущаяся, бледная и сообщает, что ночью маму увезли в больницу с инфарктом. Откладывать экзамен не захотела, отвечала плохо, все путала, но учительница пожалела ее и все-таки поставила ей тройку.
— Уж такая девочка, — вздыхала мать. — Завела себе тут развлечение. Появился у нас в джазе новый барабанщик длинноволосый, как поп, нечесаный, так вот он пользуется у нее успехом. Встречаю их, идет с ним по главной улице да еще с такой гордостью, вызовом. Говорю: «Лена, ты же срамишь меня». А она: «Не понимаю. Отличный мальчик. Почему я не могу с ним пройтись? Он мне нравится. А что о нем говорят, мне плевать». Не знаю, что с ней делать.
Слушаю, раздумываю.
— Хотите, я с ней поговорю.
И вот однажды приходит Леночка ко мне в гостиницу, держится скромно, мило. Посмотрела на нее — прелестная девочка. Что-то такое загадочное в ней, русалочье — глаза, волосы.
— Садись, — говорю, — Что ты стоишь?
Села.
— Хотите, я нарисую ваш портрет?
— Нет. Сейчас, Леночка, мы не о портрете будем говорить. Вот ты кончаешь десятилетку… Скажи мне, ты действительно хочешь заниматься живописью?
— Как вы думаете?! Конечно! Это моя мечта. Я готова все для этого сделать, и сделаю. Я не собираюсь прожить жизнь, как мои родители. Мне нужно совершенно другое. То, что мне нужно в жизни, я знаю. И отлично знаю, что этого можно добиться только трудом. Я мечтаю трудиться с утра до ночи. Но не здесь же?! Вы же сами понимаете, чему я могу здесь научиться?
Мы долго беседовали с ней. Признаться, она покорила меня своей непосредственностью и самоуверенной наивностью. Подумала, вот я одинока. Возьму к себе девочку. Почему бы мне не помочь этой семье?
Одна знакомая мне говорит:
— Что вы на себя берете, зачем вам это нужно? Такая ответственность.
И сама думаю, зачем? Но рассуждаю так: скоро уходить из института, впереди пенсия, останусь одна. А тут милая девочка, и не будет одиночества. Я много работала с молодежью, всегда была ею окружена, привыкла быть в центре внимания, воспитывала их, отдавала себя и взамен получала от них очень много. И вот это окружение молодежи скоро уйдет. Надо подготовить себе возможность иметь рядом кого-то, о ком можно заботиться. Молодое существо, в судьбе которого принимаешь участие. Это же прекрасно! От молодости всегда получаешь радость. А желание отдать — великое желание. И так важно, чтобы ты мог чем-то поделиться, что-то передать. А тут искусство, которое я так люблю. Станет художницей, Итак, решила. Помогу.
Дела, занятия, разъезды. Словом, не заметила, как опять лето.
Звонок в дверь. Без всяких уведомлений — является. Юбчонка короче некуда, ноги загорелые, длинные. Волосы, как лен, распущены до пояса. Хороша! Вносит корзинку помидоров и сумочку. Вещей больше никаких. Рулон с рисунками бросается на пол.
— Вот и мы! Помидоры от мамы.
Веселая, держится совершенно независимо, расхаживает по комнатам, все разглядывает. Я была даже несколько удивлена такой ее свободой и в то же время подумала, в этом есть что-то детское, милое.
Разворачивает свои рисунки, смотрю один, другой — интересно.
— Не хочу терять время. Завтра же подаю заявление. Решила в текстильный, это будет проще. Там есть художественный факультет.
Подходит к телефону. Кому-то позвонила. Сидит, разговаривает, смеется. Меня как будто в доме не существует. Ну, думаю, наверное так и надо. Молодое поколение!..
— Вы не будете сердиться, если я уйду сегодня вечером к знакомым? Тетя у меня здесь, дальние мамины родственники.
Ни о каких родственниках я никогда не слышала, но говорю:
— Конечно. Приходи только не поздно, потому что я рано встаю и рано ложусь.
— Хорошо, хорошо, — целует меня. Ушла.
Жду, жду. Двенадцатый час. Покой мой нарушен. Начинаю волноваться — первый раз в Москве… Около двух является.
— Леночка, что случилось? Не позвонила, я волнуюсь.
— Простите, простите, это никогда больше не повторится. Хотела позвонить, но просто не было телефона.
— Договоримся с самого начала. Ты никогда не будешь возвращаться позднее двенадцати. С твоим приездом я беру на себя ответственность. Если задерживаешься, обязана позвонить. Где же ты была?
— Сначала у одной девочки, потом у ее тети. Там задержались. Потом гуляли по Москве. Ах, как здесь прекрасно! Какие москвичи счастливые. Как я рада, как вам благодарна, что вы меня взяли. Завтра иду в институт подавать заявление.
Утром перед уходом даю ей ключи. Возвращаюсь с работы, она уже дома.
— Была в текстильном. Приняли заявление, документы. Буду сдавать экзамены. Достала все учебники. Теперь надо готовиться.
Дни идут, я занята своими делами. Она все время куда-то убегает, но что-то делает, читает, записывает. Наконец, собирается на экзамен, оделась, причесалась. Посоветовала ей:
— Подбери волосы скромнее.
— Хорошо, хорошо. — Убежала.
Вечерам приходит, радостная.
— Все прекрасно. Рисовала портрет старика. Меньше четверки не поставят.
Через три дня опять экзамен. Возвращается понурая, молчит. Думаю, что-то не то. Ужинать не захотела. Уставилась в одну точку. Вздыхает:
— Теперь все пропало. Конечно, двойка. Вначале писала ничего, акварельный женский портрет. Хотела сделать лучше, потекло. Лицо было не выразительное. Не знаю, что теперь делать?
— Конечно, неприятно, что ты сама недовольна портретом, но подожди. Может, еще все и будет хорошо.
— Нет, нет, я знаю, все плохо. К экзаменам не допустят. Надо забирать документы.
Через несколько дней сообщает, что до экзаменов, так она и знала, не допустили. Забрала документы.
Ходит печальная, потерянная. Думаю, может, в какой-нибудь мастерской ей позаниматься, не терять времени, поучиться рисовать. Вспоминаю своего друга, известного художника Флоренского. Пожалуй, он сможет ей помочь.
А пока надо бы ее развлечь! Решила, повезу в лес, под Балашихой знаю прекрасные места.
Приехали. Идем. Сосны, березки. Она как завороженная смотрит вокруг. То кинется туда, то сюда, погладит березку, поцелует. Ягоды собирает, радуется, в горсти несет мне. Бежит за бабочкой, рвет цветы, разглядывает, показывает. И кто там говорит — трудная девочка? Ребенок, совсем еще ребенок!
— Вы подарили мне такую сказку. Я не могла подумать, что это так прекрасно. Чудо, чудо русский лес. Я ведь никогда его не видела. У нас пески, пустыня. Нет, нет, я родилась именно для этого леса. Мне ничего больше не надо. Как мне хорошо с вами.
Я была тронута. Ее ощущение леса было созвучно моему. А что больше всего объединяет людей? Конечно же, общность вкусов, восприятий, ощущений. И вот здесь такое единство чувств и родило во мне нежность к этой девочке.
Оттуда шли, взяла меня за руку, несет букет, такая счастливая, такая внимательная ко мне. Думаю, действительно судьба посылает утешение. Завтра же звоню Флоренскому, нельзя, чтобы время проходило у нее зря.
С Флоренским у меня всегда были прекрасные отношения. Когда-то давно даже роман. Звоню. Рассказала в чем дело, попросила приехать, посмотреть рисунки, помочь девочке. Конечно, он не удержался, спросил: «Хорошенькая? Сколько лет?» Годы проходят, а он все тот же.
На другой день без опоздания является. Я вожусь в кухне. Леночка идет ему открывать. Входят в комнату, уже познакомились. Она смеется, по-моему, слишком громко, а он увидел меня:
— Танечка, как вы чудесно выглядите! Совсем не меняетесь. — Чрезвычайно оживлен.
Леночка достает свои рисунки. Ухожу накрывать на стол. Возвращаюсь.
— Ну что ж, — говорит, — посмотрел. Пока все это еще несамостоятельно. Будет серьезно работать, может быть, что-то и получится. Мир она видит, и по-своему. Учиться, учиться, учиться.
Надо признаться, за долгие годы своего знакомства с Андреем никогда еще не видела его таким приподнятым. Весь вечер проговорили о живописи, театре. Он даже стихи свои читал, я и не знала никогда, что он пишет стихи, а здесь читал. Пообещал обязательно позаботиться о Леночкиной судьбе. На том и расстались.
Художники, как правило, народ необязательный, думаю, позвонит ли и когда? Но нет, назавтра звонок. Несколько слов мне, поблагодарил за вечер.
— Леночка дома? Давайте мне ее сюда.
Зову к телефону. Поговорили недолго, она все ворковала, я, честно говоря, не прислушивалась к их разговору. Заходит ко мне в комнату смущенная:
— Андрей Аполлинарьевич приглашает меня провести сегодня вечер с его друзьями. Вы не будете ревновать, если я пойду?
— Я, ревновать? Ты с ума сошла! Конечно, иди. — Предлагаю ей надеть мой французский свитер, на днях купила ей брюки, он очень к ним подходит.
Она просияла, бросилась меня обнимать.
Возвращается очень поздно и навеселе.
— Леночка, опять так поздно!
— Но вы же сами меня послали.
Действительно. Что возразить?..
— Мы были в ресторане, его друзья, иностранцы… Я имела такой успех в вашем свитере.
Думаю, хорошее начало для занятий живописью. Назавтра опять ресторан, через день опять… Наконец не выдержала:
— Лена! Мне все это не нравится.
— Пожалуйста, не ревнуйте. Андик вас так любит, только о вас и говорит…
— Кто такой Андик?
— Ну… Андрей Аполлинарьевич. Не понимаете?
— Почему он вдруг стал Андиком?
— Мы так договорились, он зовет меня — Ленч, я его — Андик.
У меня голова кругом, а тут срочно уезжать в командировку.
Возвращаюсь на два дня раньше, чем предполагала. Она встречает меня в моем халате, в комнатах все разбросано, спала в моей постели. На полу — магнитофон.
— Это еще что такое? Откуда у тебя магнитофон?
— Так. Я достала, очень было скучно без вас, хотелось послушать музыку, — смущенно снимает халат.
Квартира в запустении. Всюду пыль, цветы в вазах засохли. Выглядит Леночка ужасно, исхудала, бледная.
— Почему ты так плохо выглядишь?
— Немножко нездоровилось последние дни.
Думаю, бранить ее за беспорядок и грязь не буду, ведь собственно не ее обязанность убирать мою квартиру. Спрашиваю:
— Что Андрей?
Отвечает, что давно не видела его. Вечером лифтерша мне говорит:
— Без вас народ у вашей барышни. Компании, компании, до утра гуляние.
— Леночка, — спрашиваю ее. — Что же ты все-таки собираешься делать? Неужели только развлекаться?
— Почему развлекаться, я поступила на подготовительные курсы полиграфического института. С первого числа начнутся занятия. Что же мне жить у вас, как в тюрьме? Что плохого, если ко мне придут. Значит, и Леша прийти не может?
Леша, это мой племянник, молодой человек, я его с Леночкой сама и познакомила. Спрашиваю его о ней. А он мне говорит:
— Что вы волнуетесь? Нормальная девчонка, как и все, не хуже и не лучше других. Замуж собралась.
— Как замуж?! За кого?
— Да я не знаю.
И стало мне обидно, что я, принявшая участие в ее судьбе, узнаю об этом от других.
— Леночка, почему ты так неоткровенна со мной? Говорят, ты собираешься замуж?
— Собираюсь. Ну и что?
— Обидно, что я узнаю об этом последняя.
— Ничего обидного нет. Вот когда бы все вышло, я бы рассказала.
— Ты говорила, что для тебя самое главное в жизни учиться. Зачем торопиться замуж?
— Хочу быть независимой. Нужен же мне угол в Москве, не вечно торчать у вас?
— Ты и так, по-моему, независима более чем следует. Так вот, пригласи, пожалуйста, своего жениха, познакомь со мной. Пусть он знает, что у тебя есть дом и я.
— Хорошо, хорошо.
Время идет, она его не приглашает. Больше стала дома сидеть. Не вижу, чтобы занималась, все прислушивается к телефону, видно, ждет звонка. Наконец дождалась. Слышу кричит:
— Ты так просто от меня не отделаешься! Возьму да и выброшусь с седьмого этажа. Тогда будешь знать! — И кинула трубку.
Я не выдержала:
— Леночка, прости, но я слышала по телефону твои угрозы, что там у вас происходит?
— Ха, ха, ха… Вы испугались? Да ничего подобного я и не думаю, просто так. Решила припугнуть. Хотя мне на него уже наплевать. Мне он совершенно не нравится. Вы были абсолютно правы. Зачем мне замуж? Что мне у вас плохо? Очень даже хорошо!
Ну, думаю, миновало, слава богу. Надо ее как-нибудь отвлечь, а там скоро занятия на курсах. Решила, вывезу девочку в «свет». Есть у меня друзья в академических кругах, стала брать ее с собой в гости. Общее мнение — самоуверенна, провинциальна, но занятна. А Леночка поездила, поездила со мной и говорит:
— Хватит. Надоели мне ваши друзья, скучно у них. С вами мне гораздо интереснее.
Кому же не приятно услышать такое мнение о себе, хотя я и очень ценю общество этих людей.
Теперь по вечерам Леночка посещает курсы. Составила себе расписание занятий, повесила на стенку. Нанесла книг, сидит, читает, конспектирует. Наконец начала заниматься.
Однажды возвращается продрогшая, замерзшая, рассказывает, как всех погнали на этюды, работали где-то под Москвой, писали, писали, а теперь все простудятся. Но ее этюд будто бы очень хвалили.
— Принесла бы показать, мне очень интересно.
— Нет, у нас их забирают, нам не дают.
В другой раз говорит мне:
— Вот мама денег не шлет, а мне надо платить за курсы, не знаю, как быть. Это безобразие! Я же просила ее прислать.
— Не волнуйся, может быть, у них сейчас нет. Я за тебя уплачу.
— Вот еще! Мало вам со мной забот, еще платить за мои курсы вы должны. Удивляюсь, о чем думает мама?
— Пожалуйста, не удивляйся. Сколько надо уплатить?
— Двадцать пять рублей.
— За месяц? Почему так дорого?
— Что же вы думали в год?
— Но почему так дорого? Государственные курсы при институте? Что-то очень странно.
— Ну я там не знаю, может быть какие-то махинации, вы же знаете, что они есть. Во всяком случае, нам сказали так.
— Ну, хорошо. — Даю деньги.
Продолжает без спросу надевать мои вещи, я этого не терплю, но замечания, никакие просьбы не действуют. Если не поймана с поличным, каждый раз отказывается, говорит, что не надевала, что я все придумываю.
Утомляли бесконечные телефонные звонки. Иногда не хватало сил и нервов отвечать, что ее нет, объяснять, что будет тогда-то. Мне звонит довольно много народу, но тут — не успеваешь поворачиваться. Приходилось иногда выключать телефон. Но как она была недовольна!
Раздражала меня ее необязательность, попросишь что-то сделать, никогда не откажет. Но ничего и не сделает. Забывает. Потом извиняется, мило улыбнется, и так без конца.
Мать присылает ей пятьдесят рублей:
— Вот, вы платили за курсы, возьмите.
Говорю:
— Оставь себе, у тебя нет туфель, купи.
— Нет, нет, мне неудобно.
— Очень удобно, бери.
— Спасибо, спасибо.
Туфель не покупает. Спрашиваю:
— Леночка, почему ты до сих пор не купила себе туфли?
— Я истратила деньги.
— На что же?
— Было рождение у одной девочки, надо было купить подарок.
— Подарок? За пятьдесят рублей? Мама тебе присылает из последних денег…
— Но это же вы дали деньги. А потом, совсем не на подарок. Просто мы зашли в кафе.
— С кем зашли в кафе?
— Целой компанией с наших курсов.
— И ты должна была за всех платить? Почему?
— Ни у кого не было денег, не могла же я не заплатить, когда у меня полная сумка.
Беру свое замшевое пальто, обнаруживаю, что пуговица вырвана с мясом.
— Лена, ты опять надевала пальто, я же просила тебя этого не делать.
— Что вы все выдумываете?
— Ну, как же?! Видишь, пуговица вырвана. Могла бы хоть пришить, дай мне ее сюда.
— Я ее потеряла.
— Знаешь, что? Все это мне не нравится.
— Я не знала, что вы такая мелочная, не волнуйтесь, я видела в комиссионном точно такое пальто.
— И что же из этого, что ты видела? Собираешься мне его купить?
— Не иронизируйте. Просто я возьму его примерить, отрежу бритвой пуговицу и вам пришью.
— Ты с ума сошла! Я запрещаю тебе это делать.
— Но за одну эту несчастную пуговицу вы сто лет будете меня попрекать.
— Не буду.
Все эти ее проделки становились нестерпимы. Тут еще случай. Обычная моя привычка, придя домой, почистить обувь, вытереть подошвы влажной тряпочкой, и только после этого спрятать. Вдруг замечаю, сапоги мои стоят в шкафу грязные. Думаю, неужели я забыла их почистить? Не может быть. Один раз, другой, странно… Спрашиваю Леночку:
— Леночка, ты надевала мои сапоги?
Насмешливо на меня глядит:
— Вы что же думаете, я буду носить ваш сороковой номер, когда у меня тридцать седьмой?
Логика несомненная, все же не представляю, как я могла поставить в шкаф нечищеные сапоги, да и замызгать их так не могла бы. Через несколько дней собираюсь надеть сапоги, вставляю ногу — не влезает, что-то мешает. Опускаю руку и вынимаю комок ваты, запихнутый в носок, чтобы можно было носить. Все ясно. Вызываю Леночку, показываю и говорю:
— Как же тебе не стыдно? И ты еще смела издеваться надо мной, что у меня сороковой размер, что я все путаю, все забываю… Знаешь что, придется написать родителям.
Стоит, руки по швам, побледнела:
— Умоляю вас, не пишите. Я больше не буду надевать ваши вещи. И вообще ничего не буду. Даю вам слово. Пожалуйста, не пишите.
Конечно, я не написала. Возвращаюсь вечером, она дома, очень тихая. Подходит ко мне:
— Вы знаете, нам дали задание на курсах, написать осенний городской этюд. Я совершенно не представляю, что мне писать. Только вы можете посоветовать. Ну, пожалуйста, придумайте что-нибудь.
Понимает, негодяйка, чем меня купить.
— Что бы вы посоветовали?
Начинаю придумывать…
— Пусть это будет вечер, высокие дома, свет из окон, листья летят. Рядом стройка, башенный кран. Молодая пара.
— Очень, очень хорошо. Все вижу. Так и напишу. Спасибо, спасибо.
Потом рассказывает:
— Все сделала как вы сказали, так здорово получилось. Педагог меня похвалил и поставил пятерку. И все вы!
Похвалу она выдавала мне щедро, и многим говорила, какая я хорошая, как она мне благодарна, какой я для нее авторитет, как она меня боится и ценит. Но могла смело сказать и другие вещи: «Конечно, у нас в доме все не так, как у Танечки. Мой родители живут очень скромно. Я ничего такого у себя дома не видела. У Танечки все по-другому, мне здесь очень сложно». Она понимала, что это будет приятно слышать людям, которых, может быть, немного и раздражал стиль моей жизни, и то, что я лучше обеспечена, больше могу себе позволить. Она умела улавливать нюансы людских настроений. У одной моей приятельницы не сложилась личная жизнь, Леночка узнала от меня об этом. И рассказывает ей, как страдает от того, что ее бросил человек, которого она любила. Выдумывает историю, потом все это забывает, путает.
Зачем ей надо все придумывать? То вдруг расскажет кому-нибудь, что сирота и воспитали ее чужие люди. Конечно, все смеются, говорят:
— Ну и фантазерка. Что за странная девочка, все время живет в каком-то нереальном мире.
Она часто пыталась подстраиваться к состоянию человека и в этом была совершенная артистка. Одной моей знакомой, у которой больная печень, рассказала, что у нее самой цирроз и она обречена.
Я спрашиваю ее:
— Леночка, зачем ты на себя наговариваешь? Для чего ты придумала, что смертельно больна?
Уставилась на меня, глаза синие, огромные, ресницами хлоп-хлоп, ни слова.
— Ну почему, почему ты все выдумываешь? Зачем это тебе надо?
— Это не мне надо, это ей надо. Ей же приятно.
— Что приятно?
— Человеку приятно узнать, что не только он один болен, но и другому тоже плохо. Если я посочувствую, этого мало. Важно, что я тоже в таком же тяжелом положении.
— Ах, — говорю, — какой странный ты человек.
— Совсем не странный.
Иногда казалось, что она искрение привязана ко мне, но всегда удивляло, что нет у нее привязанности к своему родному дому, что совсем не скучает она о матери. Звонит только, когда нужны деньги. Предъявляет требования:
— Не могу же я все время одолжаться у Танечки!
Меня она называет только так. Я много раз ей говорила:
— Не люблю фамильярности. Зови меня, пожалуйста, как все — Татьяна Павловна. Какая я тебе Танечка?
— Не могу я называть вас по-другому. Вы ведь такая молодая.
Это я-то, молодая.
Весной заканчивает она свои курсы. А у меня опять длительная командировка. Боюсь ее оставлять. Думаю, как она будет себя вести, такие ответственные для нее дни. Должна будет готовиться, сдавать экзамены, надо было бы за ней последить. Совесть меня мучает, что нет для нее времени. Работа. Прошу ее:
— Леночка, не осрами меня. Все твое пребывание здесь станет полной бессмыслицей. Мне так важно, чтобы ты поступила в институт. Может, на это время маму вызвать?
— Нет, нет, ни в коем случае, я маму знаю. Если хотите, чтобы я провалилась, то вызывайте. Поверьте мне, я вас не подведу.
Ну что же, я в ее возрасте была совершенно самостоятельна, работала, училась, сама распоряжалась своей судьбой. Никто меня не опекал, никто никуда не устраивал. Правда, все было другим. Время изменилось, а с ним понятия и возможности. Хотя и сейчас я вижу десятки молоденьких девушек, моих учениц, которые приезжают в Москву тоже одни, приезжают из деревень, из рабочих поселков, прекрасно поступают в институты, живут в общежитиях, учатся и работают.
Хорошо, надо предоставить ей самостоятельность, раз она этого хочет. Уезжаю и прошу присылать мне телеграммы после каждого экзамена.
Телеграмма приходит только одна:
«Русский устный пять сочинение четыре история четыре живопись пять графика пять композиция пять поступила целую я».
Показываю своим, хвастаюсь. Все удивляются, поздравляют меня.
— Действительно, наверное, вы правы, талантлива.
Думаю, надежды мои оправдались. С этим чувством возвращаюсь домой.
Встречает меня Леночка.
— Какая же ты у меня умница! Но почему такая невеселая?
— Все хорошо. Только очень рано надо вставать.
Институт ее действительно далеко, с двумя пересадками, полтора часа в одну сторону.
— Но вы, пожалуйста, не волнуйтесь, я очень довольна. Не жалейте меня, я втянусь.
Мы отпраздновали ее поступление. Началась трудовая жизнь, я в институт, она в институт.
Как-то вечером лифтерша мне говорит:
— Должна вас огорчить. Не ходит ваша Леночка в институт. Вы на работу, а она обратно домой.
Думаю, в чем дело? Обращаюсь к ней:
— Леночка, хочу поехать к тебе в полиграфический, узнать, как там у тебя дела.
— Зачем это вам нужно? У меня все хорошо. Хотите поставить меня в дурацкое положение? Подумают, что за мной влиятельные тетеньки и дяденьки. Прошу вас ни во что не вмешиваться. Я же поступала без вашей протекции.
— И все-таки я поеду.
Утром просыпаюсь, Леночки нет. На столе записка:
«Все зачеты у меня сданы, хочу повидать маму».
Значит, быстро, быстро свои вещички собрала и уехала. Перед самой сессией? Что-то невероятное.
Еду в институт. В деканате говорят:
— Такой студентки у нас не числится. Ничего не знаем. В списках такой студентки нет. Экзаменов не сдавала.
— Ну как же, она целую зиму занималась на подготовительных курсах.
Проверяют в архиве списки, ее там нет. Сотрудница деканата меня успокаивает:
— У нас бывают такие случаи. Не поступят, провалятся, стесняются и обманывают. Родители к нам приходят выяснять. Дети им наплетут, и вот так же получается, как у вас.
Возвращаюсь домой абсолютно разбитая. Что делать? Надо немедленно звонить родителям Лены, сообщить, чтобы они знали все. Больше года потеряно. И в каком я дурацком положении. Значит, все это время разыгрывалась комедия. Состояние мое было отвратительным. И все же у меня хватило сил съездить в тот, ее первый институт. Текстильный. Выясняю, что и там она никакого заявления не подавала, а следовательно, и никаких портретов не рисовала. Все было розыгрышем, все…
Когда я думаю теперь об этой истории, то Леночку при всем ее вранье оправдывает то, что в поведении ее ведь никакой корысти не было. Она обворовывала только себя. И это примиряет меня мысленно с ней. К тому же, именно она, Леночка, мне помогла понять, что одиночество не так уж плохо. И лучше остаться одной, чем иметь рядом такое юное, но совершенно непонятное существо.
2. Леша
Мне кажется, что тетушка моя с этой своей Леночкой совсем спятила. Может только об одном этом говорить и без конца говорить. И ко мне вдруг прониклась такой нежностью. Все приглашает. А я заранее знаю — придешь, так она только об одном. И надоело мне это до черта. Сама виновата, нечего было связываться. Я ей сразу, как только увидел Ленку, сказал: «Не будет она учиться, не для того приехала». Как она еще тогда возмутилась, чуть из своей квартиры меня не выгнала. Ну, а сейчас — «Леша, Леша!» — как будто я главный механик по ее печалям. Ей грустно, а я должен ее утешать.
Тетушка моя ведь страшная эгоистка. Это и в семье у меня все отлично знают. В жизни ей, надо сказать, повезло, мой дядька, женившись на ней, всем ее обеспечил. Квартиру огромную оставил, сама деньги большие зарабатывает. Привыкла, чтобы вокруг нее все вертелись: «Ах, Татьяна Павловна, Татьяна Павловна». Мой дядя при жизни тоже, конечно, ей потакал. Ну, так и сохранилось это.
Женщина она в общем очень практичная, я до сих пор забыть ей не могу, как однажды позвонил и говорю:
— Тетя Таня, дайте взаймы четыреста рублей, дубленку продают, очень хочу купить.
Но она мне:
— Я денег не одалживаю тем, кто не отдает долги.
Видали! Я действительно года два тому назад взял у нее сто рублей, и как-то все не получалось отдать. То денег не было, то еще что-нибудь… Могла бы и забыть, ах ты, черепаха, столько у тебя денег, племяннику не можешь на дубленку одолжить, долг сто лет помнишь. Ну, а с Ленкой зато просчиталась она, и, может, этот просчет у нее первый раз в жизни получился. Так ей и надо!
Она очень умела свои дела делать. Всегда понимала, что к чему, в этом ей отказать нельзя. Интересно, кому она нужна будет, когда вообще на пенсию выйдет?.. Сто двадцать рэ, и все. Плюс, разумеется, сбережения, а сбережения немалые. Жадная как черт.
Но Ленка ей дала прикурить. Она до сих пор еще расхлебывает. Мне тут жаловалась на днях, что Ленка повсюду растыкала, запрятала квитанции на междугородные переговоры. Из ее квартиры звонила туда-сюда, во все города своим хахалям — в Тбилиси, Ригу. Даже в Париж талон за разговор тетушка нашла. Видали? Триста рублей вместе с пенями уплатила. Телефон у нее выключали, квитанции разыскать не могла. Ну и смех!
Денег ведь она на нее потратила немало, тоже, наверное расстраивается. Надо сказать, что тетушка моя хоть прижимистая, но на Ленку не жалела и все потому, что рассматривала ее как предмет в своем доме. Вещи у тетки очень неплохие, мебель и все другое. Ну, вот и Ленка в ее доме вроде мебели — должна была быть прилично одета.
Она думала, будет Леночка рядом, нарядит она ее, и это вроде ей тоже молодости придаст. Сама станет попривлекательнее. А в результате состарилась за это время так, что ее узнать нельзя. Конечно, даже иногда жалко ее бывает, уж как я ни забронирован от всякой такой чувствительности, все равно.
Ленка — это уж точно — штучка, понять ее трудно. Я до сих пор толком не могу в ней разобраться. У нее свои цели были приезжать в Москву. Но какие?.. Тетушка считает себя такой проницательной, все, видите ли, она понимает. Ну, а как тут попалась на удочку? Может, потому, что хотелось ей так думать. Всюду водила за собой, в дома, к самым важным людям. Со всеми ее перезнакомила. «Леночка, Леночка». В общем играла в дочки-матери. Но не так это, видать, просто получается — я думаю, материнство надо все же выстрадать. На чужой каравай рот не разевай. Вот и доигралась тетушка. А Ленка, такая оторва, на этих знакомствах отхватить себе хорошего жениха решила. Да тоже не вышло. Дураков теперь нет, все умными стали.
Знакомства, конечно, у тетки большие. Она очень умела всегда отбирать знакомых — соблюдала ранги. К нашей семье, еще и дядька был жив, она всегда — свысока. И меня-то в дом пускать стала недавно. Когда мальчишкой был, совсем ее не интересовал. Понятно, ей хотелось, чтобы и я диссертацию защитил, это для нее обязательно, и даже стесняется она, по-моему, что я простой радиотехник, а не какой-нибудь там конструктор или ученый. А мне, между прочим, так спокойнее, времени у меня хватает, и читаю я, наверное, не меньше, чем она. Все журналы, во всяком случае, выписываю и одет не хуже ее знакомых (знаменитых), а может даже и получше.
Когда Ленка в первый раз меня увидела, на мне был новенький костюм джинсовый «Лии Страус», так эта дура сразу на меня упала, решила, что тоже из чьих-нибудь сынков. Стала она липнуть. Повел я ее в кафе, потом зашли ко мне.
Я ее спрашиваю:
— Ленка, неужели ты так со всеми?
— А что такого? Чего ты удивляешься? Ты мне понравился, вот и все. Женись на мне. Очень надоело мне у твоей тетки.
Я ей говорю:
— На что ты мне нужна? Да и я тебе не нужен. Ты что думаешь, у меня денег, что ли, очень много? Я только на себя заработать могу. А тебя прокормить, ой-ой-ой, сколько нужно, и прокормить и одеть.
— Ну, женись, хотя бы, чтоб мне прописаться, а потом разведешься. Я у тебя даже жить не стану. Мне московская прописка нужна, хочу быть самостоятельной.
Как-то говорю ей:
— Дура ты дура. Тетушку не слушаешься, раздражаешь, она на тебя все больше и больше сердится, а к ней-то ведь ты так подмазаться могла бы, что она тебя не только прописала бы, но и завещание на тебя составила бы. Самостоятельности захотела! Да нет в тебе никакой самостоятельности, вот что я тебе скажу. И терпения никакого нет.
— Терпения у меня нет. Но все равно я знаю, что Танечка скоро меня выгонит.
— Почему?
— Да так. Чувствует моя душа, что так оно и случится.
Но мне она тогда ничего больше не сказала и по поводу того, что в институт не поступила, — молчок. Все врала, говорила, что занимается, ходит каждый день учиться. Я еще ей предлагал:
— Деньги хочешь иметь? Давай устрою тебя реставратором. Подучишься — хороший заработок. Иконы будешь реставрировать тем, кто успел нахватать.
Думаю, рисовать она может, приятели у меня в этом деле есть. Даже повел ее туда. Походила она, походила и перестала. А потом ребята мне говорят:
— Повертелась она у нас, в мастерской, запросто смогла бы научиться. Искусства, говорит, у вас здесь никакого нет, шарашкина фабрика, а денег у меня и так навалом. Отец мой, что захочу, то и достанет. Но все это мне не нужно, потому что я хочу только самостоятельной жизни.
Надо же, как заливает!
Я, конечно, тетке про мои делишки с Ленкой не рассказывал, да и сейчас не расскажу. И рассказывать-то не о чем. Да и Ленке все на свете до лампочки, будто ничто ее не касается. А поступает так для формы, вроде все так, вот и она, не отстает от других. Такое у меня впечатление, что в жизни ей ничего не жалко, и себя не жалко. Свое она запросто может отдать, глазом не моргнет. Как-то день рождения у меня был, прибегает:
— Подарок тебе принесла.
Открываю коробку — замшевые ботинки мне отгрохала. Говорю:
— Ленка! Откуда это у тебя такие деньги?
— Ничего, ничего. Пусть это тебя не волнует. Достала, и все.
Думаю, ну если она их, эти деньги, у тетки стянула, тогда еще куда ни шло, той так и надо. А если кто-то деньги эти ей дал, а она мне… Все же как-то неприятно. Так она и не призналась. Может, и ботинки эти у кого-нибудь уволокла? Черт ее знает?! Во всяком случае, ботинки привозные. Фирма! В продаже таких не было.
Вообще пошиковать она любила. Как-то тетка была в отъезде (она постоянно в командировках), Ленка меня пригласила и такой прием отгрохала, прямо как в посольстве. Научилась у тетушки. Та пыль в глаза пускать умеет. Какие она приемы устраивает, так никто никогда не подумает, что она скупая и каждую копейку учитывает. Вот Ленка у тетушки манеры и переняла, хозяйничает, угощает. Все мы так надрались, чего там только не было, и ви́на, и коньяк, еды хватило бы и на три дня. Я еще подумал тогда, где же она такие деньги берет? Кто теперь ей деньги даст, все жадные стали. Значит, прав я, у тетушки ворует. Но как та могла не заметить?.. А потом уже тетушка мне рассказала, что Ленка за нее по переводу гонорар получила, даже по нескольким переводам. Паспорт теткин показала, почтальон ей поверил, так вот она, значит, все эти деньги на нас и размахала.
Странная она девчонка, понять ее трудно. Как-то она мне вот что говорит:
— Знаешь, Леша, Танечку ты никогда не бросай. Плохо ей будет одной, когда она состарится. Пожалей ее. Она ведь не такая уж плохая. Думаю, может, и не плохая, да сухарь. Я ей крови-то попортила. А без меня, ей тоже плохо будет. Мне, говорит, всегда маленьких очень жалко бывает, а стариков еще жальче, потому что никому они сейчас не нужны.
И правда, стариков как-то совсем перестали жалеть. И не понимаю я, почему это происходит? Вот был у меня дедушка, очень старенький, а как его все уважали, как ценили. А сейчас и старики какие-то совсем другие стали. Может, поэтому они никому и не нужны? Какие-то суетливые, и каждый ведь не хочет согласиться, что он состарился. Все в молодые лезут. Я раз с одним очень умным человеком об этом говорил, и он мне сказал, что это техническая революция так влияет. Потому что раньше старик мог своим опытом поделиться и на производстве, на заводе там, и ученый… А сейчас все, что старики знали, никому не нужно, потому что опыт-то совершенно другой, старики новых машин не знают и узнать не могут и поделиться им совсем нечем. Вот поэтому и происходит, что уважения к ним никакого. А они понимают, что не нужны, но нет того, чтобы скромно себе сидеть. Все — к молодежи, к молодежи тянутся, а понять ее не могут. Ну, все-таки слова Ленки я помню, и, по-моему, это хорошие слова она тогда сказала.
Тут она перед самым своим отъездом, перед тем, как тетка ее совсем довела, ко мне забегала и портфельчик свой у меня забыла. Нашел там ее дневник или что-то вроде, галиматья какая-то, записки, но я все-таки прочитал. Все у нее там путаное, как и она сама, ничего не разберешь. Может, я не понял.
А что, если тетушке, Татьяне Павловне, их подсунуть?! Пусть прочтет и задумается.
3. Леночка
Еду, еду, не доеду. Я все забуду в Москве, что было дома плохого и стану другим человеком.
В поезде хорошо, так бы никогда и не вылезала из вагона, а только бы в окно, только бы в окно и глядела. Все убегает, убегает от тебя или ты от всего. Так, наверное, и в жизни. Трудно разобрать — ты ли от нее убегаешь, или она от тебя.
Девочке, маленькой совсем, мать говорит: «Смотри, вон по земле человек идет», а она отвечает: «Нет. По земле он летит, а по небу идет». Что она думает, эта девочка? Люблю маленьких. То, что нарожу себе не меньше пяти детей, это уж точно.
Прислушиваюсь к поезду и в его громыхании отчетливо различаю, как он повторяет очень ритмично: едем победить, едем победить.
Обязательно буду все записывать, каждый день, как папа. Правда, ему-то это зачем? Что там в его жизни происходит особенного. Чепуха!
Танечка теперь моя абсолютная наставница. В сущности, она очень даже хорошая, я даже ее люблю. Но понимаю, что нужна ей больше, чем она мне. Без меня ей будет ой как плохо. Пусть и пилит она меня день и ночь, но ой как плохо ей будет, когда останется одна. А я не хочу быть одна, ни за что. Но только не с папой и мамой, и уж, конечно, не с бабушкой. Что они сделали для меня? Родили, только что. Эта хоть пилит с утра до ночи: это сделай так, это сделай эдак. А те даже этим не занимались, швырнули как собачонку. Плохая. Ну что же, может быть, я и плохая. А позаботились ли они о моей душе? Была же я маленькой? Кому до меня дело? Папе? Он день и ночь возится с своей мертвечиной. Маме? Каждая репетиция в ее Народном театре дороже меня.
Москва, конечно, ошеломила. Но и здесь, видно, такие же сплетники, как и в нашем городке. Неужели людям везде так скучно? Как будто ни у кого нет своей личной жизни. С такой жадностью накидываются на все то, что касается другого. И все выискивают плохое. Это еще называется интеллигенция?
Танечка мне так их и рекомендовала: очень интеллигентный человек, очень интеллигентная дама… Подумаешь!
Вот бы стать дельфином и только иногда высовываться из воды. Как я люблю море, хоть и видела его только один раз в жизни. Но к нему не повернешься спиной, потому что оно огромно. Лес тоже чудо, я это поняла. Как же мало я его знаю. Может быть, жить в лесу, в совершенной чащобе, выйти замуж за лесного сторожа? Нет, наверное, я все же должна быть с людьми.
Очень отдельной жизни нет в маленьких городах. Люди там не такие черствые. А здесь… На одной площадке живешь, и тебя не замечают. Вот только лифтершам все выкладывай, постоянно выспрашивают: куда идешь, когда придешь?
Читала Достоевского «Бесы» до рассвета. Подняла глаза — синее окно и дом, что во дворе, придвинулся вплотную. Утро. Двор, как каменный мешок. И только лестничные клетки, кухни да уборные в окнах, только их и видно, не людей, им-то до меня никакого дела, хоть умри.
Почему так могут остервенеть люди? Как бы самой не остервенеть, не обозлиться бы окончательно — тогда беда, ой, ой, что я натворю. Все же доброта, наверное, нужнее, в жизни без нее невозможно. Надо ее выискивать, если сразу не увидишь, надо искать.
И вообще-то надо быть доброй, наверное, это даже легче. Злости так много в мире, что если сама будешь злиться, то задохнешься.
Вчера наконец попала в Дворец бракосочетания. Ужас. Если и стану когда-нибудь расписываться, только в простом загсе. Подруга пригласила меня на свадьбу. Купила цветов и подарок, очень хороший, как достала, об этом напишу особо — целая история. Пришла. Женихи в одном помещении, невесты в другом. Уселись в ряд, только что из парикмахерской. Страхолюды. Кто в длинном, кто в мини, кто в парче, кто в фате. Идиотство. Потом вызывают. Невеста, жених, свидетели, гости, все заходят в зал. Проигрывают Мендельсона, произносят стандартную речь, дают кольца, поздравляют. Все шампанское вылакала от отвращения. Не желаю. Надо посмотреть, как все это в церкви происходит. Неужели так же? Проблема, как пожениться, у меня № 1.
После всей этой процедуры сели все в такси, было их заказано три, с лентами, куклой, медведем — фу. Села рядом с женихом, с другой стороны невеста. Он на кольцо свое смотрит, говорит довольно-таки вызывающе:
— Это мы сейчас снимем, — и кладет в карман. Она на него так жалостно уставилась, а он свое: — Правда, — говорит, — и выкинуть его не жалко. Но можно и подарить кому-нибудь.
Какой хам! А вечером потащился меня провожать, ушел со свадьбы, таскались по Москве, не могла от него отделаться. Ну, как это назвать?!
Бабушка, например, отравила мою юность. Я постоянно наблюдала ее ревнивый, тяжелый взгляд, которым она смотрела на маму. Или когда они бывали вместе с папой, то на них обоих. Я-то ведь понимала, что маму она ненавидит, да и мама ее. Только не выражали этого, так они считали, но я-то ведь все видела с того самого времени, как себя помню.
У нас в семье хоть мама на папу смотрит как на человека, любит его, наверное. Это точно. А у моей подруги, там вообще отец с матерью не живут и только делают вид, что у них семья и все в порядке, для детей. А кому это нужно? Она уже в восемь лет обо всем догадывалась, все понимала. Даже еще раньше сообразила, что между отцом и матерью все пустое, одно кривлянье и ложь. Дети не дураки! Все понимают! Потом осуждают — какие это родители, если с детства прививают обман.
Люблю зеркало. Бабушка всегда упрекала: все вертишься, вертишься, счастье проглядишь. А Танечка сама в зеркале каждую свою морщинку разглядывает, изучает и замазывает тоном. У нее пять разных тонов, французские. А меня за зеркало тоже ругает, говорит: слишком много любуешься на себя. И не понимает, что я люблю зеркало не для того, чтобы на себя любоваться. Я даже не так уж и нравлюсь себе, внешне. А просто так. В зеркало посмотришь и не так одиноко становится. Дружелюбство какое-то видишь, и не одна. А то еще растроишься, расчетверишься, и совсем весело. Очень хорошо понимаю, почему раньше богатые украшали себя зеркалами.
Дни улетают от меня, улетают. Ничего не успеваю и не записываю, а надо бы, много чего есть такого.
Я знаю, что никогда не стану художником, для этого у меня мало упорства, а может быть, и таланта. Мне предложили стать манекенщицей. Наверное, это идея. Можно будет поехать за границу.
Он вошел, и все во мне заликовало. Сразу не зная меня, в первый раз ведь увидел, пошел прямо ко мне, никого не замечая, взял обе мои руки и поцеловал сперва одну, потом другую. Я подумала: вот он, наконец! Мы недолго оставались со всеми и ушли. Он вел меня по улице, как будто так и надо, обнял и вел. Потом остановил машину какую-то, не такси, и привез к себе. С тех пор не видела его десять дней, ждала, что позвонит сам, наконец звоню. Он:
«Лапынька, детынька, я очень пьян. Знаешь, прийму сейчас холодный душ и встретимся с тобой. Хочешь?» Молчу. Он: «Аллочка?» Молчу. «Галя?! Нет? Валюша?» Говорю: «Нет». — «Лариса, золотко!»
Бросила трубку.
Снег это радость, это чистота, и в каждой снежинке целый мир. Я готова плакать, когда он тает. И как он грязнится, снег, здесь в городе. А у нас что? Пески. Я шла переулком, и снег лежал, его было так много, и он заглушал шаги, и так было тихо, и так светло от чистоты и белизны, и ночью светло.
Конечно, ничто не раздражает так, как чужой телефонный разговор, да еще если он бесконечный. Танечка все время злится на меня, что я подолгу разговариваю. Но если уж сама засядет, то можно лопнуть. Ей можно, а мне нельзя. Логика железная. И так во всем.
Наверное, не надо было, чтобы я родилась. Папе с мамой это не надо было в первую очередь. Если бы я была им нужна, разве они бы согласились, чтоб я уехала. Ощущать себя в будущем, будущее в себе. Что это значит? Мне кажется, что я жила и всегда буду жить. Форма? Ну этого я не знаю.
Танечка уверена, что очень современна. Дружит с молодежью, это она так считает, что дружит. Как люди ничего в себе не понимают. Ведь и молодежь в ее воображении совсем не такая, какая есть, а такая, как ей хочется, какую она себе выдумала. И ее аспиранты, студенты делают вид, что дружат с ней как с ровесницей. Дудки. Ничего подобного. Я видела, как они приходят к ней домой на консультации. Обман сплошной, двойной обман. Мне, может быть, ее больше всех жалко. Танечка считает, что она их очень любит. А по-моему, она любит только себя. Я знаю, что и меня она не любит. Наверное, вообще не знает, что это такое кого-нибудь любить. Потому-то мне и жаль ее, а Лешка не понимает. Я ему пытаюсь внушить. Он хороший, но слишком большой материалист.
Подумаешь, знаний у нее много, а кому они нужны, чужие знания, ими не попользуешься. Каждый сам знания приобретает. Они не твои, это даже не чужие деньги, их хотя бы можно украсть, А то и бабушка моя взялась меня учить. Вот бабушку мне совсем не жаль, потому что бабушка в доме — власть.
В нашем городе, по-моему, есть тайное общество, правда, у собак. Я часто наблюдала как по утрам, они возвращаются откуда-то озабоченные, возбужденные, что-то обсуждают между собой. Когда, я их встречала стаями по утрам, маленьких и больших, лохматых и гладкошерстных, мне всегда казалось, что они возвращаются именно с какого-то тайного совещания, и очень завидовала им. А что? Может быть, и так. Мне говорили, по ночам они охотятся в песках, но что мы, люди, знаем вообще? Только воображаем о себе очень много.
Что я такого плохого сделала? Ведь всем этого так хотелось — моего института. Я бы ничего и не выдумывала, никогда бы не обманывала. Разве это легко? Но уж раз все вы так хотели, волновались, переживали, то ради вас я и пошла на это, и все разыграла. А теперь меня же обвинят. Я хотела только, чтобы все успокоились. Обо мне ведь никто не подумал. Дали бы хоть осмотреться в Москве, никуда не гнали. Может, я и устроилась бы на какой-нибудь завод и еще как бы хорошо работала. Нет, подавай всем институт. Ну и получилось. Никто никого не может понять, и главное даже не хочет. А вот я всех хочу, и за это меня же осуждают.
Почему они вообразили, что во мне много всяких талантов? Наверное, потому, что так им всем хотелось. Мне даже как-то стыдно становилось, когда меня нахваливали. Особенно Танечка, она так и попалась на эту приманку, даже жалко ее. Московской сенсации ждала, воспитала гения. Флоренский, он, конечно, мне сразу сказал: «Все это дилетантство, пока». Да и вообще-то ничего не будет. Молодец! Хоть он и большая сволочь. Я понимала, им всем надо козырять мной. А я не хочу, назло.
Что касается Флоренского, то пусть у него успех и деньги, меня это мало волнует. Даже, как бы это сказать, может, не было бы у него ничего, мне бы с ним было интересней. Успех надо удерживать, а это скучно, и люди, его удерживающие, сами делаются скучными. Пошел он к черту. Слишком много воображения, а у меня молодость.
Самолюбие? Нет. Его и не было никогда, все, что я делаю, происходит не от него, скорее напротив.
Готова ли я к этой поездке? Это проба моих сил, настоящая. Мне сказала Танечка, что я не способна на большие поступки. Не это она, конечно, имела в виду, так просто сказала, к чему, даже не помню уже. А вот я не знаю, не задумывалась, может быть, и способна. Важно, чтоб судьба так сложилась, ведь не на пустом месте их совершать, поступки. Мою поездку я и не рассматриваю как поступок. Это необходимость и свобода или, наоборот: свобода и необходимость. Что я хуже или лучше других? Хочу, чтобы так было, как будет, как со всеми.
Ни счастья, ни солнца, ни света не прибавилось в мире. А почему же мне так легко и хорошо сразу стало. Это, наверное, потому, что пришло решение, окончательное.
Я составила тест, Москва посередине. Черное или белое? Запад или восток? Юг или север? Пустыня или горы? Море или лес? Выбираю только белое, восток и север одновременно, горы и лес одновременно. Еду и никому ничего не скажу, ни единого слова. Все гремит про эту стройку: радио, газеты, телевидение, кино. А я — молчок. Пусть это будет моей тайной. Мне всегда хотелось ее иметь — тайну. Так оно и получилось. И никого мне не надо и ничего. Еду. Не пропаду. Ничего не потеряю, только смогу найти. Кого? Что? Во всяком случае, себя.
Все, что было в Москве, меня не коснулось. Пусть ничего и не было в моей жизни. А потом, через несколько лет, напишу письмо Танечке, то есть Татьяне Павловне, так, мол, и так — за все спасибо. Я живу хорошо, вышла замуж, у меня дочь. Может быть, сын? Нет, конечно, дочь. У нас все очень даже скромно, не как у вас, но ведь это совсем не важно, и мы счастливы. Вы спросите, кто мой муж. Разве это имеет какое-то значение, хороший человек. Мы растим дочь, понимаете! И я так ее люблю, как никто никогда не любил.
Маме и папе тоже напишу, пожалуй, даже бабушке. Приезжайте к нам в гости.
А пока — прощай Москва.
Передвижная лаборатория
Шумят, шумит Псузаапсе.
— Где хочешь, можешь в брод ее перейти, а грохоту на все ущелье, — говорит Клотильда Павловна.
Белоглазая бабка Варвара посадила нас ужинать.
— А ты не смотри, что она такая, потому как разгуляется, все на своем пути снесет. Оттого у нас здесь и не строятся, — говорит она.
Я так натряслась за дорогу, все тело побито, и так устала, что есть совсем не хочется.
Бабка ворчит:
— Не чинитесь, ешьте, что подано, второй раз греть не буду.
Чаю выпью, пожалуй. Соблазняет стакан с медом. Протягиваю руку, чтобы взять его, но бабка, заметив мой жест, хватает стакан и уносит.
На губах Клотильды Павловны появляется чуть заметная улыбка:
— Мы в ее власти.
В хате неряшливо, грязно. За окном оголтело и безостановочно лает собачонка. Визгливый, противный лай. Закроешь окно — духота.
— Ничего не поделаешь, приходится терпеть. Мы считаем, что нам еще повезло. Жилья здесь нет. В палатке не лучше, и кто бы стал возиться с едой, — говорят она.
«В палатке лучше», — думаю я, но молчу. У меня свои задачи. Какое претенциозное имя Клотильда, не современное, но ей подходит, чувствуется в ней заглушенное клокотанье. Под сорок, движения вкрадчивые. Глаза как у рыси, зеленые, раскосые.
В Москве меня предупреждали — вредная, но от нее многое зависит. Со мной Клотильда Павловна предельно любезна. Позаботилась даже о спальных мешках, хотя в ее обязанности это не входило. Мешки новые, поролоновые, на молниях, я даже еще не видела таких.
За двадцать километров от моря, курорта — и такая глушь. Кто бы мог подумать?! Добирались сюда чуть ли не восемь часов. Часть пути машина шла прямо по руслу, против течения.
А дальше вверх. Кругом одичавшие черкесские сады, каштановые леса. И тишина. Деревья давно отцвели, но сладковатый аромат все еще стоит в воздухе. Редко попадается хутор — два, три двора, и опять никого.
Дороги, можно сказать, нет вообще. Представляю, как волокли нашу бедную передвижную лабораторию, во что превратили. Гордость моего шефа! Сколько мучились с ней, пока изготовили, и наконец — первый образец проходит испытания, как и положено, в жестких полевых условиях горного Кавказа.
Клотильда Павловна — химик. Она проверяет оснащение лаборатории и методы исследования природных вод. Ждут еще гидрохимика из геологической службы. Вдвоем они должны составить заключение о лаборатории.
Я прилетела из Москвы, чтобы получить акт о первых испытаниях. Это очень важно для моего института. Вколочено столько средств, труда. А дело действительно стоящее — передвижная полевая лаборатория, оснащенная современными методами анализа вод. Таких лабораторий нет.
Лаборатория доставлена сюда, в ущелье, из Сухуми, где ее монтировали, и я еще не видела ее.
— Будем спать? — спрашивает Клотильда.
— Попробуем.
Тушим керосиновую лампу. Бесовская собачонка надрывается.
Шумит, шумит Псузаапсе.
Только к рассвету угомонилась проклятия собачонка, начала греметь, ворчать бабка Варвара. Затопила печь.
Пошли умываться к Псузаапсе. Холодная, зеленая, бежит быстро, дно просвечивает. Вошла в воду, оступилась, не заметила, как разрезала ступню. Выхожу, Клотильда ахнула и побледнела. За мной дорожка крови. Как неловко! Вечно со мной какие-то неожиданности. Она побежала, притащила йод, бинт. Глубокий, длинный порез. На ногу еле ступаю. Гоги появился, заспанный, небритый. Увидел меня — смутился.
— Сейчас, сейчас. Я не знал, что у нас гости. Ай, ай, — сочувствует мне.
Клотильда Павловна с ним сдержанна, очевидно, как и со всеми.
— Страшный лентяй. Ничего не хочет делать. Его прислали из Сухуми, как механика лаборатории. За эти дни, что мы здесь, намучилась с ним, — говорит она. — Жалуется, что никакого заработка, все рвется домой. Даже запустить движок не умеет.
— Может быть, не хочет?
— Тоже возможно.
Ковыляя, иду с ней к лаборатории. Ее установили недалеко от берега, в тени огромных буков.
— Страшно нагревается за день, нечем дышать. Кондишен никуда не годится, — заявляет она.
Зеленый металлический вагончик снаружи мне нравится.
— Корпус очень тяжелый. Я была свидетелем, как лабораторию тащили сюда. Немыслимо, — говорит Клотильда.
Входим по лесенке внутрь. Чудо! От удовольствия меня забирает «лабораторный озноб», и сразу же хочется работать. Все есть, что нужно химику, — мойка, вытяжной шкаф, столы, полки, посуда. Приборы размещены, собраны, прилажены конструктивно и красиво.
— Ничего не побилось в дороге? — спрашиваю я.
— Почти ничего.
— Вот видите!
— Да, но если не включен движок, в шкафу нет тяги и невозможно работать.
— Надо включать движок.
— Гоги говорит, что расходуется очень много бензину.
«С Гоги мы договоримся», — думаю я.
Он появляется, легок на помине.
— Ну как, калбатоно, нравится вам здесь?
Гоги побрит, на нем белая нейлоновая рубашка, узконосые ботинки.
— Тебе не помешает твой наряд ремонтировать мотор? — спрашивает Клотильда.
— А что его ремонтировать? У меня все в порядке. Запустить?
— Вчера не в порядке, сегодня в порядке, — бесстрастно произносит она.
— До вечера думаешь работать, генацвале?
— Сколько надо, столько и будем.
— Хорошо, хорошо.
Я привезла дополнительное оснащение — два вьючных ящика для новейших методов исследования. Разбираем их с Клотильдой.
Она хороший химик. Мгновенно все схватывает. В лаборатории уже вполне освоилась.
— Сегодня наши должны привезти пробы воды, — анализы начнем завтра. Весы не работают. Очевидно, после дороги.
Я сажусь за весы. Они демпферные, последнего образца, но наладить мне их не удается. Нужно полное бесстрастие, чтобы отрегулировать весы. А у меня его нет.
Несколько раз к нам заглядывает Гоги. Видя, что мы работаем, молча уходит.
В лаборатории нестерпимая жара, изнемогаю, но не показываю вида.
— Может быть, на сегодня довольно? — спрашивает Клотильда. — Вы не устали? Как ваша нога? Пошли?
Гоги выключает движок.
— Пусть отдохнет. Вечером дам свет. Я вижу, сегодня ты не сердишься на меня, — обращается он к Клотильде. — Ну скажи, генацвале, правильно я говорю? Хо! К нам гости. Слышите? Не тянет. На первой скорости работает. Не любят шофера сюда ездить. Такая дорога — смерть машине.
За шумом Псузаапсе ничего не слышу. Но ухо механика не ошибается, из-за поворота показывается машина. Она подъезжает к домику бабки Варвары. Клотильда Павловна и Гоги уходят вперед, а я с трудом тащусь за ними. И угораздило же меня искалечить ногу. Темнеет.
— Хальт! Хальт! — слышу за спиной немецкий лающий окрик. Не верю глазам. Светловолосый «Зигфрид» с опаленным солнцем лицом ведет под уздцы лошадь, откинув голову, шагает упруго, легко, за плечами рюкзак. Лошадь торопится к дому, во вьюках гремят бутылки, он сдерживает ее. Уступает мне дорогу.
«О, да там еще трое, возвращаются из маршрута».
Подхожу к машине. Клотильда разговаривает с приезжим.
— Знакомьтесь, — говорит она, — Игорь Леонидович из Алма-Аты.
Он любезно улыбается, жмет мою руку в своей широкой и мягкой руке. Клотильда Павловна, очевидно, уже рассказала ему обо мне. Весь он добротный, плотный и большой. Аккуратный, в широких штанах и светлых ботинках, какие носили лет десять назад.
— Вот и наши подходят. Сейчас будем ужинать, — говорит Клотильда.
— Обед не кормила, ужин угощает, — подтрунивает Гоги.
Тут же у палатки «Зигфрид» распрягает лошадь.
— Это наши немцы-практиканты, студенты университета, — объясняет Клотильда. — Курт, сколько привезли проб? — спрашивает она.
— Двадцать.
— Молодцы! Вы расположитесь с ними в палатке, — говорит она Игорю Леонидовичу.
Бабка высунулась из хаты, маленькая, морщинистая, неприветливая.
— Сколько же их понаехало… Где ж их теперь усадишь? Поди все исть хотят.
— Давайте ужинать на улице, — говорит Клотильда. — Гоги, сообрази, как лучше сделать.
— Хорошо, хорошо, не волнуйся.
Бабка ворчит, громыхая мисками.
— Сколько ж вас всего народу? Два Юры, два немца, — считает она, — приезжий, шофер, Гога да вас двое.
Сдвинули столы, расселись на лавках. Гоги пустил движок, ужинаем с электричеством.
Бабка Варвара разливает борщ, жидкий и бездушный. Только немцам заправляет его сметаной. Игорь Леонидович выложил на стол несколько помидоров, угощает:
— Алма-атинские…
Моя порезанная нога — предмет разговоров. Каждый дает совет. Я вызвала общее сочувствие.
— Клотильда Павловна, расщедрились бы на спиртик. Случай подходящий, нас столько собралось… — говорит Юра-младший.
— Вы же знаете наши запасы, не хватит для работы, — отвечает она сухо.
— Ну, а если начальство прикажет? Курт, Отто, как вы на это смотрите, шнапс тринк? — шутит он.
Немцы бесстрастно едят борщ.
— Начальство приказать не может, — отвечает Юра-начальник. — Реактивы не в моем ведении.
Грузинская душа Гоги не выдерживает. Он исчезает и возвращается с двумя поллитрами и домашним сыром.
Водку разливает в стаканы. Мы с Клотильдой отказываемся, да и Гоги почти не пьет. Шоферу наливают полный стакан, он мрачно выпивает и уходит. Завтра ему чуть свет обратно. Оба Юры на несколько дней уезжают вместе с ним, на базу. У них отгул.
— Ну и слава богу, — говорит Клотильда.
Хоть водки досталось и понемногу, но все повеселели.
Юра-начальник приносит сало, ловко нарезает его походным ножом тонкими прозрачными ломтями. Сало пожелтело и не вызывает у меня аппетита, а немцы уплетают.
— Начальство разгулялось, — шепчет мне Клотильда. — Сало он хранит в сейфе, только для маршрутов. Наши геологи страшно скупой народ. В поле экономят каждую копейку, для жен, — неприязненно говорит она. — Понимаете теперь, почему у нас такой жалкий рацион?
Бабка Варвара подкладывает немцам в миски тушенку с макаронами, явно обделяя всех остальных.
— Ешьте, ешьте. Главное, чтобы были сыты, — обращается она к ним.
Гоги перехватывает мой взгляд.
— Большую политику делает бабка.
— Очень благодарю, бабуся, — говорит Отто.
Он страшно черен для немца, брови — сплошной чертой, как у черкеса.
Разговор идет на общие темы. Юра-младший раскраснелся, всех перебивает, ему хочется блеснуть эрудицией, и он бросается от музыки к наполеоновским войнам. Он развалился на скамейке, почти лежит, рассуждает. Клотильда наблюдает за ним с иронией.
— Чрезмерно возбужден, дорвался до общества, — шепчет она мне.
В общем, славная баба…
Игорь Леонидович покидает нас, устал от пути и тряски. Немцы продолжают сидеть за столом с потрясающей выправкой и каменно молчат. Юра-начальник тоже неразговорчив и почти не улыбается. Он собирает документы, оставляет немцам на завтра задание на два маршрута, старшим назначает Курта.
Попили чай и все расходимся.
Опять залаяла проклятая собачонка и не дает мне уснуть всю ночь.
Шумит, шумит Псузаапсе.
Просыпаюсь поздно. Клотильда не разбудила, пожалела. В лаборатории она и Игорь Леонидович. Он уселся за весы, налаживает.
— Есть успехи? — спрашиваю его.
— Пока никаких.
Клотильда делает анализы, наставила бутылок с пробами. Сегодня она какая-то другая, довольная. Не узнать.
— Очень нагревается лаборатория, — жалуется Игорь Леонидович. — Не представляю, как в ней работать в условиях песков.
— Придется устанавливать под тент. Вот и все, — говорит Клотильда.
— Не знаю, не знаю…
Помогаю Клотильде работать по новым методикам.
— Нас с вами приглашают завтра на пасеку. Поедем! — сообщает она заговорщически, чтобы Игорь Леонидович не слышал.
— Куда же я с ногой? Кто приглашал?
— Володя, здешний лесничий. Это совсем недалеко. Нас довезут на тракторе. Поедем? — Глаза блестят. Видно, ей очень хочется поехать. — А вечером будем работать хоть до утра, даже лучше, прохладней. Хорошо?
— Поедем, — соглашаюсь я.
Мы задерживаемся опять допоздна и уходим все вместе.
По дороге Игорь Леонидович рассказывает про немцев:
— Приглашают завтра в маршрут, к водопаду. Говорят, очень красиво.
— Непременно идите. Если бы не нога, я бы обязательно пошла, — уговариваю его и думаю: «Очень хорошо, если он пойдет, будет удобно и нам удрать на пасеку».
— Конечно, идите. Хорошие ребята. Эти немцы мне больше нравятся, чем наши Юры, — подхватывает Клотильда.
— И все-таки для меня есть что-то чуждое в них, — говорит он. — Жалуются, что на практику их только на Кавказ пускают, а в Среднюю Азию — нет. Я вот все думаю, если вдруг война…
— А вы не думайте. Учитесь у бабки Варвары, — говорит Клотильда.
Встали рано. Пьем чай, собираемся в лабораторию.
Игорь Леонидович внял нашим уговорам, ушел иа рассвете в маршрут. У Клотильды настроение приподнятое. Перед зеркальцем подчесывает брови, красит губы.
— Все невестишься… А срок-то твой давно вышел, — говорит бабка Варвара.
— Разве срок когда-нибудь выходит… — урезониваю ее я.
— Может, и твоя правда, кто его знает, — соглашается бабка.
В лаборатории что-то делаем, но, в основном, поджидаем трактор.
Клотильда сполоснула пол-литровую бутылку, наливает спирт:
— Возьмем чекушку, угостим их.
(О, женщины! Вспоминаю холодный отказ в спирте Юре-младшему.)
Загромыхал трактор — заулыбалась, торопит:
— Пошли, пошли.
Володя и Клотильда усаживают меня рядом с трактористом. Моя нога — мой постоянный козырь. А им приходится стоять сзади.
Трактор ревет, швыряет нас то вверх, то вниз, мы в шторме земли и камня.
Володя обнял Клотильду, держит, чтобы она не выскочила. Славный парень, естественный, ничего не строит из себя и не дурен собой.
Вид у Клотильды сияющий.
В общем, как мало нам, женщинам, надо!
Трактор накреняется так, что мы висим в воздухе, вот-вот перевернемся. Сердце замирает. Но гусеницы прочно сцепились с землей.
Заросли груши, чащоба, первозданность, спуск. Опять пересекаем Псузаапсе. Подъем, опять каштановый лес. Стоп. Приехали. Пасека.
— Так вы действительно хотите поработать или так?.. — спрашивает Володя.
— Да, да, конечно, хотим, полный трудовой день.
— Ну, смотрите, — говорит он, — не заплачете? Матвеич, а ну встречай рабсилу!
Одутловатый низенький Матвеич в широкополой полотняной шляпе страшно похож на гриб-шлюпик.
— Чи работать, чи мешать? — спрашивает он.
— Приехали вам помогать, — говорит Клотильда.
— Ну тогда здравствуйте, если не шутите. Мед резать будете?
Несколько мужчин на пасеке окуривают улья. Над каждым ульем черное облако пчел.
— Вы им хоть маски дайте, их же искусают, — волнуется Володя.
— Не болтай, чего не знаешь. Если пчелу не трогать, никогда не укусит. Зачем им маски, — укус, он даже пользительный.
Мы заходим в домик. Душный запах меда, окна закрыты, жужжат пчелы. Соты с медом на лавках и столах. Их отжимает на центрифуге парень в тельняшке, крутит ее вручную. Рыжая струя меда стекает в ведро.
— Берите ножи. Вот кипяток, кунайте. Разогреется нож — режьте соты. Чтобы рамки не нарушать. Мед сюда ложите, — объясняет Матвеич, — а рамки в ряд. Аккурат мед снимем, их обратно в улей будем ставить. Мед пробуйте, — угощает он. — Только он горький, потому не цветочный, а каштановый. Цветочный — тот много слаще и душистый.
Мы надеваем халаты и принимаемся за работу.
Вначале дело не идет, но постепенно мы осваиваем технику резания и входим во вкус и азарт.
Пчелы облепили мне лицо и шею. Но слушаюсь совета Матвеича, не отгоняю их, не делаю резких движений, и они не кусают. Даже приятно их нежное щекотание, они слетают с моих щек и, опять усевшись, шевелятся. А Клотильду они раздражают, и она надела маску.
Мы соревнуемся в резании меда. Нам то и дело подносят с пчельни новые рамки. Работа спорится. Теплый нож мягко срезает воск.
Удивительно держать в руках это чудо, налитое медом, тяжелое трехмерное кружево сот.
Мне становятся все более приятны прикосновения пчел, шевеление их на моих губах и щеках. Может быть, они ищут общения? Хотят научить, рассказать, поделиться, пытаются найти способ сигнализации?.. Но я, но мы — мы ничего не понимаем, не хотим понять, хоть и умеем хорошо их эксплуатировать, и они сердятся и жалят…
— Я думаю, Володе не будет стыдно за нас, — говорит Клотильда. Это она говорит после того, как Матвеич нас похвалил.
— Вы, девчата, нам крепко подмогли. Без вас бы мы сегодня не управились. Пчелы ведь такое дело, все вовремя надо, а теперь — в порядке.
Удивительное чувство удовлетворения от проделанной работы, главное — ощутим результат: ведра отжатого меда.
Нас приглашают обедать. Володя и тракторист тоже вернулись. Двое ребят с пасеки наловили форели. Живую, верткую, в красных пятнышках, ее закладывают в кипяток.
Устраиваемся тут же, неподалеку от пасеки. Матвеич приносит медовуху, разводим спирт.
Мы с Клотильдой выпиваем вместе со всеми, и нам становится весело. Смеемся и шутим.
Обратная дорога на тракторе уже не кажется такой рискованной. На этот раз на нем уместились все, кто работал с нами. Володя опять сзади, на страже Клотильды.
В лабораторию возвращаемся засветло.
Гоги весь день отдыхал, а сейчас возится с мотором. Встретил миролюбиво. Дарим ему мед.
— Ара, ара, зачем так много.
Заработал движок, продолжаем анализы. Нам необходимо поднажать, потому что завтра будут уже новые пробы.
Яркий свет привлекает насекомых. Мохнатые бабочки ударяются об окна, в приоткрытую дверь налетают мириады крылатой мошкары. Душно, но дверь приходится закрыть.
Стучится и заходит Игорь Леонидович. Осунулся, загорел, вид бодрый, помолодевший.
— Превосходная прогулка! — рассказывает он. — Я не ходок, мне трудно было. Но немцы замечательные ребята, такие внимательные, настоящие товарищи… Дивный водопад. Сделал много снимков.
Он предлагает нам помощь, но мы отпускаем его отдыхать.
Продолжаем работать. Опять стук в дверь. Появляется Володя, а с ним двое ребят с пасеки. Володя совершенно трезв, те в сильном подпитии.
Парень в тельняшке, отжимавший мед, молчит, а другой привязывается ко мне:
— Ну подари мне любовь на один день.
Уговариваем его, смеемся, а он свое:
— Ну очень тебя прошу, подари.
Оставаться в лаборатории бессмысленно. Все вместе уходим, Гоги с нами, как мой телохранитель.
Клотильда и Володя отстают от нас.
— Ну подари, что тебе стоит, на один-то день, — всю дорогу жалостливо и пьяно повторяет парень.
Оставляю их и вхожу в дом. Бабка уже спит. Не зажигаю свет. Открываю окно — душно.
Шумит, шумит Псузаапсе.
Игорь Леонидович отрегулировал нам пламенный фотометр для спектрального анализа. Ну что за молодец! И у Клотильды теперь отлично все пойдет. Но Гоги разобрал мотор, и потому сегодня нам в лаборатории делать нечего. Немцы отдыхают после второго маршрута. Сидим все на улице у стола.
Клотильда Павловна переписывает для себя привезенные мной инструкции.
Я захватила с собой из Москвы работу и сейчас пользуюсь случаем ее доделать. Счетной линейки нет, а надо построить логарифмические кривые.
Курт и Отто помогают. Принесли справочник. Мгновенно вычислили логарифмы. Как они ловко чертят. Ну и хватка! Мои кривые готовы. Без лекала они вычерчены лучше, чем в нашем картбюро.
Бабка Варвара, приносит свежий фундук, кладет нам на стол, много.
— Развлекитесь, пощелкайте.
— Наконец-таки наладил эти проклятые весы, — удовлетворенно сообщает Игорь Леонидович, подсаживаясь к нам. — Теперь можно взвешивать.
— А я и так все взвесил, — улыбается Гоги, — всех и каждого, А вот расставаться жалко…
Прошла неделя, скоро уезжать, и не хочется, уже привыкла здесь, даже к мерзкой собачонке, сплю по ночам. Так все и разъедемся… Вся жизнь — передвижная лаборатория.
Утром бабка Варвара помогает мне умыться, поливает из ковша.
— Молочка налить? — спрашивает она. — Ты не смотри, что я все лаю, как та собачонка. Это так, пустое. Вот, думаю, внучат заберу к себе. Дочь у меня непутевая, неустроенная. А двух сынов убили в войну, помоложе наших немцев были. От этого все и идет.
Эта неприветливая бабка, вырванная войной из своего тихого Полесья, с трудом прижившаяся здесь на стыке двух стихий — земли и воды, карабкается по склонам, собирает каштаны для колхоза. На ее черном сморщенном лице глаза смотрят, как две белые раны. И руки черные, узловатые, как клубни. И вся она — земля, и все-то она понимает.
Плетусь к лаборатории. Там Клотильда и Игорь Леонидович составляют заключение — положительное. Лаборатория прошла первое испытание.
Солнце уже высоко. Прогрело травы, и пахнет мятой и еще чем-то терпко и сладко. Шумит Псузаапсе, и ущелье манит вглубь. Леса сбегают с гор и тоже манят, и так бы хотелось куда-то идти, далеко, и жаль, что у меня такая неудача с ногой и никуда не двинешься.
Тятя
Вулкан извергался. Столб плотного пепла вознесся в небо на несколько километров. Черная шапка на нем медленно расплывалась в гигантскую тучу. Дьявольскими языками непрестанно вылизывали ее вертикальные молнии.
Люди срочно покидали остров. Аэропорт был забит, штурмом брались теплоходы. А они радовались, что повезло.
Сто шестьдесят лет бездействовал вулкан Тятя — и вдруг ожил, будто специально для них. И они мгновенно перестали думать о себе. О себе, как о двоих. В этой стихии гула, пепла, молний для нее сразу отступила мечта остаться с ним вдвоем, хотя вся-то их поездка и была задумана ею с целью уединиться. Уединиться, чтобы взгляд, прикосновение, слово не под контролем, конечно же, осуждающим контролем коллектива. Ведь Ирина твердо решила увести Алехина от жены, и в институте наблюдали.
Беспосадочный полет Москва — Хабаровск. Пересадка на другой самолет, и через два часа — Южно-Сахалинск. Здесь их группе, состоящей из геологов, следовало разделиться. Одна часть отправлялась теплоходом к Северным Курилам, они двое — самолетом в Южно-Курильск.
Наконец вдвоем. Не слоняться стадом по городу, не оглядываться, не ждать, не разыскивать кого-то, не догонять. Вдвоем.
Но Южные Курилы встретили их извержением. Тут-то они и забыли о себе. Добраться к вулкану, добраться к вулкану. Им, изучающим закономерности рудоотложения, сама природа дарит такой случай. Они смогут отобрать самые свежие, нужные им пробы, получат уникальнейшие данные. Казалось, только это и важно, только это и нужно. Ничего кроме для них не существовало. Желание было единым.
В эту ночь из Южно-Курильска к месту извержения отправлялось научно-исследовательское судно. Опять они оказались среди людей. Было решено с отрядом вулканологов высадиться в районе эвакуированного поселка, поблизости от места извержения.
Клубы пепла, взлетавшие над жерлом, относило в сторону их судна, и они оказались в зоне сильнейшего пеплопада. Как из распахнутых закромов, сыпался с неба пепел — мельчайшие зернышки растрескавшейся породы, колючие, острые, как наждачный порошок. Пепел густым слоем покрывал судно, въедался в кожу, царапал. Беспрестанные молнии, громовые разряды.
Почему Ирина выбрала Алехина? Да разве это можно объяснить. Красив, умен, талантлив? Не в этом дело. Она всегда была слишком требовательна. Просто для нее он стал единственным. Она всех раскидала для него.
Свела их интереснейшая научная проблема, над которой оба работали, — связь рудоотложений с явлениями новейшей тектоники и современным вулканизмом. Постоянные экспедиции — Приморье, Средняя Азия, Восточная Сибирь. Он переманил Ирину в свой институт, она стала работать в его отделе. Оба начали докторские. Она оказалась в хвосте, и не удивительно. Самым главным для Ирины стала необходимость быть незаменимой в его работе — работе бешеной, страстной, одержимой. Это-то и привлекало ее к нему. Ничего, кроме работы! Она знала, на что она шла.
Они работали тогда на Челекене. Жили в палатках. Он заболел, отравился консервами. Дикая боль. Температура сорок. От больницы категорически отказался: «Само пройдет». Не проходило. Провалялся неделю. Ослаб. Ирина выхаживала его. Как маленького кормила с ложечки. Стал он ей особенно дорог. И как-то так случилось, что все перешло в любовь. Все эти полгода на Челекене им было хорошо вместе. И чем дальше — становилось лучше. Он был ее мужчина.
Жена. Алехин никогда не говорил о ней, это было его табу. По-видимому, жена не мешала ему. Но для Ирины постоянно присутствовала. Особенно в Москве она понимала, что каждый раз от нее он возвращается к жене. Поспешный взгляд на часы, торопливые сборы, никакого прощания — уход. В отъездах возникала иллюзия, что их только двое, и потому каждый раз окончание экспедиции становилось для нее пыткой, которую она побеждала уверенностью в себе. Ирина не ревновала Алехина к жене. Ее чувство нельзя было назвать ревностью, это было нечто иное, скорее обида, не за себя, за Алехина, за его двойственное существование. О двух своих сыновьях Алехин тоже не рассказывал ей. Да и когда было рассказывать? В сутках слишком мало часов. Наука заполняла, захлестывала, поглощала. А в любви им и о самих себе некогда было поговорить. И вообще он не любил разговоров: «Ненужная трата эмоций, все ясно и так».
С судна не просто было обнаружить место, выбранное для высадки. Вулкан Тятя и все его окрестности укрыла густая пепловая пелена. Опять они были застигнуты сильным пеплопадом. И только к вечеру этого дня Ирине и Алехину с отрядом вулканологов наконец удалось высадиться. Ночевали в эвакуированном поселке, покинутом не всеми, в основном женщинами с детьми, в освободившемся и комфортабельном доме, опять всем скопом. Вулкан продолжал извергаться, выбрасывая огромные столбы пепла и газов. Гул, грохот, временами взрывы, грозовые разряды.
Ревность Ирина тоже иногда испытывала. Но какую-то странную… Будто ревновала его к самой себе. Он часто говорил ей: «Четко ты умеешь работать. Любуюсь». Или: «Ты замечательно отредактировала мое введение». Или: «Я прочитал твою главу. Как независимо ты мыслишь! Как смело думаешь. Молодец». А она возмущалась: «Ты любуешься, как я работаю, но не замечаешь, как я выгляжу и что у меня другая стрижка». Или: «Ты оценил мою редактуру, но тебе безразлично, идет ли мне мой французский свитер». Он всегда только отшучивался: «Все это подразумевается». Бывало и другое: как-то приехали к ней родственники и свидание с Алехиным (их tête-à-tête) Ирина устроила в квартире подруги, конечно, не институтской. В институте она не завела бы интимной подруги. Устроила свидание и — раскаялась. Не очень-то ей было приятно, когда там он вдруг оценил висевший в ванной комнате кружевной халатик, а потом и пестрый пончо, будто нарочно брошенный подругой на кресло. Смешно, но в квартире Ирины он никогда ничего не замечал. Хотя, пожалуй, нет, один раз все-таки заметил — изречение. Она держала на своем письменном столе перепечатанные на карточку слова:
«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться и бросать, и опять бросать, и вечно бороться… А спокойствие — душевная подлость».
«Вот это мне нравится», — сказал Алехин. «Не удивительно, как-никак все-таки Толстой», — ответила она. «Я не текст имел в виду, а факт, что ты выбрала именно эти слова. Но цитата должна быть точной: «…и вечно бороться, и л и ш а т ь с я. А спокойствие — душевная подлость». «Негодяй!» — с нежностью подумала тогда Ирина.
Вулканологи, уже в поселке начавшие наблюдения за вулканом, намечали дальнейший план действий и маршрут. Их главный заявил, что женщин (вместе с Ириной их было четверо) в маршрут к вулкану ни в коем случае не брать. Слишком тяжел будет путь, опасен подъем в кальдеру, спуск, и не для женщин такая физическая нагрузка. Алехин не вмешивался. Но Ирина стала уговаривать главного.
— Разве вы меня не знаете? Вы же не могли забыть нашу совместную работу на Камчатке? Помните, наш путь на лыжах к извергающемуся вулкану? Я же не отставала от вас. Забыли черную пургу? Я вынесла все это. У меня есть опыт. Или вы забыли, как там же летом, двое суток без воды, я отбирала на вулкане пробы газа? Правда, он тогда бездействовал. Я даже не спустилась к вам в лагерь. Забыли?
Он все прекрасно помнил. После долгих пререканий наконец главный согласился взять в маршрут Ирину с условием, что она понесет рюкзак такой же тяжести, как и мужчины. Женщины ей не завидовали. Алехин молчал. И что бы он мог сказать?
Утром группа из восьми мужчин и Ирины направилась к подножью вулкана. Путь лежал берегом океана. Здесь всегда угроза, что тебя смоет волной. Дальше труднопреодолимые скалы, с «непроходками». Дальше, в глубь тайги, к зарослям бамбука. Подъем, подъем, подъем. Ноги увязают в рыхлом пепле. Пепел покрыл деревья, оползает с ветвей, сыплется за ворот, проникает под одежду, натирает плечи под лямками рюкзака. Пепел в глазах, во рту, в носу. Жажда. Напиться невозможно, ручьи засыпаны пеплом, шлаком, обломками породы. Воды нет.
Только уже когда расположились на ночлег, Алехин по лисьим следам, хорошо отпечатавшимся на свежем пепле, нашел чуть откопанный зверями небольшой снежник с капелью. Он с трудом нацедил две литровые фляги мутной, грязной воды.
— Несчастные звери, — говорил он, — убегали с обжитых мест, из своих нор, с детенышами, напуганные, растерянные…
Воду вылакали захлебываясь, даже не подумав вскипятить.
Три дня такого пути, и на четвертые сутки они поднимаются наконец в кальдеру. Взрывы заметно ослабли. Но отсюда хорошо наблюдать извержение. Оно взрывное и не из центрального кратера, а из вновь образовавшихся на склонах вулкана. Клубы пепла и пара продолжают выделяться. Громадные их тучи прорезают молнии с громовыми разрядами.
Нет, никогда не забыть Ирине алехинской защиты. Столько душевных сил стоил ей этот день. Она помотала ему переделывать главы, сверяла перепечатку, проталкивала публикацию реферата, сама его всем и всюду рассылала, обеспечивала присутствие нужных людей. Готовилась к этому дню, как к собственной свадьбе.
На защите Ирина в первый раз увидела его жену. В актовом зале они оказались почти что рядом. Все же пригласил. Никакая! Серенькая птичка. Ничего примечательного. Разглядывать жену Ирине было неудобно. Но ее как магнитом притягивало. Бесцветное лицо. Родинка на левой щеке, выпуклая, как маленький черный жучок. И что он мог найти в этой женщине?! Ну, ничего, ничего в ней не было.
Защита была горячей. Отзывы оппонентов довольно-таки сдержанные, в ученом мире не сразу принимают то, что ново, самобытно, нарушает установившиеся представления. Сотни вопросов. Возникла целая дискуссия. Ирину бросало и в жар, и в холод. Как он отвечал! Спокойно, коротко, четко, Наповал. Жена сидела совершенно безучастно, будто все, что происходило, ее не касалось, не интересовало. И только поглаживала старинную камею на руке. Руки, правда, красивые.
После защиты многие подходили к жене, поздравляли. Ее-то за что?! Ирина чувствовала на себе наблюдающие взгляды институтских. На банкет, его устраивали в институте, она не пошла, и он не задержал ее. Уже потом Ирина раскаивалась за эту свою малость. Она-то ведь знала институтские разговорчики: «Алехин никогда не уйдет от жены». «А вот и уведу!» Тут-то и надо было ей остаться.
После защиты они не виделись, на три дня он уехал, чтобы отпраздновать с фронтовыми друзьями. А появившись, как ни в чем не бывало опять потребовал от нее работы. И тогда она пришла в ярость: «Довольно! Что тебе еще нужно от меня?!» Он: «Твою докторскую». Она: «Не дождешься. Я — не ты. Мне она не нужна». Он: «Обязательно дождусь». Она: «Подумайте, какая забота обо мне!» Он: «Ты слишком мнительна. Не о тебе. О научном направлении». Обрезал и принялся изучать таблицы с ее данными.
Ах, так! Ну, хорошо же. Баш на баш. «Больше ты не придешь ко мне». Какое-то время казалось, что она гибнет. Он оставался тверд. Но она понимала, что и ему тяжело без нее. Поездка на Курилы решала все. Как же он радовался, что они едут вместе!
На третий день взрывы прекратились. Вулканологи решили сброситься к воронкам взрыва на северо-западный склон. Алехин с Ириной на юго-восточный, к вновь образовавшимся кратерам. Разделили продукты и разошлись. Наконец вдвоем! Но где? У раскрытой пасти живого, действующего вулкана.
Двигаться тяжело. Ступают по раскаленному шлаку. Горит резина подошв на их сапогах. Трудно дышать от выделяющихся газов. Они начинают отбирать пробы конденсатов, фумарольных газов, возгонов. Работают, совершенно не думая о том, что в любое мгновенье может произойти новый взрыв! Но больше трех часов выдержать невозможно.
Опускаются в узкую лощину, стаскивают в нее рюкзаки, спальные мешки и собранные пробы. Все-таки хоть какое-то укрытие. Хотя и лощина-то возникла из этих огромных глыб, потому что их только что сюда набросало. При новом взрыве здесь не спасешься. Но сейчас они не думают об этом. Натягивают тент. Отыскали снежник. Разжигают костер.
Наконец вдвоем. Право побыть вместе она отработала честно. Сегодня ее ночь. В этом каменном гробу их первая любовная ночь после разлуки. День их рожденья. Наконец-то! И все вокруг, как при начале мира. И она торжествует женскую свою победу, и все существо ее полно ликования. «А вот и увела, а вот и увела». И в душе звучит Даргомыжский: «Нас венчали не в церкви…» «А вот и увела!»
Короткий сон. И утром снова к кратерам за пробами. На этот раз отбирают свежие пеплы, шлаки, вулканические бомбы. С небольшой передышкой работают дотемна. Собрали столько, что трудно поднять. Ирина стонет:
— Больше не могу.
Но Алехин верен себе:
— Ничего, ничего, сможешь. Кажется, ведь ты помоложе меня.
До глубокой ночи отбирают пробы. Решают завтра поработать еще день, а потом сброситься к океану. Под утро начинается дождь. Поднимается тайфун. Погода ничего хорошего не сулит и, кажется, испортилась надолго. Они уже совсем промокли. План нарушен. Здесь, на Курилах, диктует природа — и надо немедленно убираться. Сброситься к океану?.. Тайфун — смоет волна. Они выбирают менее опасный, но более длинный и более тяжелый путь по тайге.
Нагруженные до предела пробами, мокрые насквозь, они еле двигаются, по колено проваливаясь в пепле. Тайга неузнаваема. Это пепловая пустыня. Оголенные, белые остовы деревьев. Кора их, как наждаком, срезана пеплом. Иногда просто обугленные стволы. И все вокруг здесь будто бы до сотворения Земли или уже после ее гибели. И мучительное чувство одиночества охватывает Ирину. Что с ней происходит…
Бредут они под тяжестью ноши, как выгнанные из рая. Бредут они, бредут, и мочит их дождь, и гонит их ветер. И ей начинает казаться, что уже целую вечность так они бредут, и нет конца пути, и так всегда будут они брести, и это наказание им за грехопадение. Такой одинокой, такой ничтожной кажется она себе перед бесконечностью пути, перед величием стихии земли и ветра, пепла и воды, жизнью и смертью. И стыдно ей становится за свою человеческую малость, за себя со всеми своими слабостями, самолюбием, кичливостью, со всем, что было в ней, есть и будет всегда, как пепел облепило, проникло в нее, колет, и трет, и щекочет. И ветром его не обдуть, и дождем не смыть. Бредут они вдвоем, и ей начинает казаться, что она одна на целом свете. Одна затерялась среди пепловой пустыни, и от смертного страха в ней стынет кровь.
Они идут уже более суток. Делают малые передышки, чтобы больше пройти. Дождь и тайфун не стихают, идут насквозь промокшие, заледеневшие. И наконец у Ирины начинается переохлаждение. А что это такое, хорошо известно, чуть замешкаешь — неминуемая гибель.
Остановились. Алехин снимает с нее рюкзак, а она уже еле держится на ногах. Необходимо хоть какое-то укрытие, чтоб уложить ее и отогреть. Он отыскивает лощину, натягивает тент, разводит костер. А ей все хуже. Она почти теряет сознание. Он начинает растирать Ирине руки, ноги, тормошит ее.
— Милая, очнись! Ну, не надо, не надо. Ты такая сильная!
И когда сознание возвращается к Ирине, она слышит, как он, растирая ее и тормоша что есть силы, бормочет:
— Милая, вот видишь, видишь, все пройдет, все будет хорошо. Зато, какие пробы мы с тобой отобрали. Теперь у нас есть все для твоей докторской.
— Все пройдет. Сумасшедший. Мне-то она на что…
— Дура, ты же — ученый!
Алехин укладывает Ирину в промокший спальный мешок. Он пуховый, и потому в нем все же теплее. Он вливает ей в рот горячий кофе, и постепенно она начинает отогреваться. Ей становится спокойно, удивительно легко, так, словно она медленно куда-то уплывает. А он сидит над ней на корточках и продолжает растирать ее всю, поверх мешка. Потом опять начинает растирать ей нос, щеки, которые уже горят. Она отстраняется, и тогда он, не отрывая рук от ее лица, начинает гладить его нежно, нежно, чуть касаясь пальцами. И постепенно Ирина начинает ощущать, что так осторожно, так нежно, незнакомо нежно, гладя ее, он будто хочет что-то нащупать на ее лице, отыскать.
«Никакая! Серенькая птичка. Бесцветное лицо. Родинка на левой щеке». Проверяет — цела ли, не уполз ли черный жучок. Помнит. Помнил всегда. И всегда будет помнить!
«Не увела. Не уведу. Никогда. Никогда». Как будто молотком кто-то вколачивает эти слова. И она проваливается в сон.
И вдруг слышит голос Алехина:
— Мы проспали восемнадцать часов! Слышишь взрывы? Опять извергается. Мы живы! Мы спаслись. Тайфун стих, дождя нет. До заставы меньше двадцати километров. — Он пытается высвободить ее из мешка: — Милая, слышишь взрывы? Мы живы. Мы спасены. Ты удивительная. Цены тебе нет. Да, да! Тятя обручил нас. Навсегда.
«Тятя! Тятя! наши сети притащили мертвеца». Ирина прислушивается к себе.
— Слышишь, слышишь, взрывается?.. — тормошит ее Алехин.
— Да, да… Никогда. — Отвечает она невпопад.
Весна в Джанхоте
Почему они выбрали Джанхот? Все Произошло так же стихийно, как и сама идея три дня провести у моря. Удрать от всяких дел, от людей, от забот.
В Новороссийске магазины были уже закрыты, водку достали в ресторане. Шоферу не терпелось выпить, и потому он спешил. «Газик» долго путался между деревьями. Ночью сосновая роща казалась таежно непроходимой. Машина свернула не на том повороте, и они оказались здесь.
Поселок спал. Ни в одном из домиков огня. Полная темнота. Лаяли собаки. Было холодно. Оставив шофера в машине, они бродили вдвоем, решая, куда попроситься на ночлег.
Первая живая душа, закутанная в полушубок сторожиха дома отдыха, согласилась пустить их к себе. Приняла за мужа и жену, и они не стали ее разубеждать. Ворча, что они приехали так поздно и что теперь ей надо оставить дежурство, сторожиха повела их какими-то каменными лестницами, выщербленными и крутыми, вывела в какой-то сад. Она показала им дом, объяснила, где включать свет, дала ключ, сказав, что сдает им одну комнату на три койки, и ушла.
Как в сказке — подумала она, когда вместе они вошли в низенькое, убогое помещение.
— Избушка на курьих ножках, — засмеялся он и пошел за шофером.
Она выбрала себе кровать у окна и решила, что ужинать они будут на терраске, там же разыскала какие-то тарелки, вилки, два стакана.
Шофер долго и шумно умывался из рукомойника. Она разложила по тарелкам все, что у них было из еды, нарезала хлеба. Сели за стол.
Пить она не стала, только пригубила. Он тоже нехотя допил из ее стакана, с остальным справился шофер. Все решили, что им повезло со сторожихой и одну-то ночь они прекрасно смогут переночевать и здесь.
Она первой пошла спать. Распахнула окно в холодный черный сад, разделась, устроилась на узкой железной кровати с громыхающей сеткой, решила, что замерзнет под тонким фланелевым одеялом, встала, взяла плащ, опять легла и позвала их.
Комната была узкой как сапог. Шофер улегся у двери, а он сел на кровать, которая была совсем рядом с ее, выключил свет и лег. Шофер уже посапывал.
В конце концов она не девочка, и если решила поехать вместе с ним… Ему стоило только протянуть руку, чтобы ее коснуться. Посмотрим, думал он, посмотрим. Мерзкое помещение, нищенство, скрипучая кровать. Дыра.
А утром оказалось, что море солнечно и сине и совсем рядом. Его видно из окна, и оно на расстоянии минуты. Терраска оплетена полураспустившимися дикими розами, сад щекочет ноздри свежестью, на огромном дереве зарозовели черешни, серые грядки, утыканные вялой рассадой, сбегают вниз к морю. На заборе развешаны рыболовные сети.
Сторожиха-хозяйка, пока они спали, успела убрать со стола и вымыть посуду и сейчас предлагает им купить свежей кефали, которую наловил ее сын.
В тазу с водой плескалась еще живая рыба, солнце отражалось в ней весело и танцевало на стене, выделывая синусоиды.
Она выбрала самую большую рыбину и сразу же начала ее чистить. Собачонка, чем-то напоминавшая хозяйку, беззвучно крутилась возле.
Пока она жарила кефаль, шофер успел сбегать в магазин, принес свежего хлеба, масла, молока и кофе.
Удивительно празднично было это первое утро. Сели завтракать. Они оба уговаривали шофера задержаться хотя бы до обеда и позагорать с ними на пляже. Но он ссылался на какие-то неотложные дела в Краснодаре, явно выдумывая.
Почему-то сегодня им даже не пришла в голову мысль менять свое жилье, искать что-то другое. Они проводили шофера до «газика», распрощались и направились к пляжу.
По дороге узнали — только что открылась новая шашлычная. Белобрысый пацан в трусах, босиком и в теплом свитере со звоном волок по камням, держа за длинную ручку, огромную позеленевшую старинную сковороду. Две собаки, деловито обмениваясь между собой впечатлениями, шествовали за ним. На порожек ближнего домика уселась старая гречанка с желтым лицом, распустила седые длинные волосы, и черная девочка, похожая на баклажан, стала их расчесывать. Мимо гуськом проследовали отдыхающие на организованную прогулку. Стали взбираться на скалу. Высокая, яркая, крашеная блондинка в малиновом платье висла на своем спутнике. Он проводил ее глазами.
Курортный сезон еще не начался. Море было холодным, народу на пляже — несколько человек. Они уселись на мелкой гальке у самого края и стали раздеваться. Казалось, солнце совсем не греет, было даже прохладно.
— Ненавижу, когда читают на пляже, — сказала она.
— А когда играют в карты?
— Еще ужаснее. Пляж требует полной сосредоточенности. Надо отдаваться только солнцу.
— А думать разрешается? — спросил он.
— Если вам удастся, пожалуйста. Во всяком случае, это лучше, чем читать, — она оторвала краешек от его газеты и наклеила себе на нос.
— Я понял, что разговаривать тоже нельзя?
Она не ответила.
Что тянуло его к ней? Почему эта поездка казалась обещающей? Несколько лет они проработали в одном институте. Всех его девчонок она знала как облупленных. Его похождения с ними проходили почти у нее на глазах. Он часто замечал, как смотрит она на него — чуть иронически, чуть покровительственно, оценивающе и, как ему казалось поощряя. Как-то она сказала, что никогда не стала бы заводить «роман» там, где работает, это ее правило. Проверим, думал он.
Что тянуло его к ней? Она не была красивой. Успех красивых женщин никогда его не волновал, всегда казался банальным. Успех некрасивых вызывал интерес. «Очевидно, существует какая-то внутренняя компенсация», — думал он. Во всем ее облике он замечал иногда черты той жертвенности, без которой для него не существовало женщины. То вдруг она глядела на него таким греховным взглядом. Или уж слишком безгрешным, легким наклоном головы, будто предупреждая: «Мне известно так много, а это то же, что ничего не знать». И ее подстриженные светлые волосы, густые и гладкие закрывали половину лица. Не то чтобы она нравилась ему, конечно и это, она нравилась, как и все мало-мальски привлекательные женщины. Ее присутствие всегда как бы обязывало. При ней он становился другим, не испытывал обычной свободы, был немного скован и в то же время чувствовал себя значительнее. Она несла в себе тайну женских жизней, пережитых ею, которые оставляют свой след, как годовые круги на стволе дерева. Распилить и поглядеть?
— Поворачивайтесь! — скомандовала она. — Сожжете спину.
Какие длинные у нее ногти, какое крепкое тело. О чем она думает сейчас, вот так лежа на спине? Ведь думает же о чем-то.
Так они лежали. Молчали, прислушиваясь друг к другу.
«Зачем понадобился ей этот институтский Казанова?» — размышляла она. Вряд ли он думает, что вся эта поездка нужна ей лишь как пауза, как передышка в делах. Конечно, нет. Но надо быть откровенной. Она вспомнила, как взволновала всех та его история с переводчицей. Прелестная девочка. Все об этом узнали. Муж переводчицы заявил в партком. Дело дошло и до его жены. Он с честью вышел из всей этой склоки. Молодец! Удивительно, что его так любят женщины. Совсем не удивительно. Он их тоже любит, в этом дело. Даже эта поездка с ней. Не каждый бы рискнул. А что ей надо от него? Нравиться? Да. Всегда тянуло к нему. Но всегда был заслон. А сейчас?.. Свобода. Почему? Что изменилось? Да потому, что сами мы назначаем себе — свободны мы или не свободны — сами. Хочу быть свободной.
Обедали в пустой шашлычной, на балконе. Взяли вино. Темное, густое, не летнее, оно тяжело заполняло стаканы. Он смотрел на нее и с удовольствием пил. Она взяла стакан из его руки и допила вино. Они молча улыбнулись друг другу. Повар грузин сам обслуживал их. С какой-то особой приветливостью подал им отменно приготовленных цыплят табака. Они усадили его за свой стол, налили вина. С удивительной чуткостью он разделял их душевный настрой, пил с ними, пел им грузинские песни, и они, не зная этих песен, оба подпевали ему. В этом захудалом, безлюдном Джанхоте им было празднично и беззаботно.
Когда они вернулись к себе, хозяйка ахнула, всплеснув руками:
— Что же с вами делать? Ой, ой, совсем сожглись!
Гулять не пошли. Вечером их стало знобить, кожа чертовски горела.
Она смазывала ему спину и плечи своим кремом, проверяла, нажимая пальцем, где обожжено. Смеялась, что он оказался более тонкокожим. Приготовила чай и подала ему в постель, накрыла вторым одеялом.
Из дома отдыха доносилась музыка. Они лежали на тех же узких скрипучих кроватях, как и вчера, в ознобе, совершенно больные, как бы уплывая куда-то, в эту музыку, в полубред, в полусон.
Ее разбудило солнце. И опять она чувствовала себя легко и беззаботно. Она поднялась. Он еще спал. Лицо его было красным, широкий лоб пересекла белая незагоревшая морщина, крупный рот, по-детски припухший, казался обиженным и как-то особенно выделялась седина на висках.
На черешне прибавилось розовых ягод, а дикие розы, заплетавшие терраску, почти совсем распустились. Весна была на той своей последней грани, когда еще неделя, может быть, три дня, и вся эта ночная прохлада, утренняя свежесть и прозрачность перейдут в тяжелое жаркое лето.
Она разбудила его после того, как накрыла на стол, приготовила завтрак, сварила кофе. Он был смущен и рад, побрился, надел свежую рубашку. На пляж не пошли.
Поднимались по скалам. Он помогал ей, подавал руку и тут же отнимал, как будто боялся задержать ее руку в своей. Гуляли молча. Шли по крутому берегу меж сосен, пахло смолой и морем, и на сиреневых стволах поблескивали и дрожали прозрачные длинные капли.
Он немного отстал от нее, а когда она это заметила, остановилась, дождалась и спросила, почему ом ее бросил. Он ответил:
— Мне показалось, вы хотите побыть одна.
Она засмеялась, взяла его под руку и почувствовала, как он весь подобрался.
Стали удаляться от берега, пошли в глубь рощи, сосны сменились лиственными деревьями. Вышли на поляну. Становилось жарко. Решили возвращаться обратно и стали спускаться по узкой тропинке между кустарников. Наткнулись на медянку, гревшуюся на солнце, прекрасную, сверкающую чешуей, как само искушение. Он ловко, с одного удара, размозжил ей голову камнем.
— Прощается тысяча грехов. Но насчитаете ли вы столько? Подождите, дайте мне с ней разделаться.
— Все условно, но жестокость все-таки в нашей природе, — сказала она.
— До чего же живучая гадина!
До темноты сидели у моря, было очень тепло. Он вспомнил Магадан, где прошла его юность. Вдруг рассказал историю, как загнанный волками олень, опасаясь, забрел в море. И как они появились на берегу с ружьями. Олень увидел людей, почувствовал защиту, вышел из воды, пошел навстречу… Один пьяный мерзавец из их компании всадил в оленя пулю. Все сразу протрезвели.
— Вот так впервые столкнулся я с тупой, бессмысленной жестокостью.
Он говорил спокойно, как о давно прошедшем, перед ней вставало холодное стальное море, тундра, мертвые глаза доверчивого зверя, — он — совсем юный, с негодованием, презрением, с той чистотой, которая была в нем и которую она чувствовала сейчас.
Из дома отдыха доносилась музыка. Они встали и пошли. Смотрели танцы на открытой площадке.
— Потанцуем? — сказала она.
Он обнял ее и повел. И чувство ритма, танца, свободы, счастья охватили ее. Давно она не танцевала. Хорошо быть свободной!
Вернулись домой. Хозяйка опять была на дежурстве. Не хотелось зажигать свет. Улеглись в темноте. Переговаривались о чем-то. Опять молчали. Не спалось. Не спалось.
Она сбросила с себя одеяло, осталась под простыней.
«Смеет ли она позволить себе свободу? — думала она. — Для себя — да. Да него — нет».
Их кровати разделял только один шаг. Он лежал не шевелясь.
«Смеет ли он позволить себе этот первый шаг? — думал он. — Для того чтобы потерять — да. Для того чтобы сохранить — нет».
— Закурите, — вдруг сказала она. — Закурите же! — приказала она, будто не ему, а себе.
Дождь зашуршал по листве. И сразу как будто обрушился на сад, застучал по ступеням терраски, забрызгал в окно. Дождь.
И вдруг стало так ясно, так понятно, что дождь должен был пойти, что собирался целый вечер, что его ждало все: деревья, грядки, серая потрескавшаяся земля. Сразу стало легко.
Утром, когда, проснувшись, она еще лежала в постели, он принес ей пригоршню уже совсем красных, влажных, тугих и прохладных черешен.
— Чудо! — обрадовалась она. — Вы уже пробовали? Нет? Так загадайте желание!
— Оно исполнилось, — ответил он.
К вечеру вернулись в Краснодар. Он должен был еще задержаться на несколько дней, а она улетела в Москву.
К аэропорту их вез тот же шофер, многозначительно поглядывая на обоих.
На прощанье она спросила:
— Вам не скучно было со мной?
Дорогая, думал он, дорогая. Был отдых, был праздник, была чистота.
Первый маршрут
Земля золотого граната,
опять я коснулся тебя…
Владимир Луговской
Наш первый маршрут был уже намечен. Опять мы в Западной Туркмении, опять в Небит-Даге. Володя, начальник нашей партии, — геолог, я — химик, Зиновия Ивановна — микробиолог. Наши работы тесно связаны, как и наши науки. Мы заняты одной проблемой — поиском месторождений полезных ископаемых. И разрабатываем новый метод.
Первые дни погибали от жары. Задул афганец, понес тучи раскаленного песка.
На Аллочку жалко было смотреть. В голубом платье в горох, с открытыми плечами, худенькими бледными руками, она была похожа на цветок — парниковый, слабенький, хрупкий, вот-вот переломится в талии, но в работе не отставала от других. Когда пришла из Москвы машина с оборудованием, Аллочка вместе с мужчинами разгружала ее, таскала вьючные ящики. А когда разместились в лаборатории, она — новый коллектор — целые дни в солоноватой воде мыла бутылки для будущих проб.
Мы отправились в горы Копет-Дага.
Сборы закончились, — кажется, ничего не забыли. Забрались в кузов «ГАЗ-63». Зиновия Ивановна, как старшая по возрасту, пользуется обычной своей привилегией — усаживается в кабину с Виктором.
Виктор — новый шофер. Зиновия Ивановна посматривает на него не слишком одобрительно.
Наконец тронулись в путь. Надо спешить, чтобы засветло добраться до селения. Едем быстро. Ветер дует будто из настежь распахнутых печей.
Вот и селение Даната. Надо запастись пресной водой на дорогу. Подъезжаем к роднику, отвязываем бочку, наполняем водой, умываемся, пьем.
Детвора повысыпала, обступила машину. Застенчивые женщины выглядывают из кибиток, живописные, в национальных костюмах. Фотографируем. Молодой парень подбегает к нам, тащит за собой малыша.
— Сфотографируйте, — говорит, — мой брат!
Карапуз совсем еще крохотный.
— Пожалуйста, сфотографируйте. Вот он у нас какой! — показывает нам ручонки карапуза. У малыша на каждой ручке по шесть пальчиков. Брат улыбается гордо: — Будет счастливым! А я нет.
— Вы тоже будете счастливым, — говорит Аллочка, — я вас вдвоем сфотографирую. Становитесь как следует.
— Меня не надо, я нет.
Но Аллочка уже щелкнула. Мальчишки тормошат малыша, смеются. И Аллочка смеется. В коротких брючках, сама похожа на мальчишку — тоненькая, маленькая.
Брат мальчика зовет нас к себе.
— Чал, чал, угощаю, — говорит он.
С чалом мы уже знакомы. Это кислое верблюжье молоко. Ничто так не освежает в жару.
— Возьми посуду, всем налью, — обращается он к Аллочке. Но Аллочка не решается идти.
— Иди, иди, не стесняйся. — Виктор достает большую кастрюлю и сует ее Аллочке. — Дают — бери.
Едем дальше. Стемнело. Спала жара. В кузове машины даже прохладно. Нам хочется еще вырваться вперед, и потому не останавливаемся на ночлег.
— Ну, нравится тебе в Туркмении? — спрашивает Володя Аллочку.
— Нравится… — мечтательно произносит она. — А тебе?
— Мне?.. Все началось у меня с Туркмении, все с ней связано — первая экспедиция, почти вся моя диссертация.
Ночью в пути таинственней и интересней. Пески кажутся снегом — так белы. Кусты саксаула как елочки. Будто едешь зимой по Подмосковью. Конца-краю нет снеговой равнине. Простор. Тишина.
— Вы очень любите свою специальность? — спрашиваю я Володю.
— Да, люблю. Мне хотелось быть штурманом дальнего плавания. В морское училище не приняли — близорукость. Тогда я пошел в геологию. Но человек не может даже представить, как интересна его специальность, пока не узнает ее как следует, до конца. Тебе холодно? — обращается он к Аллочке. — Что ты сжалась? Хочешь, дам тебе ватник?
— Нет, нет мне не холодно. Я просто любуюсь дорогой.
Взошла луна. Посветлело. Аллочка смотрит вперед. Лицо у нее голубое, почти прозрачное.
— А вы, Аллочка, почему выбрали этот факультет?
Аллочка повернулась ко мне, улыбается.
— Почему? — спрашиваю я.
— Как бы вам сказать? Очень нравилось здание университета. Хотелось там учиться… Совсем не знала, куда идти. Химия не привлекала. Математику вообще ненавижу. Здание очень понравилось…
— Но почему же факультет выбрали этот?
— Теперь даже стыдно признаться… Один знакомый мальчик мне сказал, что все хорошенькие девочки учатся на геологическом. Вот я и решила.
— Ну знаешь, это здорово! — возмущенно восклицает Володя. — Хороша! Значит, ты воображаешь, что очень хорошенькая?
— Не очень, но все-таки ничего, — отвечает Аллочка.
— Дура! — произносит Володя.
— Володя, как не стыдно? Вы же начальник, — останавливаю я.
— Дура, говорю, — повторяет он.
Аллочка не обижается. Смотрит вперед на дорогу. На губах улыбка, туманная, неясная.
Странная девочка. Она работает в нашем институте, в другом отделе. Я часто удивляюсь, глядя на нее. Отсутствующий взгляд, локоны по плечам, движения как у манекенщицы — будто позирует.
Когда в Москве Володя сказал, что берет ее в Туркмению, я испугалась.
— Что она будет делать?
— Вы ее не знаете. Справится.
Остановились. Виктор устал. Сколько же можно гнать машину. Зиновию Ивановну совсем укачало.
Ужинать не стали, не захотели возиться. Съели арбуз. Расставили раскладушки возле машины, улеглись. Луна ушла. Млечный Путь сияет, будто его отмыли.
— Вы знаете, — говорит Володя, — что такое Млечный Путь? У туркменов есть легенда. Слышали? Белая верблюдица Майя прошла по небу и накапала своим молоком. Правда, красиво?
— Значит, выходит, Млечный Путь это вроде чала будет. Так, что ли, я понял? Спокойной вам ночи, — говорит Виктор.
Но ночь не была спокойной. Проснулись от ветра. Он налетел мгновенно, принес тучи песка. Мы забрались в спальные мешки, укрылись с головой. Ветер пробивал насквозь. Стало холодно. Мы совсем промерзли и перебрались в кузов. В машине, под тентом, было теплее.
Аллочка в углу засветила фонарик.
— Что это ты? — спрашивает Володя.
— Так, ничего.
— Имей в виду, запасных батареек нет.
Аллочка молчит, не отвечает. Отгородилась от всех, уселась на спальном мешке, не тушит фонарик.
— Может быть, ей плохо? — забеспокоилась Зиновия Ивановна. Заглянула к Аллочке в уголок и улеглась злая-презлая. — Локоны накручивает на бигуди. Нашла время. Глупости.
— Но почему же? Время не совсем подходящее, но, по-моему, мило, — примирительно произношу я.
— В вашем духе, — отвечает Зиновия Ивановна и отворачивается.
К утру ветер стих, и солнце стало припекать. Встали невыспавшиеся, голодные. Особенно Володя был не в духе. Он не любил не высыпаться. Полили друг другу, умылись.
Кое-как закусили и отправились в путь.
Сперва дорога была приличной. Но потом началось что-то невероятное, Нас подкидывало, встряхивало, бросало во все стороны. Мы задыхались в облаке пыли. Она слепила глаза, налипала повсюду. Мокрые от жары, мы держались друг за друга, чтобы не вылететь из кузова, — сплошные рытвины, ямы. Хорошо, если пять километров мы делали за час.
Многострадальный «ГАЗ» тянул из последних сил. Закипала вода в радиаторе. За два года, что он нам служит, мы успели полюбить его. Есть что-то одухотворенное в машине, особенно экспедиционной. Она и помощник и дом.
Перед Кизыл-Арватом стало полегче. Слева бахчи. Виктор забеспокоился:
— Надо заехать. Вторые бахчи пропускаем… Арбуза охота.
Но Володя скомандовал — отставить. Жаль времени.
В городе заехали на базар. Видим, продают чал. Обрадовались. Только Зиновия Ивановна не пьет, отказывается.
— Отвяжитесь с вашим чалом. Не понимаю, как вы можете пить эту гадость. — Повернулась и пошла к машине.
Закупаем на базаре продукты. Надоела тушенка — захотелось свежего мяса. Но не тут-то было — ничего, кроме верблюжатины. Продавцы говорят: молодая. Решили: покупаем, проучим Зиновию Ивановну.
Проехали город. Шоссе. Дорога замечательная. Вечереет. Свернули в балку, остановились. Привал.
В наших маршрутах костров мы не разводим, поди разведи в песках, обходимся паяльной лампой. Чтобы она не взорвалась, выкапываем маленький окопчик, ставим ее туда. Это изобретение Виктора и по удобству не сравнится ни с одним костром.
Вот и чайник вскипел. Сели ужинать. Я раскладываю жаркое по мискам.
Зиновия Ивановна с аппетитом съедает порцию, просит добавки.
— А не могли ли нам на базаре вместо баранины всучить верблюда? — невинным тоном спрашивает Виктор.
— Ну что вы! Неужели вы не отличите по вкусу баранину?
— Никогда верблюд не будет таким мягким, — заявляет Володя.
— И таким вкусным. Зиновия Ивановна, подложить вам еще? — спрашиваю я.
— А все же сомнительно, — говорит Виктор, — что, если очень молодой верблюд?
Аллочка молчит.
— Вы что? Меня разыгрывать решили? Накормили верблюжатиной и издеваетесь? Ну так вот. Если это был верблюд, то я согласна есть его и впредь. Вкусно. Успокоились? — отрезала Зиновия Ивановна.
Утром опять прогон. Приближаемся к Копет-Дагу. Кругом горы. Но не обычные, много раз виденные. Здесь они ни на что не похожи. Может быть, только на горы, которые могут присниться. Странного, неземного рисунка, словно пейзаж луны. На них нет растительности, но они то голубые, то розовые, то зеленые. Некоторые точно абстрактные скульптуры, высечены из камня продуманно, разумно, геометрично. Другие, наоборот, как животные юрского периода, окаменевшие чудища, ихтиозавры. Смотришь, и кажется — вот шевельнется и двинется на тебя зловещая живая каменная глыба. Все это древнейшие моря — известняки.
То вверх, то вниз вьется лента шоссе. Дорога хорошая, ветерок, прохлада. Появляются растения. На склонах гор все больше и больше деревьев.
Впереди зеленой чашей раскинулась Кара-Кала. Белые домики, укрытые зеленью сады… Это скорее маленький поселок, чем город. Ветер из ущелья полощет алый флаг. Осел тянет арбу, нагруженную золотыми дынями, туркменка идет с корзиной на плече — полыхают помидоры.
— Непостижимо! — говорит Аллочка. — Вся эта красота свалилась мне на плечи. Чувствую себя пришибленной.
Володя следит за дорогой. Но нет-нет да и взглянет на Аллочку. Ему нравится ее удивление, восторг. Первый маршрут не шутка в жизни геолога. Он пережил его сам… Необходимо удивляться, ведь с удивлением приходит любовь. И он раскрывает перед Аллочкой новый для нее и даже для себя край, как свою вотчину, с гордостью и торжеством.
— Смотри, — говорит он, — мы едем долиной Сумбара. Это уже субтропики.
«Сумбар, река голубая, он помнит ли про меня?» — вспоминаю я стихи Луговского.
Ветер шелестит камышом, и он клонится и шипит. Навстречу машина. Двум грузовикам трудно разъехаться. Останавливаемся. Приветствуем друг друга.
— Геологи? — спрашивает нас шофер.
— Смотрите, — с ужасом толкает меня Аллочка, — что это?
Рядом с шофером мужчина в холщовой рубашке. Она забрызгана кровью.
— Удачная охота, возвращаемся с трофеями, — улыбаясь, отвечает он.
— На кабана? — спрашивает Володя, оживившись.
— Так точно.
— Убили? Неужели?
— Посмотрите, если не верите.
Заглядываем в кузов машины. Заметались две маленькие рыжие гончие. Молодой парень, что в кузове, откидывает брезент — три черные кабаньи туши.
— Здорово! Вот это охота! — восклицает Виктор.
— В Кара-Калу завтра вернетесь? — спрашивает человек в холщовой рубашке.
— А что?
— Приглашаю на ужин. Кабаний шашлычок пробовали?
— Жаль, — отвечает Володя, — ничего не получится, не успеем.
— Что ж мне с вами делать? Надо ж вас чем-то угостить. Вот что. Несите-ка ведро.
— Что вы, что вы, — отмахиваемся мы.
Но Виктор мигом приносит ведро.
— Отдаем вам потрох! Жареная кабанья печеночка — не плохая штука!
— Вот это подвалило! — говорит Виктор, упрятывая в машину полное ведро.
Он загибает пальцы:
— Чал пил — пил. Верблюжатину ел — ел. Кабанятину буду есть — буду. И все первый раз в жизни.
Но это далеко не все, что предстоит ему отведать в этом маршруте. Еще прогон. Володя заглядывает в карту. Заволновался.
— Стоп, родник! — Володя хлопает ладонью по крыше кабины. Выпрыгивает из кузова.
Почти у самой дороги из камня, круто спускающегося вниз, бьет вода. А внизу камыш, густой. Шелестит.
Зиновия Ивановна достает свое «хозяйство» из походного ящичка. Спускается к источнику. Володя стучит молотком по камню, вертит в руках обломки, рассматривает.
— Песчаник, — говорит он, — чистейший песчаник, — и что-то записывает в дневник. — Приготовь посуду, коллектор, — обращается он к Аллочке.
Зиновия Ивановна возится с резиновым шлангом, пытается вставить его в струю воды. Ей надо заполнить стеклянный приборчик так, чтобы воздух не попал в него.
— Аллочка, подержите, пожалуйста, поросенка!
— Поросенка? — не понимает Аллочка.
— Да, да. Так мы называем этот прибор, — сухо отвечает Зиновия Ивановна, занимаясь с потенциометром. Она замеряет окислительно-восстановительный потенциал. — Высокий! И кислорода вагон.
Она достает из ящичка стерильные бутылочки, набирает воду для посевов.
Четко работает Зиновия Ивановна, все у ней слажено, любит свою работу. Ночью, на привале, когда все мы уляжемся, она запрется в кабине и сделает «посевы» на разных средах. Это нужно, чтобы определить виды бактерий и их количество. Когда на средах вырастут колонии бактерий, Зиновия Ивановна установит микрофлору этого источника.
Володя учит Аллочку отбирать пробы:
— Промой бутылку этой водой. Пробки взяла прокипяченные? Не перепутала?
— Конечно, прокипяченные, — отвечает Аллочка.
— То-то же. Наливай полней, так, чтобы вода вытеснила весь воздух. Плотно закрывай пробкой, забивай ее. Вот так.
Вместе отбирают пробы воды: восемь пол-литровых бутылок для полного анализа.
— А теперь, — говорит Володя, — пиши этикетки. Зачем тратить так много бумаги? Поэкономней. Разрезай на маленькие кусочки. Аккуратней. Пиши: проба номер один. Родник Ялчи, выходит из трещиноватых песчаников верхнемелового возраста, сеноманского яруса. Температура воды двадцать два градуса. Покажи, как пишешь? Можно и поразборчивей.
Володя привязывает этикетки к бутылкам.
— Не думай только, что я всегда буду этим заниматься, — говорит он. — Это я только первый раз помогаю тебе. Ты все обязана делать сама.
Аллочка слушает. Молчит. А я все думаю, как бы приблизить лабораторию к природе, делать анализы на месте, у источника, без разрыва во времени, изучать вещества не изменными.
Сейчас наш маленький отряд стоит, может быть, на переднем крае науки о земле. Изучать органику в подземных водах и породах сложно, но необходимо для решения такой важной проблемы, как формирование месторождений полезных ископаемых.
Наклоняюсь к источнику напиться. Из-под камня выползает краб. Маленький неприветливый уродец, двигая клешнями, уставился на меня.
По долине Сумбара едем мимо совхоза субтропических растений. У дороги инжир. Гранатовые деревья склонили ветви чуть не до земли, в красных и золотых крупных яблоках. Валяются плоды.
Виктор затормозил, выскочил из кабины. Подбирает гранаты.
— А эта чернота съедобная? — показывает на инжир. — Да? Тогда кушай, Аллочка, поправляйся. Я соберу еще. Все равно пропадет.
Володя тоже с удовольствием съедает треснувшую медовую инжирину. Только Зиновия Ивановна возмущается:
— Безобразие! Если будете подбирать все, что валяется на дороге, некогда будет работать. Тогда давайте не поедем дальше и будем объедать чужие сады. Я, например, намерена засветло «посеять».
Аргументация убедительная. Виктор надулся. Рванул машину так, что чуть не вылетели из кузова.
— Аллочка, ты знаешь, что такое яблоки Гесперид? — спрашиваю я.
— Нет.
— По-моему, один из подвигов Геракла, — припоминает Володя. — Он доставал эти яблоки. Кажется, их охранял дракон. Что-то в этом роде.
— А сколько подвигов совершил Геракл? Аллочка, знаешь?
— Не знаю.
— Двенадцать, — говорит Володя. — Даже пересчитать смогу. По дурости заучивал когда-то.
Володя разламывает гранат и дает нам по куску. Он не совсем еще созрел. Я отделяю прозрачные, розовые зерна и играю ими на ладони.
— Вы видите, сколько зерен. Это целый мешок с семенами. Гранат — священный плод, символ плодородия.
— А почему вы спросили про яблоко Гесперид? — спрашивает Аллочка.
— А потому, что Геракл похитил у Гесперид не яблоки, а гранаты. И охранял дракон гранатовые яблоки. Это мое открытие. Их подарила богиня плодородия Гея на свадьбу Гере. Удивительная символика греков!
— А кто такая Гера?
— Жена Зевса, не люблю ее. Она только и делала, что ревновала, — говорит Володя.
— А я вообще ничего этого не знаю, — вздыхает Аллочка.
— И не обязательно. Все это ерунда.
Едем дальше. Кругом горы. Въезжаем в ущелье Ель-дере. Стемнело. Ручей журчит, напевает песенку.
— Пожалуй, здесь и остановимся, — говорит Володя.
И опять разбиваем бивуак. Разжигаем огонь. Готовим.
Жарится, благоухает кабанья печень. Такого ужина у нас еще не бывало.
— Ай, ай! — истошно кричит Виктор. Он пошел к ручью мыть посуду — его очередь. — Скорей, скорей сюда!
Кинулись к нему. Володя прихватил фонарь. Подбегаем, видим — крабы. Копошатся в ручье, освещаем их фонарем, не расползаются.
— Что такое?
— Теперь видишь? А еще не верил, что могут быть в пресной воде. Весь Копет-Даг ведь это бывшее море. Смотри, сколько их тут, — говорит Володя.
— Давите наловим! — предлагаю я. — Ведь это чудесно — крабы на завтрак!
Но наловить их сразу нам не удается. Виктор их побаивается. Только подхватит миской, сразу закончит, роняет краба, отскакивает в сторону. Но упустить не хочет, опять его хватает и опять пугается. Очень смешно на него смотреть. Ущелье Ель-дере гудит от хохота. Утром, когда сваренные крабы покраснеют от жестокости людской, Виктор станет уплетать их без страха, с аппетитом. И к его набору «деликатесов» в этом маршруте прибавится еще один.
Зиновия Ивановна устроилась в кабине. Не разделяя «крабьего» ажиотажа, она делает «посевы».
Звезды с ладонь величиною взошли над Копет-Дагом и повисли в чернильном небе. И что-то благоухает, и кажется очень знакомым этот запах, но не поймешь, чем пахнет.
И наплывает усталость, блаженная, сладкая. Закрываешь глаза и видишь опять дорогу, голубые и розовые горы, зеленую долину, и Сумбар, и синее небо, и камыши, и опять горы. И так без конца наплывают, сменяются пейзажи, как кинокадры. И незаметно все переходит в сон.
Утро ясное, звонкое. Небо безоблачно, высоко, сине. Щебечут птицы радостными голосами. Еле заметной тропинкой, сквозь заросли кустарника идем к источнику, захлебываясь от восторга. Только Зиновия Ивановна, нагруженная приборами, с рюкзаком за плечами и с ящиком в руке, хмурится. Не нравятся ей эти коллективные восторги. И не потому, что не любит природу, нет, очень любит, но любовь признает сдержанную — без рекламы собственных чувств. Она сердится и не хочет остановиться, когда тропинка приводит нас в царство ежевики.
Синие ягоды гроздьями свешиваются с колючих ветвей. Созревшие, сочные, они осыпаются в наши ладони и невозможно оторваться — так они вкусны. И Володя, наш начальник, «пасется» на ежевике, хотя на все, что не относится к работе, жалеет время. Но Зиновия Ивановна и минуты не хочет задерживаться.
— Не на пикник приехали, не на прогулку. Нечего лакомиться!
Она уходит вперед, не дожидаясь нас. Мы с трудом пробираемся следом.
— Казалось бы, родник должен быть здесь, — говорит Володя. — Но нет.
Аллочка тянет на спине рюкзак с бутылками для проб. Устала с непривычки. Виду не показывает, только губы облизывает. Жара. Тропинка оборвалась, густеют заросли. Мы в джунглях Копет-Дага. Все оплетено, перекручено. Хватает и колется держидерево. Травы по пояс.
— Стойте! Кажется, он! — восклицает Володя. — Наконец-то. Ура!
Дрожит ручеек, бежит. На своем пути пробивает тропические заросли. Путь к нему был уже пройден до нас, изучен, отмерен. Топографы пришли с теодолитами, отметили этот маленький выход воды, первыми нанесли его на карту, оставили добрый, мудрый след.
До выхода источника надо еще подняться. Володя нас опередил. А мы с Аллочкой не можем отдышаться. Дорого стоит каждая бутылка пробы. Отыщи источник, доберись до него, подойди. Сотни километров надо проехать, десятки пройти без дороги… Оценишь эту водичку, каждую ее каплю, когда сам отберешь пробу.
Зиновии Ивановны нет, где-то плутает.
— Зиновия Ивановна, ау! — кричит Аллочка.
И Володя сердится:
— Нечего кричать. Готовь бутылки. Отбирай пробы. Пусть… Будет знать, как отбиваться в маршруте.
Трещит валежник. Продираясь через кустарник, ломая ветви, пробивает себе дорогу Зиновия Ивановна. Она как взмыленный конь. Ковбойка прилипла, изорвалась. Руки в царапинах.
— Вот вам результат индивидуализма, — шепчет мне Володя. — Не пей, простудишься, — останавливает он Аллочку. — Ангину захотела схватить? Надо сперва остыть.
Рюкзак с полными бутылками совсем придавил Аллочку. Ремни врезались в узкие плечики. Спуск еще тяжелее подъема.
Зиновия Ивановна помягчела.
— Володя, — говорит она, — помогите Аллочке. Что вы, не видите? Ей тяжело.
— Вижу. Но у нас не развлекательная прогулка, Зиновия Ивановна, не пикник, а маршрут, — ехидно отвечает он.
Я вмешалась:
— Но вы же мужчина, как не стыдно.
— Мужчина, мужчина. Заладили одно. У нас не гулянье. Я должен научить коллектора работать. Вы думаете, мне не хочется ей помочь? Да, может быть, я и ее бы с удовольствием пронес вместе с рюкзаком. Откуда вы знаете? Но я начальник партии и не имею права.
«Ах, вот оно в чем дело…» — улыбаюсь про себя.
Вышли на тропинку. Узенькая, она вьется в зарослях. Вдруг что-то летит сверху и хлюпается у ног. Виноград. Нас забрасывают гроздьями винограда. Откуда это? Что такое?
Подбираем. Ягоды полопались. А в нас кидают еще и еще. Ничего не понимаем.
— Может быть, обезьяна?
— Человекоподобная! — бурчит Володя.
Это Виктор. Он забрался на дерево и продолжает бомбардировку. Все дерево оплетено вьющимися лозами. Высоко к солнцу поднялись виноградные кисти, совсем красные на свету.
— Как ты оказался здесь?
— Все расскажу. Уже два ящика нарвал. Видали, какое богатство? — Он спрыгивает с дерева, да так ловко! И впрямь обезьяна. — Вы представляете? Два вьючных ящика, с верхом. Рви сколько хочешь: задарма. Что вы скажете? Чудеса. Тары не хватает.
— А если бы мы стали тебя искать на старом месте? — сердится Володя.
— Я оставил там кастрюлю с виноградом и записку. Но это же совсем рядом… Сижу один, вы ушли. Любуюсь на природу… Вдруг слышу: мяу-мяу — котенок. Не поверил. Прислушиваюсь — в самом деле.
— Какой котенок, откуда он сюда попал?
— Сам думал, откуда. Оказывается, котенок, самый натуральный. Пошел на мяу. Мяу шее ближе, ближе. Ага, — палатка. Она совсем здесь рядом. Аллочка, прими к сведению: двое ребят — первый класс! Твой вид никуда не годится. Давай рюкзак, приободрись.
Мы подходим к палатке. Нас встречает молодая женщина с маленьким серым котенком на плече.
— Таня, — произносит она просто, протягивает руку.
Знакомимся. Уселись на кошме, разговариваем.
— Сейчас напою вас чаем, зеленым. У нас есть даже сушки, — говорит Таня. — Мальчики принесут винограду. У нас его здесь сколько угодно — и белого, и черного. Остатки парфянской культуры. Виноград одичал… Здесь совсем рядом парфянское кладбище. Могу вас отвести, показать.
Но Володя не хочет на кладбище. Впереди работа, время бежит, и пробы еще не отобраны.
Появляются ребята с ведрами винограда — Овез-дурды и Шир. Они студенты Ашхабадского университета, географы. А Таня — аспирант, ленинградка.
Вот так и проводят они лето втроем, перемещаясь со своей палаткой, с котенком, с места на место. Таня собирает гербарий, лазает по склонам гор к вершинам Сюнт и Хосардак, отмечает различные фазы у растений.
«Как странно, — думаю я. — Как будто бы все это уже было когда-то и мне знакомо. Ребята, ущелье, чай у костра… Так это же опять стихи Луговского, его герои…
Овез расставляет пиалы. Шир заварил чай.
— Дайте сушки, сахар, хлеб, — командует Таня, — виноград.
— У вас здесь дисциплина. Матриархат.
— Мальчики очень хорошие. Почти не понимают по-русски. Я воспитала их, и теперь они во всем меня слушаются, помогают. Все научились делать. А вначале ничего не умели и ужасно стеснялись. В Кара-Кале они не хотели брать моего котенка. Ольга Фоминична мне сказала: «Ты, Таня, с ними построже, и все будет в полном порядке». Я так и делаю. Шир тогда выдержал все насмешки и гордо держал котенка в руках, когда мы уезжали. Он у нас прелесть, Шир. Охотник. Приносит нам кегликов[2] и сам жарит. И тебя угощает, да? — обратилась она к котенку. — А костер разжигает с одной спички, просто чудо. Жаль, что вы уезжаете… Я так соскучилась по русской речи. Ужасно захотелось домой, к своему сынуле.
Оказалось, у Тани семилетний сын. Она побоялась взять его с собой, а теперь жалеет. Почти полгода здесь, истосковалась. В этом году должна закончить работу над диссертацией.
— Я занимаюсь злаковыми и бобовыми — эфемерами. В Туркмении они являются единственным пастбищным кормом. Я собрала уже около восьмидесяти видов. Это все Ольга Фоминична, она продумала всю мою диссертацию. Удивительная женщина. Она расскажет вам про эфемеры. В Кара-Кале вы обязательно должны заехать в ВИР. Она чудо!
Виктор озабочен, куда набирать виноград.
— Нажали бы вина… А тары нет.
Володя не разрешает опорожнить вьючные ящики и рисковать бутылками из-за винограда. Виктор не на шутку расстроен. От соблазна надо скорее уезжать.
На прощанье Таня дарит нам целую пачку дикобразьих игл.
— Это он оставил свои визитные карточки. Дикобраз сбрасывает их, когда боится или сердится, — объясняет Таня, — Всю ночь не давал мне уснуть. Я думала, тигр, и тряслась от страха, так он фырчал, скреб лапами… А против тигра у нас нет защиты. Ружье только для кегликов.
— А ваши телохранители?
— Мальчики — мое спасенье. С ними не страшно. Но они так крепко спали…
Молчаливые ребята улыбаются. Очевидно, Таню они понимают.
Таня все махала и махала рукой вслед уходящей машине, пока совсем не скрылась в выцветшем своем халатике, светловолосая, милая.
Опять прогон. Опять остановка. Вылезли из машины. Володя забирает «Тулку».
А вдруг и нам попадутся кеглики.
Довольно быстро находим ручеек, оправленный в бетонное ложе. Володя поднялся вверх по склону, зовет нас. Источник найден.
— Сюда!
Нестерпимая жара. Отбираем пробы.
— Алла, измерь температуру воздуха. Наверное, не меньше сорока, — говорит взмокший Володя.
Аллочка в воздухе на веревке крутит стеклянный термометр — бах… Разбивает его вдребезги о собственную голову.
— Балда! Надо же так умудриться, — ворчит Володя.
— Хорошо, что голова уцелела, — говорит Зиновия Ивановна, — а термометр есть запасной.
— Определяй дебит источника! — Володя явно придирается. Только что отругал, что не смогла перевести масштаб по карте. — Студентка университета — и не разбирается в масштабе. Как ты будешь определять дебит?
— Кружкой, — робко отвечает Аллочка.
— И что ты узнаешь своей кружкой? Одну наполнишь, десять утечет. Это же ручей, а не водопроводный кран. Что такое дебит? Подумай.
Алла задумалась.
— Забыла?
— Нет, почему забыла. Это количество литров в секунду.
— Ну правильно. А как же его измерить?
— Надо узнать скорость и умножить на сечение.
Володя просиял:
— Наконец-то.
Нравится ему Аллочка. Это совершенно очевидно. Только не позволяет он себе, чтобы она ему нравилась. И потому особенно придирчив к ней.
— Фу, какая некрасивая у тебя рука, — говорит он. — Как птичья лапка. Маленькая, тоненькая и коготки острые, загнутые.
Аллочка молчит.
— Такие коготки крепко держат, Володя. Схватят и не отпустят, — шучу я.
— Я покричу вам, когда разыщу родник, — он уходит вперед.
Мы с Аллочкой остаемся. А Зиновия Ивановна с удивительной легкостью бежит за ним. Очень скоро раздается ее резкий голос.
— Эй-эй, сюда!
И мы двигаемся следом.
— Слышите? — говорит Володя. — Слышите, кудахчет? Это — кеглики. Они любят утолять жажду у родников. Вот бы подстрелить… Я попробую.
Он прячется в камышах и ждет в засаде. Кеглик сторожкая птица, не пришла. А дальше… дальше тоже ничего. Вечереет, мы слышим кудахтанье повсюду, совсем близко, в горах. Володя с ружьем наперевес пробирается легко, не шелохнет кустика, не потревожит камня, осторожен, но так и не подстрелил ни одной курочки, не сделал ни одного выстрела.
Расположились на ночлег. Устали, но почему-то не спится. Аллочка устроилась на отшибе.
— А тигр сюда не подберется? Как вы думаете? Володя, у тебя заряжено ружье? — спрашивает она.
— Ты что же думаешь, я из двустволки по тигру дробью стрелять буду?
— Да вы и по кегликам не стреляли, — язвит Зиновия Ивановна.
— Зачем зря тратить патроны? Я не люблю лупить попусту. Как назло, ни одна не попалась. Просто не везет…
— Не везет в охоте — везет в работе, — произносит Виктор.
— Что правда, то правда. Сегодняшний план у нас выполнен, — говорит Зиновия Ивановна.
— Ну а все-таки, если тигр, что тогда? Мне страшно.
— Спи, Аллочка, не бойся. Я его… в один момент машиной придавлю. Куда ему! Человека любой зверь боится. Я вот о чем переживаю, ящиков мы с вами, Зиновия Ивановна, не захватили. Нажали бы вина. Эх! — вздыхает Виктор.
— При чем тут я? У меня другие задачи.
— Да как же ни при чем. Предусмотреть должны. Вы ведь здесь всех постарше, посолидней. — Он понимает, чем ей досадить. Не любит таких напоминаний Зиновия Ивановна.
Безветренная, жаркая ночь. Звездный полог будто колышется над нами… Аллочка при свете фонарика лежа что-то пишет. Задумается, посмотрит в небо и опять строчит.
Что это, может быть, стихи?.. Не хочется ей мешать, но побеждает любопытство. Подхожу.
— Что это ты пишешь, Аллочка? Спать пора.
— Подсчитываю наши расходы. Мы очень много тратим. Не укладываемся в бюджет.
— А… — Я разочарована. Вернувшись на свою постель, жалуюсь Зиновии Ивановне.
— Молодец, — говорит она, — думает о коллективе. Чувствует ответственность за наши денежки. Молодец.
Поднимаемся рано. До завтрака уходим в маршрут.
На карте у нас отмечены три источника в верхнемеловых отложениях. Ищем. Источники пропали.
Впереди несколько высоких, плотно растущих деревьев. Подходим — родник, но грязный, весь в тине, не годится. В нем нашли себе приют огромные зеленые лягушки — смотрят на нас.
Отбирать пробы нельзя. Жаль. Идем дальше.
— Стойте! — говорит Володя.
Мы видим на тропе свежий след гигантской кошачьей лапы.
— Что это по-вашему? Тигр или барс?
Аллочка молчит, оторопела. И мы молчим. Стоим и смотрим.
Идем по звериному следу.
— След совершенно свежий, — говорит Володя, — видно, только-только перед нами прошел. Попил водички…
А родников все нет и нет. Наконец два оставшихся, отмеченных на карте, находим у самого подножья гор. Но совсем пересохшие. Отбирать нечего, иссякли. Возвращаемся обратно. Володя мрачен.
У машины застаем Виктора, оживленно беседующего со стариком туркменом. Два груженых ослика переминаются с ноги на ногу.
— Так вот, — говорит Виктор, — у бабая под утро барс задрал козла. Аллочка не зря тряслась, чуяла. Нам-то это, конечно, с руки. Я тут уже сторговался. Прихватил кусочек пожирнее. Бабай везет на базар. Попробуем свежей козлятинки.
Мы вспоминаем след на тропе. Зверь запивал свой завтрак в лягушачьем роднике.
Мы исполняем просьбу Тани. Возвращаясь в Кара-Калу, останавливаемся возле опытной станции ВИР.
Директор станции Ольга Фоминична встречает нас с умеренной приветливостью.
— Наталья Ильинична, проведите товарищей из Москвы по территории, — обращается она к вошедшей в кабинет сухонькой, пожилой женщине с прокопченным солнцем лицом. — Знакомьтесь! Наталья Ильинична, старший научный сотрудник. Заведует у нас отделом субтропических и орехоплодных культур.
Мы еле поспеваем за Натальей Ильиничной, так быстро, вприпрыжку бежит по дорожкам сада сердитенькая угловатая женщина.
Кругом красота невиданная, прибранная, подстриженная, ухоженная.
Каждое дерево имеет свое название, свою историю. И с гордостью, очевидно законной, как будто захотела похвастаться собственным сыном, о них рассказывает нам Наталья Ильинична.
— Смотрите. Это кедр, ливанский. Вы видите, какой он? Ему всего три года, а вытянулся выше колонны Казанского собора.
— Вы ленинградка? — спрашиваю я.
— В прошлом. Уже пятнадцать лет работаю здесь.
Китайский финик, инжир, пицундская сосна, миндаль, дрок, кипарисы, джида и, наконец, гранаты.
У каждого свой паспорт, год рождения, происхождение, национальность. А когда нас подводит к виноградникам, мы замираем от восторга. Палитра красок здесь необычайна. Грозди всех цветов. От ярко-зеленого до черно-красного. Ягоды просвечивают на солнце драгоценными камнями. В этой коллекции и аметисты, и изумруды, рубины, хризопразы, альмандины, черные гранаты, гиацинты, аквамарины, сердолики.
— У нас на станции четыреста шестьдесят разных сортов. Сейчас это второе место в Союзе, — говорит Наталья Ильинична.
Она ведет нас к складу. Кругом стоят корзины с нарезанным виноградом.
— Это для отправки. Можете попробовать, — предлагает она.
У Виктора глаза разбегаются, да и у нас тоже.
— Особенно сладок этот розовый мускат. Пожалуйста, не стесняйтесь.
Мы пробуем и, хоть соблазн велик, ограничиваемся скромными порциями.
— Ну, кажется, все. До свиданья. Вы извините меня. Спешу, Работа. Ничего не поделаешь.
Мы благодарим и направляемся к Ольге Фоминичне, Застаем ее в том же кабинете, Она сидит за рабочим столом и разбирает розы. Раскладывает в ряды. Свежие, только что распустившиеся, потом осыпавшиеся с завязью плодов, зрелые плоды на розовых ветвях, семена.
— Что это у вас? — любопытствуем мы.
— Присаживайтесь, — говорит Ольга Фоминична. — Что это? Очень интересная вещь. Знаете ли вы, что более двух тысяч лет люди сообща создают этот клад красоты? Различные великолепные сорта роз выведены безымянными авторами. Их творил народ, и более двух тысяч лет воспевают поэты. Но в розах людей и поэтов всегда интересовали только цветы. Никто не думал о плодах.
Она помолчала и поглядела на нас из-под очков внимательно и пристально.
— Мы заметили, — продолжает она, — что иногда плоды розы обнажаются. Так вот, если почти созревшие семена облучаются солнцем какое-то время, то после посева таких семян уже через два месяца роза дает цветение, В обычных же условиях она зацветает не ранее двух лет. Понятно? Сейчас на розах мы хотим проследить возможность ускорения вегетации вообще. Жаль, что поздно умнеешь, — сказала она и вздохнула, — поздно начинаешь логически видеть. Монтень высказывал мысль, что мудрость должна быть дана человеку, пока он молод, полон сил и многое может успеть. А не наоборот. Вот так.
— Ну что же, пожелания Монтеня сбылись. Вы мудры и молоды. Нам много рассказывали о вас, — говорю я.
— А я вот все смотрю, никак не пойму. Это что же такое будет? — спрашивает Виктор.
На стене — прикрепленные к стенду высохшие корни какого-то растения. У них причудливая человекообразная форма. Точно распятые человечки.
— Это, наверное, женьшень? — говорит Зиновия Ивановна.
— Нет. Мандрагора.
— Мандрагора? Настоящая мандрагора?!
Подумать только, никогда не ожидала, что увижу когда-нибудь это мистическое растение.
— Да, да. Мандрагора туркменская. Как-то стыдно смотреть на эти пригвожденные корни. Уже три года, как они висят и все пускают листья. Страшно устойчивый вид.
— А она не стонет? Не кричит? — в шутку спрашиваю я. — Как это у Шекспира? Помните? «Чудовищные стоны мандрагоры…»
— Вполне возможно, что кричит. Но только мы этого не слышим. Пока.
— То есть как? Вы серьезно это говорите? — спрашивает Володя.
— Совершенно серьезно. Возможно, что когда-нибудь мы и научимся слышать. Растения же слышат нас.
— Не может быть.
— Известно, что цветы не любят шума. Если поставить репродуктор перед цветами, они отвернут головки. Цветы не любят, когда при них ссорятся, кричат. Они вянут. Это все уже установленные, факты. Наука находится на стыке со сказкой, легендой. Она уже позволяет нам разгадывать те тайны природы, которые считались мистикой. Да, да. Вот хотя бы эта мандрагора. То, что она чувствительнее многих других растений, вы можете увидеть сами. Возьмите в пальцы листок.
Володя легко прикасается к листку мандрагоры.
— Теперь смотрите. Видите? Она уже потемнела.
Мы столпились у стенда. Действительно, в месте прикосновения на листке появилось темное пятно.
— Можно мне? — спрашивает Володя, опасливо дотрагивается до мандрагоры и сразу же отрывает палец. Листок не потемнел. — Вы как хотите, а я в эти сказки не верю.
— И очень жаль, — говорит Ольга Фоминична, — в сказки верить надо.
Как бы про себя Виктор произносит:
— Никак я не пойму. Кажется, такой культурный человек, а говорите, в сказки верить надо.
Ольга Фоминична улыбается, первый раз за все время. И сразу становится другой, более молодой и более доступной.
— Знаете, — говорит она, — мне думается, что сейчас наука достигла таких успехов, что сместились наши понятия о многом. Если раньше можно было говорить — я человек культурный и ни во что не верю, то теперь следует, очевидно, говорить — я человек культурный и поэтому верю во все. — Она смеется. — Вот возьмем хотя бы суеверие, связанное с мандрагорой. На Востоке женщины носили амулеты из ее корня. Считали их приворотными. Казалось бы, чепуха. Но какой-то логический смысл есть. Корень мандрагоры богат алкалоидами, которые обладают анестезирующим и возбуждающим действием. Вот вам и некоторое научное обоснование этого суеверия.
— Как интересно! А мне никак нельзя достать кусочек? — тихо спрашивает Аллочка у Володи.
— К чему это тебе? Вот тоже…
— А где растет эта туркменская мандрагора? — спрашивает Зиновия Ивановна.
— Мы обнаружили ее в горах Копет-Дага, совсем случайно. Сейчас в Туркмении есть уже плантации. Корни ее имеют огромное лекарственное значение.
Мы просим рассказать еще о мандрагоре, но Ольга Фоминична отмахивается.
— Нет, нет. Это уже пройденный этап. Если хотите, я расскажу про эфемеры. Это то, чем мы живем сейчас. Вернее, над чем работаем. О них никто не думал, Им не придавали значения.
С оживлением Ольга Фоминична рассказывает нам про эфемеры, которые собирает и изучает сейчас Таня для своей диссертации.
Мы узнаем о злаковых и бобовых однолетниках с очень короткой вегетацией. Нам рассказывают, как с их помощью был найден простой, дешевый способ укрытия почвы на жаркие месяцы от перегрева. Как позволяет этот способ сохранить влагу в почве, Эфемеры сами рыхлят землю, затем укрывают своим покровом и сами дают удобрение за счет перегноя.
— Вот это мне нравится, — говорит Виктор. — Здорово! В это я поверить могу. Но если мы не хотим ночевать в Кара-Кале, надо трогаться.
— Я думаю, вам будет интересно отобрать пробы в серном роднике, — творит Ольга Фоминична. — Он у могилы Биби-джан. Вы доберетесь засветло. Он недалеко. Это святое место у туркменов и их лечебный родник.
Володя отыскал на карте родник. Он из меловых отложений и, значит, нам подходит.
Виктор торопит. Идем к машине.
Ольга Фоминична провожает нас.
У ворот много машин. Собрался народ. Грузят ящики с гранатами.
— До свиданья. Возьмите по гранату на дорогу, — предлагает она. — Счастливого пути!
— Вот это женщина! Настоящая богиня плодородия. И гранатами одарила, — говорит Володя.
— Не слишком-то расщедрилась. По одному дала, а их здесь чертова прорва.
— Как вам не стыдно, — сердится на Виктора Зиновия Ивановна, усаживаясь рядом с ним.
Едем к роднику Биби-джан. Виктор проголодался, спешит. Подъехали. Видим кусты, все в цветах из ситца. К каждой веточке аккуратно привязаны десятки тряпочек, белых, цветных. Тряпочки повыцвели. Дары наивных душ, убранство могилы Биби-джан.
Неподалеку домик. Перед ним очаги. Стопками сложены дрова. Котлы для плова. И никого. Только кошка с отрубленной лапой, чтоб стерегла, не убежала, увидела нас, замяукала жалобно.
Входим в дом, пусто, чисто. Кошка, прихрамывая, следует за нами. На полках стоят пиалы, чайники. Открываем шкафчик, заглядываем — чай, сахар, подсохшие лепешки, прикрыты полотенцем. Все приготовлено для путников. Как-то странно, одиноко и печально здесь, в этом «Святом месте».
Володя нашел родник. Он совсем рядом. Сделана запруда, вода стекает в желоб.
«Слезы Биби» — так называют его туркмены. По легенде, на месте, где умерла Биби, спасая от врага жениха и свое племя, из земли забил источник. «Девичий источник» — извечная, бродячая тема.
Вода прозрачна и чиста, просвечивает дно бассейна. Почти не пахнет сероводородом, но серы в запруде много. Она скопилась по краям и на дне. Это бактериальная армия Зиновии Ивановны прилежно трудится. Вот оно и чудотворное действие родника. Эта серная вода залечивает раны, гнойники. Сюда, к живым слезам Биби-джан, приходят туркмены для исцеления.
Садится солнце.
— Мне хочется выкупаться, — говорит Аллочка. — Так всего много за эти дни.
— Ну и хорошо, что много. Тебе что, не нравится? — спрашивает Володя.
— Нет, нравится. Наоборот, очень нравится. Но хочется выкупаться.
— Уже поздно. Простудишься. Завтра выкупаешься.
— Нет, сегодня.
— Идемте! — говорит мне Володя и уходит.
Аллочка разделась, скользнула в запруду и поплыла.
«Останусь», — думаю я.
Закат окунулся в воду, и стали розовыми слезы Биби от лучей. И так прекрасно это купанье, и красноватые горы, и запахи трав, и воркотня засуетившихся птиц. Хочется продлить все это, запечатлеть, сохранить. Но как, где? Может быть, в себе? Темнеет.
Аллочка меня не видит, вылезла из воды, думает, что одна. Потянулась, будто захотела взлететь. Запрокинула руки за голову.
— Я буду, я буду геологом! — как заклинание шепчет она.
И я стою в каком-то наваждении непостижимых, живых тайн земли, сокрытых в этих целительных слезах Биби-джан, и в сере, выбелившей дно у водоема, в творящей армии бактерий, — в Аллочке, в ее душе, в цикадах, сменивших утихомирившихся птиц, в звоне их кастаньет, взлетающем в полиловевшее небо…
Ночь. И опять наплывает усталость. Закрываешь глаза, и все увиденное, перечувствованное возникает как наяву.
Около меня мерно дышат мои товарищи.
Жалобно мяукает одинокая кошка с отрубленной лапой. Вот что-то зашуршало. Важно шествует еж. Остановился, огляделся, свернулся в комок, ощетинился.
Звезды над головой, колючие-преколючие. Вот упала одна, другая, еще. Звездопад…
Ощетинилась вселенная, сбрасывает иголки.
«Дикобраз сбрасывает иголки, когда сердится или боится. Что же это она, вселенная, сердится или боится?» — думаю я, засыпая.
Колесо
Он сидел за письменным столом вполоборота к двери: широкий тяжелый торс, большая голова с залысиной, крупный значительный профиль. Он повернулся, вежливо и тихо сказал:
— Здравствуйте. Входите, пожалуйста. Садитесь. — Он указал на диван. — Слушаю вас.
— Никак не думала, что к вам, вот так просто, можно прийти без всяких звонков, писем, резолюций. Это удивительно и прекрасно!
— Слушаю вас, — сказал он. — А как же может быть иначе?..
Она рассказала о болезни сестры, о сроке, отпущенном ей на Каширке, о теперешнем ее состоянии.
— Все, как по учебнику, все, как по учебнику, — сказал он. — Отказываются вторично оперировать?! Обычное дело.
Зазвонил телефон.
— Да. Да. — Он неохотно поднялся и объясняюще разъел руками. — Извините, оставляю вас на несколько минут.
О нем, о его методе, она знала по нашумевшей статье и по толкам, ходившим в медицинском мире, с которым волею судьбы столкнулась в последнее время.
У нее всегда было предубеждение к «светилам». За это время оно только укрепилось. «Рассуждать, раздумывать? Сейчас?..»
Говорили разное: и то, что он смел, решителен, талантлив. Одни считали его авантюристом, другие — крупным ученым. Слышала она и о том, что он нравится женщинам, избалован, красив.
И сегодня, в который раз, взвешивая всю эту смешанную информацию, она готовилась к встрече, предусмотрев все, вплоть до мелочей туалета.
В ожидании она оглядывала кабинет: книжные полки со множеством каких-то безделушек, очевидно сувениров, на стенах — окантованные фотографии и дипломы иностранных обществ. На письменном столе — педантический порядок, маленький бюст Гиппократа и три аккуратно поставленных в ряд, коллекционных автомобильчика — синий, желтый, красный.
Она улыбнулась, от какой-то странной знакомости этого стола. И почему-то, ни к селу ни к городу, вспомнила, как ее муж в первый раз признался ей в любви. Они сидели на людях, в гостях, он оторвал бумажку от папиросы, нацарапал на ней несколько слов и передал ей. Все это происходило между общим разговором, заметно только для нее. Она прочла и дописала — «да». А он, ее будущий муж, поджег листок и слизнул пепел с ладони.
— Так значит, отказываются оперировать?.. — сказал он, усаживаясь в кресло. — Обычное дело. Все, как по учебнику. Но надо посмотреть.
Он согласился посмотреть сестру.
Ничего еще не было решено, ничего не обещано, но она уходила из клиники уверенная в том, что он поможет и что-то сделает.
В воскресенье она приехала в условленное время, но был обход, и ей пришлось ждать.
Пять месяцев, подаренных сестре тогда, казались благом. Она увезла сестру в Тарусу. Это было их первое лето вместе. Как же так случилось, что ни разу, никогда до этого, не пришло ей в голову провести отпуск с сестрой?..
Лето выдалось чудесное: синь, мягкие излучины Оки, желтые плесы. Запах яблок повсюду.
С утра сестра усаживалась в саду редактировать диссертации своих аспирантов.
— Что ты возмущаешься? Я совсем здорова! Это ты больна! Не спишь по ночам.
Ночи проходили в раздумьях. Она слушала, как падают и со звоном ударяются яблоки о землю, как ровно, спокойно дышит сестра. В окнах рябила листва, растворялась во тьме. Появлялся Адмирал Нельсон, так прозвала сестра наглого помоечного кота за длинное черное пятно, как повязку по глазу. Он начинал скрести по стеклам, бегать по крыше, исступленными воплями призывая подругу, сиамскую кошку хозяев. Сестра огорчалась, что он так роняет достоинство. В предрассветном небе, наваждением ушедшей старины контуры деревьев превращались в расплывчатые очертания фантастических замков и городов.
Опять вставало солнце, и новый день приносил свои заботы и радости.
Постоянная ложь, которой она окружила сестру, заражала. Днем она и сама, вопреки всему, начинала верить, что диагноз ошибочен и сестра будет жить.
Они гуляли по лесу, бродили вдоль берега, взбирались на кручу и там, с высоты холма, любовались Окой. Пряди у берез золотели, красным вспыхивали осины, клонили ветви алые гроздья рябин — щедрость красок, жар обреченности. Бабье лето запутывало паутинами. Развевались по воздуху тонкие нити.
Прошло полгода. Прошел подаренный срок. Навсегда уходило детство, живая память о матери, связь с прошлым. Уходила правда, та единственная правда, которую скажут тебе, потому что искренне любят. Навсегда уходила защищенность этой любовью перед неудачами, одиночеством, перед всем миром.
От врачей всех рангов единый приговор:
— Вторично оперировать? Зачем? Дайте ей спокойно умереть. «Уподобиться Харону и спокойно перевезти ладью через Стикс? Нет! Только действовать!»
Но вокруг ватная стена участия и безнадежности. Кому нужно чужое горе?
Сестра точно растаивала.
«Надо пробовать. Рисковать. Чем я рискую? Ведь все равно обречена».
Она увидела его и не сразу узнала в халате и зеленой шапочке. Он шел по коридору сутулясь, и грузный, и легкий. Поклонился, улыбнулся устало, открыл дверь, пропуская ее вперед:
— Простите, заставил вас ждать. Садитесь. — Он вопросительно взглянул на нее.
— Вы обещали посмотреть сегодня мою сестру. Она лежит сейчас…
— Да, да, — перебил он. — Все помню. Транспорт есть?
Он сбросил с себя шапочку и халат, швырнул их на кресло и здесь же, при ней, надел пиджак.
В такси они сели рядом. Заказанная ею машина была заезженной и грязной. Она извинилась.
— Какая ерунда! Что вас волнует. — Его рот скривился в гримасу.
— Значит, в воскресенье вы на работе?
— Обязательно.
— Как вы, наверное, устали от больных.
— Как вам сказать? От этого никуда не уйдешь.
Он не сказал, что любит своих больных. Видит их такими неподдельно-естественными, такими похожими в едином страхе за жизнь. Любит их, и только эта любовь делает его сильным даже тогда, когда он недостаточно тверд.
Он не сказал ей ничего этого, но она чувствовала, что он думает так. Он только добавил:
— Профессия. Другой я для себя не мыслю. — И была в этих его словах такая ясная убежденность и простота, что она с завистью и восхищением смотрела на него.
— А вы чем занимаетесь?
— Геолог.
Он задал несколько вопросов и, выслушав, над чем она работает, шутливо заметил:
— Вам хорошо. У вас все более ясно. Уже имеется теория экзогенных месторождений! А мы вот до сих пор не знаем, откуда появляются у больного камни. Тело человека тайна.
— Наверно, человеческая душа еще большая тайна.
— Не спорю, — ответил он и замолчал.
— Человеческая душа… Вы знаете, я сейчас заново открываю для себя мою сестру. Поверьте, эта женщина необыкновенная.
Она была потрясена, когда в старинной книге: «Philosophie moderne», ее читала сестра, случайно в главе «Système de Leibniz» нашла закладку. Рукой сестры было написано: «De tous les mondes possibles Dieu a choisi et créé le meilleur (Leibnitz)»[3]. А дальше по-русски: Она знает все и обманывает меня. И я знаю, что умираю, но не могу мучить ее тем, что знаю».
Эти слова сестры жгли ее, и она, вопреки всему, ждала чуда и одержимо билась за ее жизнь.
— Я был бы рад помочь, — сказал он. — И не потому, что ваша сестра необыкновенная. Для меня она просто больная. — И, помолчав, добавил: — Так учили меня мои учителя.
В институте, получив историю болезни, он уселся в ординаторской.
Сестра еще не знала, что она замышляет вторую операцию. Она вошла к ней в палату, чтобы предупредить о приезде профессора. Лицо сестры удивило ее. Оно было так сосредоточено, как будто она решала какую-то сложную задачу. Сестра увидела ее, заволновалась, лазурные ее глаза заблестели и высветили строгое лицо.
«Какая красавица!» Красоту сестры, поглощенная только собой, она вообще не замечала, лишь иногда, отвлекаясь от себя, не могла не признать, что сестра красивее ее.
Всегда она была эгоисткой. Набаловали. Когда была маленькой, говорила: «Это мне, ты большая». Когда стала взрослой: «Мне нужно, я моложе». Когда вышла замуж: «Это мне, я замужем, а ты нет». И так всю жизнь.
Но сейчас, доставая из сумки нарядную пуховую кофточку, она сказала:
— Тебе будет в ней тепло. И я хочу, чтоб ты была еще красивей.
Сестра просияла от удовольствия:
— У меня никогда не было такой чудесной кофточки. — И в этом была такая детская беспомощность, что она, готовая разрыдаться, нарочито строго сказала сестре:
— Не волнуйся. Сейчас тебя будет смотреть профессор.
Она вернулась в ординаторскую. Он все еще изучал историю болезни. Погрузившись в страницы и закусив нижнюю губу, он почему-то непрестанно тряс согнутыми в коленях ногами, упершись ими в пол. «Странная манера». Только позже она поняла, что это привычная разминка хирурга, вынужденного стоять долгие часы над операционным столом.
— Все, — наконец сказал он, легко поднялся, — теперь можно посмотреть больную.
Обратно ехали в том же такси.
— Конечно, состояние вашей сестры тяжелое. Но силы еще есть. Операцию должна перенести.
Она взглянула на него с благодарностью.
— Что позволяет вам так думать?
— Опыт. Иного выхода нет.
— Значит, вы согласны делать операцию? — спросила она.
— Я сказал. Поживем, увидим.
Все в ней ликовало от этой победы.
Они въехали в город, и она спросила, куда его подвезти. Ей показалось, что на секунду он заколебался и потом назвал адрес.
Обо всем, касательно перевода больной к нему в клинику, она должна была договориться с его секретарем.
Надо было осторожно подготовить к этому сестру. Исподволь она начала ее уговаривать, объяснять все преимущества операции. Уговаривая сестру, она уговаривала себя.
— Что ты стучишься в открытую дверь? — как-то сказала сестра. — Я же согласна!
У сестры возобновились ознобы, появилась желтуха. Завотделением института, где она лежала, крупный специалист, сказал:
— Я слабо верю в то, что он станет оперировать.
Теперь сомнения стали одолевать ее: смеет ли она идти на этот риск? А вдруг сестра не перенесет операции? И даже если не так, во имя чего подвергать ее новым мучениям? Ведь все, и даже он, повторяют одно и то же: спасти нельзя, послеоперационный период — тяжел. Идти на этот риск, чтобы продлить срок? Но, может быть, продлить только страдания?
Страшней всего было то, что никто, ни друзья сестры, ни ее собственные друзья, никто, кроме нее самой, не мог взять на себя ответственность.
«Что делаешь, делай скорее», — сказала сестра.
Но эти слова, думала она, сказаны были на Тайной вечери Иуде. Не предаю ли я свою сестру? Нет. Что, делаешь, делай скорее.
Она пришла в клинику, чтобы договориться о переводе туда сестры. Ее встретила секретарь, оглядела быстро, изучающе и одобрительно улыбнулась, как бы оценив все ее старания произвести впечатление. А ей вдруг стало стыдно от неуместности своего прихода такой расфранченной сюда, в клинику, где и болеют, и мучаются, и умирают.
И только в его кабинете она почувствовала себя уверенней.
Он вошел и, кивнув ей, уселся в кресло. Сегодня он был усталый, поникший. Зеленая операционная форма сидела на нем небрежно, на ногах были стоптанные тапки. Он так и остался сидеть в шапочке.
— Ну? Решились перевозить к нам сестру? С секретарем договорились? — спросил он равнодушно и тихо.
Она сообщила, что за эти дни отек еще усилился и в институте сомневаются, что он возьмется оперировать.
— Поживем, увидим. Другого выхода нет.
Он взял со стола тюбик, выдавил из него крем и стал смазывать себе руки, которые заволгли от резиновых перчаток. Она встала.
— Куда вы? Сидите!
— Не хочу вам мешать. Вы устали.
— Да, операция была сложная. Но не от этого. Донимает текучка. Больше устаешь от всяких ненужных дел.
Он закурил. Его руки не соответствовали ее представлению о руках хирурга. Скорее это были руки мастерового — широкие, с короткими пальцами. Но ей было приятно на них смотреть, в них она видела надежность и силу.
Секретарь принесла бумаги на подпись… Он устало и скучающе просмотрел их, подписал и отдал. В кабинет зашли несколько врачей и стали говорить с ним о чем-то. Она опять поднялась, и опять он остановил ее:
— Вы никому не мешаете, сидите!
Она не могла понять, почему он ее задерживает. Казалось бы, обо всем договорено. «Может, жалеет меня? Но разве я вызываю жалость? Не думаю. Печалиться себе я не позволяю».
…— Вспомни, что Данте, — как-то сказала сестра, — в самые глубины ада поселяет тех, кто предавался печали, кто «в милом воздухе, что веселится солнцем, печальны были».
«Сестра любила цитировать…» — подумала она, с ужасом ловя себя на том, что иногда думает о сестре уже в прошедшем времени.
Она чувствовала, хотя и не могла сосредоточиться на их разговоре, что говорит он с врачами так, будто хочет, чтобы и она его слушала. Почему-то ей сейчас казалось, что своим присутствием она не только не мешает, но даже в чем-то помогает ему.
Небольшой рисунок на стене, окантованный под стекло и явно непрофессиональный, привлек ее внимание. На рисунке изображен был он в маске, в перчатках, во время операции.
— Что вы там разглядываете? — спросил он, когда врачи вышли из кабинета.
— Неплохой рисунок, — сказала она. — Вас когда-нибудь писал настоящий художник?
— Нет.
— А можно было бы сделать портрет. Вы находка для живописца!
Она заметила, что слова ее приятны ему. В этом было что-то непосредственное и милое, тронувшее ее — маленькая слабость в таком большом и сильном человеке.
— Я обязательно этим займусь, — сказала она.
— Вы художница? — обрадовалась секретарь.
— Нет, но у меня много друзей художников, и я уже знаю, кого приведу сюда в следующий раз. Вы не откажетесь позировать?
Он развел руками:
— Пожалуйста. Можно будет порисовать и в операционной…
Такая его готовность вызвала в ней желание улыбнуться, но она сдержалась.
— Очень хорошо, очень хорошо. Обязательно привозите к нам художника, — радовалась секретарь.
Уходя из клиники, она размышляла о том, как вторглась в мир его кабинета, как заранее продумывала манеру своего поведения, нарушая все нормы. «Что только приходит в голову?..» Ей казалась легкомысленной, даже бесстыдной эта уловка с портретом. Но она смутно чувствовала, что и эта уловка чем-то сможет ей помочь.
Отыскать приятеля художника оказалось непросто. Наконец, с трудом, ей удалось дозвониться к нему:
— У вас имеется блестящая возможность проявить свой талант, — начала она, — я нашла вам модель. Необходимо, поймите, необходимо сделать портрет для выставки. В депрессии? Провалили вашу картину? Я была уверена, что так и будет, предупреждала. Теперь напишите портрет и примут без разговоров. Чей? Увидите. Кота в мешке? Так я же говорю вам, что увидите. Можете мне поверить. Интригую? Ну если хотите, пожалуйста: хирург, светило… Вы не только захотите его писать, но и лепить станете.
Был неоперационный день, когда она вместе с художником зашла в кабинет. Их встретила секретарь, обрадованно забеспокоилась:
— Присаживайтесь, располагайтесь, как вам будет удобно. Шефа нашего рвут на части, не обращайте внимания. Он должен появиться с минуты на минуту. Не стесняйтесь, начинайте сразу рисовать. С ним надо построже. Пусть позирует. Чем вы будете? Масляными красками?
— Вас тоже непременно надо порисовать, — сказала она секретарю, — и лучше всего пастелью. Эти припухшие глазки, нежность кожи.
— Меня-то не обязательно. Что уж там, все ушло, дети взрослые. Шефа, шефа!..
Появился шеф и заполнил собой кабинет.
Художник походил на охотничью собаку, сделавшую стойку.
Шеф сидел в своем кресле, бросив тяжелые руки на стол. Художник искал ракурс, поворот, свет. Отходил, подходил, советовался с ней, наконец взял альбом:
— Прекрасно, прекрасно. И как хорош этот синий пуловер с белой сорочкой. Я так и буду писать, в этом синем, — и стал делать набросок.
Она оставила их и пошла в палату к сестре.
Взгляд сестры говорил: «Я боюсь. Иду на все эти мучительные испытания потому, что верю в тебя, как и всегда верила. Ты не подвергла бы меня всему, если бы не знала, что я поправлюсь. Знаю тебя, знаю, как неистощима твоя энергия, как тебе самой необходима сейчас эта борьба за меня. Вижу, как бьется в тебе сила жизни. Все понимаю. Боюсь. И тоже хочу жить».
Она с ложечки покормила сестру и подробно, в мизансценах, весело рассказывала, как в кабинете шефа орудует сейчас художник. Она старалась развлечь сестру своим шутливым рассказом. И ей это удавалось. Сестра, как всегда, любовалась ею, пока не начинались озноб и рвота.
Мучительно было делать веселое лицо, не допускать сомнения. Она до изнеможения уставала от этой повседневной игры и, приходя домой, чувствовала, как ее покидают силы.
Неотвратимость конца становилась реальнее. «Состоится ли операция? Успеет ли?» Ни на людях, ни на работе, ни даже во сне она не могла теперь найти успокоения. Единственное место, где она чувствовала себя защищенной, — это был его кабинет в клинике. Она поняла, что не мешает ему своим присутствием. Она сознавала свою власть над мужчинами, умела этим пользоваться, но размышляя по этому поводу, решила, что в ней ему нужна сейчас ее вера в него, эта вера делает его сильнее, таким, каким он хотел бы быть.
Он не заговаривал с ней о сестре, и она умышленно избегала этого, потому что все время боялась, что он уже не сможет оперировать.
Этот день был особенно тягостен для нее, давило сердце, с утра лил дождь, было серо и мокро.
Когда она вошла к нему, то сразу поняла, что ничего не состоится. Он сидел в какой-то безнадежной позе, понурый и серый. Но сказал:
— День назначен. Все это время мы решали пути операции. Исследования подтвердили наши предположения. Это будет операция-реконструкция. Повторяю, вопрос может стоять лишь о продлении жизни.
— Но если, если операция пройдет благополучно… Сколько сможет она?..
— Я оперирую. Бог устанавливает сроки.
К ее волнению за сестру теперь добавилось волнение за него. Мало сказать — волнение. Она боялась за его каждый шаг. Лишь бы с ним ничего не случилось, не сшибла бы машина, не заболел бы гриппом… С утра она уже звонила секретарю, появился ли? Здоров ли?
В день операции она пришла в клинику опять вместе с художником. Этот несобранный и, как всегда ей казалось, ненадежный человек все это время оказывал ей несравненную услугу. Он переживал период увлечения своей моделью и постоянно сопровождал ее в клинику. Появляясь вместе в кабинете шефа, они словно разряжали атмосферу деловой напряженности. Она понимала, что их вторжение приятно и секретарю, и шефу как некий отдых, передышка от обыденности. Но главное — появление вместе с художником как бы оправдывало перед персоналом ежедневные посещения сестры, вне всяких правил распорядка клиники, и постоянное сидение в кабинете, ставшее уже необходимостью.
В этот день было назначено две операции, и сестру должны были оперировать второй. Шеф только что вернулся, закончив первую операцию. Он встретил их, как всегда, приветливо:
— Ваша сестра уже в операционной, — сказал он. — А эмиссар ваш может идти со мною. Я обещал. — И, обратившись к секретарю, добавил: — Позаботьтесь, чтобы дали художнику форму, бахилы и все остальное.
Он поднялся и, не взглянув на нее, вышел из кабинета. Вышел и художник с секретарем. Она осталась одна.
Всем своим знакомым и знакомым сестры она запретила приходить сегодня в клинику. Сегодня она ни от кого не хотела сочувствия. Ей не нужны были сопереживатели: «Одна решилась на операцию, одна и должна мучиться». Но сейчас ей стало жутко.
Секретарь вернулась и, взглянув на нее, весело заговорила:
— Художника мы обрядили. Он такой довольный, что будет рисовать в операционной. Спокойно! Операция уже началась, волноваться нельзя. Рюмку коньяку?! Хотите?
Веселый дружелюбный тон этой женщины на миг успокоил ее. Вчера, уходя от сестры, она думала, что, может быть, видится с ней в последний раз. Сестра была спокойна, всем видом своим хотела показать, что не боится, верит в хороший исход. Но она-то понимала, что сестра хочет поддержать ее, затеявшую эту операцию.
Секретарь села печатать на машинке, и каждый удар по клавишам мучительно отдавался в голове. Она поднялась, но секретарь посмотрела участливо:
— Не уходите. Я перестану. У меня и другой работы полно. Шеф, когда волнуется, тоже не выносит стука машинки.
— Ваш шеф волнуется? Я думала, он всегда спокоен.
— Спокоен? Еще как волнуется. Виду только не показывает. Нельзя. Но я-то его изучила за пятнадцать лет. — И секретарь взглянула на часы, висевшие в кабинете.
Постоянно взглядывала на часы и она. Ей казалось, что с момента, как в кабинет вернулась секретарь, она уже несколько часов томится в ожидании, тогда как стрелка передвинулась всего лишь на двадцать минут. Сейчас движение этой стрелки ей было жизненно необходимо: «Если время операции длится не меньше часа, то это значит, что больного оперируют, что-то там делают, а не просто вскрыли, взглянули, убедились в полной безнадежности и зашили».
Секретарь вставала, уходила, возвращалась, опять уходила и возвращалась снова. И каждый раз, как только дверь приоткрывалась, у нее обрывалось сердце: он сейчас войдет, и, значит, все уже кончено.
Час тянулся вечность. Но когда этот час наконец прошел и часовая стрелка передвинулась, ей стало сразу спокойнее.
И секретарь, которой невольно передавалось ее волнение, тоже облегченно вздохнула:
— Ну, вот видите, оперируют… Значит, все идет хорошо. Не смогли бы ничего, уже вернулись бы. Сегодня в операционной все хирурги.
И опять надежда закралась в душу: «А вдруг окажется, что еще можно спасти?» Вспомнился давний разговор с сестрой. Скоропостижно умер их общий друг, обе сетовали…
— Ужас, ужас! — повторяла она. — Как неожиданно приходит горе.
А сестра сказала:
— Радость тоже приходит неожиданно.
Время двигалось с обычной своей скоростью, то есть протяженность минуты совпадала сейчас с обычным ее ощущением.
Операция шла уже более трех часов. Для нее это означало, что там, в операционной, идет сражение за сестру.
— Ну, что же, пора уходить, мой рабочий день окончился, — сказала секретарь, взглянув на часы. — Жаль вас оставлять одну. Что-то они уж очень долго.
И вдруг она почувствовала, как леденеет от страха.
— Скажите, может быть… — начала она. — Потому они и не возвращаются?
— Да успокойтесь же! Такого не бывает! — воскликнула секретарь. — Чтобы во время операции?.. Это ЧП и только по вине хирурга. У нас этого не может быть! Не волнуйтесь. Я узнаю.
Стрелки часов опять остановились.
— Операция продолжается, — сказала секретарь, войдя, — говорят, еще надолго. Наберитесь терпения. До завтра.
Теперь она сидела в вестибюле. Мимо прогуливались больные, проходил персонал. Нянечки на тележках повезли в палаты ужин. «Когда это было?..»
…Парк культуры ярко освещен. Они с мужем решили прокатиться на чертовом колесе. Две какие-то допотопные старушки в одинаковых панамках и абсолютно похожие, как близнецы, наблюдали, как крутятся люди в стальной махине.
— Зоя, — говорит одна, — помнишь, как мы с тобой? Совсем другое колесо. Какая мощь! Все так переменилось…
— Переменилось-то, переменилось, — точно таким же голосом отвечает другая, — а принципы-то старые…
Первым она увидела художника в халате, в шапочке, с альбомом под мышкой, сияющего, довольного. За ним еле передвигался шеф, будто пуды волочил на ногах. Лицо у него было осунувшееся, влажное и, как ей показалось, скорбное. Заметив ее, он сделал над собой усилие и, вбирая голову в тяжелые полные плечи, улыбнулся, как будто этой улыбкой хотел сказать: вот вы сидите здесь все это время, ждете, мучаетесь, но мы-то ведь там тоже трудились в поте лица.
В кабинете он устало опустился в кресло.
— Вот, — сказал он как-то особенно бережно, — операция закончена. Все оказалось так, как мы и думали. Опухоль дала метастаз в печень, небольшой. За всю мою практику таких операций у меня было три. — И, помолчав, добавил: — Я вас предупреждал, самое тяжелое — послеоперационный период. Ваша сестра еще не проснулась. А вам следует немедленно идти отдыхать, — сказал он строго и потом улыбнулся.
— Я голоден как волк. Но поработал отлично! — сказал художник, перебирая свои рисунки. — Все это, конечно, надо привести в порядок. Но я уже верю в большой холст. В операционной потрясающе интересно! Я не ожидал.
Небольшой этюд в цветном карандаше поразил ее. Художник запечатлел один из моментов операции: все заслонила спина хирурга. Но это был шеф, не узнать было нельзя, так была схвачена спина, так выразительна, действенна, напряжена. И рука сестры, из-под простыни с вонзившимися в вену трубочками. Чуть согнутые пальцы, открытая ладонь будто просила — «Помогите!» И так эта рука была знакома, так повторяла ее собственную руку, что она поспешила отвернуться.
На другой день шеф повел ее в послеоперационную палату.
— Можете взглянуть, издали.
Сестра лежала под капельницей, с кислородной трубочкой в ноздре. Желто-серое с черными огромными глазницами заострившееся лицо выражало только страдание. Дыхание перехватило у нее от ужаса: на какие муки обрекла она свою сестру.
Заметив, что они вошли, с усилием сестра улыбнулась и, разжав запекшиеся губы, еле слышно произнесла:
— Все идет хорошо.
В периоды всех бед в сестре ее поражала духовная мощь, которая и ей помогала жить. И сейчас она вспомнила, как после похорон мужа все время плакала, а сестра запрещала: «Плакать нельзя. Только мужество сохраняет образ». — «Но я люблю его, люблю», — повторяла она. «Люби! Кто же тебе мешает?» — «Но ведь он умер». — «Ну и что же. Люби».
Жизнь сестры была подтверждением этих слов. В начале войны, в ополчении погиб тот, кого сестра любила. Всю войну помогала она его семье. Жена вышла замуж, а сестра воспитала двух его детей, дала им возможность учиться…
Слезы текли, и она только выше задирала голову, чтобы сестра не смогла заметить, что она плачет.
Никогда не видела она сестру такой беспомощно-несчастной. «Что же я с ней сделала?»
Она виновато взглянула на него. Но в его взгляде не прочла взаимопонимания.
— Вы сделали для нее все, что могли. Совесть ваша должна быть чиста, — объяснял он, когда они уже сидели в кабинете. — А мы, врачи, обязаны бороться за продление каждого часа. Как же вы этого не можете понять?!
Опасались воспаления легких, отека легких. Все это миновало. Возникла другая беда — непроходимость. Отказал желудок, искусственно созданная операцией система уже неделю не действовала.
А он стоял на своем:
— Говорю вам, заработает.
В кабинете он и еще два хирурга рассматривали невысохшие рентгеновские снимки.
— Вот, — показал он на снимки, — ваша сестра. Только ею и занимаемся! — добавил он сердито.
— Неужели придется снова оперировать? — спросил один из хирургов.
— Поживем, увидим, — ответил он. — Думаю, что нет. Все должно заработать.
Прошло еще три дня, и он торжествовал победу. Она сидела в его кабинете, и вместе они радовались.
— Что я вам говорил? Терпение и время. Теперь ваша сестра быстро пойдет на поправку.
Он остановил ее, когда она хотела подняться:
— Куда вы? Сидите! — И, как-то просительно взглянув на нее, добавил: — Поговорим…
Она удивилась какой-то странной, вдруг возникшей его неуверенности, как будто он хотел ей сказать что-то и не решался.
И чувство нежности к нему охватило ее. Она обрадовалась: «Может, и в самом деле я ему небезразлична».
— Так где же ваш художник? — спросил он. — Почему не является?
Все эти дни ей было не до него, но она сказала:
— Работает над портретом. — И почему-то добавила: — Вот закончит, подарим вашей жене.
Он капризно скривил рот:
— Жене? Я ушел от нее.
Она молчала.
— Ушел, прожив тридцать лет! — добавил он с вызовом.
— Когда? — спросила она.
— Как вам сказать… Ушел недавно. Именно тогда, как вы здесь появились.
— Куда же вы ушли?
— К кому, вы хотели спросить? Разумеется, к женщине. Собственно, вы меня туда и отвезли. Помните, в первый раз я смотрел вашу сестру?.. Вы и отвезли.
Зазвонил телефон, он снял трубку и с кем-то разговаривал.
Она вспомнила, отчетливо вспомнила их возвращение и то, как он не сразу сообразил, куда его подвезти. Она вспомнила дома, обнесенные бетонной оградой, и как освобожденно, как легко он направился к ним.
Он положил трубку и угрюмо молчал.
— Она, по крайней мере, хорошая, та, к которой вы ушли?
— Я все равно бы ушел. Хоть сюда, на этот вот диван, — добавил он помолчав, — с одним портфелем, как я и ушел. Мне ничего не надо. Я видел, как горел Кенигсберг, и понял тогда, что все — прах.
— Кенигсберг сгорел, но Кант остался, — сказала она.
— Вы правы. Мысль, только она и важна. Так почему женщины этого не могут понять?
— Я — женщина, и я не понимаю, как вы смогли уйти от жены, прожив с ней столько лет?
— Отношение.
— К вам плохо относились?
— Никак. Я был орудием добывания денег.
— Не верю.
— А я вам говорю. Не понят! Никакого интереса к моим делам, ко мне. Сын — оболтус, бросил институт, тунеядец.
— Не сердитесь на него, — сказала она.
— Я совершенно безразличен к нему.
«Но почему все это он мне рассказывает?..»
Время от времени он выглядывал в окно, будто высматривая кого-то там внизу на улице.
— Сколько же все это можно терпеть? — продолжал он.
— И вы влюбились в женщину, к которой и ушли. Сколько ей лет?
— За сорок.
— Не слишком молодая. Значит, понимает вас и денег не требует. А чем занимается?
— Обеспеченная женщина. Вдова профессора.
Она почувствовала раздражение и неприязнь к этой обеспеченной вдове. Ей стало грустно за него, и за себя тоже.
Но она весело сказала:
— Кстати, я тоже вдова. Но может, вы и правы. Надо рвать веревки жизни, если они связывают, — добавила она, понимая выспренность своих слов.
Он опять взглянул в окно.
— Вот и приехали за мной.
Она быстро спустилась на лифте, взяла в гардеробе пальто, поспешно оделась и вышла на улицу. Поодаль от подъезда клиники, прямо под окном его кабинета, стояли синие «Жигули». С чисто бабьим любопытством она пыталась разглядеть сидевшую за рулем, но к остановке подошел троллейбус. «А жаль, — подумала она, — жаль, что не успела разглядеть ее».
Выходя из троллейбуса, она почти наткнулась на притормозившие «Жигули» и прямо перед собой увидела красивое, холеное лицо женщины. «Слишком крепко держит руль», — подумала она враждебно. Рядом с женщиной сидел он, погруженный в раздумья. Как все повернулось. «Но зачем мне он все это рассказывал? Себя уговаривал?»
Сегодня для нее был праздничный день. Она ждала его к ужину, готовилась и волновалась, понимая, что хочет ему нравиться.
Открыв дверь и наконец увидев его, совершенно неожиданно для себя, от благодарности, нежности, она захотела вдруг к нему прижаться. Но сказала:
— Что случилось? Почему вы опоздали?
Он был навеселе. Это делало его чуть свободней обычного и очень шло к нему.
— Прошу прощения. Обычная история. Доставили больного. Молодой хирург поставил неправильный диагноз. Мне пришлось срочно оперировать.
— Что с больным?
— Больной в порядке. Хирурга понизят в должности, мне — выговор. А… — он махнул рукой. — Я к этому привык. Как ваша сестра?
— Неплохо. Счастлива, что у себя дома, со своими книгами.
— А что я говорил? Ознобов нет! Желтуха прошла! Аппетит!
— Мне даже кажется, к ней вернулась вера в жизнь. А вдруг?..
— Так оно и должно быть. В этом-то и все дело!
— Это было коррида… — рассказывал он о своем докладе.
— Вы в качестве тореадора или быка?
— Пикадора! Как они взбесились. Надо было бы вам посмотреть.
— Вы слишком агрессивны, — сказала она, любуясь им.
— Только так и надо. Да посидите вы, не суетитесь. Что я к вам жрать приехал?
— Ученые не любят, когда их сердят. Наверное, и не стоит?
— Дудки! — он чокнулся с ней и выпил. — Вы понимаете, что вся наша беда в консерватизме. И он повсюду. Я имею в виду хирургию. Не нарушая обычных норм, никаких открытий не сделаешь. Традиция — это прекрасно. Но наука, чтобы развиваться, требует только принципиально новых решений, — он выпил. — И в отношении приемов самой техники операции, инструмента, все то же самое. Вот, посмотрите на мои руки! — он протянул обе руки. — Чем отличается левая? Видите, два эти пальца? Так вот, они не действуют, ранение на фронте. Мне пришлось переучиваться. Оперировать восемью пальцами. Нарушать нормы! Понятно? Представьте, мне это очень многое дало.
Ей хотелось поцеловать эти руки. Но она сказала:
— Нет худа без добра.
Он опять выпил.
— Поживем, увидим.
— А что за рубежом? — спросила она. — Вы побывали в стольких странах. Как там у них с нарушением норм? Они нас сильно обогнали в хирургии?
— Не сказал бы.
— Я понимаю, — продолжала она, — что оборудование, инструменты у них, конечно, лучше.
Он перебил:
— Кто это вам сказал? Нисколько! Я оборудован на самом высшем современном уровне.
— Как в США?
— Ерунда. Все, что у них, есть и у меня.
— А идеи?
— В США не заметил.
— Италия? Англия?
— Нет.
— Где же?
— Пожалуй, все-таки Франция…
— В чем же их преимущество?
— В мысли! L’esprit de la France, — сказал он с прекрасным произношением, улыбнулся: — За мысль! — и выпил.
— Это я уже слыхала, что мысль мы ценим превыше всего. — Она вспомнила его слова: «Так почему женщины этого не могут понять?» — И как же?.. Вдова, к которой вы ушли, все понимает? — спросила она с ревнивой шутливостью. — И что мы будем дальше делать?..
— Я вернулся домой. Да! Все осточертело. Ведь я совсем ее не знал. Мы и знакомы-то были с неделю. Вы во всем виноваты, отвезли меня тогда. Эта женщина, обеспечивающая тылы. Бездельница! Вставала в одиннадцать часов. Решила, что я буду ей служить. Представьте, в гастроном меня посылала. Я свалял дурака. Не спорю. Было невмоготу.
— А сейчас?
— Как вам сказать? Поживем, увидим. Дома что-то поняли. За это время сын начал работать, хочет стать оператором. Я очень рад.
— Но вы же говорили, что сын вам безразличен!?
— Да мало ли что я говорил. Как так безразличен? В этом-то и все дело.
Ой хмелел. За полночь она вызвала такси. На этот раз она везла его к жене.
Через два месяца сестры не стало.
Пляж тети Паши
Душно в городе ночью. Звенят цикады. Затухают окна. Лишь откуда-то донесется песня, смех или пройдет по улице шальная компания.
Душно в гостинице, окна и балконные двери нараспашку. С моря ни ветра, ни свежести. Каспий источает тепло своим черно-лаковым телом, как огромное животное. Дышит.
И все же на пляже у самого моря легче. Можно окунуться и полежать на волне, покачаться на ней, пока она не плеснет в тебя нефтью. После этого вылезешь из воды и будешь оттираться в песке. А песок чистый, мелкий, бархатный.
Эту радость получаешь за небольшую плату благодаря тете Паше. Она, снизойдя к просьбе некоторых «избранных», нарушает установленные правила, пропускает в узенькую калитку.
— Давай, давай проходи. Не закупайся!
Тетя Паша — ночной сторож пляжа. Ее как будто прокоптило, высушило, выжгло солнце. На коричневом морщинистом лице, как угли, горят два черных глаза, зорких и быстрых. Кажется, ничего от них не ускользнет. Гибкая, ладная, идет верткой цыганской походкой и наклоняется легко, закапывая в песок оставшиеся от посетителей пляжа бумажки, окурки, объедки. Чего убирать, так проще. Закопает, притопнет ногой — и дальше. Платок на голове повязан лихо, тоже по-цыгански. Повернется, глянет жгуче. И вся-то она такая жгучая, прожженная.
Станислава у нее на особом положении.
— Море сегодня неспокойное, смотри, далеко не плыви.
А Станислава любит заплывать далеко и долго не возвращаться на берег. В воде она освобождается от дум. Словно не было ни прошлого, ни будущего, полная свобода, будто ты ничто и все же часть стихии.
— Я себе сказала — подожду еще, не вернешься, заявлю в гостиницу и вещи отдам. Себе нипочем не оставлю. Мне не надо, — говорит она Станиславе, когда та, насладившись морем, обновленная и успокоенная садится рядом с ней.
— Уж признайся, кольца-то наверняка не золотые? Раз часов золотых у тебя нет — значит, и кольца не настоящие.
Станислава любит коротать время здесь, на пляже, рядом с тетей Пашей. В душном номере гостиницы не спится и думы не оставляют.
Она приехала в этот город сразу же после похорон мужа. О своей беде тете Паше она не рассказывала. «В командировке, и все». Счастье, что ее послали сюда. Помогли переменить обстановку.
— Ты все работаешь да работаешь, а кому это нужно. Завела бы кого-нибудь. Пришла бы покупаться вместе. Здесь на пляже никто вас не увидит. А то все одна да одна… Чай, не старуха.
Бабка права. Общение с людьми Станислава ограничивает только работой. Ей не хочется никому рассказывать о себе, вызывать сочувствие. Зачем? Люди требуют внимания, а бабка нет. Все это время Станислава думает о своем, только о своем. Но ей приятно, что рядом сидит эта старуха — не так одиноко и особенно ночью.
— Пустое это море, пресное, не то что у нас в Керчи. И вино здесь пустое, не нравится. А водка такая же, — добавляет тетя Паша со знанием дела.
Станислава любит ее разговор, прерываемый длинными паузами, ее вопросы, на которые не обязательно отвечать.
— Сегодня приезжие, вроде из Москвы, разлеглись загорать, позорницы, все с себя поскидали, людей волнуют, меня слушать не хотят. Пришлось милиционера вызывать. Он им добром говорит, так, мол, и так, не положено, а они раскричались. Он плюнул и ушел. Кассирша сказала, не продам им больше билетов. Фотограф жену в больницу кладет, резать будут — рак. И с чего он только берется? Муж-то у тебя есть?
— Есть, — отвечает Станислава.
Тетя Паша смотрит недоверчиво.
— У Клавки живот растет, а Кривого прогнала, спуталась с мясником. Мясо каждый день носит, варим. Я ей говорю, дура, с животом никому ты не нужна, мяснику и подавно, раз у него жена и дети. А Кривой свободный. Клавка мне: «Не потерплю. С животом брал, не скрывала, а теперь попрекать». Пустая голова! А девке ведь рожать скоро…
Клавка слабость тети Паши. Она приютила ее, и вот уже второй месяц держит без прописки у себя на пляже, в сторожке. Милиция не вмешивается. Да и кому какое дело. Тетя Паша пожалела беременную. Клавка приехала откуда-то с Севера, с какой-то стройки. Тетя Паша и сама не знает откуда. Приехала сюда на юг, погреться и родить.
— Ну и что? Гулящая девка, само собой, — полуодобрительно, полуосуждающе говорит тетя Паша. — Куда ей деваться, кому она нужна с животом-то? Дура, и я говорю. Теперь связалась с мясником. Держалась бы уже Кривого. Сторож на колхозном рынке голодным не останется. А без мяса мы обойдемся. Теперь фрукт пошел, еще полезнее.
Станислава несколько раз видела Клавку на пляже, тетя Паша показала ее. Некрасивая, крупная, с плоским лицом и руками в наколках, она не вызвала у Станиславы симпатии, скорее брезгливость, такую же, как и все ее похождения. Но история чужой жизни, далекой и непонятной, отвлекала от собственных дум. «Оказывается, и такое бывает…». А в рассказах тети Паши появлялись все новые подробности, Клавкину судьбу старуха близко принимала к сердцу.
— А когда родится ребенок, как же вы будете жить в вашей сторожке? Может быть, лучше отдать его в воспитательный дом?
— Нипочем не отдадим! У меня на пляже места и десятерым хватит. Сами воспитаем. Так и будем жить. Воздух у нас здесь какой! Ты же часами сидишь, не надышишься. Солнце, море… А что еще человеку надо?
Как-то на почте Станислава встретила Клавку. Живот ее вырос, и как-то вся она отяжелела, отекли ноги. Сама не понимая почему, она приветливо поздоровалась с ней и даже спросила о здоровье. А Клавка расплылась в улыбку.
— Теперь уж скоро. Вот-вот. — И стала показывать растерявшейся Станиславе свои покупки — ленты двух цветов, розовые и голубые…
— Для него я ничего не пожалею, все у него будет, — доверительно говорила она, продолжая показывать шитье и распашонки.
Ее простодушная улыбка победила Станиславу. Странно похорошевшее отекшее лицо сияло счастьем.
С непонятным чувством уходила Станислава с почты. Она шла по раскаленным улицам будто расплавленная от жары и думала о себе: теперь ее счастье — только работа. Но может ли оно сравниться с тем, которым полна эта женщина?..
Этой же ночью на пляже от тети Паши она узнала, что Клавку забрали в родильный дом.
— Теперь будем ждать, — говорила тетя Паша, — лишь бы все хорошо обошлось. А ты что такая грустная? Может, муж тебя бросил? От меня-то чего скрываешь?
Довериться бабке, пожаловаться на судьбу? Нет! Мое горе — это мое горе. У них радость… Нельзя ее омрачать.
В следующий раз как только Станислава показалась у калитки, тетя Паша объявила, что у Клавки родился мальчик.
— Три с половиной килограмма. Я всех на пляже обошла. Денег собрала порядком. Милиционер трешку дал и кассирша тоже, и шмоток принесла.
Станислава внесла свою лепту, и бабка приняла как должное ее щедрость.
— Ребенку много нужно, только давай. На рынок сходила, Клавке всего набрала. Мясник мне мяса отвалил. Но по всему вижу, Клавку он отошьет. Да и на что она ему, у него свои дети.
Странно, но теперь даже и на работе Станислава нет-нет да и вспомнит про Клавку и спешит по вечерам на пляж…
— Сегодня Кривой в родильный приходил, фрукту принес, записку передал. Ребенка на себя зарегистрировать хочет. Клавка, дура, фрукту не взяла и записку порвала. Видала, что девка выделывает? Все вроде у нее хорошо, выпишут скоро. Ты смотри, как море разбушевалось…
Сегодня море идет косыми буграми, шваркает о берег, ходуном ходит. А воздух все так же горяч, застыл как стекло, и в черном небе мелкие, далекие звезды.
— К новой луне, — говорит бабка.
Целую неделю Станислава не была на пляже. В районе, иуда она поехала по работе для решения неотложных дел, нет-нет да и вспоминала про бабку: «Что там у них?»
— А я вся извелась, — встретила ее бабка. — Думаю, уехала насовсем, не простилась. Такое ведь бывает. У нас все хорошо. Парень растет, здоровый такой, пойдем покажу.
В сторожке, на деревянных козлах устроено подобие кроватки. «Вифлеем», подумала Станислава. Бабка деловито разворачивает ребенка, хлопает по попке, и он начинает плакать. В белой пеленке шевелится маленькое существо, желтоватое и сморщенное.
— Зачем же его будить? — говорит Станислава, понимая, что тетя Паша делает это только для нее.
— Ничего, ничего, сейчас успокоится.
Бабка сует ему что-то вроде соски, и ребенок начинает чавкать. Она запеленывает его и гордо заявляет:
— Ну, что я тебе говорила. Он мою титьку лучше материной берет. Я печенья в марлю ему нажую, а он и рад стараться. Видала?
Станислава смотрит на ребенка, на сияющую тетю Пашу.
— Почему он такой желтенький? — спрашивает она.
— Желтушка, — отвечает тетя Паша. — Это пройдет. Я из него такого парня выращу. Он у меня здесь как на курорте. Пляж-то ведь весь его.
«Нет, — думает Станислава. — Все это не для меня».
Подходит срок командировки. Перед отъездом она идет на пляж с прощальным подарком для бабки. Нелегко было выбрать отрез на платье по ее заказу. У тети Паши оказалось слишком много претензий. И чтобы не только для зимы, но и не для лета, поскромнее, но не совсем старушечье. В полоску не надо и в горошек тоже. Станислава надеялась, что угодила ее вкусу.
Бабка встречает ее мрачно и даже не идет, как всегда, к морю вместе с ней.
Напоследок Станислава заплывает далеко по лунной дорожке, и когда возвращается обратно, бабки нет на скамейке. Она неслышно подходит и молча садится рядом. Станислава достает сверток с отрезом. Бабка молчит, не разворачивает сверток.
— Что-нибудь с ребенком? — спрашивает Станислава.
— Все хорошо. Здоров, — отвечает тетя Паша.
— А Клавка?
— А ей что сделается, — произносит бабка и долго молчат. Станислава ждет.
— К Кривому твоя Клавка ушла. Гнала его, гнала, а теперь вот как оно поворотило. Говорит, какой-никакой, а ребенку отец нужен. Само собой, нужен отец.
«Вот оно как поворотило, — думает Станислава, — бедная бабка».
А тетя Паша все смотрит и смотрит в морскую даль.
«Как же ее утешить? Может, рассказать про себя, поделиться», — колыхнулось желание у Станиславы, но что-то непонятное удерживает ее, почему-то кажется, что поделиться с бабкой своим горем, это как бросить в море заветное кольцо…
И будто бы читая ее мысли, тетя Паша говорит вздохнув:
— Вот и остались мы с тобой одни. Одни-одинешеньки.
А море тихое-тихое. Множатся на горизонте сейнеры, мерцают, вытянулись в длинную огнистую цепочку.
Южное пекло
«Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России». Целиком могу согласиться с Лермонтовым. Специально даже перечитывал этот его рассказ. Замечательный был писатель. Но Тамань городишком, даже самым скверным, никогда не была, всегда только станицей. Станица она и теперь. И нет в ней буквально ничего привлекательного. Только что море, да и то, какое это море, искупаться противно. Все затянуто водорослями, и гнилью пахнет. Специально спускался к берегу — все Лермонтова вспоминал, изучал описанные им места.
Домики, может быть, и стали получше. А в остальном — ерунда.
Осмотрел станицу. В парк зашел. Только одно название, что парк, какие-то щипаные деревья. Но бюстик Лермонтову стоит. Так себе бюстик, никакого сходства, хотя написано: «Лермонтову». Очень они его здесь чтят, своим считают. Чудаки! Будто что-то он для них сделал. «Увековечил!» Странный народ. Каждый так и шпарит цитатами из него — и в магазине, и на пристани. Я на пристань специально заходил. С катерами здесь все в порядке. Это меня и не удивило, ходят три раза в сутки, не как при Лермонтове. Теперь бы дожидаться ему не пришлось. А вот что удивило меня в Тамани, так это то, что говорят здесь и рассуждают так, словно война была вчера, а не четверть века назад. Будто бы и не было других событий в жизни.
Правда, это касается пожилых. С молодежью на эти темы не разговаривал. Да и вообще, в чем она может разобраться, молодежь?..
Иногда мне приходит в голову, что все мы были бы другими, если бы прошли войну. Не было бы в нас ни эгоизма, ни разболтанности, ни легкомыслия такого, если бы мы знали, что такое война, а не только слышали. Вот хотя бы Лермонтов. Мог бы он так думать и писать, если бы лично сам не участвовал в войне? Хотя и война-то в то время была так — пустяки. Правда, и на ней убивали…
Прибыли мы в Тамань с экспедиционной машиной, потому что и этот полуостров лежал в районе наших работ.
Я бы и не стал о ней вспоминать, если бы не один случай. Произошел он как раз в Тамани и все не выходит у меня из головы.
Ну еще, конечно, начитался Лермонтова, и это имеет значение.
Партия наша была комплексной, каждый занимался своим делом. Выбор района, место отбора проб, все это было нашей обязанностью — гидрогеологов.
Конечно, порядка не бывает, когда в маршрут едет много народу. А тут получилось именно так. Химики — две девчонки — с нами увязались. Я не стал возражать, потому что, думаю, и они люди. Не все же им в лаборатории торчать, пусть проедутся.
Изучаем мы подземные воды. Дело это для меня было новое, я только что начал работать в этом институте, ну и потом… Как бы это сказать? Нравились мне эти девчонки, особенно одна. Просто не встречал я еще такой. Сразу понял — палец ей в рот не клади. Очень необыкновенная она была и чертовски красивая. Я бы с нее глаз не сводил, но понимаю, подсмеивается надо мной. А я этого не люблю. Их и девчонками-то не назовешь — обе старше меня. Одна уже кандидат наук, а другая только еще собиралась защищать.
В общем, оказались в Тамани.
Поехали мы к источникам, тем, что по плану были у нас намечены. Разыскивали их недолго, потому что, кроме меня, в маршруте были еще два опытных гидрогеолога, один из них занимался дейтерием[4].
Ну, конечно, у каждого источника обе они, химики, производили свои опробования. Ящики выгружают, с приборами возятся, анализы делают. Все с такой жадностью записывают, опять к приборам, переделывают там что-то. А мы ждем!
Наконец отыскали последний источник. На карте он отмечен под названием «Южное пекло». Может быть, пекло здесь и бывает, даже наверное, да только летом, а тут конец сентября.
Место, конечно, удивительное. Рядом море, уж не какой-то там залив, а настоящее. Поднимается вверх, как стена, и дельфины на солнце играют.
Химики наши около этого источника окопались.
«Наконец-то! То, что мы искали!..» Ахи, охи, восторги и все такое. Приборы из ящиков повытащили, нас к машине то и дело гоняют: «Принесите это, принесите то». А машина довольно далеко, к источнику подъехать нельзя.
Мы отобрали свои пробы, записали все, что нужно, ну и в общем свободны. Походили вокруг, поискали, может быть, есть еще какие-нибудь выходы воды. Ничего не нашли. Ждем химиков. К морю спустились. Купаться не рискнули — прохладно. Вернулись к источнику, видим, расположились как дома. Будто их ничего не касается. Мы спрашиваем: «Ну как вы, скоро?» Отвечают: «Нет». Мы переглядываемся, вроде и неудобно слишком торопить — работают, но солнце уже высоко.
Шофер наш, флегматичный такой паренек, говорит:
— Жрать охота. Чем так сидеть, может, обед сготовим?
Она отвечает:
— Дело ваше.
— Вы что же, ночевать здесь намерены? — спрашиваем у них.
— Да, — отвечает она, — все данные к тому, чтобы здесь остаться.
Все стали возражать:
— План у нас не выполнен, много неотобранных проб. Надо двигаться дальше.
Я-то молчу, уже знаю, что лучше с ней не связываться. А она:
— План, план. У вас только план в голове, а не научная работа. Мы отыскали объект и обязаны его исследовать.
Геолог, который дейтерием занимался, больше всех волнуется, у него еще на Керченском полуострове работы невпроворот.
— Знаете что — семеро одного не ждут. Надо собираться.
А она отвечает:
— Во-первых, не одного, а двух. А во-вторых, мы остаемся.
Другая, менее решительная, сама такого хода не ожидала. Но она ни в какую:
— Мы остаемся. Это наше право.
Ну, думаю, заварилась каша… Даже любопытно понаблюдать. Для меня они все — народ новый. Интересно, чья возьмет.
И другая вдруг тоже ее поддерживать стала.
— Останемся, — говорит, — и все!
Но остальные не уступают:
— У нас тоже работа, свои задачи.
— Уезжайте, — говорит она, — а мы останемся.
С ума сошла! Ведь надо же додуматься! Кто их оставит здесь одних? Была бы хоть палатка. В машине у нас только брезент. Да и вообще, оставлять их тут я не имею права.
Разговор становится принципиальным. Она возмущается:
— Я не кататься поехала! Я объект для экспериментов нашла. Вы срываете мне исследования!
Разозлилась. Глазищи горят, так искры и разбрасывают.
А глаза у нее… Таких, честно признаться, я не встречал. И что удивительно, злость ведь никого не украшает, а ее наоборот, чем злее становится — тем красивее.
В общем, конечно, может быть, она и не красавица, и в лермонтовские времена никак бы не котировалась. Лермонтов, так тот больше всего ценил у женщин правильный нос. Но я думаю, что в каждую эпоху своя красота. Наталия Пушкина, например, считалась непревзойденной красавицей, а мне такая красота не импонирует.
Мне лично нравится только то, что современно. Хотя обе они вообще не слишком этим отличались. Говорили друг с другом на «вы», да и с другими, и со мной. Не курили, глаз не подмазывали и вообще не мазались совершенно. Не то что другие девчонки, которых я знаю. У тех весь смысл жизни — как бы помоднее одеться. Но тут совсем другое дело.
Шумели они, шумели: «Научная интуиция» — и всякие другие громкие слова, но убедить наших геологов так и не смогли. Пришлось им подчиниться. Потому что под открытым небом оставлять их было нельзя, а задерживать машину тоже — поджимали сроки.
Собрали они свое хозяйство молча, уселись в кузов, ни на кого не смотрят — злятся. Наш шофер газанул, дорога сухая, можно любую скорость дать. За целый день проголодались, спешим. Решили пообедать в Тамани.
Едем и все молчим. Обычно у них была такая манера вслух восторгаться дорогой: «Ах, ох, посмотрите, какой пейзаж, какой закат, неужели вы не видите?» А я не люблю, когда мне что-нибудь навязывают, сам все замечаю. Но тут обе ни слова.
Видим, навстречу нам машина — мелиораторы. Она по крышке кабины — хлоп. Остановиться требует. Не успел наш шофер затормозить, она из кузова выскочила — и наперерез. Те останавливаются. Другая тоже — прыг! — и бежит за ней. Никто из наших не реагирует. А я вылезаю и подхожу. Она с мужчиной незнакомым разговаривает, из полевой сумки документы достает, показывает, что-то объясняет.
Мне говорит:
— Знакомьтесь, совхозный бригадир.
Он здоровается, приветливо так, за руку. Видно, что очень доволен этой встречей. Смотрю на него — сила! Лицо бронзовое, брови сросшиеся, зубы необыкновенной белизны. Он удовольствия своего скрыть не может и все время улыбается.
А она ему:
— Вы наш спаситель. Ничего в жизни так не уважаю, как работников полей. Вы люди мужества, труда, потому и настоящие мужчины. Как нам повезло!
Только он, по-моему, уже и не слушает, а просто глаз оторвать от нее не может. А она и так вокруг него, и этак. И другая тоже не отстает. В общем, вижу — бригадир обалдел. И понять его можно. Откуда вдруг все это в них появилось, стали совсем другими. Точно мы для них не мужчины. Конечно, по сравнению с этим парнем, может быть, так оно и есть. Что бы тут мое самолюбие ни говорило, а что правда, то правда. И рост, и фигура. На женщин все это действует.
В общем, она доказывает бригадиру, что им необходимо провести исследование у источника «Южное пекло», и просит дать им палатку на несколько дней. И так она его уговаривает — приближается к нему, и волосы ее у самой его щеки.
Бригадир сияет.
— Очень, — говорит, — приятная встреча. Что же, постараюсь обеспечить.
А она не теряется:
— Слово пахаря — закон!.. — Говорит, что лучше сразу их ящики с оборудованием перетащить в «газик». Что наша машина, мол, только до Тамани их довезет, а потом в Керчь уйдет, стало быть, только он сможет их доставить до источника, и, значит, они целиком в его власти, от него зависят.
А я думаю, как это у нее все мигом получается. Не голова, а кибернетическая машина. По рукам и ногам хочет связать бригадира. Все это происходит буквально в одно мгновение. Стою рядом и как дурак молчу.
Бригадир говорит, что ящики он забирает, а к источнику сможет их отвезти только завтра утром. Тогда и палатка будет. А сейчас, мол, у него дела, и он только вечером освободится. Машина, говорит, пусть уходит в Керчь, а он их встретит в Тамани. Назначает место и время у памятника Лермонтову в двадцать один тридцать.
Ящики они в его машину перетаскивают и свои спальные мешки тоже. Распрощались с бригадиром. Он уезжает, а они сели в машину и говорят:
— Вот все и устроилось. Теперь мы не зависим друг от друга. Палатка у нас есть. Вы отбирайте пробы в Керчи, а мы проведем свои исследования здесь. Через трое суток приедете за нами.
Вернулись в Тамань, животы подтянуло, с утра ничего не ели, а уже темнеет. Зашли в чайную. Хорошо пообедали, все довольны. Вдруг я вспомнил, как она этого совхозного бригадира обольщала и как своими волосами лицо его задевала… И тут я понял, что оставить их одних не смогу.
Нам бы пора уже ехать в Керчь, шофер торопит, понимаю, что и геологи наши спешат. Но молчат, потому что все-таки я начальник. Конечно, я только формально был их начальником. Все они гораздо опытнее и старше меня, я ведь только-только окончил институт. Получилось так, потому что никто из них начальникам партии ехать не соглашался. Кому охота возиться с машиной, платформами, деньгами, всякими там бумажками, ведомостями? Никому. Я бы и сам не согласился, назначили — пришлось.
Но тут, думаю, время сказать свое слово. Смотрю на них — сидят как ни в чем не бывало. Она вынула полевой дневник, что-то записывает.
— Вот что, — говорю геологам, — поскольку я все-таки начальник, то решаю так. Вы поезжайте с машиной, у вас работа на Керченском полуострове. Вы лучше меня во всем разбираетесь. Отберете пробы, вернетесь сюда, в Тамань. А я женщин одних оставить не могу.
Тут все заговорили:
— Правильно, правильно! Как это нам раньше не пришло в голову! — В общем, хвалят меня, что очень хорошо решил.
Она не реагирует, записывает. Ну, а другая обрадовалась, вскакивает и заявляет:
— Молодец! Наконец и в нашей партии хоть один мужчина нашелся. Молодец! — и целует меня, да так крепко! Я смутился, говорю:
— Может быть, все-таки не при всех.
А она, продолжая писать, говорит:
— Наедине мы, может, и не рискнули бы. — Непонятно только, в насмешку это говорит или серьезно. — Конечно, с нами ничего не случится, бояться за нас нечего. Мы под надежной охраной бригадира, но вы молодец! — И улыбается.
Забираем мы свои рюкзаки, и машина уходит. Темнеет, а ждать бригадира еще долго. Сидим в чайной. Она кончила записывать, спрятала дневник. Спрашивает:
— Что будем делать?
— Давайте, — говорю, — почитаем.
А книг у меня в рюкзаке сколько угодно. У нас было заведено: в каждом поселке или станице мы первым делом забегали в книжный магазин. И то, что в Москве нарасхват — популярные поэты и фантастика — здесь лежит, пылится. Я по фантастике, например, собрал все, что только выходило. Одно время зачитывался, фантастика, конечно, это хорошо. Понимаю, что через нее можно многое выразить. Но для меня это уже пройденный этап. Мне кажется, что надо прямо говорить, без всякой фантастики и о том, что будет, и о том, что есть. Надо смело критиковать плохое и вокруг себя и в себе самом, как это делал Лермонтов. По-моему, пора бы научиться так писать, как он.
— Хотите, — предлагаю ей, — что-нибудь почитать?
А она:
— По-моему, не время и не место.
Другая говорит:
— Были бы карты, поиграли бы в дурака, но карт нет. — Опять я не могу понять, с намеком ли в мой адрес это говорится или просто так. — Может быть, поиграем на спичках?
Я говорю:
— Давайте на спичках. — Потому что в этой игре я знаю прием и всегда могу выиграть.
А она предлагает:
— По-моему, надо узнать, что сегодня в городском клубе. И людей посмотрим, и клуб. Кто пойдет? Бросим жребий. Давайте ваши спички, — говорит мне. Обломала одну: — Кто вытянет без головы, тот идет узнавать.
Нам с ней повезло, а другая вытягивает спичку без головы.
— Значит, вам идти, — говорит она. Но я перебиваю:
— Нет, нет, сидите, пойду я.
Пока я бегал в клуб узнавать, в чайной их, как мухи, облепили ребята. Обе с ними весело беседуют, о чем-то расспрашивают, смеются. Мне это не понравилось, но я не показываю виду.
Они меня увидели, спрашивают:
— Ну как? Говорю:
— «Любовь под вязами». Пойдем? Я этого фильма еще не видел.
— Чудесно! Замечательный фильм! Я его смотрела. С удовольствием пойду второй раз. — Другая тоже не видела. — Вам обязательно надо посмотреть. Софи Лорен… — и все такое. И говорит так, будто обращается не только к нам, но ко всем ребятам.
Ребята говорят:
— Мы уже видели, фильм приличный, смотреть можно. Он у нас уже третий день идет.
Взяли мы свои рюкзаки и пошли.
— Вот будет номер, если ваш бригадир нас подведет.
Она мне в ответ да еще с иронией:
— Не беспокойтесь. Такие не подводят. Посмотрите лучше на звезды. Видите, как мерцают?
Подумаешь, звезды, какие-то белые мошки. И ведь очень точное наблюдение Лермонтова, что звезды на Кавказе кажутся, очень маленькими. Не то что в Средней Азии. Я как-никак там практику дважды проходил. Вот это действительно звезды. Как фонари в небе. И откуда только Лермонтов мог так понять пустыню? Ведь не был же он в Каракумах?
Билеты купили запросто. Клуб ничего, каменное здание. В зале пустых мест полно и одно старичье. Фильм в двух сериях. Удивительная это манера. Зачем нужно делать по нескольку серий? Мне кажется, что само искусство кино это исключает. Фильм должен быть короткий и точный, как выстрел, потому что и время наше скоростное. А эти бесконечные серии мне невыносимы. Получается это оттого, что сценаристов настоящих мало, вот серии и шлепают, а расход государству больше, за каждую отдельно плати. Другого смысла я в этом не вижу.
Сели в свой ряд. Я между ними. До этого не случалось нам никогда ходить вместе.
На нас смотрят — не здешние. И честно признаться, очень мне приятно с ними сидеть, даже какую-то гордость испытываю от этого.
Начался фильм. Но я как-то не могу следить за тем, что происходит на экране. Занят своими мыслями. Обе они смотрят, а я больше за ними слежу. Там страсти начали разыгрываться, я тоже начал смотреть и замечаю, что она нет-нет да и взглянет на меня, как я реагирую. А я реагирую так: две серии до половины десятого мы, конечно, не успеем посмотреть, и бригадиру придется ждать, а это неудобно.
Началась вторая серия. Говорю:
— Нам пора.
А она:
— Ничего, ничего. Что это вас так волнует? — И показывает на экран. — Лучше смотрите.
Сижу. Взглянул на часы.
— Человек ждет, — говорю, — надо бы идти.
— Ну и пусть подождет, ничего с ним не случится. Что вы все отвлекаетесь? Смотрите. А который час?
— Десять минут, — говорю, — уже ждет, а еще надо дойти. Давайте я пойду, предупрежу его.
А она мне:
— При чем тут вы? Разве он с вами договаривался?
Я и сам понимаю, не со мной, и глупо, что я больше их волнуюсь, но что с собой поделаешь. Сижу и мучаюсь. Она говорит мне шепотом:
— Вот что, вы вдвоем сидите, вы первый раз смотрите, а я уже видела, я пойду. А то правда неудобно, — и поднимается.
Я ей:
— Куда же вы ночью одна? — А тут уже на нас шикать стали. Самый напряженный момент. — Давайте все пойдем, не могу же я вас одну отпустить.
— Что за глупости, — говорят, да так сердито, — не мешайте людям.
И другая тоже с раздражением мне:
— Да посидите наконец спокойно! — А сама прямо вперилась в экран.
Она тихонько выходит из зала, а я сижу, будто на углях. И что там происходит на экране, совсем не вижу. Зачем, думаю, она пошла одна, меня не пустила?
Еле досидел до конца. Вышли мы из клуба, ветерок с моря подул. Моя спутница берет меня под руку.
— Холодно, — говорит, — и спать хочу. — И жмется ко мне.
А я даже ответить ей ничего не могу, потому что переживаю.
Доходим до Лермонтова. И что же вы думаете, — она с бригадиром стоит чуть ли не в обнимку. Свою куртку на него набросила. Нас увидела, даже не смутилась. И хоть бы что. К нам обращается:
— Нашего бригадира мы с вами совсем заморозили, никак отогреть не могу. — И руки его своими руками трет.
Бригадир нас встречать вышел без пиджака, в пижонской рубашке, надо думать, продрог. Другая ко мне прижимается и спрашивает его:
— Куда мы пойдем? Где вы нас устроите? Ужасно спать хочу.
Бригадир вроде бы ко мне обращается, очень мило так говорит:
— Я здесь на частной квартире, один, у меня дом — три комнаты, прошу ко мне, места всем хватит. Посидим, закусим, поговорим.
Пошли какими-то задворками. Она с бригадиром впереди идет, о чем-то болтает. А мы с другой позади тащимся, молчим. Никак не разберу, о чем они там говорят, только она все время смеется, заливается. И все это мне не нравится. Врезать бы сейчас этому бригадиру. Он хоть и тяжелее меня, но ничего, получил бы будь здоров. У меня как-никак разряд по боксу. Так руки и чешутся.
Заходим в помещение. Домишко ничего, чисто. Стол уже накрыт — бутылка коньяку, какая-то закуска, вино, все как полагается.
Бригадир приглашает садиться.
— Вы извините, если что не так, наспех все.
Она расхваливает стол:
— Все чудесно, тепло, уютно. Ах, как давно мы так не сидели. — Она рядом с ним, а я с другой рядом сел.
Выпили по стопке за знакомство. Все вроде идет нормально. Бригадир такой оживленный, довольный. Без конца что-то рассказывает, а она во все глаза на него уставилась, слушает, ему поддакивает, страшно всем заинтересована. Это его еще больше заводит. Парень он действительно начитанный — книг в комнате полно. В общем, разговор идет бойко. Только я как-то в этом разговоре не могу принять участия, и другая сидит зевает.
Еще выпили. Мы с бригадиром закурили. А она вдруг:
— Пойдемте, — говорит, — хочу купаться при луне.
А луна огромная, только что взошла.
Бригадир ей:
— Никуда я вас не пущу, холодно, простудитесь. А потом у нас здесь не положено купаться по ночам.
— А у нас положено. В этом маршруте я каждую ночь купаюсь и сейчас хочу, — дразнит бригадира.
Он говорит:
— Жаль, что вы нам не попались, ундина! А в вас действительно есть что-то от ундины.
Она смеется:
— Вы находите?.. Но правда же, я купаться хочу.
Что купаться она захотела, меня бы не удивило, оттого что за этот маршрут она себя уже показала. Мы в спальных мешках лежим, дрожим, никак не согреемся, холодно, ветер, а она в море совершенно спокойно заходит, заплывает так, что ее и не видно. На нервах любит играть. Вернется, всех еще высмеивает. «Вы, — говорит, — все в жизни проспите».
Но сейчас, думаю, дело не в купанье. Просто она хочет вдвоем с бригадиром побыть. От нас избавиться. Это ясно. А что, если он так ей понравился, что она уже ничего признавать не хочет? Что он втрескался в нее, это — элементарно, с ундиной сравнивает.
Между прочим, что такое ундина, я не знал. Когда у Лермонтова это слово встретил, даже у нее спросил, думал, ответит по-человечески. А она мне:
— Это, — говорит, — гидрогеологическое слово, как же вы его не знаете? Чему вас в институте учат?
Я сразу догадался, что она высмеивает меня, отлично знаю, что такого слова в геологии нет. Не поленился, отыскал в словаре.
Конечно, плохо, что у классиков часто встречаются незнакомые слова и даже сноски не всегда бывают. От этого иногда многого нельзя понять. Особенно я не люблю всякие мифологические имена и из Библии тоже. А вообще все это оттого, что мы не слишком-то образованны, не хватает нам общего развития. Всякие современные вещи знаем и в технике что-то смыслим, а в истории, например, ни бум-бум.
Меня до некоторой степени задело, что бригадир знает, что такое ундина, а я не знал. Думаю, наверняка она не забыла, что тогда надсмеялась надо мной. Но это между прочим.
А она так и тянет его за собой.
— Не хотите, — говорит, — одна пойду.
Но тут другая не выдержала и заявляет:
— По-моему, мы сюда не купаться пришли. И вообще уже пора спать.
И я довольно резко говорю:
— Да, пора спать.
Она расхохоталась:
— Ну, если вы уже сговорились, сдаюсь. Пошли за вещами!
С бригадиром чокнулась, с ходу выпила свой коньяк и даже не закусила. А я не понимаю: «Сговорились»! Что она этим хочет сказать? Никакого сговора не было.
Мы остались одни и закурили. Бригадир говорит:
— Да, занятный они народ, с ними не соскучишься. — Я молчу.
— А что ты такой мрачный? Может, кто-нибудь из них твоя девушка?
Я разозлился. Какое ему дело? При чем тут моя девушка? И ляпнул:
— В зависимости от обстановки.
Бригадира даже передернуло. Сразу подобрался весь. Вижу, переборщил. Говорю про другую:
— Успокойтесь, та моя девушка.
Тут они вваливаются с рюкзаками, даже мой притащили.
— Поухаживаем за начальником.
А другая все свое:
— Умираю, спать хочу.
Бригадир просит:
— Подождите. Вы еще вина не пробовали. На экспорт делаем. Такое только у нас, в Тамани.
Будь она проклята, эта Тамань! От злости весь коньяк — себе в стакан.
Опять сидим все вместе за столом. О чем-то разговариваем. Речь заходит о дельфинах, ни к селу ни к городу. Бригадир рассказывает — что-то там читал по этому поводу. И она говорит, что, мол, сейчас была бы не против пофлиртовать с дельфином, потому что уже доказано, какие они умные. А был, мол, такой случай, что чуть не умерла со страху. Однажды далеко заплыла в море, и вдруг, значит, стадо дельфинов навстречу. Она испугалась, знала, что они могут «заиграть». Кто-то там ей когда-то говорил, что надо лечь на воду и не двигаться. Она так и сделала. Лежит, уши в воде, ничего не слышит. Вдруг чувствует прикосновение дельфина.
— Вы представляете, — говорит, и с таким выражением, — чувствую, что к моему телу вдруг прикоснулось что-то скользкое и холодное. Прикоснулось, и все.
Тут я не выдержал. Поднялся и говорю:
— Давайте расходиться. Как говорили древние греки — кто где, кто с кем? — И к ней обращаюсь: — Решайте, вы же сильны в мифологии.
А она:
— Учитывая ваш общеобразовательный ценз, предлагаю спички.
Я говорю:
— Не понял.
А она:
— Зачем решать. Лучше разыграем. У нас заведено. — Бригадиру объясняет, берет у него из рук коробку, вынимает две спички, обламывает у одной головку. — Она — «спичка без головы», я — «спичка с головой». Пожалуйста, тяните. Пусть судьба и решит, кто с кем.
Вы представляете? А я еще мог ею восхищаться и как дурачок все насмешки сносить!..
Она так небрежно спички встряхнула, зажала в руке, протягивает мне:
— Что же вы? Тяните!
Я вытянул спичку без головы. Она засмеялась:
— Получайте свое.
Другая, недолго думая, поднимается и обращается ко мне:
— Ну и слава богу. А то ведь разговорам конца не будет. Пошли, — и тянет меня за собой в другую комнату.
Думаю, на пару действуют. Но делать нечего, иду. Раскладушка стоит, на ней подушки, одеяла, на двоих.
— Устраивайтесь на полу.
Я на пол свое сложил и сел как дурак. А та командует:
— Ну, чего расселись? Быстро стелитесь. Тушите свет! — Разделась и под одеяло, улеглась на раскладушке. — Наконец, — говорит, — можно заснуть. Спокойной ночи.
Сижу в темноте. Из их комнаты на полу только полоска света. Они там смеются, стульями задвигали. Думаю: «Нехорошо получилось. Я, как начальник, не имел права оставлять их вдвоем. Тем более что я видел, к чему она все клонит…»
Слышу заливается: «Ха-ха-ха, ха-ха-ха!» Я из себя выхожу, а эта уже посапывает.
А бригадир-то хорош! Палатку пообещал и теперь воспользоваться хочет. «Я тут на частной квартире». Хорошо устроился! Местная власть!
Они тише стали говорить. Понимаю, что нельзя подслушивать, но ничего с собой поделать не могу. Совсем замолчали.
Полоска света на полу погасла, я вскочил. Нет, я так этого не оставлю… Будь что будет! Я рванул дверь в их комнату. Влетел и прикусил язык.
Полумрак. Горит настольная лампа. Сидят у стола, книг навалено. И он что-то бормочет тихо, в книгу не смотрит. Она повернулась, посмотрела на меня так серьезно, даже печально как-то:
— Вы знакомы с поэзией Фредерика Гарсиа Лорки? Нет. Наш бригадир его на память читает. Садитесь, коли уж вам не спится.
И нечего мне больше сказать.
Просидели мы так до рассвета. Они друг другу все стихи читали. Тут за ним машина пришла, чтоб ехать на поля.
Перед отъездом он мне говорит:
— Чаем их напои, — показал где что взять. Я на него смотреть не мог. — Машина с палаткой за вами скоро придет, довезет, куда надо.
С ней попрощался, сказал:
— Я вас найду.
И уехал.
Вот, собственно, и вся история. Но почему-то не выходит она у меня из головы. И случай этот для меня — не просто случай.
Звенят пески
Пески. Лето. Жара нестерпимая. Все скинули с себя, все, что только возможно, обливаются потом, а ему хоть бы что. В сибирской шубе пушистой и нежной ему совсем не жарко, как не жарко туркмену в ватном халате и гигантской бараньей папахе. Его зовут Кис-кис, потому что Ляля так его прозвала. У Ляли запас слов совсем не велик — «Мама», «Ляля», «Кис-кис»… Ну, и еще несколько, которые могли бы показаться неожиданными, такие как — «рация», «пробы», «вертолет»… Однако для Ляли они вполне закономерны, если учесть ее местожительство и окружающие условия.
Всю свою сознательную жизнь Ляля живет в пустыне. Она приписана к небольшому коллективу геологов, который обосновался здесь, и не собирается покидать это место, пока не будет закончена работа, в которую очень верят одни и не поверили другие.
Лялина мама принадлежит к тем, кто верит, и потому она здесь. А почему с Лялей? Да так уж получилось. И трудно было бы представить место, где бы Ляля пользовалась большей популярностью и доставляла бы большую радость окружающим ее.
Лялина мама не допускает баловства, и потому сейчас главные ласки достаются не Ляле, а Кис-кис, но это совсем не значит, что каждому не хочется хоть чем-нибудь да порадовать Лялю. Вчера, например, Юра принес, ей двух маленьких черепашек, очень смешных и милых. Они все время уползают от Ляли и прячутся в свои совсем еще тоненькие панцири, когда Кис-кис пытается изучить их с помощью лапок, выпуская коготки. Кстати, и сам Кис-кис в лагерь был доставлен тоже Юрой. Он привез его на вертолете в подарок Ляле и очень угодил ей. Имя его Ляля произносит твердо и звонко и всегда в сочетании со словом — «ура». Вот и сейчас она зовет:
— Юра, ура! — требуя, чтобы он подобрал и принес ей уползающих черепашек.
А Лялина мама увидела черепашек и сразу загрустила. Почему? Да потому, что пора любви в песках это не только тюльпаны и маки, это не только пьянящая, душистая пустынная сирень, но и черепашки тоже. Так уж было заведено в лагере с самого его основания — двое полюбят друг друга, уходят в пески искать черепашек.
Той, первой весной, они уходили вдвоем далеко в барханы, которые вырастали, как пирамиды в рифленых узорах, как текучее чудо: непостоянное, изменчивое, рассыпающееся в руках. Они возвращались в лагерь тоже вдвоем, иногда забывая черепашек в песке, иногда принося с собой. Возвращались всегда с огромными букетами ярких цветов. Трудно даже поверить, что пустыня может так цвести.
Но приходит зной, и цветов как не бывало. Все выжжено, одни пески, колючка да саксаул.
То было шумное время. Столько народу! Столько надежд. Сколачивались времянки, строились землянки… А потом сразу все опустело. Решили — воды здесь не найти. И почти все разъехались.
Только Нина Григорьевна, начальник Лялиной мамы настояла на своем и осталась с небольшой группой, чтобы продолжать гидрогеологическую разведку. Лялина мама тоже осталась, осталась одна. И когда на свет появилась Ляля, тоже не захотела никуда уезжать. И правильно сделала. Во всяком случае, Нина Григорьевна так считает. Она с самого начала сказала: «Сами воспитаем. Кого, кого, а нянек будет больше чем достаточно». А Лялина мама не может ей не верить. Оказалась же Нина Григорьевна права, когда почти одна пошла против всех, утверждая, что воду они здесь обязательно найдут. Ну и что же?
Все то время, что живет Ляля на свете, они искали. И нашли. Разведчики установили, что под землей на большой глубине расположена огромная линза пресной воды, целое озеро, площадью в две тысячи квадратных километров. Богатство. Правда, надо эту воду еще суметь достать, не смешать с солеными водами, на которых лежит эта линза. Но, конечно, делю за этим не станет. Теперь в воду поверили все. Против факта не пойдешь. Опять сюда стали наезжать. Корреспонденты прилетают, им ведь больше всех надо. И Юра приехал. Он в группе инженеров, взявшихся за теоретическую разработку проекта использования найденных вод. Уже в третий раз, как приезжает. Не как другие — приедут и сразу уедут, подолгу задерживается. Вот и сейчас не спешит уезжать. Наверное, ему здесь нравится. В общежитии поселиться не захотел, разбил себе палатку и обосновался в ней, слушает по ночам, как звенят пески. А Ляля, как только остается одна, сразу же бежит к Юре, жить без него не может. Юра ловит бабочек, скорпионов, фаланг, словом, все, что можно встретить в пустыне весной, это его хобби. А как известно — на ловца и зверь бежит. В его палатке Ляле гораздо веселей, чем дома. Она устраивается там на кошме и возится с Кис-кис. Хотя Юра и подарил его Ляле, но Кис-кис живет у него. Так решила Лялина мама.
В палатке хорошо, ветерок продувает, в самую жару не так печет. Юра всегда рад гостье. И уж конечно, никто не сумеет так ее развлечь.
— Юра, ура! — кричит Ляля, и тогда он берет ее на руки, подкидывает, и она взлетает, замирая от восторга. Или посадит себе на плечи и устраивает ей «верблюжью пробежку». Лялю трясет, и она хохочет, а потом возьмет и скинет с него очки. И он, не снимая ее с плеч, осторожно опускается на корточки и шарит рукой по песку, пока не найдет их. Юра близорук и без очков не видит, а Ляля этим пользуется. Но ей прощаются все ее проделки. Юра сразу же становится печальным, когда Лялина мама появляется и забирает у него Лялю. Лялина мама очень строгая. Она недовольна, что Юра балует Лялю, и за Кис-кис совсем не благодарила его, хотя все другие так полюбили котенка, она совсем ему не обрадовалась. И удивительное дело, Юра, такой общительный и веселый со всеми, при Лялиной маме становится тихим. Наверное, боится ее. Боится-то боится, а ходит по пятам.
Этот день был особым в жизни лагеря. Все собрались в конторе. Министр прислал телеграмму с личной благодарностью коллективу за проделанную работу. Кроме того, по рации сообщили, что в республиканской газете опубликована большая статья. И там написано, что их открытие поможет наконец решить важнейшую проблему водоснабжения целого города нефтяников, который всего лишь чуть постарше Ляли. В статье всех так расхваливали за упорные поиски, что Нина Григорьевна даже рассердилась. Всякий «бум» ее всегда раздражает. Она считает, что это не способствует работе. Но что ни говори, и ей безусловно приятно. Все-таки победа. Во всяком случае, Лялина мама чувствовала себя именинницей и за себя и, уж конечно, за Нину Григорьевну. Юра тоже в это время был в конторе и ликовал вместе со всеми, хотя он-то уж тут совсем ни при чем. Но все равно.
В общем все эти события обсуждались очень шумно. И вдруг Лялина мама, всех расталкивая, опрометью выбегает из конторы. И Юра за ней.
— Ляля! Ляля! Ляля!
Она подбежала к палатке, полог откинула, замерла. И свалилась. Юра бросился было к ней, потом к палатке. Тут и Нина Григорьевна подоспела, и видит: на раскладушке Кис-кис сжался в комок, ощерился, шерсть встала дыбом, и глазищ своих не сводит со змеи. Перед ним метровая кобра, поднялась стойком на хвосте и вьется волной, как танцует, а прыгнуть и схватить его не может, потому что как будто приклеил ее кто за хвост к раскладушке. А Ляля рядом стоит, улыбается и ручонкой тянется к кобре, хочет погладить.
У Нины Григорьевны и тут нервы не сдали. Мигом всех остановила:
— В палатку не входить. Тише. Замрите. — Знает, кому что поручить. Потому что начальник в песках отвечает буквально за все.
— Скорее стремянку. Нож. Веревку. Мать в медпункт.
Притащили стремянку, приставили к палатке.
Нина Григорьевна Юру за плечо тряхнула:
— Стоите как вкопанный. Вы же ловите кобр. Лезьте!
Тут и Юра очнулся. На стремянку влез. Нож ему подали, веревку. Он брезент наверху разрезал. Из кармана нейлоновый шнур достал, петлей сложил и начал спускать сквозь разрез. Руки у него трясутся, а глаз хоть и близорук, но меток. На змею нацелился, петлю ей на шею разом накинул, затянул и шнур рванул. Она зашипеть даже не успела, мигом удавил. И вытянул из палатки.
Нина Григорьевна вошла и Лялю на руки к себе. А Ляля никак не может понять, что случилось, почему столько народу и куда вдруг улетела змея.
Юра со стремянки спрыгнул, ноги его еле держат, кобру отшвырнул и к Ляле. А она ему, как всегда:
— Юра, ура! — И вдруг заплакала: — Мама, мама!..
Лялину маму в чувство уже привели, а когда она еще и Лялю услышала, совсем пришла в себя.
И тут только все вспомнили о Кис-кис. А котенок все продолжал сидеть на раскладушке, весь напряженный, с раскрытыми глазищами и вздыбленной шерсткой.
— Он еще в трансе, — сказал Юра. И объяснил, что кобру Кис-кис удержал от нападения своим магнетизмом. Потому что у кошек его больше, чем у змей. От этого она и не сдвинулась с места, и не тронула Лялю. А что такое магнетизм, никто еще на свете не знает.
Вот какие случаи бывают в песках, и все это абсолютная правда.
Проливной дождь
Борис чувствовал, что начальник отряда Валерий тоже не спит — потушил свой персональный ночник, работающий от аккумулятора, и притворяется спящим: делает вид, чтобы я не подумал, будто он волнуется. А что там волноваться, как ушли, так и придут. Но все же какое-то неприятное чувство беспокоило его: две бабы, ночью, в тайге… Но раз ушли, никому не сказали — пускай. Конечно, Никандровна человек бывалый и места эти знает, не заплутают.
В палатке становилось холоднее, и он поглубже забрался в спальный мешок. Борис любил думать и умел это делать: чудно на свете все устроено, что ни человек, то свой норов. Вот взять, к примеру, Валерия, самостоятельный, с головой, зря слова не бросит, выдержанный, такого голыми руками не возьмешь. А приехала в отряд эта Марина и по-своему его повернула. Что ни скажет — соглашается. И сейчас тоже, сказала, что нечего их ждать, он и свет выключил. А ведь в другие-то дни ночь напролет читает да записывает в дневник, знания свои пополняет. И даже не считается, что рядам в палатке человек от этого, может, не спит. Аккумулятор уже не в счет, сел — не его забота. И на че́рта эта Марина сюда приехала. Борис высунул голову из мешка и прислушался: кажется, идут. Он приоткрыл полог. Наконец-то! Ручной фонарик высветил нежно-зеленые ветви лиственницы, и две фигуры, осторожно, чтобы никого не разбудить, пробрались мимо его палатки. Долетел всплеск Наташиного смеха и хрипловатый увещающий шепот Вероники Никандровны. Борис облегченно вздохнул, запрятал голову в мешок и сразу заснул.
Утром он первой увидел Наташу. Сегодня было ее дежурство, она возилась с костром и никак не могла его разжечь. Вчера все они — Марина, Валерий и сам Борис — решили бойкотировать Наташу и Никандровну за их самовольный, поздний уход из лагеря. Но Наташа подозвала Бориса, и он разжег костер, натаскал воды из ручья. Наташе он симпатизировал. По правде сказать, она всех больше нравилась ему в отряде, и совсем не за красоту, хоть, конечно, девчонка она была красивая. Ему с ней бывало проще, чем с другими — и посмеются, и покурят. Курила она всегда потихоньку, не хотела, чтоб знал Валерий, да и Никандровна, та ей как-то возьми да и скажи: «Отвратительно, когда от молодой девицы разит табачищем».
— Где это вы пропадали вчера? — спросил он. — Нагорит вам от начальника за прогулочку.
— Не шуми. Мы дошли до поселка и были в гостях. Чаем нас с вареньем угощали.
Этого он не ожидал.
— Значит, в поселке? Чего вас туда понесло?
— Там такие люди замечательные…
— Вы спятили! Чего вы там не видали? Да разве это люди?
— Как не стыдно?! Замолчи.
— Замолчи сама. Нечего вам там делать, в их компании. В гостях были! Тоже мне гости…
Из палатки вышел Валерий с полотенцем через плечо, и Борис оборвал разговор.
К завтраку собрались все. Ели молча. Марина сразу же после зарядки, такой, что не каждый циркач бы сумел, была уже причесана — две крохотные косички заплетены волосок к волоску, торчали по бокам, скрепленные резинками. Она успевала подкрасить ресницы и веки, припудрить обгоравший в маршрутах нос. И за стол всегда садилась, даже когда сама бывала дежурной, будто не в тайге, а по крайней мере в ресторане первого разряда. Вероника Никандровна как-то отметила эту ее особенность, как положительный факт:
— Красоту свою и молодость надо уметь беречь на радость людям.
А Наташа фыркнула, как будто Никандровна высказалась не в похвалу, а в насмешку. Уж так Наташа умела все перевернуть.
Сегодня Марина в новом импортном батнике выглядела особенно торжественно. За стол села, ни с кем не поздоровалась, пододвинула к себе миску и начала поедать кашу с полной ответственностью. Сидит, ни на кого не смотрит, одну ложку глотнет и губы поджала, делом занимается — кашу ест. Своим видом хочет показать, будто не Валерий начальник, а именно она. Хотя и к отряду-то имела отношение только как колесо к пожарной каланче. Прислали ее из университета, с кафедры, собрать какой-то там материал по бору и железу, вот она к Валериевому отряду и присоединилась. А отряд его совсем и не университетский, а от Академии наук.
Борис за всем наблюдает и ждет, когда же разрядка. Никандровна, видать от раздражения, бухнула в кастрюлю целую пачку кофе, она всегда его заваривала, никому не доверяла. Кофе Никандровна всем разлила, а Наташа Валерию сгущенку накладывает и накладывает, знает, что до сладкого он любитель, и вообще поесть обожает, непонятно только, почему такой тощий. Он кружку кофе выпил, все молчком, за добавкой потянулся. Никандровна ему наливает, тоже молчком. Борис никак не может понять, почему она-то молчит. Ведь всех здесь солидней и, кажется, все понимает лучше других, разом бы навела порядок. Бойкот бойкотом, но сколько можно?.. Борис чувствует, что молчит она как бы понарошку и бойкота этого совсем не принимает, молчит — ни слова. Валерий вторую кружку пьет, Наташа и в нее сгущенки не пожалела и тут заговорила, не выдержала:
— Если вы думаете, что мы будем извиняться перед вами, то ошибаетесь. Мы себя виноватыми не считаем. Когда мы уходили гулять, мы не знали, что так задержимся. И вернулись раньше, чем нам бы хотелось.
— Тебе, может, хотелось всю ночь гулять, оно бы еще интересней, — перебил Борис, — а что люди ждут да волнуются, на это тебе наплевать.
— Никто и не думал волноваться, — не поднимая глаз, произнесла Марина.
— Вот и неправда, — возразил Борис, — с чего бы вы это решили объявить бойкот? — ему нравилось это слово. — Валерий волновался, точно знаю, скрывать не буду, и я тоже. Мало ли что может стрястись… Потом отвечай.
Но тут Вероника Никандровна сказала:
— Считаю, что мы с вами, Наташа, должны извиниться. Как бы вы этого и не хотели, должны. Если кто-то волновался, значит, мы виноваты. Тех, кто волновался, прошу нас простить. Больше этого не повторится.
— Ну? Вы удовлетворены? — Наташа улыбнулась. — А теперь слушайте, почему мы задержались.
— Да уж знаем, знаем, в гостях были, в поселке, чай пили, и не интересуемся, — перебил Борис.
— Ничего-то ты не знаешь и, пожалуйста, не перебивай. А мы вот познакомились с чудесными людьми. Они там поселились в уцелевшем домике. Буровики, бригада. И с ними женщина — Тамара Николаевна. Она нас пригласила, всех, весь отряд. Сказала: «После маршрута вы усталые, голодные, приезжайте прямо к нам, оладьев напеку, накормлю вдоволь». Мы пообещали, что приедем. Вот увидите, какие это люди.
— Оладьями, значит, тебя соблазнили… — проворчал Борис.
— Как же это ты так просто обещаешь за других? — вставая из-за стола, сказала Марина, положила в таз свою миску и кружку и добавила с подчеркнутой вежливостью: — Спасибо за завтрак.
Каждый раз, как только Борис принимался за ремонт машины, в нем нарастало раздражение. Он злился и на себя, зачем согласился работать на такой развалине, и проклинал начальника автобазы, спихнувшего Валерию машину, которую давно пора было списать, сердился и на Валерия за его уступчивость… Но сейчас к обычному для него раздражению примешивалось еще неприятное, незнакомое ему чувство. Значит, были у Тамарки. У Тамары Николаевны! А мне-то что?..
Тамарку он знал давно. Судьба свела их тоже на Алдане. Тогда она работала завскладом в Якутской экспедиции. Тамарка рассказывала ему, что выросла на Оке, жила в Казани, в Свердловске, бывала в Москве. И счетоводом-то она работала, и воспитательницей, и в библиотеке. Она говорила: «За хорошую книгу душу отдам».
Мотало ее, мотало и по работам, и по городам, а прибило к геологии. «Жить не могу без геологии», — он точно помнил ее слова. В экспедиции многие тогда к ней шились, болтали, никому не было отказа. Борис решил попробовать свое счастье, и не без успеха. Ночевали они в кабине его машины. И каждое утро расставался с ней, как говорится, с легким сердцем. А к вечеру снова ждал ее. Через год опять попал на Алдан, а ее и след простыл. Выгнали Тамарку. Болтали, что разбазарила она спирт, вроде недочет получился. И решил еще тогда Борис, что вовремя развязался, хоть увидеть страсть как хотелось. А потом и забыл про нее. Вот только слова ее помнил: «Жить ее могу без геологии». Как и он, Борис.
Что привлекало его в экспедициях, он и сам не мог понять. Первый раз ехал неохотно — уговорили товарищи. Ни черта за лето не заработал, устал, похудел, вернулся в Москву, решил не связываться больше с геологией. А тут Зинаида подвернулась — женился. На хорошую работу устроился, однокомнатную квартиру получил. Год прошел — затосковал, да еще как — сосет да сосет. Решился ехать. Зинаида ему: «Хочешь из меня жену моряка сделать? Полгода дома — полгода в море, не выйдет».
Вышло. Уехал. Где только за эти годы не побывал, но красивей Сибири не видел. Особенно Алдан. Вот уже третий раз он здесь и все не налюбуется, не надышится. А потом — свобода. И поразмышлять можно, и помечтать, не для того ведь только живешь, чтобы баранку крутить да под машиной лежать — гайками лязгать. И книжки можно почитать. А книги Борис любил, только серьезные. История его занимала. Детективов и всяких романов не терпел. Историческая книга прибавляет знаний, прочтешь и сразу умней становишься. Вот только с именами у него не получалось, никак не мог он запомнить имен и фамилий. Даже Веронике Никандровне пожаловался на себя. А она ему: «Вся история, мой друг, это имена, имена и еще раз имена. Ничего не поделаешь. Записывайте, заучивайте и запоминайте. Вот так».
Борису нравилось в Валерии, что тот читает, записывает, заучивает, потому и запоминает. А Наташа и так помнит, что не прочтет, что надо и что не надо — все. Значит, голова так устроена. Валерий как-то про нее сказал: «Самая способная на факультете. Защитит диплом, и сразу в аспирантуру возьмут. Конечно, если сама захочет». А чего она хочет, того она еще сама не знает. От нее всего можно ждать. Но чего захочет, того добьется, это уж обязательно. А Валерий, пусть умен, а вот понять не может, что у Наташи он под наблюдением. Изучает она его и неспроста. Видать, очень для нее важно, как и в какой момент он себя покажет. Борис не раз уже замечал, как только Валерий поступит справедливо или примет какое-нибудь ответственное решение, Наташа засияет. И ведь чувствует все, как никто. Почувствовала же, что неприятно мне слушать о Тамарке, так она, как назло, все о ней да о ней и знай нахваливает. И какая там она необыкновенная — баба как баба, такая же, как и все. И, вспомнив о Тамарке, Борис опять ощутил непонятное, не то чтобы ревнивое, но неприятное чувство.
Ведь за день до того, как Наташа с Никандровной пошли гулять к заброшенному поселку, Борис там побывал и напоролся на Тамарку.
Ехал он в сельпо за продуктами мимо поселка, слышит — движок работает. Поселок уже несколько лет был заброшен, экспедиция поработала, установила запасы железа и ушла. Домов никаких не осталось. А подъехал, видит — буровая. Откуда она взялась? Он туда, не померещилось. Двое у станка. Один, кореец, молчит, другой, Петром звать, русский, из Иркутска. Разговорились. Их бригада работает от управления. Задали им здесь несколько контрольных точек на железо, бурят на триста метров. Жилье себе сколотили. Не успел Борис его расспросить, как подходит к ним женщина, походка верткая такая. Он спрашивает Петра: «Это кто?» — «А это с нами, Тамарой Николаевной звать». Тут и она подошла. Смотрит на нее Борис — узнает и не узнает. Драная, как кошка, в морщинах, а глазищи как были зеленые, кошачьи, такими и остались, и щурится по-кошачьи. «Здравствуй! — говорит. — Давно с тобой не виделись». И руку Борису протягивает с большим фасоном. Он ее руку в свою взял да как стиснет во всю силу. Она даже в лице переменилась, но промолчала. «А тебя-то какой черт сюда занес? — спрашивает ее Борис. — Ты как сюда попала?» Она отвечает: «Почему черт, может, ангел. — Улыбнулась и левой рукой правую растирает, видать, здорово он ее прихватил. — Я здесь с мужем. Он мастером работает. Приходи в гости, познакомлю». И с таким достоинством все это преподносит, всем видом хочет показать, что у нее с Борисом никогда ничего не было. Смотрит, как святая, будто с этой самой Тамаркой он в кабине не ночевал и вместе с ней ни разу пол-литра не раздавил. Забыла, как будто все забыла.
Борису ничего не оставалось делать, как сесть в машину и уехать. В сельмаге он купил, что было надо, опять мимо поселка проезжает, и что-то подмывает его свернуть на буровую, порасспросить Петра. «Скажу, что воды в радиатор долить надо».
Корейца не было, у буровой Петр. «Ну, как вы тут?» — спрашивает его Борис. «Хорошо. Как видишь, работаем. А за водой придется тебе к ручью сходить, у нас здесь нет». Опять о том, о сем поговорили. Борис разговор так направляет, чтобы побольше про мастера разузнать, и никак это у него не получается. Но все же выведал. Мастер их, по фамилии Божан, муж, значит, Тамарки, в управлении работает недавно. Мужик рискованный. Там зачислили его сразу, потому что на такую тяжелую работу охотников мало. Мастер он хороший, справедливый, норму они перевыполняют, и вообще грамотный и специальностей у него много. Тамара Николаевна готовит им здесь еду и вообще женщина очень даже уважительная. Где ее Божан отыскал, Петр не знает, только в управление они уже вместе приехали.
Пошел Борис к ручью за водой, хотя вода ему эта совсем и не нужна была. Шел он как дурак, для виду и чуть было не наткнулся на Тамарку. Заметил их в траве. Он, значит, Божан, лежит лицом вниз, а она, Тамарка, сидит рядом и гладит его по волосам, шевелюра богатая. И так она гладит, что можно с ума сойти… А лицо у нее — как на картине. Они не заметили его — как прошел к ручью, как ушел… Тогда и мелькнула у Бориса мысль, вот ему уже за тридцать, и никогда в своей жизни этого он не знал, чтобы какая-нибудь баба с ним вот так, как Тамарка с этим.
Ехал и думал: ну их к черту. Сама оторва и, видать, связалась с таким же, только его и ждала, кошка драная. Теперь мимо поселка ездить не буду, лучше дам кругаля, пропади они пропадом. И все же не удержался, рассказал Наташе, что бичаги в поселке появились. Про Тамарку, конечно, ни слова. Не сказал бы ей, не потащилась бы она туда с Никандровной, это уже наверняка. А теперь своим носом что-то учуяла и все о Тамарке да о Тамарке. Конечно, может, она так, простосердечно, без всякой подковырки, все это ему рассказывает, не понимает, что красным машет перед быком. А он, делать нечего, должен слушать со всеми подробностями. И все, что Наташа ему рассказывает, как будто сам видит, видит и переживает.
…Добрались они с Никандровной к поселку уже совсем затемно. Пустырь. Вокруг одна свалка. Как-то не по себе им стало, решили повернуть обратно. Вдруг огонек заметили, ну и пошли на него. Домишко маленький, только что название, но все же домишко, окна застекленные. Постучали. Довольно долго не было ответа. Потом услышали: «Кто там?» — женский голос. «Геологи, — отвечают, — из отряда, ваши соседи». — «Сейчас, сейчас открою, пожалуйста, подождите минутку», — голос звонкий, приветливый. Дверь женщина открыла, а сама волосы в пучок забирает, высоко на затылке их закручивает, лицо все освободила. Глаза зеленые, вразлет, скулы заостренные, шея длинная. Халатик голубой накинула, байковый.
А Борис думает: эти ее манеры мы знаем — шею вытягивать.
«Проходите, проходите, — говорит. — Мы уже слышали, что рядом с нами геологи. Вы уж нас извините, что врасплох застали. И как хорошо вы сделали, что зашли!»
Все помещение — одна комната на всех. Обстановка — нары, стол да табуретки. Лампочка на потолке горит от движка. Печка-времянка. Вот и все. Тамарка-то встала, а сам лежит. Раз уж вошли, вроде и подыматься ему неудобно, небось в кальсонах. За ним на нарах, тоже под одеялом, кореец — одной рукой транзистор настраивает, музыку ловит, в другой — мячик на резинке, с ним играет. «Не обращайте внимания, вы уж их извините, — Тамарка говорит, — пусть лежат, весь день работали, устали. Здесь у нас все по-походному. Сейчас, сейчас я чай поставлю. Усаживайтесь. — Табуретки им придвигает, стол скатертью накрыла. — У нас и варенье для вас найдется, сейчас, сейчас. Это муж мой, — на лохматого показывает. — А это — Ким. Не его смена, отдыхает лапонька. — К корейцу обращается: — Выключи-ка свою музыку. Что поговорить не даешь?»
Наташа смутилась, не вовремя пришли. Но Вероника Никандровна, как ни в чем не бывало: «Лежите, лежите, очень даже хорошо. Мы и не разрешим вам подниматься. Чаю выпьем с удовольствием». И начинает разговор так просто, будто сто лет со всеми знакома. Наташа, уж какая бойкая, и то удивляется. Только кореец молчит, ни слова, как с ним Никандровна ни заговаривает, транзистор свой выключил и только мячик на резинке — вниз и вверх, вниз и вверх.
«И как же у вас здесь хорошо, и тепло, и чисто. Повезло вам с такой хозяйкой». Тамарка улыбается, а Божан Никандровне: — «Повезло не то слово. Жизнь она мне вернула». И все о себе как на ладони выложил. И о том, что сидел два раза тоже рассказал. Первый раз посадили — приписки к нарядам делал, ребят хотел заинтересовать, чтобы лучше работали. Он мастером тогда был на авторемонтном заводе, на Украине. Мало одному надбавки показалось, донес, решил — себе больше берет. Он этого не стерпел, врезал ему как следует, так, что тот в больницу угодил. Отсидел. Вернулся. Жена не ждала его, с другим связалась. Он все ей оставил: и дом, и обстановку всю. С одним чемоданом к братенку в село. Встретили его там с приветом, с угощением, стол накрыли, гостей наприглашали. А он весь в своих переживаниях. Выпили. Кто-то возьми да и скажи про него: «Без кола и двора остался, зато с рогами». Не сдержал себя, опять врезал. Еще три года схлопотал. Ну, а потом на шахтах, и механиком, и буровым мастером, как и сейчас.
Все это он им запросто излагает, а Тамарка с таким участием ему: «Божан, ты мой обожан, ну не волнуйся. Все у нас с тобой так хорошо…»
«Очень хорошо, — думает Борис, — трепалась, трепалась и удостоилась на свалке жить, на нарах спать». Наташин рассказ вызвал в нем только раздражение против Тамарки. Для себя он решил больше с ней никогда не встречаться, но и отряду не видать Тамаркиных оладий.
Начал он с Валерия.
— Зачем нам тащиться к такому сброду?
Валерий поначалу отнесся довольно безразлично:
— Как они хотят. Что тут такого особенного, можно и заехать. Я, лично, не возражаю. — Он весь этот день был очень занят, составлял для Москвы месячный отчет, и было ему ни до кого и ни до чего. А Наташа услышала, как Валерий прореагировал, и просияла.
Тогда Борис решил действовать через Марину. Как к ней подъехать, он себе ясно представлял. Он высказал Марине свое мнение о дружбе Наташи с Никандровной. Наташа, мол, хочет показать, что она не глупее Марины, хоть и не кандидат наук, только студентка, а вот с Никандровной у нее больше общего в интересах.
Конечно, это не могло не подействовать на Марину, тем более, что совпало с ее собственным ощущением этой дружбы, и Борис это понимал. Вероника Никандровна не нравилась Марине. Прекрасный специалист, больше сотни печатных работ, конечно, ей нельзя отказать в образованности. Но не нравилась она Марине своей независимостью и тем, что даже с Борисом, простым шофером, ей интересней было общаться, чем с ней, Мариной. А Марина и музыку знает, не как-нибудь, а профессионально, музыкальное училище окончила, и в литературе, и в живописи разбирается, и по театрам ходит. У Марины на все хватает времени, все даже удивляются. Даром она его не тратит. Вот она, Марина, в поселок знакомиться со случайными людьми не пошла бы. Делать ей там нечего. Ехать туда всем отрядом — значит не уважать себя. В назначенный день у Валерия не было намерения заезжать в поселок после маршрута.
— Но как же так? — сказала Наташа. — Мы же обещали. Ты согласился. Нас будут ждать, готовиться. Что случилось, Валерий? Почему это ты вдруг возражаешь?
— Нечего нам делать в этой компании. Личного приглашения не получал. И довольно об этом.
Сказал, как пощечину залепил. Ничего она ему не ответила, только глазами прожгла, отвернулась и пошла к себе. Борису даже совестно стало: оказывается, вот как на Валерия она реагирует, всем сердцем.
— В таком случае, — Вероника Никандровна даже закурила, — вы считаете, что мне прилично будет проехать мимо поселка?
Борис понимает, что неприлично. Понимает, что сам все сделал, чтобы расстроить их планы. Но у него-то ведь другие отношения с Тамаркой! И чтобы как-то все же сгладить свою вину, он предложил Валерию ехать не мимо поселка, а в объезд. И пусть они там думают, что отряд сегодня в маршрут вообще не поехал. Валерий промолчал, но Марина резко возразила:
— Что за глупости? У нас маршрут, а не игра в прятки. Какое нам дело, кто там и что там будет думать.
Наконец тронулись. Солнце уже встало, иней растопило, трава мокрая блестит, и над каждой росинкой радуга. Мимо поселка Борис лихо газанул и вообще довольно быстро довез отряд до места. Конечно, в обязанности шофера не входило сопровождать отряд по тайге во время маршрута, следовать с ними пешим ходом к пунктам отбора проб. Его дело лишь вести машину. Довез отряд — можно спокойно отдыхать, читать, либо загорать, что хочешь. Но Борису бывало как-то и не совсем удобно прохлаждаться, когда все тащатся в маршрут, волокут на себе тяжелые рюкзаки с пробами, приборами, особенно Никандровна, хоть и жилистая, но пожилая, надо помочь. И чего только она ему не рассказывает и не показывает по своей работе: и как выращивает на разных питательных средах колонии бактерий, изучает их виды, а по видам устанавливает металлы. Борис ей помогает в опытах, когда делать нечего.
На этот раз он тоже пошел со всеми. Ходили они, ходили, солнце печет, жарища. На каждом намеченном участке останавливаются, пробы отбирают: и почвы, и воду из родников, и растительность всякую, мох и все такое, что по земле стелется. И мешочки у них, и склянки, и пробирки. Все записывается, этикетки на все это наклеиваются. В общем работы хватает. На пяти точках пробы отобрали, все исследования нужные провели, а исходили уж наверняка километров тридцать, если не больше, у Бориса ноги гудят, нет такой привычки, как у них, но и они, видать, тоже здорово устали, еле тащатся. Одной Марине хоть бы что, легко шагает, тренированная, черт, ноги у нее длиннющие, а сапоги болотные, по пояс, это еще больше их подчеркивает, и сама длиннющая, тонкая-претонкая, живот к позвонку прирос. Идет с Валерием, он за ней еле поспевает, губы все облизывает, а она на научные темы рассуждает:
— Самое плохое, — говорит ему, — доделывать и переделывать. Диссертацию надо сразу защищать. Потому что ни конца ни края в работе не бывает. Точку надо ставить смело. Может, я еще подумаю, и оппонентом соглашусь вашим быть. Как знать? Вот утвердят меня доцентом…
Валерий ничего не ответил, только кулаком подбородок потер: видать, понравилось предложение.
Наташа с Никандровной идут и над каждым ручьем, над каждым озерком останавливаются.
— Борис, вы только поглядите, какие удивительные цветы! Это лиана. Видите, какое изящество, изыск. Так вот такая прелесть обовьет это несчастное дерево своей красотой, оплетет, запутает и загубит, все соки из него вытянет, — Никандровна ему объясняет. А Борис думает: вот Валерия красотой не оплетешь, не таков, вроде бы любовь его не увлекает, человек он спокойный, расчетливый…
Отобрали пробы еще на одной точке, хоть и устали, уже шесть проб, а им все мало, хотят еще. Тут Борис Валерию намекает, что живот уже подвело, что из еды с собой взяли, съедено. Пора бы возвращаться. И до машины ведь еще сколько тащиться. Уговорил. Оборудование они свое сложили. Только собрались идти — туча налетела. Дождь пошел.
Думали — пустяки, под лиственницами переждем. Выбрали погуще крону, наверняка дождь ненадолго. А он все сильней да сильней. И никто не ожидал, такая чудесная погода была. Но льет и льет. А у них с собой ни палатки, ни брезента. Кто это все потащит в однодневный маршрут?..
Лиственница уже не защищала, дождь все хлеще и хлеще. Промокли все хоть отжимай. Борис говорит:
— Может, плюнем, пережидать не будем? К машине пойдем? Меня вовсю уже трясет, в ходьбе хоть потеплее.
Но Валерий не согласен:
— Под таким дождем далеко не уйдешь. Надо переждать.
Тучи нависли, откуда только набежали, потемнело, и дождь стеной. У Наташи зуб на зуб не попадает, дрожит, а Никандровна заметно повеселела. Валерий все старается Марину от дождя собой загородить. Куртку снял, на нее набросил.
Борис не выдержал, к Наташе шагнул, решил встать хоть поплотнее. А она ему шепчет:
— Я ведь знаю, это ты во всем виноват. А сейчас бы самое время поесть да погреться. Ведь там для нас оладьи напекли…
Дождь без просвета. Похолодало. В сапоги заливает вода, а ноги мокрые в тайге хуже всего. Даже Марину, на что крепкая, и то забрало, нос посинел, с косичек капает и волосы стали реденькие, как облизанные.
Тут свое слово Вероника Никандровна возьми да и скажи.
— Валерий, вы отвечаете за отряд. Иного выхода нет — скорее к машине и отогреваться к буровикам. Подходящая или неподходящая там для вас компания, это все ерунда. Все заболеем, сорвется работа. Вот о чем надо думать. Я иду к машине. Наташа, пошли!
Делать ему ничего не оставалось, как согласиться. Марина тоже промолчала. А что тут можно возразить. В лагере ничего не ждало, только что мокрые палатки, да и костер под дождем не очень-то еще разожжешь.
Шлепали к машине невесело. Земля обмякла в кисель, шли как по болоту, снизу вода, сверху вода. У Бориса не то чтобы джинсы — трусы промокли. Свою неудачу с гостями он проглотил — понимал, что решение принято правильное. Шлепали они, шлепали, наконец дотащились.
Машину Борис подогнал аккурат к самому Тамаркиному домишку. Дождь, видать, зарядил надолго, все стекла ей промывает.
Она машину услыхала и дверь нараспашку. Плащ на голову накинула, в дверях стоит, ждет. Из машины все вылазят, а с них вода ручьями, как из водосточной трубы. Тент на машине, одно название, дождь под ним всех захлестал, как избитые выходили. Одна Наташа ничего, в кабину ее Борис с собой посадил, Никандровна в ее пользу отказалась. Валерия так забрало, что совсем поник.
Вошли в дом. И уж тут Тамарка не растерялась, оперативность проявляет, всем мохнатые полотенца сует, новые, нестираные.
— Вытирайтесь, сушитесь. Надо водочкой протереться, чтоб не простудиться. Водочка есть… Муж, затапливай скорей печку.
Борис себя в руки взял (а что ты будешь делать?), профессия его к тому же выдержке научила.
Ее Божан тоже всех приветливо встречает:
— Заходите, заходите. Ну и промокли! Скидайте скорей одежду. Тамарочка, женщинам халатики бы надо дать. Как же вы это так, бедные?.. — Борису и Валерию подает рубахи фланелевые. — Вы не стесняйтесь, переодевайтесь в мои, сейчас печь разожгу, ваши сушить будем.
В комнатенку все забились, вытираются, куртки свои отжимают. Женщины в Тамаркины шмотки переоделись, и Марина тоже. Времянку Божан мигом растопил, затрещала, жар повалил.
— Сейчас, сейчас, в тесноте да не в обиде, ваши одежки мы развесим, они мигом высохнут. — Тамарка веревку протянула. — Ну, кажется, у нас уже тепло. Теперь угощать вас буду. Проголодались. Мой Божан в район специально ездил, мяса привез. Я котлет вам нажарила. Все жду вас, жду… И оладий тоже, как обещала. — Наташе улыбается. — Муж, водку ставь! Кажется, все перезнакомились? Вот и хорошо.
Котлеты на сковородке шипят, Валерий носом потягивает, голод его разбирает.
Сели к столу. Табуреток на всех не хватило, так Божан стол к нарам придвинул, всех усадил. Тамарка миски, ложки, вилки всем разложила, стаканы вынесла. В передней у нее вроде чулана, чего она только оттуда не повытаскивала: и консервы всякие, и варенье, и масло сливочное, ничего не жалеет. Все на стол с такой охотой ставит:
— Кушайте, пожалуйста, кушайте!
Борис стакан водки опрокинул, горячей котлетой закусил, наблюдает.
Вероника Никандровна с Божаном как со старым приятелем чокается, выпивает, закурила, на международные темы беседу завела. И Божан ей грамотно возражает, видать, в политике здорово разбирается.
Валерий одну котлету за другой в себя запихивает — дорвался. А Марина ест, пальчик отставила, как будто для нее одной здесь все наготовили. Котлеты у Тамарки из парного мяса, сочные. Вкусно наготовила, для Мариночки, ничего не скажешь. От водки наотрез отказалась, даже глотка не выпила против простуды, как Тамарка ее ни уговаривала. Не так воспитана!
Посуды не хватает, Тамарка хочет помыть, чтоб оладьи в чистые миски накладывать, а Божан ей:
— Присядь, посиди, Тамарочка, я помою.
Борис подумал: ему только с мисками и возиться. Ручищи-то какие здоровенные — силища. Ему штанги выжимать. Кулак, поди, в три моих будет. Представляю, как он может двинуть.
Тут Наташа вызвалась Тамарке помочь. Но Тамарка ни ему, ни ей мыть посуду не позволила, мигом все сама ополоснула.
К Борису Божан тоже очень ласков, пожалуй, изо всех его выделяет. А Бориса гнетет — рассказала Тамарка или умолчала. И склоняется к тому, что знает о нем Божан, знает и вроде даже сочувствует, будто забрал себе его, Борисово, добро. Подумать только! Подливает ему да подливает.
— Тамарочка на готовку большая мастерица. Еще одну котлетку! — А котлетища в его ладонь.
Валерию Божан тоже подлил, только тот слабо пьет, на еду нажимает, за все лето так еще не наедался. В Божановой рубахе сидит! А утром ведь твердо решил, что Божан ему не компания. И замечает Борис, что и Наташа все это понимает, но смотрит на Валерия пустыми глазами и сердцем за него не переживает. Вот оно что.
Марина на чай перешла с вареньем, и все молчком, разговор поддерживать не хочет. Вид у нее такой — «пусть я и здесь, но меня здесь нет».
«И как же это я Тамарку не разглядел? А ведь когда прощались с ней тогда, она, зараза, мне сказала: «А будешь ты меня вспоминать». И права. Сиди теперь, Борис, и молчи. И чего только на свете не бывает!
Марина на часы все поглядывает, как будто торопится скорее уехать. Тамарка это отлично заметила. А часы-то у нее, оказалось, стоят, дождем их, наверное, залило. Но Божан выручил. Взял их у Марины, раскрыл, что-то в них подкрутил огромными ручищами, и пошли часики, как миленькие затикали. И Марина по такому случаю в первый раз за все время еле улыбнулась. Поблагодарить-то ведь его за часики все же надо было.
Дождь прошел. Возвращались к себе в лагерь при луне. Взошла золотистая, тяжелая, а вокруг тройное сияние. На этот раз в кабину Борис посадил Веронику Никандровну. Она, пожалуй, больше всех выпила, веселая была, такой ее Борис еще не видел. И как-то так случилось, что дорогой он ей о Тамарке возьми да и расскажи. И про то, как принял решение никогда с ней больше не видеться и в гости со всем отрядом к ней не являться, и что для этого проделал, тоже рассказал.
Никандровна слушает его и ничего не отвечает. Борис машину осторожно ведет, не спешит. И молчание Никандровны все больше и больше его гнетет. И хочется ему узнать, чем же ее, Никандровну, эти люди привлечь могли. Она — интеллигенция, они — народ рабочий. Может, просто поизучать захотела, как свои бактерии изучает. Хочется ее спросить, да не решается.
А она вдруг говорит:
— Ми с Наташей на их огонек пошли… Два человека в огромном мире нашли друг друга, Разве это не чудо?!
И от слов ее опять с Борисом что-то такое происходит: сам все понимает, да только надо ему все наперекор, наперекор, возражать да возражать.
— Она еще ему покажет — эта ваша Тамара Николаевна, обязательно с кем-нибудь да спутается. А может, и от к жене вернется…
— Нет. Никогда.
— Чего это вы так уверены?
— Нимбами они зацепились.
— Это как понимать, нимбами?
— Да так и понимайте. Самым высоким, самым светлым. Оттого они и богаче нас с вами.
…Борис не спал. Он лежал в своем спальном мешке и опять думал, но почему-то все, о чем он думал, казалось ему теперь мелким и незначительным.
Солнцеворот
Самолет пошел на посадку.
Вышел командир и сказал:
— Товарищи, самолет дальше не летит. Мирополь не принимает из-за погоды. Забирайте ручную кладь, будем ночевать в Крыльске.
В аэропорту пассажиры с авоськами, свертками столпились у дежурного администратора. Начали выяснять, как быстрее добраться до Мирополя. Оказалось, что рейсовые такси ходят только в курортный сезон, автобусов нет, поезд идет вечером.
Администратор обзванивал автопарки города Крыльска. Машин не было, никто ничего не обещал:
— Ведь сегодня канун Нового года. Кто же сейчас повезет, — отвечали повсюду.
Среди пассажиров произошел раскол. Часть оставалась в порту, чтобы утром лететь самолетом. Другие собирались на вокзал — ехать поездом. Несколько человек решили — обратно в Москву. Кое-кто отправился в буфет прощаться со старым годом.
— Выпьем, — думали они, — и все прояснится.
Гражданин, который вез с собою маленькую елку, тоже пошел в буфет, и она, запеленатая, бесприютно стояла, прижавшись к стене.
Среди пассажиров было всего три женщины. Две очень молодые, третья старше. Сейчас, как-то сразу, они сплотились. Ни одно из принятых мужчинами решений их не устраивало. Общим их желанием было как можно скорее добраться до Мирополя.
Без багажа и свертков, в туфельках, они имели совсем не дорожный вид.
Старшая все время дремала в самолете, а теперь неожиданно взяла инициативу в свои руки.
— Вот что, — сказала она, — нам придется отправиться в Крыльск и там искать себе машину.
Спутницы не возражали, доверившись ей.
По площади перед аэропортом проезжала машина. Самая молоденькая, звали ее Женей, побежала к ней, остановила, начала упрашивать водителя, чтобы он довез их до города. Тот попытался было отказаться, но когда подошли еще две женщины и тоже начали просить, уступил.
Дорогой они только и говорили о своих надеждах немедленно выбраться из Крыльска.
Водитель молчал, иронически улыбаясь.
В городе он сказал, что довезет их не до автостанции, а до заправочной колонки, весьма толково обосновав этот стратегический ход. Женщины покорились. Подъехали. Несколько машин ждали заправки. Женя помчалась туда, а старшая сказала:
— Мы подождем здесь, в машине.
Водитель недовольно покосился на нее, но промолчал.
Женя вернулась в полной растерянности. Никто и слушать ее не захотел.
— Как теперь быть? — спросила она у старшей.
Другая, стриженая брюнетка, зябко куталась в слишком легкое для зимы пальто.
И тогда спокойно, неуместно спокойно, старшая сказала, обращаясь к водителю:
— Вот что! Нас повезете в Мирополь вы.
— Я? — воскликнул водитель. — Да вы что?..
— Да, да, вы не сможете нам отказать.
Водитель обернулся и удивленно посмотрел на нее.
— Да, да, вы и только вы сможете нам помочь, — и, улыбнувшись, доверительно сказала: — Мы ведь с вами старые фронтовики.
Голос ее звучал глухо и так, будто все уже было решено.
— Конечно, вы не оставите нас! Ну, только посудите, что мы будем делать? Вы подумайте, в каком мы положении. Пожалейте нас.
Маленькая Женя не прекращала уговоров. Она сидела рядом с водителем, беспрестанно поправляла растрепавшуюся челку и болтала без умолку.
— Ну, пожалуйста, согласитесь. Вот мы едем из Москвы, только на один день, ни с чем не посчитались, значит, нам очень нужно, очень важно. А вот вам, наверно, не так. Ведь это правда, что я говорю?
Водитель обернулся назад и встретился с умоляющим взглядом брюнетки. Старшая сидела, опустив голову. Седая прядь резко белела на темных волосах у виска. Он включил мотор.
— Ура, ура! — воскликнула Женя. — Мы едем в Мирополь.
Машина тронулась.
— Вы настоящий человек, — сказала старшая. — Спасибо.
«Почему я согласился?» — думал водитель и ответить на этот вопрос не мог.
Серый огромный Крыльск сразу сделался уютнее и теплее. Пока проезжали по городу, разместились удобней, уселись поглубже. Молчали, еще не уверенные в том, что все так быстро и счастливо обернулось.
Автомобильчик был так себе, видавший виды, наверно, не раз подбитый, грязный внутри. Он весь дребезжал при движении.
Когда город остался позади и ровная лента шоссе легла перед ними, оживление вернулось к Жене, и она начала всех забрасывать вопросами.
Оказалось, что водитель — хозяин машины. В войну был летчиком-истребителем, был ранен и контужен. Сейчас — в отставке, вышел на пенсию. У него дочь и сын — студенты и очень строгая жена. Оказалось, что старшую из спутниц зовут Ольгой Николаевной, стриженую брюнетку — Тамарой. Женя рассказала, что спешит к жениху. Едет знакомиться с родителями, ее пригласили встретить Новый год. Жених — футболист, тренируется сейчас на юге. Родители живут там постоянно, и она боится, понравится ли им.
— Можете не сомневаться, — сказал водитель, — понравитесь.
— А почему он сам не прилетел к вам? — спросила Ольга Николаевна.
— Он не может. Он тренируется перед поездкой за границу. А потом… так романтичней. Вы ведь тоже сами едете, и Тамара. К кому вы едете?
Она повернулась на своем сиденье, с любопытством уставилась на женщин.
— Куда вы едете, Тамара? К мужу?
— Да, — ответила Тамара, — к мужу, до Мирополя.
— К мужу… — раздумчиво повторила Женя. — К мужу — это не так уж интересно…
— Почему? — сказала Ольга Николаевна. — По-моему, очень хорошо.
— А вы? Куда вы едете? — обратилась к ней Женя.
— В Овинду, — ответила та.
— В Овинду? Это дальше, чем нам? Через перевал? А к кому? — и она хитренько улыбнулась. — Вы актриса?
— Нет, — ответила Ольга Николаевна, — я врач.
— А я думала актриса, — разочарованно сказала Женя. — К кому вы едете, расскажите, — допытывалась она.
— Длинная история.
— Интересная, наверно?
Ольга Николаевна не ответила.
Все молчали. Но это продолжалось недолго. Женя вынула «Мишку» из сумочки и протянула водителю.
— Хотите конфету?
— Не хочу, — сурово ответил он.
С неба начала сыпать мокрая крупа, стало скользко, машину вертело во все стороны. Мимо белели поля, пробегали поселки с беленькими мазанками, длинный белый путь лежал впереди.
Ольга Николаевна смотрела на широкую спину водителя. «Знакомая, добрая спина».
Невесело дребезжали створки дверей. Во все щели отчаянно дул ветер.
— У меня есть одеяло, — сказал водитель, — если замерзнете, скажите.
— Замерзаем! — сказала Тамара, и водитель вытащил из-под себя старое солдатское одеяло, которым она жадно укутала ноги себе, а потом Ольге Николаевне. Начали заниматься подсчетом часов и километров. В Мирополь при удаче могли бы поспеть часам к восьми вечера, но гололед снижал скорость. Положение становилось тревожным.
Водитель молчал. Навстречу неслись грузовые машины, и их трепало в разные стороны. Промозглый ветер становился все сильнее.
— А вдруг вы не успеете к двенадцати вернуться, — сказала Женя. — Ой-ой-ой, жена будет волноваться…
— Не знаю, ничего не знаю.
В поселках у шоссе зажигались огни. В окнах мелькали разукрашенные елки. На улицах не было народу. Очевидно, все уже собрались по домам. Машин на шоссе тоже не стали встречать. Совсем стемнело. Поднимался туман. У поворота на Сеченск он сделался густым как молоко, и машина ползла, как черепаха.
Навстречу прорвалось такси, его определили по зеленому глазку. Водитель отсигналил, остановил машину, вылез и подошел к таксисту. Он довольно долго вел переговоры, и женщины заволновались. Тамара вынула из сумочки и начала есть бутерброд с ветчиной.
— Надо бы предложить водителю, — сказала Ольга Николаевна. — У меня ничего, кроме двух апельсинов…
Водитель вернулся мрачный.
— Дело труба, — сказал он. — Дальше не поедем. Такси возвращается из-за тумана. Сплошная стена. Делать нечего, придется ночевать в Сеченске. Будем куковать до утра.
— Это невозможно! — воскликнула Женя.
Тамара сказала:
— Нет, нет, это невозможно. Вы должны нас везти! Мы нигде не будем ночевать, ни за что!
Водитель рассердился:
— Я не буду рисковать вашими жизнями, машиной, своей жизнью, наконец. Куда я вас повезу? Видите — молоко.
Такси проехало мимо, поворачивая в Сеченск. Таксист крикнул:
— Валяй за мной, к гостинице.
Но Женя схватила водителя за руку.
— Не поворачивайте! Все пропало! Ну, что вы делаете с нами? Поедемте.
— Я говорю вам, ехать нельзя. Разве сами не видите, что делается. Что я враг себе и вам?
Ольга Николаевна молчала. Женя начала всхлипывать. А Тамара приподнялась на сиденье, уронив одеяло с колен, обхватила водителя за плечи руками и начала просить его, отчаянно и исступленно:
— Не надо в Сеченск. Ехали и будем ехать, ничего не случится, не бойтесь. Вы такой смелый, рискованный и вдруг испугались. Поедемте тихонько, совсем тихонечко. Умоляю вас!
Водитель не сдавался. И тогда Ольга Николаевна сказала:
— Нелепо было выезжать из Крыльска, чтобы заночевать в Сеченске. Вся игра теряет смысл. Я уговаривать не стану, отлично знаю, как трудно ехать и что четыре жизни в ваших руках, но бывали у нас с вами ситуации и посложней. Вы отличный водитель, а потом я могу вам помогать. Надо только следить за краем шоссе из окна, и я за это берусь. Мы поедем очень тихо. Если ночевать в Сеченске, вы все равно домой не попадете. А нам… уж лучше встретить Новый год в машине, продвигаясь вперед, чем свернуть куда-то с дороги. Вы просто устали, передохнем. Съешьте бутерброд с ветчиной, Тамара вас угостит. А у меня для вас есть апельсины.
И опять водитель не устоял. Он только буркнул в ответ, что есть не будет. Машина покатила по шоссе. Женя и Тамара притихли, а Ольга Николаевна опустила стекло — оно заледенело — и высунула голову, чтобы следить за обочиной. Водитель притормозил машину.
— А ну-ка, Женя, пусти Ольгу Николаевну вперед. Тут потеплее, — сказал он. — Вот тоже… уселась… — добавил шепотом.
— Нет, нет, — сказала Ольга Николаевна, — здесь хорошо, я знаю, как надо.
Спокойным ровным голосом она подавала команду:
— Правее, правее, прямо. Левее, левее. Обочину не вижу. Вот так. Прямо.
Машина медленно, по верно продвигалась вперед. Холодный влажный ветер насквозь пробивал ее, и Тамара перетащила на себя все одеяло. Вся закуталась в него, в это старое солдатское одеяло. Женя задремала. И только голос Ольги Николаевны беспрестанно подавал команду.
Так в течение нескольких часов они прорывались сквозь клубы тумана, который все густел.
А потом вдруг поднялась луна, и туман начал таять.
Подъехали к заправочной станции. Остановились. Водитель, мрачный и осунувшийся, заливал бензин. Женщины вышли для разминки. Промерзшие, голодные, они, оглядев друг друга, ужаснулись.
— Хороши! — сказала Ольга Николаевна. — Хороши! Нечего сказать.
И все рассмеялись.
А потом вновь уселись в машину и кое-как укутались, и поджались, и на шоссе было светло от луны, и не стало совсем тумана, и все опять оживились, и даже водитель повеселел:
— А все же прорвались! — и Ольга Николаевна прошептала:
— Как на фронте.
А Женя болтала:
— Все мы удивительные люди. Ольга Николаевна, вы должны выдать нам справки с круглой печатью, что мы молодцы и герои. Вашей жене, — обратилась она к водителю, — будет послание от нас троих. Она должна вас простить, потому что вы — настоящий.
Водитель улыбнулся. Ехать стало легко, потеплело, дорога была сухая.
— Вашему жениху, Женя, — продолжила Ольга Николаевна, — мы напишем, что вы самая отчаянная и самая любящая из невест. Вашему мужу, Тамара, напишем, что он должен вас беречь и радоваться…
Тамара повернулась к ней и тихо сказала:
— Не надо, я еду к чужому мужу.
В двенадцать по московскому времени они подъехали к переезду. Он был закрыт. Сторож поднял шлагбаум и сказал, пропуская машину:
— С Новым вас годом, с новым счастьем, да що с праздничком. Путя вам открываю.
Проскочили переезд и остановились на минуту, поздравили друг друга. Разделили апельсин на дольки. Женя щедро угощала «Мишками».
— Что там сейчас мои думают? Как они там?.. Доченьке моей такой подарок приготовил. Эх, лучше не вспоминать, — сказал водитель и вздохнул.
До Мирополя было еще далеко, но Новый год был встречен и как-то сразу стало спокойнее.
Когда проезжали мимо поселков на шоссе, по дороге навстречу попадались люди, парочками в обнимку или целой толпой.
Откуда только брались силы у водителя? Без еды, без отдыха отмахать столько километров, да еще когда туман и гололед… Помимо выносливости и воли, у этого человека было и еще что-то более важное.
Вдруг Женя сказала Ольге Николаевне:
— А вам мы тоже напишем справку. Только не знаем, кому. Когда вы нам расскажете про себя?
— Я расскажу вам непременно, когда доедем до Мирополя.
— Ну смотрите, — сказала Женя, — мы ждем.
Впереди заплескались огни. Все оживились. Машина шла быстро, и огни приближались.
Улицы Мирополя были ярко освещены. Праздничные гирлянды из хвои, разноцветные лампочки. На улицах было многолюдно и шумно.
— Довезу вас до автостанции, и баста, — сказал водитель. — Я должен поспать. Ничего уже не вижу, а мне еще обратно.
Как-то мгновенно его охватила усталость. Чувствовалось, что он уже не в силах управлять рулем.
У автостанции первой выскочила Женя. Она слишком уж торопливо попрощалась со всеми и шмыгнула в первое попавшееся такси.
За нею следом вышла Тамара. Она нервничала.
Прощаясь с водителем, Ольга Николаевна тихо погладила рукой могучую усталую спину:
— Я не ошиблась в вас, вы поняли меня, я-то знаю, чего вам это стоило.
Но он уже почти не слышал. Он засыпал. Тяжелая голова свесилась на руль.
Ольга Николаевна еще довольно долго стояла под теплым, мелким, почти весенним дождем у автостанции, дожидаясь машины. Наконец она уселась в маршрутное такси.
Когда проезжали перевал, рассветало. Дождь кончился. Столетние буки и грабы как великаны стояли вокруг. Ярко-зеленый мох расползся по их стволам, высоко на ветвях покачивались легкие шары вечнозеленой омелы.
Вдалеке заблистало море, и до боли знакомые ей резные очертания южного берега стали доступны глазу.
Повороты шоссе. Огни санаториев. Стройные силуэты кипарисов. Остро пахло морем, и быстро светлело. Когда подъезжали к Овинде, уже вставало солнце.
Город спал, и только чайки с визгом метались у мола.
Белая приморская гостиница, с маленькими лепными балкончиками по фасаду. Ольге Николаевне пришлось разбудить швейцара. Дежурный администратор тоже спала. Очень неудобно было будить сладко спавшую немолодую женщину.
— Здравствуйте, с Новым годом, — сказала Ольга Николаевна.
— Мест нет, — ответила та спросонья. — Раньше десяти ничего не будет, — добавила она, протирая глаза.
— Я посылала телеграмму, чтобы забронировали, завтра я уезжаю обратно.
Дежурная окончательно проснулась. Она уставилась на Ольгу Николаевну и не сразу узнала ее.
— О, так это вы, — сказала она. — Здравствуйте! А мы тут на вас грешили. Думали, не приедете. Всякое ведь бывает. Потом получили телеграмму. Разве можно забыть. Нельзя. Номер вам оставили…
Ольга Николаевна осталась одна. Подошла к окну и распахнула створки.
Пронзительно свежий морской ветер с запахом соли и йода хлынул в лицо. Впереди простиралось море. Было светло, и солнце сияло совсем не по-зимнему. Она долго смотрела в морскую даль.
— Вот я и встретила Новый год. Опять с тобой, как тогда, как всегда… Тебя нет, а я жива и буду жить, — тихо прошептала она.
И видела его так же ясно, как и в последний раз в партизанских лесах Овинды. Обросшего, с синими, смеющимися глазами, с доброй могучей спиной, похожей на щит.
Ветер трепал занавески, и они раздувались как парус над ней.
Она улыбнулась, вспомнив водителя:
«Конечно, она виновата перед ним за погубленную новогоднюю ночь. Но он должен простить. Если ей дорога эта память, то и он, оставшийся в живых, отдал свою дань».
А он сладко спал в своем опустевшем автомобильчике, на обочине, почти в кювете, и тоже улыбался. Он слышал ее голос, глухой, не терпящий возражений. И видел запавшую в душу седую прядь у виска.
Анна Каренина из Черноморки
За стеной девочка Аня зубрит геометрию.
— «Величина угла не зависит от длины его сторон», — медленно произносит она.
А я смотрю на портрет. Он висит в комнате, где я живу. Это увеличенная фотография женщины с остановившимся взглядом. Красивое лицо, правильные черты, может быть, слишком тяжелый подбородок — тяжелая южная красота. Такие лица встречаются на Кубани. К портрету приколот черный бант.
Эта женщина бросилась под поезд.
— «…Биссектрисой называется прямая, делящая угол пополам», — заучивает девочка.
Ее звали тоже Аней. Это мать девочки.
Шум поезда каждый раз заставляет меня вздрагивать. Железная дорога проходит где-то совсем рядом. Стук колес отдается у меня в висках. Лучше бы закрыть окно. Оно выходит во двор. Обычный южный дворик, весь заплетенный виноградом. Огромные багровые кисти «изабеллы».
Осень. И потому так хрустален воздух и слышен каждый звук.
В маленьком промысловом поселке, недалеко от Краснодара, я в командировке.
Меня устроили в этом доме вместо общежития. Сказали: «Хорошие люди, тихо».
Тихо. Но шум поезда… Как можно привыкнуть к нему?
— «…Через точку, взятую вне данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную этой прямой», — раздельно и бесстрастно повторяет девочка.
Евклидова аксиома. Непересекаемость двух параллельных. Но в пространстве Лобачевского они пересекутся в бесконечности и разбегутся в бесконечности и пространстве Римана. Вот условность истин.
«Хорошие люди, тихо…»
А поезд пройдет — рельсы гудят, как струны. Ровные рельсы.
Усвоила ли девочка Аня, что параллельные рельсы пересеклись? У нее такие же, как на портрете, черные остановившиеся глаза.
— И глаза не зажмурила, как живые смотрели… — говорила мне бабушка. — Книга ее натолкнула. Все книгу она эту читала, «Анна Каренина». А что было промеж ними общего — ничего, только что имя. Аня — трудовая женщина, девчонкой ушла на фронт, с орденом Отечественной вернулась. С мужем честно жила. Та ведь никого не жалела, а моя всех… оттого и погибла.
Бабушка, мать покойной, женщина удивительная. Ни разу я не слышала, чтобы она повысила голос. Чуть свет — уже при деле и трудится допоздна. Старая, но хороша, как икона. Смотрела бы на нее не отрываясь.
Когда приезжает дедушка, вся светится добротой и радостью. Не знает, куда усадить его, чем накормить.
Старик работает сторожем на бахчах. Приедет, привезет мешок арбузов.
— Праздник у нас. Дедушка приехал. Попробуйте наш калмыцкий чай. Дедушка у нас только калмыцкий любит.
Старик колготной. Подвыпьет и морочит ей голову. А она только лаской с ним, только лаской.
Дедушка похож на старого казака с картинки — усищи, да и брюки широки, как шаровары.
— Он у меня хозяйственный, — говорит бабушка. — Весь сад его рук дело. Кухоньку выстроил. Все умеет. Только старенький теперь стал. И горе его сломило. Внучек должны воспитать, в люди вывести. Старшая у нас уже в институте. Оставила их нам она… — вздыхает бабушка.
Я никогда сама не расспрашиваю ее, но о чем бы ни заговаривала со мной бабушка, неизменно она возвращается к этой трагедии.
Несколько раз в дом приходил зять — муж покойной.
Первый раз даже напугал меня. Вошел ночью в мою комнату и стал рыться в комоде. Я проснулась, спросила, кто это?
— Не бойтесь, — ответил он. — Хозяин дома.
Забрал какие-то вещи и ушел.
Утром бабушка извинялась:
— Он у нас неотесанный.
Как-то он зашел днем. Упитанный, плотный, большеносый, широкоскулый, удивительно непривлекательный.
Бабушка, как бы оправдываясь, говорила:
— Конечно, Ане он не пара был. Она у нас красавица. Но что поделать, с фронта любовь пошла. Мы не хотели…
Стук колес каждый раз пугает меня.
А бабушка не замечает. Как можно привыкнуть? Но может быть, просто горе не выходит у нее из головы?
— После войны она домой вернулась. Он еще мужем не был, в армии еще оставался. А как демобилизовали его, — прямо к нам. У нее ухажеров — отбоя нет, а он щупленький, худенький такой, носище здоровый… Это уж она его как борова откормила. «Распишемся, — ей говорит, — и все. На фронте вместе были, мне, кроме тебя, никого не надо». Ну и тут она его пожалела… как на фронте. Ведь все это у нее от жалости получилось. В саперах он был, каждый раз рисковал. Вот она и сошлась с ним на войне.
Жалостливая она у нас. А он не такой, не пожалел нашу Аню. Да и дочек своих не жалеет. Помогать не хочет. Все на нас легло. А девчонкам и платьице надо, и туфельки. А что у нас с дедушкой? Только пенсия его одна. Вот и крутишься целый день, то — перешьешь, то — заштопаешь. Дедушка в сторожа пошел, индивидуальные бахчи сторожит. Тоже приработок, и арбузы едим. Виноград свой, огородик. Кое-как переворачиваемся.
— Но почему же вы не заставите его помогать дочкам? Что у него, новая семья?
— Помогать, говорит, не могу. Самому не хватает. Он ведь в заочном учится. Вот, говорит, окончу институт — тогда. Женщину себе завел после Ани. У нее живет, в соседней станице, а жениться не хочет. Говорит: не женюсь, такой, как Аня была, мне не найти. Как пол-литра выпьет — плакать начинает, все вспоминает, как она на фронте его жалела.
Вечерами бабушка любит поговорить со мной. Сидим с ней в кухоньке, она рассказывает:
— Аня работала в Черноморке завмагом. Работала хорошо, звание отличника торговли имела. Никогда никаких недочетов не было. Но случилась беда. Подруга у ней Шурка, вместе они на фронте много тяжелого пережили. Она и сейчас здесь в поселке живет. Одинокая, тоже завмаг. Попросила выручить, недочет у нее получился. Не могла ей Аня отказать, возьми да и накладную ей подпиши. Пожалела. Та бы, конечно, деньги ей потом отдала. Отдала бы — и все в порядке. Выручить ее Аня хотела. Растрата у Шурки получилась. Мужиков водила. А они на чужую водку да на вино падки. Все вокруг нее крутились. Ну и тоже можно ее понять. Одинокая она. Шурка ведь не знала, что так получится. А тут, как на грех, ревизия к Ане. Так, мол, и так, накладная подписана, — значит, товар принят, а товара нет.
В милиции судом пригрозили.
Для Ани это непереносимо было. Отличник торговли, все кругом уважали.
Конечно, деньги не такие уж большие были — одна тысяча новыми, десять, значит, по-старому. Всегда бы собрать могла. Продали бы что-нибудь, заняли. Не в этом дело. Стыда стерпеть не могла. Позора на весь поселок. Ведь это хуже всего.
Ну и весь день продержали в милиции, совсем измучили… Ее допрашивают, а она им:
«Ну, может быть, на сегодня хватит? Устала я, очень устала».
Про Шурку им — ничего. А ту как раз накануне в больницу увезли, по женским, значит. Аня к ней. Так, мол, и так, подтверди сама — просит Шурку. А та ни в какую: «В тюрьму по своей воле не пойду».
Дамой пришла, мужу говорит: «Что делать будем, Вася?»
А он ей: «Опозорила ты меня на весь поселок. Как я теперь людям в глаза посмотрю? И кто это тебе поверит, что ты Шурку выручить хотела?»
Тут Вася, конечно, неосмотрительно поступил. Не поддержал он ее. Он ей, напротив, сказал, что позора не вынесет и жить с ней не станет. Не пожалел. Слишком уж правильный.
Он ей говорит, а она все ходит взад-вперед, ходит. Потом прилегла. «Что-то холодно мне, согрей меня, Вася». А он свое долдонит.
…Как она из дома вышла — никто не видел. И не поздно было. Идет по насыпи прямо на поезд, машинист потом рассказывал, он сигналы подает, остановить не может… Она рукой махнула — и вперед. И глаза не зажмурила, как живые смотрели…
Вот вызвал он нас сюда, Вася, значит. Говорит: «Оставаться здесь не могу, тяжело»… Свой домишко мы продали и теперь у него живем. Казенный этот дом, от промыслов застроенный. Дедушка мне толкует: «Вот женится твой Вася, приведет жену и вышвырнет нас. Останемся на старости лет без угла». Только мне думается, вряд ли он сможет нашу Аню позабыть.
Стук колес отдается в моих висках.
Я вижу просящий, остановившийся взгляд на портрете, и каждый раз слышится мне: «Согрей меня, Вася, согрей».
— «…Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов», — учит Аня за стеной теорему Пифагора.
Вот она, премудрая земная геометрия. Все доказуемо, понятно, ясно.
Поезд простучал, и опять тишина.
Нелетная погода
— В гостинице не узнают, что я в твоем номере? Все время чувствую себя воровкой. Тебе ничего не будет за это?
— Какие глупости приходят тебе в голову. Спи, никто не узнает. Самолет в семь утра, ты не проснешься.
— Хорошо бы не проснуться. А вдруг нелетная погода. Тогда… можно еще побыть вместе. Да?
— Это было бы счастье. Спи… Ты все собрала, уложила?
— Я ничего не распаковывала. Ты же знаешь.
— Да, да. Ты устала. Спи.
— Нет, не хочу. Смотри, какие удивительные цветы. Где ты их достал? Они чудесные.
— Завтра возьмешь их с собой. Все у нас только начинается… Слышишь? В бубен бьют. Ночной сторож…
— Ах, как хорошо. Ни о чем не думать. Только с тобой.
— Спи, моя единственная, любимая.
— Своей жене ты тоже так говоришь?
— Мы же условились не говорить об этом. Спи.
— Нет, я не могу спать…
Она начинает передвигать лампу на тумбочке, поворачивает абажур, подносит к нему руку. Тень от руки на потолке совершает движенья.
— Какая красивая рука, — говорит он. — И вся ты красивая. Когда я увидел тебя в первый раз, я просто обалдел. А ты и не взглянула…
— О, лучше не вспоминай. Я выглядела ужасно.
— Ничего ты не понимаешь. Я понял тогда…
— Что ты понял?
— Что? «Вот ее-то я и ждал всю жизнь».
Она закрывает глаза и лежит молча.
— Это правда?
— Да. — Он гладит ее голову, чуть прикасаясь рукой. — Спи, любимая, спи. Ты не проспишь, не бойся. Я буду сторожить тебя.
Утром первой просыпается она. Смотрит на часы. Видит, что времени в обрез, вскакивает с постели и будит его. Оба торопливо и молча одеваются.
У гостиницы их ожидает заказанное с вечера такси.
— За полчаса доедем? — спрашивает он.
— Попробуем, — отвечает таксист.
— Не беспокойся, мы успеем, — говорит она, — я никогда не опаздываю.
Едут молча. На аэродроме сдают багаж и регистрируют билет. Ждут.
— Хочу спать, — говорит она.
По радио объявляют, что рейс откладывается из-за погоды.
— Ты напророчила, — говорит он. — Может быть, вернемся?
— Нельзя. Будем ждать. Самолет полетит, — говорит она.
И они ждут. В буфете едят остывшие сосиски, а потом снова ждут.
Он смотрит на часы и качает головой.
— Сколько? — спрашивает она.
— Двенадцатый час.
— Время прошло незаметно.
— Да. Но я повсюду опаздываю, — говорит он.
— Поезжай. Я не обижусь.
— Ты смеешься?
— Нет, не смеюсь. Скучно, — говорит она.
— Выпьем пива?
— Как хочешь.
Они идут в буфет. Пьют пиво, едят бутерброды. Все очень невкусное, но они едят и ждут.
— Сходи узнай, что нового, — просит она и, когда он уходит, вынимает из сумки записную книжку. Там все расписано на сегодняшний день — звонки и встречи. Она вздыхает, понимая, что все идет прахом. Приезд к нему ей так не обойдется. Она рассчитывала сегодня обязательно быть на работе.
Зачем было мчаться самой? Можно было встретиться в Москве неделей позже. Зачем?.. Она пугается трезвости собственных мыслей.
Он возвращается и сообщает, что ничего неизвестно и надо ждать, когда объявят.
«С какой аккуратностью он расплачивается, — думает она. — Он, очевидно, скуп…»
— Я всюду опоздал. Всех подвожу. Назначил стольким людям.
— О эта деловитость века! — говорит она.
— Но это относится прежде всего к тебе, — произносит он раздраженно.
— Себя я и имею в виду и удивляюсь, почему вы злитесь, — отвечает она и думает: «Стоило ли к нему спешить? Ничего не оценил…»
— Не хватает еще поссориться в довершение всего, — говорит он мягко.
— Если придется ждать еще, то это вполне возможно. Дождь пошел.
— Холодно. Ты не замерзла?
— Нет. Поезжайте. Я серьезно говорю вам. Не надо никаких провожаний. Мне будет спокойней. Слышите?
— Я никуда не поеду. И почему ты стала говорить мне «вы»?
— Разве? Не заметила.
— Это плохо, — говорит он, смотрит на нее и думает: «Ей не годится мало спать. Какая она желтая сегодня, сколько морщин под глазами и какая злая!»
И опять они ждут. Обмениваются ничего не значащими фразами. Мучаются и ждут.
— Послезавтра у меня доклад. Я не успею подготовиться, — говорит она, вздыхая.
— Успеешь, — отвечает он и думает: «Она все успеет… Я никогда не опаздываю» — так, кажется, она сказала в такси. А вот я всюду опоздал. И проснулась вовремя. Как ни в чем не бывало. Что за деловые женщины. Делают все, что хотят. Летают, куда вздумают. Нет, моя не такая». Он вспоминает, что эти дни не звонил жене. «Наверное, волнуется и ждет. Сегодня же надо заказать разговор. Когда же кончится это ожидание?»
А она думает: «Как странно, неужели я могла принять это за счастье? Но телеграммы… Так хотелось верить. А сейчас сидит чужой человек и только мечтает отделаться поскорее. Что я искала в нем? Самый обычный, ничем не отличается от других. А я-то думала…»
И опять они что-то едят, но уже в ресторане, и что-то пьют, и опять мучительно ожидают.
Когда, еще через несколько часов, объявляют вылет, он не может скрыть радостного оживления. Берет ее под руку и провожает к самолету. Прощаются поспешно. Она улыбается, машет поникшим букетом.
— Обязательно пришлите телеграмму, как долетели. Я буду ждать! — кричит он вслед ей.
— Непременно!
Оба отлично понимают, что никакой телеграммы не будет.
Катя
Как попал этот латышский солдат в наш город — не знаю. Но до сих пор помню его глаза, пристальные, светлые, прозрачные, как вода, на темном, точно обугленном, изрытом оспой лице. И зубы помню, белые и страшные в оскале улыбки. Неприязнь к нему возникла у меня сразу, может, от чувства ревности — ведь он отбирал у меня мою Катю.
— Добра у него никакого, только что шинель, — говорила про Ян Яновича соседская кухарка.
Добра?! Я уже знала от взрослых, что надо быть доброй. А у него никакого, и оттого мне казалось, что он обязательно сделает что-то плохое Кате…
Помню ее свадьбу, несколько извозчиков у нашего дома и мама в гипюровом светлом пальто — посаженая мать. На другой день молодожены уезжали в Катину деревню Тюшевку. Помню, как горько плакала, вцепилась в Катю и не отпускала.
Кто была моя другая няня, в памяти не сохранилось. Вернулась Катя к нам из своей Тюшевки довольно быстро, осунувшаяся, обиженная. Ян Янович и впрямь обидел — умер от тифа, не прожив с ней и полугода.
Помню, мне мешали радоваться ее возвращению, а Катя все плакала.
Уже много позже узнала я, что в нашем маленьком городе не было Кате счастья. Первая ее любовь, сын соседской кухарки Ванюша, не осмелился жениться на Кате из-за матери — не пошел против воли. Мать отыскала ему невесту богатую, со своим домом в слободе и быстро сыграла свадьбу.
Ян Янович работал у моего отца в банно-прачечном отряде. После красавца Ванюши не сразу он понравился Кате. Но выбора не было, любил Ян Янович ее крепко, старался во всем угодить. Привыкла Катя к его рябому лицу и сама полюбила. Да ненадолго — осталась вдовой. Вернулась к нам совсем потерянная. Горевала, горевала, но тут в соседнем селе подвернулся вдовец с тремя малышами. Он спешил с женитьбой. Стали ее сватать. Катя вообще любила маленьких детей и еще сирот пожалела, они сразу стали звать ее мамой. До свадьбы поселилась Катя в его новом доме, сразу свалилось на нее много забот. Вдовец был хороший хозяин, мужчина видный, человек грамотный. Казалось, так все само собой и уладится. Ан нет. Опять не повезло. Может быть, сглазил кто?.. Говорили, в селе много «глазливых», да и вообще Тамбовщина славилась этим. Приключилось что-то с Катей ни с того ни с сего, с огорода пришла — огнем вся горит, в глазах темню, руками, ногами двинуть не может. День, два, три пластом пролежала, на четвертый повезли в больницу. Сироты за подводой бегут, плачут, кричат:
— Куда повезли нашу маму?.. — А у Кати только слезы текут, языком даже пошевелить не может.
Два месяца пролежала она в больнице, и ни разу вдовец не пришел ее навестить. Мама моя к ней ходила, но сказать ничего не решилась. А Катя сама все узнала — увидела во сне. Увидела и рассказала свой сон: как заходит она к нему, а в доме другая женщина, встала у дверей и не пускает. Так оно и сбылось. Не стал дожидаться Катю вдовец, решил, что не выживет она, взял себе в жены тоже вдову с детьми и стали жить.
И опять гуляю я с моей няней по главной улице. Липы отцветают. Душисто, тепло. Сидим с ней перед домом на лавочке, и вспоминает Катя про Тюшевку, рассказывает, как много там ягод в лесу, как бежит веселая студеная речка, как скачут мальчишки в ночное на больших лошадях, как дедушка Дмитрий, Катин отец, плетет для меня кленовые лапти, Стучит топор Ян Яновича, пахнет свежеструганым деревом, поет он свою незнакомую песню.
Светится Катин взгляд, спокойно, негромко звучит голос. Я слушаю, и кажется, будто я в Тюшевке, да и сейчас мне кажется, что я там и вправду побывала.
Отца перевели в Москву. Переезд. Потом моя школа.
Впрочем, Катя вскоре опять поселилась у нас. Наша привязанность к ней оказалась взаимной — приехала. Поначалу жила вместе с нами. Отец устроил ее на работу, сперва уборщицей в курсантском клубе, потом там же буфетчицей, Получила комнатку во флигеле, стала жить по соседству. Матери моей помогала по хозяйству, постоянно бывала у нас, и я к ней то и дело бегала. Всегда перепадали мне гостинцы от Кати.
Помню, как смотрели с ней в Большом театре «Лебединое озеро». У Кати от балета закружилась голова, все мелькали и мелькали в глазах белые пачки, стало ей плохо, и пришлось нам уйти, не досмотрев спектакля.
Я училась, и Катя тоже. Поступила она сперва в какую-то школу для взрослых, потом на курсы. Стала работать сестрой-хозяйкой.
Шли годы. Разными они бывали, и хорошими и плохими. Время разъединяло людей. У меня уже была своя семья. Но Катя всегда оставалась верной всем нам. Не на моих, а на Катиных руках трудной военной зимой умерла моя мать.
Катя так и не вышла замуж.
«Слишком служит другим, некогда о себе подумать» — так объясняла мама.
А служила Катя действительно многим. Перешла теперь работать в Дом малютки. Занялась вынянчиванием совсем маленьких, лишившихся матерей и отцов. Вернулась к своему любимому делу. У кого какая беда — без нее не обойтись. Худенькая, проворная, ни минуты не посидит, вечно при деле, всегда в заботах. И Тюшевку свою она не забывала. Весь год трудилась, чтобы летом повезти туда узлы и чемоданы, набитые продуктами, мануфактурой, в подарок бесчисленным своим родичам. Они не переводились. Казалось бы, стольких Катя схоронила: и отца, и мать, и тетю, и дядю, а ртов все не меньше. Старается, работает, себе отказывает во всем, бережлива, экономна, лишнего куска не съест.
«Не называй детей именами мучеников», — однажды сказала мне мать, когда я решила — будет у меня дочка, назову Катей, «Екатерина-великомученица!»
Мне так не казалось. Жалости к себе Катя никогда не вызывала. Все, что она делала для других, приносило ей радость. Служить людям ей было легко. Так же естественно, как дышать.
Правда, помню случай, когда и я пожалела ее.
Было это так: напросилась я к ней на пироги, мастерица она была их печь, особенно удавались ей с капустой. Но не только пироги были причиной — мое любопытство. Уж очень захотелось поглядеть на Катину зазнобу. Ждала она его в этот день. Что завелся у нее «ухажер», я давно уже знала. Катя мне про него рассказывала, очень его хвалила. Работал он фельдшером в Егорьевске, в Москву часто наведывался. Одинокий был (то ли сам бросил жену, то ли его бросили, не помню). По Катиным рассказам выходило, что имеет она на него виды серьезные. Был он в летах, да и Кате в ту пору уже порядочно было. Думаю, обязательно надо посмотреть, что за человек.
У Кати все та же комнатка-светелка. Флигелек деревянный, перенаселенный, стоит меж наших мрачных казарменных военных домов, палисадничек перед ним, кусты сирени. Но тут поздняя осень, ветки голые. Флигелек продувает насквозь, отопление печное, а Катя вообще обогревается только от плиты. Сложена она у нее прямо в ее «келейке». Прихожу. Пахнет пирогами, в комнатке жарко, Катя уже все испекла, на стол поставила, прикрыла, прибралась, сама приоделась — ждет.
— Покормить? — спрашивает меня.
— Да нет, — отвечаю, — подожду. Впрочем, знаете что? Я попозже зайду.
Вернулась к себе, благо дом наш рядом, думаю, пусть встретятся без меня. Задержалась. Возвращаюсь к Кате уверенная, что она будет сердиться, что я так поздно. Стучусь, вошла: в комнатке совсем свежо — все выдуло. Катя плиту газетой застелила, села для тепла прямо на нее, жакетик на плечах, книгу читает. Увидела меня, вспыхнула, может решила, что это он стучит, смутилась. Потом улыбнулась, как-то удивительно молодо улыбнулась, как девчонка: и виновато, как-то в себя, улыбнулась, грустно-грустно. И только тут, в первый раз я заметила, как много седины у нее на висках и что лицо у Кати усталое, преусталое.
— Теперь уж, значит, не придет, — сказала она, слезая с плиты. — Садись, будем есть пироги.
Чем больше старилась Катя, тем сильнее проявлялись в ней родственные чувства, крепче связывали кровные узы.
Теперь основные Катины заботы были сосредоточены вокруг сестры. В прежние годы о сестре этой мы почти и не слышали. Знали только, есть у Кати старшая сестра, давно уехавшая из Тюшевки. Когда-то устроилась она в нашем городе горничной в театр, с театром же уехала на юг. Домой в деревню не приезжала, письма от нее приходили редко. А тут разговоры у Кати только о сестре. Завязалась частая переписка. Выполнялись бесконечные поручения — одну за другой собирала Катя и отсылала посылки на Кубань. Наконец сестра с мужем решили навестить ее.
Ожидание, хлопоты, встреча. Даже комнатку свою Катя заново побелила.
Меня пригласили. Как они были не похожи! На фоне величавой, властной сестры Катя выглядела щупленькой, маленькой. Сестра распоряжалась, угощала, объявилась хозяйка, а Катя в услужении у нее, все время боится не угодить.
Муж сестры Николай Петрович во всем повиновался жене. Был он лет на пятнадцать ее моложе. Длинная, высоченная его фигура как-то совсем не вписывалась в Катину маленькую комнатку, казалось, он все время испытывает неловкость, не знает, как повернуться, встать, сесть. Деликатный, предупредительный, тихий. Работал он на Кубани киномехаником, умел все смастерить.
— Золотые руки у Николая Петровича, золотые руки, — с гордостью говорила Катя.
Погостили они с месяц в Москве и уехали к себе на Кубань. А Катя все вспоминала. Нет-нет да и похвастается зятем, видно, пришелся ей по душе.
Началась Великая Отечественная война и надолго разлучила их с Катей. В те годы всем хватало горя, и Катя, всегда участливая к чужой беде, не была одинокой. О своих она ничего не знала. Только в самом конце войны получила письмо от сестры. Та сообщила, что наконец встретились с Николаем Петровичем. Остались они без крова. Получил он на фронте тяжелое ранение, вернулся к ней без руки.
Катя вся отдалась заботам о них. Опять собирались посылки.
Съездила она к ним и а Кубань и вернулась с новой заботой: решила строить им дом. Влезла в долги. Работала на двух работах. Все распродала, что имела. И помогла им купить домик в станице. Теперь каждую весну спешит Катя туда, как на праздник, работать в огороде, сажать, полоть.
На пенсию давно вышла, поседела. Даже зубы, прекрасные Катины зубы начали сдавать, то один сломается, то другой. Только сердце все молодое. Тащится на Кубань, навьюченная всем, что за зиму скопит и соберет. А возвращается какая-то просветленная.
Когда это случилось, нянчила Катя малыша в семье полковника, слабенький был ребенок, все простужался. А она в нем души не чаяла.
Получает она телеграмму от Николая Петровича: «Приезжай немедленно». Такие телеграммы к ней и до этого приходили. Получит, разволнуется, решит, что умирает сестра. Приезжает в станицу, узнает — радикулит. С домом, с садом не справляются. Подумала Катя, что и на этот раз так будет. Заказала она телефонный разговор, побоялась оставлять слабенького малыша на родителей. А Николай Петрович по телефону сообщает: сестра скончалась в больнице, сбила ее на шоссе грузовая машина у дома, суток не прожила.
Мигом Катя собралась, полковник билет достал. Обливаясь слезами, уехала она хоронить сестру.
Вернулась довольно быстро. Я увидела ее через несколько дней. Она показалась мне даже помолодевшей. Слова соболезнования приняла сдержанно, не плакала.
Я дивилась Катиному мудрому спокойствию. Думала, как просто отнеслась она к этой ужасной смерти. Хотя и заметила в ней какую-то затаенность.
Чтобы как-то ее поддержать, стала видеться чаще. Все Катины разговоры вертелись вокруг Николая Петровича.
— И как-то он там один теперь будет? И больной-то он уж очень, и безрукий.
— Ну, что вы так о нем печетесь? Долго не провдовеет. Тем более домик у него есть, — сказала ей и осеклась.
— Какой уж там домик, весь развалился. Да разве я против? Пусть! Мне ведь, чтоб ему было хорошо, — ответила она, как мне показалось, смущенно.
И тут меня осенило. Нет, не хочет Катя, чтобы его женили. Хочет взять на себя все заботы о нем.
Дни проходят. Неспокойна наша Катя. Как-то говорю ей:
— Вот вы все переживаете. А почему бы вам не взять Николая Петровича к себе в Москву? Что он там один будет делать? И вам легче будет.
— Я бы рада. Да как?.. Кто его пропишет в Москве?
— Запросто, — говорю. — Он вдовец, зарегистрируете с ним брак.
— Оно, конечно, так… — помолчав, говорит Катя. — Я и об этом уже много думала, и ему писала.
— Что же он?
— Он-то ничего, согласен. Пишет: как ты хочешь, так и будет.
— Так что же?
— Сны мне все снятся. Вижу я тут своего Ян Яновича. Грустный такой стоит, смотрит на меня. Слышу его голос: «А меня ты спросила?»
— Что за ерунда! При чем тут сон. Какие могут быть у вас сомнения? Не замуж же вы за него захотели? Доброе дело задумали.
— Так-то оно так. И сестра мне тут снилась. Встала в углу моей комнаты, руки в боки: «Ничего-то у тебя, говорит, не получится».
Я не знала, что ей ответить.
— Ну, подождите еще, подумайте. Конечно, никогда не нужно спешить.
— Что тут думать-то! Жаль мне его, пойми ты! Жаль…
Так вот оно что. Вот почему и помолодела, вот почему и светится вся. Это любовь!
Да, да — любовь. Была она подспудной, но с первого же его приезда в Москву. Катя, может, и сама не догадывалась о ней. Но все жертвы, этот рабский труд на них обоих. Нет, не мог он объясняться только родственными чувствами.
Что же, думаю, прекрасно. Значит, нет для любви возрастных границ. Вечно теплится она в женском сердце и только поджидает случая, чтоб разгореться.
Поздней осенью собралась Катя ехать к нему. Чувствую, волнуется, переживает свою поездку.
— Катенька, — говорю, — успокойтесь. Вы должны ехать с легкой душой.
Улыбнулась.
— Правду говоришь?
Смутилась, потупилась. И это в семьдесят пять. Чудеса!
Приходит от нее письмо. Пишет Катя, что встретил ее Николай Петрович на вокзале. Пока шли с ее вещичками к автобусу, он три раза останавливался, не хватало дыхания. Похудевший, больной. «Тут я твердо решила, что никогда его не оставлю. В дом зашли, заплакал: «Ты одна, говорит, меня пожалела». Посидели мы с ним, вспомнили нашу дорогую покойницу и стали обдумывать, как нам быть, как поступить. Пришли мы к решению домик продать и вместе вернуться в Москву. Я и сама понимаю, моя дорогая, что нельзя его одного оставлять. Совесть моя этого мне не позволит. Теперь будем искать покупателя».
В начале декабря привезла его Катя в Москву, все в тот же флигелечек, который уже много лет грозятся снести и все не сносят. Поселила она Николая Петровича все в той же своей комнатке.
Звонит мне по телефону, просит приехать посоветоваться. У меня были какие-то неотложные дела, сразу к ней вырваться не смогла. Она опять звонит и наконец приезжает сама.
Смотрю — лица на ней нет.
— Что случилось?
— Не хотят нас в загсе регистрировать. Отказали. Заявления не принимают.
— Как так?
— Без прописки, говорят, не принимаем.
— Без какой такой прописки?
Тут она совсем затряслась.
— Что я наделала, что я наделала! — и заплакала. Плачет и толком объяснить ничего не может. Не сразу я поняла, что произошло. Оказывается, уезжая из своей станицы, Николай Петрович выписался и теперь получилось, что он вообще нигде не прописан, а раз так, то и заявление в загсе для регистрации брака у них не принимают. Оба должны быть прописаны, пусть в разных городах, но оба.
— Что я наделала, что я наделала! Сорвала с места человека. Что теперь с нами будет? Что теперь делать?
Никогда я еще не видела ее такой.
— Да не волнуйтесь вы, — говорю, — все образуется. Нет таких законов. Это же вне всякой логики. Обязательно должны вас зарегистрировать.
Тут же узнаю от нее, что с женой полковника они уже побывали в Комитете ветеранов.
— Ну и что же там ответили?
— Толстый генерал с нами говорил, глаза все мимо нас смотрят. Сказал: Комитет делами брака не занимается. Если бы о пенсии хлопотали, тогда другое дело. Но заявление наше оставил. Только надежды у меня никакой.
— Подали, — говорю, — заявление, и слава богу. Дожидаться результата не будем. Надо действовать.
— А сейчас вы его у себя прописали временно?
— Нет. Не хочет он. Раз, говорит, нигде не прописан, то и временно никто меня прописывать не станет. Уж так я за него переживаю. — И опять она заплакала. — Виду он не показывает, но знаю, мучается. Молчит и курит, кашляет и курит.
Я представила себе этого человека в малюсенькой Катиной комнатке, где и повернуться-то ему негде. И жалость охватила меня и к нему и к Кате тоже. Начала обзванивать знакомых, расспрашивать, советоваться. Мне порекомендовали обратиться в райсовет.
Метель метет, темнеет. Стоит моя Катя у подъезда одна, снег всю ее запорошил, маленькая, несчастная, ждет.
— Где же ваш «кавалер»? — спрашиваю ее.
— Глупости говоришь! — одернула меня, как девчонку, хоть и я уж седая, рассердилась за «кавалера». А сама по сторонам оглядывается.
Еще подождали. Не появляется.
— Идемте, — говорю. — Нечего вам здесь стоять и мерзнуть.
— Иди, иди одна, а я буду ждать.
Депутат принял меня любезно, выслушал внимательно.
— Заявление в загсе у них и не могли принять. Дано соответствующее указание. И мы, к сожалению, ничем помочь не можем. Однако по секрету вам скажу, закона такого нет, только указание. Обратитесь к заведующей городским загсом. Да впрочем мы сейчас попытаемся ей позвонить. — Он набрал номер телефона, но никто не ответил. — Неважно. Лучше просто к ней зайдите. Она человек отзывчивый, бывший работник горкома. Полагаю, положительно решит ваше дело. Желаю успеха.
К Дворцу бракосочетания, где помещается городской загс, я подъехала на такси с опозданием. У подъезда стояло несколько разукрашенных лентами и воздушными шарами автомобилей. В один из них усаживались невеста в белой фате и жених, торжественный, в черном костюме, с белой гвоздикой в петлице. Группа молодежи с охапками цветов сопровождала их.
Мои жених и невеста уже растерянно ждали и по-детски обрадовались, наконец увидев меня. Высоченный, тощий Николай Петрович и маленькая Катя создавали впечатляющую пару.
Мы вошли в помещение загса. Я предложила посидеть им в коридоре, пока предварительно все не оговорю. Собрав все свое красноречие, я обрушила его на заведующую.
— Поймите возвышенность ее чувств. У него никого, кроме нее не осталось. Трагически погибла жена. Инвалид второй группы, руку потерял на фронте. Выписался по глупости. Старые люди. Будут доживать вместе. Сколько им там еще осталось? Надо помочь.
Заведующая улыбнулась понимающе и добро.
— Так где же они? Приведите ваших Ромео и Джульетту.
Когда я с Николаем Петровичем и Катей вновь вошла к ней, лицо ее выражало спокойствие и строгость. Она предложила сесть и попросила изложить их просьбу. Сбивчивые объяснения слушала терпеливо.
— Так почему же вы все-таки не расписались там у себя в станице? — спросила она у него.
— Стыдновато было. Все меня там знают. На старости лет в брак вступать неловко как-то.
— Ничего неловкого не вижу. Свыше восемнадцати лет возрастных ограничений у нас нет. А вот выписались вы зря. Покажите ваш паспорт.
Он достал бумажник и одной своей рукой начал вынимать из него документы.
— А я так думаю, старики, что малые дети, какое-то должно быть нам послабление в законах. Не все можно предусмотреть. Очень вас прошу, помогите. Сглупил, каюсь, совершенно верно. Но и я что-то сделал для родины.
— Все понимаю. Хорошо, что вовремя пришли. Свидетельство о смерти жены имеете?
Он протянул документ.
— Так… — сказала она, прочитав свидетельство. — А у вас о смерти мужа?
— Откуда же у меня? — растерялась Катя.
— Вы же сказали, что вдова? Значит, должно быть. Как же нам проверить, что вы не вступаете в новый брак при живом муже?
— Как же при живом? Умер-то ведь он уже больше пятидесяти лет. Я вас не обманываю.
— Понимаю, что не обманываете. Человек вы пожилой, значит врать не научились. Но документ этот получить надо. Напишите запрос, вам пришлют копию.
Я понимала, что все это говорится для формы и что дело их уже решено положительно.
— Заявление у вас составлено? Дайте его сюда, — заведующая прочла, написала на нем и отдала его Николаю Петровичу. — Теперь заявление в районном загсе у вас примут и брак зарегистрируют в установленном порядке. — Она поднялась, давая понять, что прием окончен.
Но почему же «в установленном порядке», думала я, почему? Когда случай этот составляет исключение.
А они уходили счастливые и благодарные. Благодарили и меня, что помогла.
— Теперь как будто все у нас в порядке.
В порядке? Как бы не так. Приходят они назавтра в районный загс. Заявления принимает другая сотрудница, не та, что в прошлый раз отказала. Они показывают ей резолюцию. Она читает и говорят:
— Адресовано не ко мне. Заявление принять не могу, не имею права. Видите, здесь черным по белому написано — Ивановой, а я Нечаева. Придется обратиться к ней.
— Когда же теперь нам приходить?
— Вот этого сказать не смогу. Иванова заболела. Грипп. Сколько проболеет, кто знает?
Постояли они молча да и пошли себе. Вдруг Нечаева кричит вслед:
— Подождите. Садитесь. Я очередь пропущу, потом вами займусь.
Приняла у них заявление. Позвонила мне Катя по телефону, радостная.
— Выдали нам пропуск в Салон новобрачных, специальный магазин такой есть. Слышала? Может, хочешь что-нибудь себе купить? Теперь будем ждать.
Ждать пришлось недолго. Николай Петрович заболел. Поначалу решили грипп. Температура высокая, но грипп в Москве именно такой и был. Лежит неделю, лучше не становится, а все хуже и хуже, уже и дышать не может, задыхается. Посоветовалась Катя с соседями. Вызвали «скорую помощь». Он в больницу ни в какую, сердится на Катю.
— Отделаться от меня захотела? Надоел тебе?
Забрали его. В больнице по случаю гриппа карантин. Катю к нему не пускают. Врач вызвал ее, говорит, что пневмония двухсторонняя, очень тяжелая, по-видимому, и туберкулез. Делают ему все, что следует, но ручаться за благополучный исход — нельзя.
— Если все и обойдется, — говорит, — то лежать ему долго.
Катя волнуется, как с регистрацией брака? Если долго ему лежать, можно срок пропустить. Опять в загс, Иванова уже поправилась, на работу вышла.
— Что же это вы нас все атакуете? Приняли ведь у вас заявление. Всю Москву на ноги подняли. Тут и райисполком о вас печется, из Комитета ветеранов бумага пришла, ходатайство. Что вам еще нужно? Отложить регистрацию? На сколько хотите, на столько и отложим.
Отложить пришлось навсегда. Патологоанатом, выдавая нам в морге справку о смерти, успокаивал Катю:
— Он бы все равно долго не протянул. Удивляюсь, как он еще жил. У него не осталось легких, все изъедены. Он был шахтером?
Свидетельство о смерти получили сразу, все в том же загсе. Хорошо запомнили там Катю.
Хоронили Николая Петровича на Никольском кладбище, рядом с новым крематорием. Катя хотела, чтоб только обязательно в землю. Одела его во все новое, отслужила в церкви панихиду, сделала заочное отпевание, в гроб ему землицу положила и заупокойную молитву. В морг принесла красную подушечку с орденом и двумя медалями. Убрала его в гробу цветами, надушила. Меня еще спрашивает:
— Можно? Он очень духи любил.
Уже у самого кладбища, в киоске, Катя еще накупила цветов, чтобы и могилу убрать. Экономная и бережливая, направо и налево она разбрасывала пятерки, чтобы все было, как надо.
— Не беспокойтесь, бабуся, все будет в лучшем виде, — успокаивали ее могильщики нового типа: молодые, вежливые, трезвые, с бакенбардами, в модных джинсах.
Начальник участка, прехорошенькая девица в шоколадной дубленке, с наведенными голубыми веками, участливо объясняла, что во всех могилах вода, потому что зима сырая, и лучшей могилы не выбрать.
Кате нравилось обхождение, и все ей нравилось. И участок, и две березы над могилой, в которой Николай Петрович наконец обрел вечную прописку. Она и поминки по нему справила. За столом сидела просветленно и празднично. И все только дивились, откуда у человека берутся силы. А мне сказала:
— Сон видела. В Тюшевку уезжаю. Для меня и там дело найдется.
И уехала.
Чиж
Пришел, увидел, победил. Самое интересное, что даже совсем и не хотел победить. Так получилось. Профессиональная небрежность, что ли?.. Девочка сразу показалась милой, хорошо воспитанной. Такой, коротко стриженный длинноносик!
Они ввалились к ней довольно поздно — он и его приятель со своей подругой-журналисткой. Может, ничего бы и не было, закрывайся рестораны попоздней. А где посидишь? Оба они женаты. Журналистка к себе не пригласила. Расходиться им в тот вечер не хотелось, и она уговорила.
— Знаете, куда вас веду, к чудесному человеку, увидите и не раскаетесь.
Да где уж там, конечно, он не раскаивается.
Было уже около двенадцати, когда они позвонили. Двенадцатый этаж. Девочка открыла, удивилась, улыбнулась, обрадовалась.
— Входите, входите. Совсем не поздно. Я еще и не собиралась спать.
Он переглянулся с приятелем недоумевающе — школьница, совершенная школьница. А девочка уже кофе им предлагает приготовить, усаживает. Квартирка однокомнатная, как гнездышко. И сама, как птичка, ну точно Чиж. Приятеля все это взвинтило — и уютная квартирка и что хозяйка оказалась такой девочкой. Он с ходу, как тетерев, стал перед ней токовать, так, что журналистка даже вроде бы как заревновала, не ожидала такого поворота. И Чиж смутилась, но мило так отшучивается, старается как-то все отрегулировать. Умненькая девочка. Но приятель прямо-таки осыпает ее комплиментами и даже вольностями. Глазки у Чижа заблестели, а журналистка мрачнеет. Тут, естественно, пришлось вмешаться, «заприходовал» Чижика на себя. Начал помогать ей по хозяйству, стол сервировали вместе.
Наконец все устроились в кухоньке, чокнулись, распили шампанское. Сидят очень уютно, разговаривают, кофе пьют, поцеживают коньяк. А время-то бежит, и уже очень поздно, и хоть завтра суббота, но, кажется, пора по домам. Только приятель и не собирается уходить. А Чиж, поди, с непривычки, от шампанского да коньяка, захмелела, и стало ей нехорошо.
— Вы меня извините, пожалуйста, я чуть-чуть прилягу.
Приятель говорит:
— Ей плохо, и оставлять ее одну никак нельзя.
А журналистка тянет его уходить. Ну, что тут будешь делать?!
Тогда Чиж говорит ей:
— Вы вдвоем уходите, а он может остаться.
Не убежишь ведь после этого. Приятель с журналисткой ушли. Он остался. Рядом с ней на диване пристроился и уснул, как провалился. Чертовская неделя перед этим была, напряженная — с совещания на совещание, несколько приемов, смертельно устал.
Утром просыпается. А Чиж рядом с ним в желтой пижаме лежит, оглаживает его лысеющую шевелюру, осторожно так, разбудить не решается. Он спросонья в ситуации не сразу разобрался. Растерялся и думает: «Черт возьми, не хватает мне налететь еще на несовершеннолетнюю». А она, будто мысль его поняла, и говорит так мило, так просто:
— Вы не бойтесь, я была замужем.
— Врешь!
— Правда, я была замужем.
— Сколько же тебе лет, Чиж?
— Уже двадцать шесть.
— О! В два раза меньше, чем мне.
И так уж была она с ним ласкова, так нежна, так внимательна, что он только диву давался. Ушел от нее днем: и галстук-то она ему поправляет, и щеткой пиджак ему почистила, и щеки-то ему ладошками разглаживает, чтобы получше выглядел он, старый греховодник. Удивительная девочка. И даже не спросила телефона, и свой не предложила. Смотрит сияющими глазками и все никак не может с ним расстаться. За что это ему такое, за какие добрые дела?
Приятель ему в понедельник на работу звонит:
— Ну, знаешь, ты орел! Отхватить себе такого ребенка… — понравилась ему Чиж, очень понравилась, сам бы был не против за ней приволокнуться, журналистка у него — так между прочим. Спрашивает: — Как провели время? Не очень ты ее разочаровал? — Надо же быть таким подковырой!
Он отвечает:
— Это ведь случай особый…
— Какой такой особый, не выдумывай. — Приятель еще долго не унимался, все уговаривал, чтобы он взял его к Чижу. Но, уж нет!
Ей он позвонил через неделю, дал девочке очухаться. И правда, может быть, в тот раз она не в себе была. Всякое ведь бывает. Но нет, ничего подобного. Голосок веселый, отвечает, что ждала и знала, что он обязательно позвонит.
— Почему это ты знала, Чиж, что позвоню? А вдруг бы и не позвонил?
— Позвонил бы. Я чувствовала.
Договорились встретиться. Ехал к ней и думал, надо бы что-то подарить. Но что? Куклу, больше всего бы подошло. Но нельзя, может еще обидеться. Цветов он женщинам вообще не дарил, это ему казалось смешным и неловким. Взял бутылку коньяку. А Чиж коньяк увидала и говорит:
— Больше этого никогда не делайте. У меня всегда найдется, чем вас угостить. Да и пить вам совсем неполезно.
Приняла как нельзя лучше.
— У меня для вас и подарок есть. Помните, вы сказали, что ищете лупу? Так вот, я вам ее достала.
Подумать только, достала ему лупу! Ни жена, ни сын не позаботились об этом, а она достала. И только потому, что он так, между прочим, сказал, что с глазами у него беда, и вот лупу где-то потерял, достать не может и теперь страдает. Она еще в тот раз с таким участием расспрашивала, что у него с глазами. А с глазами у него действительно дрянь, ранение на фронте. Бежал из окружения, под пулеметным огнем. А после войны у Филатова полгода слепым отлежал. Теперь — отголоски.
Так вот эта девочка все запомнила и лупу ему отыскала, хотя и не так-то просто найти хорошую лупу. Очень она его этим согрела, не ожидал он. Получилось, что через эту самую лупу сразу ее и разглядел.
— Ну, а если бы я никогда больше к тебе не пришел, чтобы ты с лупой делала?
— Пришли бы.
— Ну, а если бы нет, что тогда?
— Сохранила бы на память.
— Чиж! На что тебе память обо мне? Не заслужил. Ничего же нет во мне такого. Да и жизнь, можно сказать, уже проиграна или выиграна, все равно. Война, актерский факультет, чего только не было, работа за рубежом, сплошные стрессы. Ничего-то уже во мне и не осталось.
— Хороший вы, — отвечает.
Пожалуй, действительно будешь хорош, уже хотя бы от одного того, что кто-то о тебе так думает.
— Папу вы мне напоминаете, — говорит. Святое дело! Папу забыть не может.
— А с мужем почему развелась?
— Не развелась, просто разошлись.
— Как-то нехорошо это получается, порознь жить?
— Разные мы. Теперь ведь это очень часто, не разводятся и не вместе. Почти все мои подруги так.
— Плохо, плохо это. Может, слишком рано поженились?
— Почему рано? После окончания университета.
— Хотя правда, о чем я, сам ведь женился в двадцать и тридцать лет прожил, не разводимся. Хотя и всякое бывало, за мной ведь много грехов.
— Время сейчас, наверное, не то, — отвечает Чиж.
— При чем тут время? Привыкли все на время валить. Может, у тебя характер плохой?
— Не знаю. Но вы-то хоть меня не прорабатывайте. Довольно мне мамы. — И рассказала, что мама за нее переживает. Сама, после того как овдовела, второй раз вышла замуж, считает — женщине одной никак нельзя. Отцовскую квартиру разменяли. Чиж так захотела, чтобы у мамы была своя жизнь. Вот такая девочка, не о себе, о маме беспокоится.
Предложил он ей однажды:
— Пойдем, Чиж, в ресторан, в Дом журналиста, посидим, развлечемся. Не все же нам с тобой у тебя да у тебя сидеть? Так ты у меня, пожалуй, заскучаешь.
— Нет, — говорит, — не пойдем. Незачем вам со мной появляться. Вас там и так часто видят. Ходите уж с другими.
И правда, ничего не скажешь. В системе-то они одной, а номенклатурные работники на виду. О них всегда все знают, не укроешься. Отвечает ей:
— Чиж, мне известно, что ты хороший редактор. Только, прошу тебя, меня не редактируй.
— А почему бы и нет?
— Уважь. За свою жизнь я уже крепко отредактирован.
— Хорошо. Не буду.
Конечно, никуда не пошли, да и куда после этого пойдешь. Ему-то с ней еще не бывало скучно. И может быть, даже потому, что слушать девочка умеет, не только болтать. Вот он ей и рассказывает и рассказывает о себе, разве соскучишься?
Как-то стал ее допытывать, почему она не хочет с молодыми ребятами время проводить.
— Неинтересно, — отвечает.
— А какой такой нужен интерес?
— Духовный.
— Чего захотела! Где же его взять?
— Это-то и самое главное, где.
Вот так у них и повелось. И нет ни края, ни конца этому, трудно даже определить чему, дружбе или любви.
Говорит ей:
— Чиж! Улетай-ка ты от меня на все четыре стороны. Освободи.
— Разве вам плохо со мной?
— Не в том дело. Хорошо. Слишком даже хорошо — без ссор, без объяснений, без никаких претензий. Не как у людей, понимаешь? Все не по-правдашнему, как в сказке.
— Ну и очень хорошо. Чем же вы не довольны?
— Не заслужил. Неудобно мне. Так я и буду к тебе ходить без подарков, без вина?..
— Так и будете. За свою жизнь вы уже женщинам достаточно отдарили. Сами вы подарок.
— Смеешься, Чиж! Какой же я подарок?
— А вот такой. Люблю, — говорит и обнимает.
— Все это ты выдумала, и совсем-то я тебе не нужен…
— Кто кому нужен трудно узнать.
И каждый раз, когда он с ней встречается, а бывает это не так уж часто, — работа, совещания, приемы, личные и семейные обязанности, — уходит он от Чижа с мыслью о том, что вот такую бы жену его Генке. О лучшей невестке для сына он бы и не мечтал. Но не сватать же?! И что хитрить, ведь он отлично понимает, что раз от раза она-то ему все дороже. Хотя по возрасту с сыном они больше бы друг другу подходили. А Генке и на самом деле жениться, наверное, пора, совсем отбился от рук. Тут как-то даже серьезная стычка у них произошла. Мать, конечно, на Генкину сторону, каждой матери и положено за сына держаться. А он, щенок, еще пугает: «В общежитие от вас уйду. Надоело ваше воспитание. За собой бы смотрели». Мать в слезы и обвинять отца, что, дескать, нетактично себя ведет, не смеет Геночку ругать, да еще при его девочке: «Ты понимаешь или нет?! Она дочь космонавта!» Ну, не смешно ли?! При чем тут космонавт. Если девчонка в чужом доме остается ночевать, без стеснения спит с сыном в одной постели, наутро глазом не моргнет, как будто так и надо, все в полном порядке, может ли отец такое стерпеть?.. Он отругал, конечно, Генку. Может, и слишком погорячился, и при девчонке, наверное, не следовало, все это так. Но пусть знает! Отец не может такого одобрить. Получился семейный скандал. Жена — за сына, даже разводом пригрозила, первый раз за столько лет. «Если мы тебе не нравимся, можешь уходить. Никто тебя не держит».
Но ничего, все обошлось. Жена успокоилась. Нервишки у нее, естественно, пошаливают. Потому что актрисе в ее возрасте не так-то и легко. И Генка ни в какое общежитие не ушел. Только теперь на полных правах гоняет отцовскую машину.
А кто все уладил, кто все отрегулировал? Чиж!.. Он рассказал ей все, как было. Она во все вникла и во всем его разубедила. Как по полочкам разложила. Говорит:
— Вы не правы. Нельзя так поступать. Вы и сына, и девочку его обидели. А главное жену. Ей и так с вами немало досталось. Устала она. Дома вам больше надо бывать. А мать всегда будет на стороне ребенка. Возьмите хоть мою маму… А потом, ничего же ведь и не произошло! Понятия смещаются. Ведь меня вы не осуждаете за то, что с первого раза вас у себя оставила? Нет?!
— Тебя, нет. Себя, да.
— Так в чем же вы виноваты? Разве вы чем-нибудь меня обидели?
— Конечно!
— Чем же?
— Да тем, что стар для тебя.
— Но это же не ваша вина.
— А чья же?!
— Ничья. Никто в этом не виноват. Время, что быстро бежит.
— Значит, хочешь мне и это списать? Нет, Чиж, не выйдет. Ты у меня на совести, и от этого мне никуда не уйти.
— Ради бога, не думайте об этом. Не обижайте меня. Мне очень хорошо с вами, и ничего лучшего я не хочу.
— Пока, птичка, пока.
— Ну и что же, что пока. Это мама моя все о завтрашнем дне печется, а еще больше бабушка.
Вот как она ему ответила. Чиж, настоящий Чиж. А что у нее на душе? Да разве узнаешь. Не заглянешь ведь туда.
Бежать он должен, бежать из этого окружения. Хоть под пулеметный огонь…
Эдельвейсы
Какое же тут геройство? Вот тебе и легендарный цветок! Набираем их целыми охапками.
— А может быть, это совсем не эдельвейсы?.. — сомневается Лена.
— Они! Я видела их на картинке, а потом Афанасий Иванович сказал, именно здесь. Он знает, — уверяет Лера.
шепчет она.
Желтовато-серые, высотой и размером с полевую ромашку, лохматые и закрученные, они как хризантемы из войлока. Чем ниже к реке, тем цветок становится мельче и четче, а стебель короче. На самом берегу Аравшана он похож на серебристо-плюшевую звездочку с черной сердцевиной и всего с палец величиной. Какое разнообразие формы!
Лера и Лена ползают по склонам.
— Не будьте такими жадными. Зачем вам столько? — говорю я.
Остановить их невозможно.
В общем-то довольно невзрачный цветок. Но что значит репутация! Для цветов и женщин она важнее красоты.
Забираем рюкзаки с пробами и направляемся к лошадям. Бедненькие заждались, переминаются с ноги на ногу. Укрепляем рюкзаки, садимся. Теперь это получается у нас совсем легко. Лошади и стихи стали нашим бытом. Лена, та вообще уже скачет, как джигит, да и Лера чертовски смела.
— Чу, чу! — подгоняют они лошадей по-киргизски.
Горная тропа. Каменистая, узкая, обрывчатая, она вьется все вверх и вверх.
Удивительное доверие к лошади, ощущаю полное единство с ней, свою неотделимость от нее. Тепло ее тела, входящее в меня, еще усиливает это чувство. На ее спине ты поверх всего. Снега вокруг, скалы прошнурованы ручьями, зеленый Аравшан шумит внизу, и все это приемлешь без растраты сил на шагание, и только взмокшие бока лошади и частое ее дыхание говорят о том, как крут и труден подъем. Глажу ее.
— Милая моя, лошадка, унеси меня повыше от всего, что осталось позади.
Решила ни о чем не вспоминать и все возвращаюсь к тому же… А, ничего. Природа, люди, работа — помогут, защитят от обиды, что тебя разлюбили.
Опять поскакали.
— Чу, чу! — кричит Лена.
— Чу, чу! — повторяет Лера. Они несутся галопом, а я кричу им вслед:
— Поберегите потенциометр, сумасшедшие! Разобьете бутылки!.. — И тоже скачу на своем Буланом. Он мой, и я уже привыкла к нему. А давно ли села в первый раз. Это было очень смешно.
…В Теплоключинку приехали вдвоем с Ириной рано, восьми еще не было. Народу у правления колхоза собралось уже порядочно, и все подходят. О каждом спрашиваем:
— Это не председатель?
Нет, не он. Ждем.
Во Фрунзе в геологическом управлении нас напугали:
— Лошадей? Чего захотели! По перечислению платить? Да кто вам их даст? Во время-то уборки? И не надейтесь.
Надейся не надейся, а делать нечего. Подняться на три тысячи восемьсот метров с одиннадцатью вьючными ящиками без лошадей невозможно.
Одеваемся получше. Какие уж там наряды у нас в экспедициях, но все-таки. Надо уломать председателя. У меня все надежды на Ирину, уж очень хороша собой. Думаю, никто не устоит, ни один председатель.
Действую, как режиссер:
— Уговаривать буду я. А вы только смотрите, крутите глазами, и все.
Глаза у Ирины необыкновенные. И вся она врубелевская. Но только откроет рот, сразу же теряется это демонско-космически-лилово-сиреневое наваждение — страшно громко говорит.
Ровно в восемь председатель появляется. Мои режиссерские замыслы явно проваливаются. Пожилой, щупленький, бесцветный, идет медленно, размеренной походочкой. Поздоровался со всеми, посмотрел поверх нас.
Мы в кабинет за ним. С ходу выпаливаю нашу просьбу:
— Мы из Москвы, геологи, четыре женщины… Должны исследовать термальные воды Алтын-Аравшана. С нами оборудование, реактивы… Необходимы лошади.
Слушает абсолютно бесстрастно.
— Погодите, погодите. Разберемся, Присядьте.
Сели. Народу набрался полный кабинет, и у каждого свое дело.
— Так вот, Анатолий, — говорит председатель конопатому парню, — надо смело браться. Мы тебя считаем лучшим. Комсомольцы — первое дело. Митька тебе не помогает? Поможет. Комбайн на ходу, новый, с измельчителем. Это же золотая машина! Ты же универсал. Трудностей будет сколько угодно. Но там, где их нет, там и работать неинтересно. Вы помните, как Сашка на том ЗИЛе? — обращается он уже к другим. — Винтил, винтил. Бензин кончился, а он вал разбирать. А потом получилось, разнюхал и уже ничего не боится. Давай, Анатолий, нельзя терять время. А вам что? — обращается он к старухе. — Вы чьи будете?
— Я ни к кому не приписана.
— Пойдите к бригадиру. Скажите, зерно вам нужно. Слышите? Он выпишет.
— Спасибо, спасибо.
— Вызовите-ка завхоза. Тебе чего, Саша? На приемный захотел? Не забалуешь? Смотри, а то разом прогоним тебя.
Звонит телефон.
— Грузить силос? Да. Берите машину. Студентов перекинуть на свеклу. Да, да, ничего не могу сделать. Мак надо резать, — он вешает трубку.
Обращается ко всем:
— Вчера на бюро нас предупреждали, что ящур появился.
Опять телефон:
— Стрижка началась? Очень хорошо. Вот ученики учатся, подсчитайте, сколько им за стрижку, надо их заинтересовать.
В кабинет входит женщина.
— Почему, Мария, мяса нет? Как так получилось? Люди на полях должны быть сыты. Ты же завхоз, сердце колхоза. Почему студенты остались голодные? А ты, если понимаешь дело, знаешь — все на бюро, ты один остался здесь. Быка бы раз — и зарезал. Накормил людей. Надо решать самому, хорошо надо решать.
Опять телефон:
— А что случилось? Как ты мыслишь? Вчера нам на бюро просто сказали: любыми средствами молоком и маслом положенное должны сдать.
Женщина с ребенком на руках обращается к нему:
— Уже надоело ездить. Разберитесь, Николай Иванович.
Председатель берет у нее бумагу. Читает:
— Не так оформлен.
— Подпишите, Николай Иванович.
Он подписывает и ставит печать.
— Документ-то ведь этот серьезный, надо бы вам его переоформить, — говорит он. — Так вот что, малый, знай. Если не пригонишь машину к трем часам, то обижайся на себя. Дорого это будет тебе стоить. А сейчас пойди, выпишут тебе, сколько нужно, за счет июньской зарплаты.
Сидим как в театре. Это зрелище. Неожиданно перед нами раскрывается совсем другой мир. Ловлю себя на том, что забыла о главном, о нашей просьбе.
Опять телефон:
— Концентрат для ягнят? Нужен так нужен. Формируете отары? Хорошо. Вы чего сидите, старушки?
— Нам сена надо.
— К бригадиру, к бригадиру.
— Бригадир не дает, выделил сад, а там укоса нет. И люди смотрели, косить нечего.
— Со второго укоса возьмете, так и скажите.
— Ну правильно, Николай Иванович, правильно.
— Эх ты, — обращается он к мрачному киргизу. — Сказали, Аман Гельды черта найдет, а ты черта не нашел, пустым вернулся.
Председатель продолжает разговор по-киргизски.
Опять телефон:
— А вот то, что он обманным путем забрал трудовую книжку, а теперь просит справку. Оформляйте его, как хотите. Справки ему не дадим. Пусть устраивается, а если нас запросят, ответим — горький пьяница. — Он кладет трубку. — Тебе чего?
— В Рыбачье на наш колхоз пришел контейнер с картинами.
— Посмотрим. Если картины хорошие, возьмем, если плохие — отправим обратно в Москву.
Мировой председатель! Но наше дело, видимо, швах. Народ в кабинете редеет, остается всего несколько человек. Председатель уже заказал себе машину, чтобы ехать на поля, дает последние распоряжения… Полный провал. Он надевает шляпу, но тут Ирина стремительно поднимается и грудью загораживает ему дорогу.
— Нет у меня для вас лошадей, все заняты, — говорит председатель, — но… перед интересными дамами, — он разводит руками, — никогда устоять не мог. Всегда отступал. Придется дать.
В совершенном восторге возвращаемся в Пржевальск.
А наутро с одиннадцатью вьючными ящиками, спальными мешками и рюкзаками выгружаемся у правления колхоза.
Вокруг нас собралась толпа. Опять ждем. Мы к этому привыкли. В нашей профессии приходится вечно ждать: машин, погоды, проб, результатов, денег из Москвы.
В Теплоключинке жарко. Она лежит в долине Терскей-Алатау, а наверху, в горах, только что стаял снег.
Сторожим наш багаж, его целая гора. На лице Ирины деловой трагизм. В шутку мы прозвали ее «Оптимистическая трагедия».
— Успокойтесь, мой комиссар, — говорю я, — все будет отлично.
— Нет, противная мадам, это только вы можете выдумать. Забираться на такую высоту со всем этим скарбом. Я не представляю…
— Запросто, — говорит Лена. Она убегает с Лерой.
А вот и Афанасий Иванович. Мы познакомились вчера. Он сторож курорта. Наверху, в Алтын-Аравшане, куда нам предстоит подняться, организован колхозный курорт.
— Афанасий Иванович, значит, вы тоже с нами едете? Вот хорошо, — заискивающе обращаюсь к нему.
— Чего? — он плохо слышит. Глазки с прищуром, и шрам во всю щеку. — Ась?
— Очень хорошо, что мы поедем вместе.
— Ничего не вместе, перебежали мне дорогу. Лошадей мне не дают. Вы всех забрали.
Приводят лошадей. Начинаем вьючить.
— Они подохнут с вашим грузом, — говорит Ирина. — А где же девчонки? Теперь их будем ждать. Зачем вы их отпустили?
Она как заправский конюх обращается с лошадьми, покрикивает на вьючников, на меня, командует, в своей стихии. Раскраснелась, полевая сумка через плечо… Ну, прямо-таки комиссар.
Появляются Лена с Лерой.
— Что это у вас? — спрашиваю их.
— Сартр. «Слова». Мы взяли четыре книжки, для каждого по одной.
Как мило, что Книготорг позаботился о нас, заслав Сартра сюда, в Теплоключинку.
Вьючники покрикивают, взваливая ящики на спины лошадей. Один совсем еще мальчишка.
— Мне, — говорю ему, — лошадь подберите поспокойнее.
— Они у нас все спокойные. А вы что, тетенька, никогда на лошадь не садились?
— Нет. В первый раз, — признаюсь я.
— Так она вас все равно через два метра скинет, вот увидите.
— Ну что зря мелешь. Ничего не скинет. Лошадь знает, кого везет. Не бойтесь, — успокаивает старший.
Ирина уже в седле, а меня подсаживают всем миром. Лена и Лера присмирели, — как и я, ни разу не ездили верхом.
— Скинет он ее, — волнуется паренек, глядя, как я нескладно забираюсь. Мне подтягивают стремена.
— А, чепуха, — говорю я, — один раз живем!
Мой оптимизм подбадривает девчонок. А сама думаю: моя муза, муза странствий, она всегда со мной. Защитит.
Двинулись. И тут я вспоминаю когда-то где-то слышанное — «крепче держаться ногами» — и прижимаю колени к теплым бокам Буланого.
Наш караван движется медленно. Только Ирина вырвалась вперед, щеголяет перед нами. Ничего, мы еще себя покажем. Подстегиваю лошадь.
Удивительная вещь гены! Во мне заговорили девять веков моих предков военных. Как будто бы всю жизнь сидела вот так, верхом на коне. Чувство полной уверенности и никакого страха.
— Чу! Чу! — кричит Лена.
— Чу! Чу! — повторяет Лера.
И они несутся галопом. Им и гены не понадобились…
Крутой спуск. Натягиваем поводья, откинулись назад. Какая грация у этих животных, выверен каждый шаг. Опять поскакали.
В чем счастье? Может быть, в преодолении?
Спешились и по мостку через Аравшан осторожно переводим наших лошадок. Заходит солнце. На берегу казахи совершают намаз.
А вот и охотничий домик. Он только что отстроен лесхозом и еще пахнет деревом и глиной. Мы «захватили» его. Теперь тут наша лаборатория.
Дымит печурка. Ирина вместе с Саблиным — егерем лесхоза — заняты готовкой, сегодня ее дежурство.
— Что у нас на ужин? — кричим мы.
Ирина даже не оглядывается. Дело плохо. Подходим.
— Где вы пропадали? — набрасывается она яростно. — Я жду, места себе не нахожу. Мало ли что может случиться в ваших проклятых горах! Нельзя же думать только о себе. Нет, вы только полюбуйтесь, — обращается она к Саблину. — Опять натащили этой чепухи!
— Но это же эдельвейсы!
— Подумаешь, эдельвейсы.
Вот так всегда она встречает нас из маршрутов. Переволнуется, а нам влетает.
— Успокойтесь, мой комиссар, скажите лучше, что вы приготовили на ужин?
— А вы его заработали? Сколько сняли проб? Почему только две?
— А потому, что опять в трех источниках порезаны «кюветы», — отвечает Лера.
— Никакая маскировка не помогает, и бирки опять содрали, — добавляет Леночка.
— Это же хулиганство! — возмущается Ирина.
А Саблин смеется:
— Никакого хулиганства. Просто казахам не нравится, что в их святые источники вы лезете со своими пузырями.
— Святые… При чем тут святые? У нас работа… Мадам, сходите за молоком. Меня она не любит, ваша Мария Емельяновна, а я расседлаю лошадей, — говорит Ирина.
Все здесь зовут меня — мадам. Это уже давняя традиция. Кто-то в насмешку назвал в институте, и пошло. Наши вкладывают в это слово и уважение ко мне, как к старшей, чуточку иронии и маленькую фамильярность, очень милую. Так проще называть — короче.
Иду за молоком. Афанасий Иванович уже привел коров из леса. Мария Емельяновна уселась на скамеечке и доит, а он пристроился рядом. Занятная пара. С утра до ночи в тяжелом труде, а сколько нежности в их отношениях. Каждый раз он приносит ей новый букет, да еще с каким вкусом подобранный, позавидуешь.
Лето здесь короткое, луга альпийские, постоянная смена цветов. То зацветает все розовым, потом лиловым, то все заполыхает желтым… И все меняется так быстро на лугах, как в небе или на вершине «Палатки».
Почему «Палатка»? Таинственное и мрачное величие этой вершины рождает у меня совсем иной образ. То курятся облака вокруг ее снегов, то холодно заблистает она на солнце, то вдруг посинеет и станет почти черной, в закаты зальется кровью, потом лиловеет. Она притягивает меня, и я не могу на нее глядеть.
Однажды спрашиваю Леночку:
— Что тебе напоминает эта вершина?
— Не знаю.
— А ты посиди на крыльце, посмотри, подумай.
Уселась. Долго сидела, смотрела.
— Ну, что мне скажешь? Что же ты молчишь?
Отвечает мрачно:
— Боюсь, не угадаю.
— Дурочка, чего боишься? Что она тебе напоминает?
— Ну что вы допытываетесь? Могилу. Только вы не расстраивайтесь. Это ерунда. Все равно он к вам вернется, я знаю. Вот увидите.
Откуда? Как могла она догадаться? Ведь никто не знает, что у меня произошло. Интуиция юности?.. А может, счастье в том, чтобы поверить ей?
Мария Емельяновна гордо и снисходительно смотрит на букет:
— Он мне всегда приносит с самых первых цветов, из-под снега, до самых последних. Большой любитель.
У нее много забот. На ней весь «санаторий». В летнее время сюда наезжает много народу. Старики казахи, киргизы с семьями, со своими баранами разбивают кибитки вокруг и парятся в горячих источниках, лечат ревматизм, радикулит. А Марии Емельяновне за всем следить. Устает и поэтому не очень-то любезна. Из нас терпит только Леру и меня, и то потому, что мы не обидчивы. А можно ли обижаться, когда за каждой мелочью бежишь к ней.
Волосы у нее седые, а лицо молодое и глаза светлые, как льдинки. Наверно, была хороша, а сейчас располнела. Ходит тяжело, задыхается. Да и немудрено, на такой высоте. Трудно ходить, не хватает воздуха.
Вначале мы тоже задыхались, пяти шагов не могли пройти, а теперь привыкли. Нас пугали, что высокогорная болезнь — бессонница, но у нас все наоборот, спим как сурки, особенно в дождь. А погода здесь меняется беспрестанно, по десять раз в день.
— Мадам, разгоните тучи, — «на полном серьезе» требует Ирина, — не поедем же мы в маршрут под дождем.
В Якутии меня учил шаман, как это делать. Выхожу на крыльцо, поднимаю руки, пронзаю растопыренными пальцами небо и начинаю шипеть, свистеть на облака до исступления. Смешно, сама не верю, но помогает, Дождь прекращается, и снова солнце.
А может быть, счастье в том, чтобы подчинять себе стихию?
— Здорово у вас получается, мадам, — хохочет Саблин. — Я и не знал, что это так просто. Вот начнем косить, придется вас поднанять для погоды.
Саблин здесь наш единственный рыцарь. Он охотно нам помогает во всем. Жена его и двое детей там, внизу, в Теплоключинке, а он здесь и летом и зимой.
— Люблю, — говорят, — свободу. Это сейчас сюда народ понаехал — всех зверей разогнали, а раньше козероги к самой моей землянке подходили. Один здесь жил. Хорошо!
— Не понимаю, — говорит Ирина, — что хорошего в одиночестве.
— А я понимаю — хорошо, когда знаешь, что можешь вернуться. Знаешь, что тебя ждут.
— Вы что же это, мадам, стишки кропаете? Прямо как наш председатель Николай Иванович… — говорит Саблин. — Здесь как-то на охоту к нам из Фрунзе начальство приезжало, и он с ними. Выпили, конечно. Так Николай Иванович их всю ночь стихами развлекал. Они спрашивают: «Это Пушкин?» А он говорит: «Нет, мои».
В землянке у Саблина охотничий уют — развешаны шкуры, чучела. Очень уж любит он наше общество. Девчонки все свободные вечера просиживают у него. Он натопит печурку так, что она трещит от жара. Они греются, болтают с ним, а он доволен.
Вечера здесь холодные, чуть спрячется солнце — замерзаем, кругом снега.
Саблин обещал свезти нас к горячему озеру. Но все не выберет времени, оно высоко в горах, и его никто еще не исследовал. А сами разыскивать озеро мы не рискуем — опасно.
Конечно, работать нам здесь нелегко. В маршруте на каждом шагу риск. Боимся не за себя, а друг за друга. Горы… один неверный шаг — сорвешься в пропасть. Вернешься с пробами, устанешь — садись за анализы. Мы и коллекторы, и лаборанты, и конюхи, и повара. А хочется побольше успеть сделать, время бежит. Каждая минута дорога.
Но может быть, именно в этом счастье?
Здесь, на «курорту», исследуя горячие источники, мы получаем уникальные данные. В Москве, в институте, над нами смеялись:
— Интересно, как это вы потащитесь с тонкослойной хроматографией на Тянь-Шань?
Ничего, отлично взгромоздились и «шлепаем» сотни анализов.
На наших пластинках мы читаем иероглифы пятен, как Шампольон читал иероглифы Древнего Египта. Пятна — это органические вещества. Их разнообразие огромно. Может быть, от них и зависит лечебное свойство наших источников? Но пока это только гипотезы. Нехотя отдает свои тайны природа. Нелегко их раскрывать.
А Ирина и Лера изучают микроэлементы. Наставят пробирок с цветными эталонами и сравнивают, что в воде. Афанасий Иванович зайдет и смотрит. Часами иногда стоит, глазки хитренькие. И все-то ему объясни. А слышит плохо:
— Ась? Не пойму я вас, чудеса. А это для чего будет?
— Нет, лучше вы скажите, Афанасий Иванович, почему у нас уже в третий раз срезают «кюветы», — перебивает Ирина.
— Какие «кюветы»? Пузыри, что ли, ваши?
— Целлофановые мешочки с трижды дистиллированной водой, мы проводим диализ[5].
— Чего, чего?
— Мы исследуем формы миграции микрокомпонентов, — как на заседании ученого совета чеканит Ирина.
— Ничего не разобрал.
Пытаемся популярно объяснить ему цель нашего эксперимента. Ирина горячится:
— Мы специально у каждого источника прикрепляем дощечки с предупреждением: «Опробование! Не трогать! Москва…» — Она произносит название нашего института — сокращенно оно звучит нелепо.
— Ась? Как, как?
Ирина повторяет.
Вдруг Афанасий Иванович начинает хохотать. Хохочет озорно, покатывается, головой мотает.
— Чего же вы смеетесь?
А он и слова вымолвить не может. Только остановится и снова прыскает. Наконец успокоился.
— Ну объясните же, в чем дело?
— Да в том, что по-ихнему, по-казахски, это ругательное слово будет. Понятно вам теперь? Ох уж и посмеется над вами наш председатель, Николай Иванович. Большой шутник. Обязательно ему расскажу. Конечно, вы неправильно поступили, нужно было народу объяснить. А так что ж, разве можно? Обидели вы их, они старики, у них своя вера. Они свечки у источников жгут, святыми считают, а вы, мадама, такое срамное слово туда.
Мария Емельяновна предложила нам собрать «курортников», поговорить с ними, разъяснить.
Мы с Ириной собираем стариков. Идут неохотно. Расселись в кружок. Как будто высеченные из коричневого камня лица смотрят неприветливо.
Я начинаю с демагогической речи:
— Ля иль ля ха иль ля ля… — произношу я по-казахски: «Нет бога кроме бога, и Магомет пророк его». Улыбнулись. Объясняю, что мы совсем не против Магомета, что он был прогрессивным человеком для своего времени и, конечно, был бы на нашей стороне, на стороне науки. Убеждаю, что для них же важно знать, что целебно в этих водах.
Слушают. Молчат. Рассказываю о наших исследованиях, прошу больше не резать «кюветы». Говорю, в каких местах хотим провести новые испытания. Заинтересовались. Начинают задавать вопросы. Отказываются: не резали пузыри. Обещают следить, помочь.
Говорят: будем «доносить», кого заметим.
Уходим с собрания очень довольные. Может быть, счастье в том, чтобы найти общий язык с разными людьми?
Распеваем: «С собою пару-пару-пару пузырей-рей-рей…»
Афанасий Иванович догоняет нас, говорит:
— А институт-то вы свой как-нибудь по-другому назовите. Они вам ничего про это не сказали, постеснялись. Старики, они совестливые…
По вечерам, когда совсем темно, все вместе идем принимать ванны. Ирина светит фонариком. Переходим по мосткам одна за другой. Белоснежные ледяные вершины вокруг. Шумит Аравшан, шумит всегда неожиданно, то громыхает, как поезд, то шипит, как примус, то рокочет, как самолет. Все обманывает… Это акустика гор. Казахи уже спят, ванны свободны. Войдем в маленький домик, засветим свечу, разденемся — и бултых в бассейн.
— Ах ты гадина! — кричит Леночка и начинает лупить кедой полнотелую, здоровенную лягушку. Они постоянно забираются в бассейн погреть косточки.
— Не тронь, не тронь. Может быть, это царевна, — останавливается Лера. Ирина хватает лягушку за лапу и вышвыривает за дверь:
— Царевна!
— А кто знает, может быть, и так.
Своеобразное существо эта Лера. Как-то заглянула в ее рабочий журнал. Вижу между цифрами и расчетами что-то вроде стихов. Не утерпела, прочла:
Скрывает, что пишет. Исподволь завела с ней разговор, похвалила.
Она уклонилась:
— А это и не стихи. Так, для себя.
Но однажды показывает мне:
— Про Афанасия Ивановича написала.
— Молодец, — говори, — хорошая зарисовка. Только это не Афанасий Иванович.
— Почему?
— Нет в его глазах усталости. Напротив: жажда жизни, интерес ко всему, нерастраченность чувств. Он счастливый человек!
А Лера отвечает растерянно:
— Но я об этом и написала.
Выходит, я не поняла. Бывает.
…Плещемся в бассейне. Запеваю:
— Пожалуйста, мадам, перестаньте. Ну, что вы придумали эту дурацкую песню! — просят девчонки. Придумала… Они даже не слышали ее никогда. Иное поколение, иные песни.
— Вот вы все с ними носитесь — поколение, поколение! По-моему, они просто ничего не понимают, болтают о чем-то часами, шепчутся, — говорит Ирина.
А я думаю: вот бы их послушать…
— С Ленкой хоть работать легко, у нее в руках все горит, — не унимается Ирина, — а уж ваша Лера — одно мучение. Уставится в одну точку и думает. О чем? По горам ползает, все шарит, ищет. Чего? И почему это вы все у нее на поводу? Не понимаю. Утром послала к холодному источнику смерить окислительно-восстановительный потенциал. Жду, жду, не возвращается. Пошла сама. И чем же, вы думаете, они там с Ленкой занимаются? Целуются с ручьем! Улеглись на берегу и целуются с ручьем.
— Но это же чудесно!
— Вечно вы придумываете, мадам.
Залезаем в спальный мешок, устраиваемся на своих дощатых топчанах. Читаем при свечах, все одновременно, «Слова» Сартра, — ведь у каждого по книжке.
— Чепуха какая-то, — заявляет Ирина.
— А мне правится, — говорит Лера.
— Экзистен-циализм, — заучивает Лена.
— А ты попробуй с разбегу, так легче, — советует Лера. — Как вы его понимаете? Раскольников экзистенциалист? — обращается она ко мне.
Поставят вопрос, так сразу и не ответишь.
— В какой-то мере да, если бы не самоугрызения, — отвечаю ей.
— При чем тут Раскольников? Это же Достоевский. И нечего его путать с современной западнобуржуазной философией. Мы проходили на семинаре, — говорит Ирина. — Не понимают, а лезут в рассуждения.
Они понимают все лучше нас, думаю я.
Мы помогаем Саблину, ворошим сено. Ах как он косит. Один взмах — целая копна. Смотрим на него, как зачарованные. Высокий, легкий, весь слажен для гор, один шаг — километр.
— Кончится покос — возьму вас на охоту.
Пообещал нам, но взял одну Лену. Пришел до рассвета, разбудил ее, и я проснулась.
— Куда вы потащитесь, мадам, вам ведь за нами не угнаться.
Думаю — что же им мешать… Ушли.
Утром Ирина страшно возмутилась и тут же скомандовала Лере собираться в маршрут. Я осталась одна.
Уборка в нашем домике несложная. Но украшение его постоянно рождает в нас дух соревнования.
Кроме дощатого стола и топчанов, у нас ничего нет. Как-то Лера протянула между стен веревку, вытащила из рюкзаков все наши тряпки, развесила их, начала раздумывать: то отойдет в одну сторону, то в другую, смотрит, перевешивает. Потом позвала нас.
— Смотрите, — говорит, — красиво?!
И правда. Платья, брюки, тельняшки, косынки в определенном сочетании цветов и формы вдруг заиграли. Наше жилье сразу преобразилось. Ирина сперва поворчала, а потом сама вошла во вкус и ревностней других теперь участвует в создании новых вариантов. Каждый день наша «наскальная живопись» обновляется.
Саблин оценивает наше творчество, и все мы очень дорожим его похвалой, но ни одна из нас в этом не признается. Как важно женщинам внимание мужчины — вечный источник вдохновения.
…Мой Буланый подошел к ограде, трется мордой. Приношу ему сахар, лижет руку, все понимает. Если долго не еду в маршрут, приходит из лесу, напоминает о себе. Удивительные у него глаза, чем-то похожи на Лерины, особенно когда я рассматриваю ее глаз в лупу.
Я люблю пользоваться лупой, рассматриваю пятна органических веществ на пластинках, самое маленькое увидишь. И вообще можно что-то приблизить и лучше разглядеть. Лерин глаз, например, увеличенный лупой, — целый мир, вселенная, ресницы пульсируют, как галактики.
Девчонки тоже научились у меня. Раз подзывают:
— Смотрите, смотрите! Червяк, дождевой, противный, как голый человек. А в лупу?.. Какой орнамент на нем цветной, как радуга. Сразу другое отношение к нему. Смотрите, весь просвечивает. И работает, как лабораторный супернасос из розового стекла.
Может быть, счастье в уменье увидеть?
Нажарила рыжиков. Потеплело, и они высыпали в неправдоподобном количестве. Дойдешь до саблинской землянки — уже полведра. Жду наших — никого. Прилегла. Вдруг слышу шаги, тихие-тихие. Вышла на крыльцо. Лена стоит. Смотрю и не решаюсь окликнуть… Наваждение. Диана-охотница! Плащ через плечо, в руках голова козули, маленькая, с рожками…
— Что это, неужели убили?
— Да, — шепчет она. — Если бы вы знали, как чудесно!..
Головка козули прекрасна, глаза открыты, как живые.
— Получайте, мадам. Вы, кажется, сегодня за повара… — Саблин вываливает из рюкзака куски мяса. Древний запах крови и дичи.
— Лена — это человек, — говорит он, — настоящий охотник. С этим рождаются.
Лена уселась тут же прямо на земле, устала.
— Саблин, сказал, что сделает мне чучело. Если бы вы знали, как все было! Мы ходили долго, измучились. Решили — ничего. Одни сурки пищат. Саблин говорит — мясо у них сладкое, но принести их как-то неудобно, не та дичь. Идем такие грустные. И вдруг… Он вылетел, вы бы только посмотрели. Козел с такими рогами, — Лена раскидывает руки. — На задние ноги встал, как заревет: бум-ах, бум-ах… Саблин выстрелил, а его уже нет. И вдруг козочка остановилась и ни с места. Саблин — раз! — и наповал…
— Придется вам обмывать охоту, мадам, — вид у него сияющий, и он уходит, шагая, как всегда, легко, будто не прикасаясь к земле.
— Ах, если бы вы знали, как все было чудесно! Саблин нес меня на руках через Аравшан. Меня еще никто не носил.
— Все у тебя впереди.
— Правда?
— Да, да, правда. Он уже в пути, твой суженый. Он шагает легко и мужественно…
— Как Саблин? — Ленка улыбается, такая счастливая в неповторимом своем девичьем ожидании.
Неповторимость, она ведь в каждом чувстве. Но вот как удержать, сохранить? Не сама ли я во всем виновата, защищая свою независимость?
Ночью они будят меня — Лера и Лена.
— Мадам, мадам, идемте с нами. Будем ночевать на сене. Нет, нет, сегодня не холодно, чудная ночь. Саблин зовет. Мы ни разу не спали на улице, ведь скоро уезжать.
Забираем спальные мешки и тащимся к стогам. Тепло, гремит Аравшан. Небо хрустально. Снеговые вершины мерцают белым светом. Длинные стальные ели Тянь-Шаня, как ракеты, устремились ввысь, готовые к бомбардировке звезд.
Саблин задремал, посапывает. Вглядываюсь в небо, в снега, слушаю Аравшан, вкушаю ароматы ночи и сена.
Они думают, что я сплю, шепчутся между собой. А я не могу уснуть.
Начались сборы. Уезжаем. Уже никого не привлекает красота окружающего, восторги поистрачены. Все только и стонут:
— Домой, домой!
Ждут писем. Около двух месяцев мы не спускались с гор. А я ничего не жду. Но может быть, счастье в том, чтобы ничего не ждать?
Подытоживаем результаты работ. Составляем сводные таблицы, упаковываемся. Все злые, раздраженные, устали, спешат:
— Домой, домой!
А я никуда не спешу.
Саблин помогает нам в сборах. Шутит, а сам погрустнел.
— Ну, кто же вам из всех нас больше нравится? Признайтесь хоть на прощанье!
— Все вы хорошие.
— Нет, это меня не устраивает. Персонально? Ирина?
— Красивая. Ничего не скажешь. Но мало мне ее красоты, чего-то не хватает. А вот Леночка и некрасива, а все в ней есть. Только надо ей подрасти, очень, очень уж молода…
Храня свое достоинство, Мария Емельяновна говорит мне:
— Своему я водки заказала из Теплоключинки привезти. Девчат, говорю, будем провожать как надо.
— Он у вас хороший, вы счастливая.
— Ну и вам я желаю, чтобы все у вас было хорошо. Чтобы дождались счастья.
— Поздно. Чего хочу, не дождусь.
— Не зарекайтесь. Никогда не знаешь, когда оно придет. Вот я Афанасия ждала без вести пропавшего. Всю войну прождала. Свекровь меня из дома выгнала, а я все жду. Контуженый вернулся, весь штопаный, но дождалась. Поздно, говоришь? Никогда не поздно. Пока жив человек, надо ждать.
Надо ждать. Она права. Я-то знаю, счастье впереди. Все наши цифры, собранные результаты, казалось бы еще не значащие и бессвязные, в логическом порядке распределятся по таблицам, найдут графическое воплощение и заговорят на своем языке. И оставшись с ними наедине, вдруг начнешь понимать их язык, заговоришь на нем, и состоится сокровеннейшая беседа. Вот тут-то и придет счастье, то ни с чем не сравнимое, творческое счастье, и приоткроется закономерность природы, которую почти слепо ищешь и только мечтаешь найти.
Для эдельвейсов мы освободили целый вьючный ящик. Везем их во всех видах — заложенные между страницами в книгах стихов и наших полевых журналах, высушенные пучками на солнце и в горячем песке, совсем свежие, только что сорванные, в мокрой марле.
Мы забросаем всю Москву эдельвейсами.
Из Теплоключинки нам пригнали лошадей к отъезду, сейчас их вьючат. И наши друзья пришли из леса, тихие, печальные. Наверно, понимают, что расстаемся. Глажу своего Буланого.
— Что же вы размечтались, мадам, седлайте. Неужели не научились за два месяца? — командует Ирина. Ее оперативность особенно проявляется при переездах.
Грустно… Грустно, что все проходит.
В Теплоключинке на почте все получают ворохи писем. А я одну-единственную телеграмму:
«Милая совершенно пропал в твоих ритмах жду тебя тихую и обескрылевшую».
Земляника
В маленьком санитарном самолете она сидела рядом с пилотом. В руках она держала перевязанную марлей банку с пиявками. Вода из банки все время выплескивалась на платье. Профессор устроился сзади. Казалось, самолет повис над лесом и не движется. Она все время мучилась, что они опоздают.
Потом ее начинала преследовать мысль, что вдруг его уже нет и как повезет она его обратно, мертвого. Стоит нестерпимая жара, июль в разгаре, медлить нельзя. И то, что она думала обо всем этом, пугало и оскорбляло ее.
Показалась Волга с рыжими плесами. Самолет сделал два круга над поселком, пошел на посадку и плюхнулся на поляну, усеянную белыми ромашками.
С банкой пиявок она пробиралась сквозь заросли цветов. Они выросли ей по пояс, но она не замечала их. Профессор уговаривался с пилотом, а она, выбравшись на дорогу, уже бежала к поселку, расплескивая воду из банки. Навстречу мчалась машина. В клубах пыли из нее выскочили двое. Она узнала его друга. Он только протянул к ней руки — она все поняла. Медленно и очень осторожно поставила банку с пиявками на землю и свернула с дороги. Раздвигая ромашки, путаясь, увязая в них, она направлялась к самолету. Двое из машины следовали за ней. Профессор и пилот тоже подошли.
С удивительной трезвостью она пыталась уговорить пилота взять тело. Будто забыв про горе, свалившееся на нее, она была одержима одной заботой: как довезти его быстрей. Профессор молчал, он спешил обратно. Пилот не имел права исполнить ее просьбу.
Горячий, расплавленный воздух колыхался, рябил, как волна. Они молча возвращались к машине. Доехали до поселковой больницы. Несколько человек с сочувственными лицами встретили их у входа. Подошли какие-то женщины и повели за собой. Она шла больничным коридором, бесконечно длинным.
Остановились у двери. Женщины боялись уходить, но она попросила оставить ее одну. Ей не было страшно, и казалось, что все это происходит не с ней.
Открыла дверь, вошла… В палате было очень светло и пусто. На кровати, одетый в синий костюм, лежал он. Руки были сложены на груди и перевязаны полотенцем. Она подошла ближе. Его лицо было спокойно и беспечно, веки опущены, слеза застыла у глаза. Она села тут же на кровать. Казалось, остановилось время. Может быть, времени вообще не было. Ни мыслей, ни чувств.
Теперь она не видела ни комнаты, ни лежащего на кровати. Уже ничего не было…
Она не заметила, как приоткрылась дверь и женщины заглянули в палату. Не заметила, как вошел его друг и заставил ее подняться. Не заметила, как шли обратно коридором и вышли на воздух. Не заметила, как вышли из больничного сада и шли мимо рощи. Она не слышала, что говорил ей по дороге его друг. Не слышала, как отчаянно и оголтело щебетали птахи на деревьях. Не слышала, как кто-то пел вдали и кто-то смеялся. Она не замечала ни идущих навстречу, ни домиков, мимо которых проходила. Не заметила Волги, заблестевшей внизу.
Лица, предметы, цвета, шорохи, звуки соединились для нее во что-то серое, бесформенное. Ни отчаяния, ни скорби, ни жалости… Она не испытывала ровно ничего. Серое и густое облепило ее, сковало все чувства, все мысли. Через это серое она пробивалась, как сквозь туман.
Они пошли над Волгой.
— Может быть, сядем? — спросил его друг.
— В прошлом году, — ответила она.
Они сели на скамейку. Было очень жарко, но легкой прохладой несло от воды. Она ничего не ощущала, не видела, не слышала. Так они сидели.
Мимо прошла старуха с корзинкой земляники. Мелькнули красные ягоды…
И вдруг она заметалась. В мгновение серое как бы распалось на все цвета, все запахи, все краски мира. Она увидела уходящую старуху и закричала:
— Купите, купите мне ягод!
Его друг растерялся от неожиданности, от странной ее просьбы. А она торопила:
— Скорее, скорее, она уходит! Купите больше, всю…
Она глотала душистую сладкую землянику, вынимая ее из газетного кулька, как тогда…
С каждой горстью к ней возвращалась жизнь. Она услышала многоголосый щебет птиц и голоса поющих в лодке, как тогда…
Увидела белый обвал жасмина у забора, услышала запах. Увидела лицо его друга, осунувшееся, в капельках пота. Поняла, что пережил он за эти сутки. Увидела желтое небо над Волгой, пеструю толпу у пристани, маленький катер на воде, как тогда…
Увидела валяющуюся под березой рваную детскую сандалию. Каждая малость теперь с удивительной четкостью фиксировалась ее сознанием.
Когда последняя горсточка ягод была съедена, она скомкала кулек, приподнялась и беспомощно опустилась на скамейку, заголосила по-бабьи и плакала, плакала, плакала…
Портрет
Всю ночь лил дождь и продолжал лить. И от того, что он лил, дома было неприветливо и одиноко.
Всегда испытываешь чувство опустошенности после законченной работы. Вчера Нина сдала наконец очень важную для нее статью и сейчас чувствовала опустошенность и свободу.
Никуда не пойду сегодня, не буду включать телефон, и тут же привычным движением включила. Сразу раздался звонок.
Куда она потащится в дождь? Нина редко бывала дома. Ведь собиралась побыть одна, заняться домашними делами… Ну, ладно, опять она пойдет в гости, будет сидеть целый вечер, вести никому не нужные разговоры и думать о своих делах. Но раз ее просит Верочка…
Как разношерстны гости в столовой. Что объединяло их? Может быть, только этот круглый стол красного дерева — стиль Чиппендейла, — заставленный закусками и винами? Верочка?
Она была хороша, как всегда, и глядя на нее, нельзя было подумать, что она переживает тяжелые дни. Она узнала, что у мужа есть другая женщина.
Но, может, все и обойдется у них, думала Нина. Сейчас он уехал отдыхать, кажется с той, и Верочка «прожигает жизнь». Даже, наверно, все обойдется, надо знать ее Бориса. Разве сможет он бросить обставленный дом, уют? Сколько вложено во все это.
Да нет, А потом Верочка… От таких не уходят.
Верочка была хороша, хотя и в том возрасте, когда каждый день становится опасен, когда каждое утро с тревогой присматриваешься к себе в зеркале и ищешь новых следов увядания.
Что связывало Нину с ней? Такие разные судьбы, такие разные жизни, разные характеры. Для каждой из них жизнь другой являлась каким-то иным измерением. Она любила Верочку, и все.
Как разношерстны гости. Женщина, вернувшаяся из Америки, оказалась милейшим существом. Несмотря на свой преклонный возраст, была пестро одета, накрашена, ногти покрыты ослепительно красным лаком, и пальчик, указательный пальчик, на правой руке не сгибался, очевидно, от старого перелома. Женщина принесла продать какие-то вещи, уговаривала их примерить, но Нине все они оказались малы. Женщина волновалась, но не от того, что они малы и она их не сможет продать, а от того, что не может порадовать Нину. Она все время жестикулировала, а пальчик торчал, и это производило нелепо-смешное впечатление.
— Очень рекомендую вам…
— Люсичек, наш милый Люсичек, успокойтесь, — упрашивала Верочка.
Интересно, думала Нина о своей статье, как «враги» проглотят эту пилюлю. Пусть теперь попытаются объяснить энергетику мышц при беге спортсмена-олимпийца на стометровке.
Примерка шла в спальне Верочки. А в столовой галдели гости. Верочка то и дело оставляла Нину с Люсичком, уходила и возвращалась.
Свою стометровку я пробежала. Нине удалось доказать, что главная масса энергии мышечной клетки выделяется совсем иным путем, чем до сих пор предполагали.
А Люсичек улыбалась, тут же забывала о своих тряпках, снова и снова возвращалась к рассказу о том, насколько сложнее ей было получить визу в Союз, чем уехать в Америку к своей родне, у которой она живет уже несколько лет.
— Вы понимаете, — говорила она, — я одинокий человек, пенсионерка. Думала, поеду к своим, но это же не люди. Они ничего не понимают, ничего не хотят понять. Я увезла с собой урну с прахом мужа, не оставаться же ему здесь одному, думала похороню. Но разве мне позволили ее похоронить? Ее держать-то мне не разрешили, она лежала где-то в подвале, Вот я и приехала сюда.
Верочка по секрету шепнула Нине, что урну Люсичек запрятала со своими тряпками в багаж и сейчас все никак ее не дождется. Сама прилетела, а урна еще там с багажом, в трусики ее завернула и сунула.
— А вот и Антон. Какой же вы молодец, что пришли! Заходите, Нина, иди, я познакомлю тебя!
Как не соответствовал радостный возглас Верочки тому, кого увидела Нина. Бритая голова, испитое лицо, насупленный взгляд. Вошедший мрачно ткнул ей руку.
— Я знаю, Антон, вы сейчас не пьете, — сказала Верочка, — но, может быть, сделаете исключение для сегодняшнего вечера, для меня.
— Я не пью, — буркнул он.
Нине не надо было смотреть на Антона, она и так чувствовала, что все ему здесь чуждо.
— Это необыкновенный художник, — шепнула Верочка. — Недавно он где-то наскандалил спьяну, отсидел пятнадцать суток. Видишь, его обрили. Займись им, развлеки. Отец у него умер…
Нине не составило труда увести его в другую комнату, где стоял рояль. Маленький, кабинетный, он был украшением комнаты. Его купили потому, что нельзя было не купить: такой прекрасный «Блютнер» продавался совсем недорого, а Верочке давно хотелось иметь в доме рояль. В нем отражалась великолепная в своей строгости павловская люстра. Верочка обладала искусством обставлять свой дом. Она уже забыла то время, когда присаживалась к инструменту. Но все равно, он был нужен, хотя бы для того, чтобы кто-нибудь играл. Его регулярно настраивали.
— Вы играете? — спросила Нина, чтобы что-то спросить.
— Играю, но не буду, — ответил Антон.
— Я и не прошу вас, — улыбнулась она.
Он промолчал. И Нина поняла, что его смущает бритая голова, и чтоб вывести его из смущения, она как раз и заговорила об этом.
— Я, может быть, отстала, что, разве сменилась мода на волосы?
— Что вы отстали, незаметно. Но при чем тут мода? Меня обрили, вот и все.
— А, кстати, вы брахицефал, и вам даже идет бритая голова.
— Что вы рассматриваете меня, как жеребца?
— Отнюдь нет. Я думаю… Мне сказали, вы талантливый художник. Вера Николаевна мне сказала.
— Вера Николаевна не видела ни одной моей работы.
— Почему вы так мрачно смотрите на меня. Да и на всех, я заметила? Мне думается, человеку вашей профессии не должен быть свойственен такой взгляд. Вы портретист?
— Какое это имеет значение?
— Для меня — колоссальное. Я считаю, что портрет это самое высшее, что может быть в живописи.
— Отец мой тоже так считал, поэтому никогда и не писал портретов.
— А что же он писал?
— Картины.
— К сожалению, я не знаю его работ.
— Вы потеряли немного.
— Почему так?
— Да потому. Я любил отца, неплохо к нему относился, но это не значит, что я должен хвалить его. Был он рядовым, крепким картинщиком. И я всегда был равнодушен к его живописи.
— Значит, вы пишете портреты?
— Допустим. И что из этого следует?
— Допустим, я хочу заказать вам свой портрет.
— Почему мне? Разве мало портретистов, которые смогут вас написать?
— Сколько угодно, но я хочу, чтобы написали вы.
— Мало ли чего вы хотите.
— Пожалуй, не очень уж многого. Но вот увидеть себя вашими глазами мне почему-то захотелось. Мне даже это необходимо. Поверьте.
— Я сломал нож, — вдруг сказал Антон и протянул на ладони маленький ножичек, который он взял со столика и все время вертел в руке. Лезвие сломалось пополам. Потрескавшаяся и загрубевшая, маленькая, почти детская рука как-то не соответствовала его крупному и сильному торсу.
Из столовой донесся смех, и Верочка заглянула к ним в комнату.
— Вы не скучаете?
— Я — нет, — ответила Нина.
— Я забочусь только о тебе.
— Я сломал ваш ножик, — сказал ей Антон.
— К чему бы это? Кажется, есть какая-то примета, — задумалась Верочка. — Впрочем, я не верю в предрассудки. — И она исчезла.
— А я верю в приметы, — сказала Нина. — Несомненно, что это знак. К чему бы?
Антон улыбнулся, и лицо стало растерянным и беспомощным.
— Вы можете улыбаться сколько угодно, но я-то знаю, что это безусловно знак. И только надо правильно его прочесть. Сумеем ли мы?
— Так прочтите. Кто же вам мешает?
— А-а… Это не так просто. Во всяком случае, я убеждена, что это знак хороший. И для вас, и для меня.
— Пожалуйста, шутите!
— Совеем не шучу, говорю совершенно серьезно.
— Вы придумщица. Но, может быть, это и не плохо. У меня не получается. А люди, которых я наделяю качествами для того, чтобы с ними общаться, если подумаю честно, просто дрянь, и скучно с ними смертельно.
— Ну знаете… Вот за это-то и надо брить головы.
— А я бы их не брил, а просто срезал.
— Срезать проще всего. А вот проникнуть в эту голову, понять и сохранить…
Он с интересом взглянул на Нину, и складка на его широком лбу разгладилась.
— Наконец-то вы взглянули на меня по-человечески. Ну так как же? Будете писать мой портрет?
— Так уж сразу и ответить?
— А зачем отвечать? Мне нужно, чтобы вы сразу начали писать.
— Что я вам, фокусник?
— Нет, не фокусник. Но это необходимо. И именно сегодня. Сейчас. Понимаете? Не только мне, но и вам. Поймите!
— Не понимаю.
— Вот в этом-то и все дело, что не понимаете. А если бы поняли, все было бы по-другому. Вы сами бы просили меня об этом. Разве вы не согласны с тем, что между художником и моделью должен существовать какой-то настрой, как это говорят теперь, коммуникабельность. Вы же не можете против этого возразить? Нет? Так вот, не все ли равно, от чего она возникает. От того, что художник что-то увидел в модели и хочет взять это, обобщить, увековечить, или от того, что модель хочет послужить художнику. У модели возникла необходимость, чтобы ее запечатлели, взяли то, чем она переполнена, ту энергию. Завтра я могу умереть, и вы уже лишитесь такой возможности.
— Вам-то зачем умирать?
— Ну, вы умрете. И то, что может быть сделано сегодня, никогда уже не будет сделано. Ничего нельзя откладывать. Я вас очень прошу.
Весь этот разговор Нина начала в шутку, лишь для того, чтобы как-то расшевелить Антона. Но теперь она была уже сама во власти этой идеи — ей необходимо, чтобы сейчас, именно сейчас, этот человек написал ее портрет.
— Портрет. Ведь это серьезное дело, работа. Я три месяца не держал карандаша в руке.
— Но это и магия тоже. У вас может не быть другого такого случая. И я уже не буду такой. Пожалуйста, сделайте для меня.
— Я давно понял, что объяснять женщинам бесполезно, — сказал он, смягчаясь. — Ну, давайте попробуем, если вам уж так необходимо. На чем же мне вас рисовать?
Достать кусок бумаги в Верочкином доме оказалось не так просто. Загоревшись идеей портрета, Верочка, забыв про гостей, начала розыски.
— Этот безобразник и не подумал написать мой портрет, — шутила она и перебирала все на свете, но бумаги так и не нашла, пока наконец не наткнулась в изящном секретере на бювар XIX века, который случайно купила когда-то. Печальным запахом старины пахла зеленая тисненная золотом кожа. Несколько листов матовой потемневшей бумаги сохранились в нем.
— На этой, наверно, нельзя? — спросила Верочка.
— Ничего. Сойдет, — сказал Антон.
— Посмотрите, какая она старая.
— Замечательная бумага.
Верочка принесла несколько роскошных паркеровских ручек со вставками, но он отказался от них. В качестве карандаша, которого в доме не оказалось, сошел Верочкин для бровей.
Она притащила из кухни доску для резания хлеба.
— Ну чем не мольберт. Подойдет?
Он положил бумагу на доску.
— Вполне!
— То-то. Я буду заглядывать к вам.
Милая Верочка, она так развеселилась. Нину поражала почти птичья ее беззаботность. Вероятно, были заботы, тяготившие Верочку, но никому и в голову не приходило предположить о ее заботах.
Но, может быть, все это только кажущаяся бессмыслица действий, такая же, как и в природе — смена дней, у птиц — их оперений, перелеты. Может быть, в этом и только в этом — смысл жизни? А вся эта значимость деятельности, условности ценности — суета.
Антон несколько раз пересаживал Нину. Несколько раз заставил поворачиваться. Наконец нашел нужное положение. Пристально взглядывая на нее, он начал быстро водить карандашом по бумаге.
И она испытывала волнение. Волнение и ответственность. Сидела молча и напряженно.
— Расслабьтесь. Думайте о чем угодно.
Она подумала, что Антона она видит в этом доме в первый раз. И это странно, хотя в общем-то ничего странного в этом не было. Здесь люди сменялись часто. Верочке было необходимо это постоянное движение вокруг: звонки, приходы, уходы. Знакомства она завязывала очень легко и все низала, низала людей, самых разных, разнородных, в пестрые бусы, ожерелье, которыми украшала себя. И за это платила своим участием, заботой, доброжелательством. Ведь все они, кто там галдит сейчас, принимают здесь терапию ее доброты.
И опять Нина вернулась к своим обычным размышлениям, которые почти никогда ее не покидали. Ведь правда, люди теперь как никогда испытывают дефицит времени во всех своих делах и действиях. Нервная система в постоянной перегрузке, единственная мысль — надо сделать быстрее, в короткий срок. Время летит… Даже наверное, нервная система имеет те же механизмы появления перегрузки, что и мышечная. И терапия доброты адресуется прямо к энергетическим системам нервных клеток. Пожалуй, следующая моя статья и будет именно об этом, о терапии доброты.
Доброта, думала Нина. Доброта — это самый большой человеческий талант. Самое главное богатство.
— Они замучили бедного Люсика. Я позвала их, чтоб они купили себе по галстуку, а они расспрашивают его о космосе. Что она там знает об этом? — заговорила Верочка, снова войдя к ним. — Как движется портрет? Можно посмотреть?
Но Антон взглянул на нее так, что она отпрянула.
— Не буду, не буду! Ведь там, в Америке, ее интересовали цены на шмотки, на продукты, а не космос. Кретины! А потом, кому это интересно? Путь к звездам! Тем, кому плохо на Земле? Мне хорошо на Земле.
Это звучало шуткой в ее устах, насмешкой, вызовом. Но это была правда, правда Верочки. Потому что главным законом ее жизни было то, что ей хорошо на Земле. Да, ее законом и ее талантом.
И что собою представляет Нина, со всем своим заумством, по сравнению с этой Верочкиной победительной силой. По сравнению с ее талантом не думать о завтрашнем дне, а если и думать, то только как о дне радостных свершений и ждать его только с этой единственной позиции. Очевидно, существует равновесие в мире и человечеству необходимы Верочки.
Ей бы памятник надо поставить, думала Нина. При жизни. При жизни потому, что бессмертие не нужно тем, кому хорошо на Земле.
— Вы давно знаете Веру Николаевну, — спросила она и тут же осеклась.
— Да разговаривайте, ради бога. Мне это нисколько не мешает, наоборот. А то из вас никак не вытащишь свободу. Вы вся какая-то сделанная. Разговаривайте, вы же любите поговорить.
— Вы откровенны.
Правда, как часто она сама себя упрекала за эту свою сделанность, напряженность. — Так вы давно ее знаете?
— Меня притащили сюда, когда все это стряслось, умер отец, ну и всякое другое. Меня пригрели, как и всех. Конечно, я благодарен…
— А почему вы не напишете ее портрет?
— Не приходило в голову.
— Она просто создана для живописи. Синие-синие глаза, золотистые волосы, розовость.
— Вот вы ее и напишите, Кстати, чем вы занимаетесь?
— В настоящий момент позирую вам.
— Позируете вы и не только в настоящий момент. Но я не об этом. Чем вы занимаетесь? Работаете?
— С утра до ночи.
— Над чем?
— Наши области очень похожи. Только вы приоткрываете мир средствами искусства, а мы науки. Я физиолог.
— Слишком широко, поконкретней.
— Как бы вам объяснить?.. Еще с древних времен люди искали суть жизненной силы. А теперь мы ее измеряем. Этим я и занимаюсь. Она перестала быть мифической, это всего лишь энергия распада одного из органических соединений.
— Я от этого далек.
— Как сказать! Эта самая энергия сейчас выделяется в ваших нервных клетках, и очень интенсивно.
— Я этого не замечаю.
— В процессе творчества вы похожи на спринтера. У меня нет с собой прибора, я бы могла замерить, насколько больше сейчас вы поглощаете кислорода.
— Значит, смерть, по-вашему, тоже творчество?
— Конечно. Давно умер ваш отец?
— Не в этом дело. После него умирает все вокруг.
— Не понимаю.
— Да это и не сразу поймешь. Умирает то, что после него осталось.
— Его картины?
— Да нет. Они были и есть, добротные, посредственные, каким и был он сам. Умирают мои иллюзии. Ну, это лирика и никому она неинтересна.
— Мне интересна.
— Жена наплевала на меня, как только поняла, что я не собираюсь жить на средства папеньки, то есть маменьки. Но не в ней дело. Это уже все прошло.
— А в чем же?
— Скучно слушать.
— Мне не скучно.
— Я возненавидел мать, сестричек…
— Почему?
— И они еще изображают моих спасительниц. Поверьте, когда я попал в милицию, то две недели, что я подметал заводские дворы, были самыми счастливыми днями моей жизни. Дворником мне было легче.
— Что же вы замолчали?
— Я понял, что ненавижу свою мать, Вот чей портрет я бы написал, так это портрет моей мамочки. И напишу, будьте уверены. Захочет она этого или нет — все равно напишу. Семейный портрет с сестричками.
— Но ведь искусство, — сказала Нина, — существует не только для того, чтобы обличать, но и возвышать. Показать человека в его совершенстве, каким бы он мог быть, для чего рожден.
— Да, вы правы, вы, конечно, правы… — как-то безучастно и машинально повторял он.
Его рука, его маленькая детская рука, то легко, то жестко водила карандаш по бумаге, то почти не касалась ее, то взлетала над ней, то начинала зло царапать, большим пальцем он иногда в разных местах растирал рисунок, и снова вступал карандаш. И во всем этом была такая свобода, такая власть, на секунду напоминавшая Нине власть дирижера. Лицо его было спокойно, и только желваки ходили у скул.
И опять она испытала волнение — что он там создает на бумаге, каков будет ее портрет?
— Ненавидели его при жизни, отравляли ему каждый день, — продолжал Антон. — И писал-то он серо из-за них. Цеплялись, мучали, считали эгоистом. Неделями не разговаривали. И какие преступления были за ним? Обычный мужчина, как и все. Ну, позволял там что-то иногда. Но нуждался в них. А они его пилили, пилили все втроем, хором. Поучали. А он без них не мог. Чудак. Я-то все видел и тогда. Но он меня не слушал, не признавал, считал бездельником. Как он тяжко умирал. Перед смертью, кажется, пришло к нему прозрение. Но хитрят-то ведь все, даже умирающие. А сейчас они создают ему славу, ореол. Персональные выставки, мемориальный музей на родине, мастерская… Нашли себе смысл жизни.
— Может, раскаяние?
— Раскаяние? Не говорите глупостей. Какое может быть раскаяние? Они себя ни в чем не винят. Вор украдет, ограбит — за это его накажут, посадят. Ненаказуемо, когда обворовывают твою жизнь, творчество. Они считают, что он им всем обязан. Они торгуют всем, что от него осталось. Монографию сейчас издают.
— Но почему же вы так возмущаетесь? Выставки, монографии — это же хорошо.
— Он был требовательный к себе. И скромный человек. Он этого бы им не позволил. Я знаю. Вот тут у него хватило бы смелости восстать. Но его уже нет. Вот вам ситуация. Может быть, вы и поймете меня. Как мне с ними бороться? Не развенчивать же мне собственного отца? Сейчас удобней всего считать меня алкоголиком. Они же меня и «спасают». И выхода из всей этой мерзости я не вижу.
Он перестал рисовать, посмотрел на Нину, потом на доску с бумагой, потом опять на Нину. И начал что-то подтирать, теперь уже мизинцем.
— И все-таки выход есть, — сказала Нина.
— Какой? Повеситься?
— Работать!
— Как это просто говорить! Вы думаете, работать мне легко?
— Понимаю, Нелегко. И все-таки — работать.
— Ну, хорошо. Работать так работать. И я так думаю. Надеюсь, хочу надеяться. Можно же мне хотя бы надеяться?! — он швырнул карандаш. — Только не считайте себя, пожалуйста, ответственной за то, что я вам тут наговорил. Но вы ведь сами накручивали что-то там относительно художника, взаимосвязи с моделью, проникновения и всякое такое. Так вот, считайте, я все это вам рассказал, чтобы постичь вас как натуру, это был прием, чтобы вытащить из вас… — он улыбнулся беспомощно и мягко.
И вдруг опять лицо его стало жестким — Верочка ворвалась в комнату.
— Нина, Нина! Он позвонил. Понимаешь? Позвонил из Сочи. Сказал, скучаю. Зовет, просит приехать. Говорит, все устроит для моего отдыха.
«Не так он глуп, ее Борис», — подумала Нина.
— Я так и знала.
— Я тоже знала, что этим кончится, но все-таки мерзавец. И я, конечно, никуда не поеду, — засмеялась Верочка.
Сообщая все это, Верочка забыла о присутствии Антона. Но спохватилась:
— Я вам мешаю?
— Да нет. Я уже закончил. Вот собственно все, что мне удалось сделать, учитывая возможности, условия работы, обстановку и срок выполнения заказа.
— Вы писали ровно пятьдесят минут, — сказала Верочка, взглянув на свои синие часики.
— Я не думал о времени. То есть я думал о нем.
— Можно посмотреть? — и, не дожидаясь разрешения, Верочка взглянула.
Она растерянно молчала. Нина вдруг заволновалась.
— Что же вы сидите? Разрешаю разминку. Вы хорошо мне позировали.
Он встал, снял бумагу с доски, осторожно положил на стол.
— Я не уверен в карандаше. Надо бы под стекло, окантовать.
Верочка на цыпочках вышла из комнаты.
Нина могла ожидать чего угодно, только не этого. Совершилось чудо. Да, здесь, у нее на глазах совершилось чудо. Иначе этого нельзя было объяснить. Со старой, серой бумаги на Нину глядела ее мать. Разительное сходство потрясало. Она смотрела на Нину и еще куда-то, далеко. Это была ее мать, любимая, незабвенная. Женщина высокой судьбы, хирург, ученый, человек того, уходящего, блистательного поколения подвижников. Ее мать, образ которой Нина несла в себе как святыню. Всепонимающе, мудро и добро на нее смотрела ее мать, только немного более молодая, чем Нина помнила ее, более красивая, чем-то смутно и отдаленно похожая на Нину.
Что это? Как мог незнакомый Антон, из-под всей накипи, всех напластований, всех слоев ее жизни вытянуть, и разглядеть дорогой для нее образ. Недосягаемый.
Верочка притащила с собой всю ватагу гостей. Они столпились у стола. Молчание длилось всего лишь несколько секунд. Потом все разом заговорили:
— Замечательно!
— Похоже, удивительно похоже!
— Не похож.
— Недостаточно похож.
— Какое это имеет значение! Кажется, Веласкес сказал — не похож сейчас, будет похож через пятьсот лет.
— Какая легкость. Вы только посмотрите, как написаны волосы.
— Реалистический портрет, и какая прелесть!
— А главное — красиво. Нет этого желания изуродовать человека, как это модно теперь у художников.
— Прелесть, прелесть.
Антон оставался совершенно обособленным среди этого хора восторгов. Лицо его ничего не выражало. А Нина была смущена.
Люсичек восторгалась больше всех:
— Чудесно, чудесно! — восклицала она и тыкала красным ноготком несгибаемого пальчика, своим бессменно указывающим перстом, прямо в бумагу. — Скажите, за сколько вы бы могли продать эту вещь?
— Мне она не принадлежит. Я подарил ее своей модели.
— Не может быть! — воскликнула Люсичек и уронила очки. — В Америке она бы стоила сотни долларов. Нет, неужели вы подарили этот портрет? Не может быть!
Портрет сделался коронным номером программы сегодняшнего вечера.
— Следующий будет мой, — сказала Верочка. — Я даже знаю, где его повесить. У меня есть роскошная рама для него, я хотела вставить в нее зеркало. И все же, — обратилась она к Антону, — если только вы не рассердитесь на меня, я бы что-то сделала с бумагой. Она такая скучная эта бумага, как грязная. Такой удивительный портрет. Сделайте что-нибудь. Может быть, можно как-нибудь ее подкрасить, она все портит.
— Это идея, — сказал Антон. — Я с вами совершенно согласен.
— Да не прикасайтесь вы к нему, ради бога. Ведь это маленький шедевр, и его можно только испортить. Послушайтесь меня! — взмолился один из гостей.
— Сегодня я слушаюсь только женщин, — сказал Антон, собираясь взять портрет.
— Но, может быть, правда, лучше не трогать, — остановила его Нина.
— Мы его обязательно тронем. Мы его только слегка подтонируем. Дайте мне его сюда.
— Нет, не отдам.
Антон рассмеялся, весело и озорно. Нина отметила, что он засмеялся в первый раз.
Верочка подливала Антону вино, он был оживлен и не отказывался.
— Не сопьетесь. Вы сегодня молодец, так чудесно поработали, вы сегодня добрый. Доброе вино не страшно, спиваются только от злого вина.
«Выпить, обязательно выпить», — думала Нина. Ей предложили коктейль «Верочка», его изобрели сегодня, здесь, и он был ледяной, розовый и прозрачный. Ее обожгло. Ей протянули соломинку и повторили коктейль. И сразу пришла радость.
Только за полночь Нина собралась уходить, и Антон вызвался ее проводить.
Целуя Нину на прощанье, Верочка шепнула ей:
— Желаю!..
— Мы еще успеем к метро, — сказал Антон.
— Нет, ближе к стоянке такси.
— Имейте в виду, денег у меня нет.
Они направились к стоянке. Лил дождь, неистово и оголтело. Но сейчас для них он был третьим объединяющим началом.
— Дождь омоет весь наш континент, — сказала Нина и вспомнила, что слышала уже от кого-то эту дурацкую фразу.
— Пусть хлещет, я люблю дождь. Дворникам меньше работы.
— Я совсем не могу вас представить… Скажите, какие у вас волосы?
— Скоро увидите. Они-то отрастут.
Зеленый маячок такси раздвинул массу дождя.
— Мне провожать вас до дому? Но тогда мне не на чем будет вернуться к себе. У женщин я в долг не беру.
Ей так не хотелось оставлять его здесь, под дождем, одного.
Нет, только не сегодня. Она хочет остаться одна, со своим портретом. Антона она не предаст. И он знает это. Он знает, что уже существует в ней.
Антон открыл дверцу машины и улыбнулся.
Нина ехала домой, голова ее кружилась. А улыбка, так меняющая его лицо, стояла у нее перед глазами. На груди под плащом в полиэтиленовом пакете, который подарила Люсичек, она держала портрет.
За окном по-прежнему лил дождь. Но как это ни странно, Нине казалось, что она не одна у себя. Портрет заполнил ее дом.
Хотя бы в одну каплю быть похожей на него, думала Нина. Удастся ли ей когда-нибудь обрести ту мудрость, силу, широту, которыми богата была ее мать. Удастся ли ей сделать в жизни большое, важное, нужное людям? Она вспомнила Антона и улыбнулась. Почему-то все, что происходило до сих пор, как-то удивительно отодвинулось. Будто целая вечность отделила ее от всего, и она чувствовала себя счастливей и добрее.
Большая Ордынка
Собственнические понятия глубоко укоренились в нашем сознании. Все мы привыкли говорить: наша галактика, наша планета или в более узком смысле — наш дом, наша квартира, наша комната.
Я хочу поговорить о нашей улице.
Большая Ордынка… До чего хорошо это название… Сколько московского, замоскворецкого, стародавнего и близкого слышишь в этом сочетании звуков!
Прямая, как стрела, легла наша улица от Чугунного моста и Канавы до самой Серпуховской.
Нет другой такой! Каждый народный праздник принимает она полчища людей. Демонстранты возвращаются с Красной площади — реки цветов, флагов. Закончился парад — громыхает техника, движутся по Ордынке танки, артиллерия, ракеты…
Обсаженная стройными липами, она живет достойно и скромно со своими не слишком новыми, но и не старыми домами.
Из нее выходит много переулков с такими разными именами: Пыжевский, Казачий, Климентовский, Большой Маратовский, Погорельский… И в каждом названии — смысл, прошлое, жизнь.
От переулков идут еще переулки. В них много институтов — это культурный центр Замоскворечья, его Латинский квартал.
Институты расположены в солидных, внушительных зданиях, во многих окнах допоздна не гаснет свет.
Рано утром просыпается Ордынка, и жизнь закипает на ней. Идут люди на работу: маленькие — в школы, большие — на заводы и фабрики, в институты и учреждения. Идут по-разному, каждый согласно своему характеру, настроению.
Мне нравятся эти люди. Наверное, они тоже любят нашу улицу не меньше, чем я. Да и можно ли ее не любить?
Она прекрасна в любой день, во все времена года. Зимой, по утрам, с празднично белыми тротуарами и белыми домами она выглядит так нарядно. Ранней весной, когда днем уже капает с крыш, но по ночам еще морозит, все тоненькие веточки лип покрываются льдом, на каждой почке застывают капли, и вся Ордынка при свете фонарей стоит в хрустале.
Когда же весна возьмется по-настоящему, Ордынка становится самой озорной, самой шумливой улицей во всей Москве. Потоки, мощные веселые потоки, ручьи бегут по мостовой. Кажется, они могут снести все на своем пути. Упаси бог переходить улицу: вы утонете выше колен. Автобусы и троллейбусы — что волнорезы, от них разлетаются мощные веера брызг. Не попадайтесь им на пути: окатит с головы до ног.
Люди идут — смеются. Весна, и потому всем весело, хорошо на душе.
Я вспоминаю Ордынку моего детства — она другая и такая же. Не было телеграфа и институтов в переулках, не было станции метро. Было много садов, а людей совсем мало. Ни автобусов, ни троллейбусов, ни верениц машин. Изредка проедет извозчик. Тихо было кругом. Но весной улица тоже начинала звенеть.
Помню, я сидела дома одна: не было калош и гулять не пускали. В валенках было сыро, к тому же они прохудились. А весна пришла неожиданно, растопила снег, и потоки, журча, бежали по Ордынке. Прижавшись лицом к окну, я с завистью смотрела, как мальчишки гоняли кораблики. Как подмывало меня вырваться на улицу! Но что было делать? Незадолго до этого мне купили бурки. Они оказались малы, голенища были настолько узки, что нога не пролезала. Бурки собирались продать, я знала, что они стоят дорого, но свобода была дороже. Я колебалась недолго, схватила бурки, ножницами отрезала голенища, зашвырнула их куда-то, напялила остатки бурок на ноги, как шлепанцы, накинула шубенку и выбежала на улицу. Мальчишки приветствовали меня дружным гиканьем, и я понеслась вместе с ними, вслед за ручьем, захлебываясь от счастья. Навстречу шла мама, но у нее не хватило духу меня отругать, она лишь посмотрела печально на то, что осталось от бурок, и, улыбнувшись, покачала головой. Как это было давно? Но тот день, наполненный яростным торжеством жизни, Ордынку, залитую ликующим солнечным светом, звон весны, царящий над всем вокруг, я никогда не смогу забыть.
А когда распустятся почки, маленькие листики, нежные и глянцевитые, вылезут на свет, станет совсем тепло, — Ордынка сделается еще прекрасней.
И не только улица преобразится. Люди тоже станут другими. Появятся много светлых и ярких пальто, все расфрантятся в честь весны и сделаются сразу моложе и красивее.
Каждый день, если я не опаздываю на работу, на углу Ордынки и Пыжевского встречается мне одна пара, наверно, муж и жена. Они похожи друг на друга. Оба небольшого роста, но крепкие, ладные. Не знаю, вместе ли они работают, но в этот утренний час они всегда вместе. Всегда одеты со вкусом, а уж летом она каждый день в новом платье.
Они всегда о чем-то оживленно разговаривают друг с другом, всегда у них довольные лица, наверное, они очень дружны. Редко идут они молча и не под руку. Тогда я встречаю их после Пыжевского. Значит, сегодня они позже вышли из дому, опаздывают и сердятся друг на друга. Мне хочется узнать их профессию. Кто они, что делают, как нашли друг друга, где учились, почему так дружны? Но как задать им все эти вопросы? Им не до меня. Каждый день они проходят мимо, а я ничего не знаю о них. Но, конечно, это очень счастливые люди.
Сегодня совсем тепло. На дворе геологического института в машины, затянутые сверху брезентом, грузят снаряжение. Вокруг много молодежи. Наверное, очередная партия уезжает в экспедицию.
Куда направят они свой путь? На юг или на восток, а может быть, на север? Надолго ли уезжают с нашей Ордынки? Скоро уеду и я.
А липы совсем распустились. Кроны стали мощными и зелеными, но пыли пока на них нет. Значит, еще весна.
В переулке, где выстроены два новых института, осталось несколько старых деревьев, и соловьи прилетают сюда на прежние свои места. Не обращая внимания на городской шум, на искры троллейбуса, они, как и прежде, отсвистывают в восемь колен свою вечную песню любви, и новые влюбленные приходят слушать ее.
Часто навстречу мне попадается гражданин, пожилой и солидный. Вот у кого противный характер — всегда недовольный вид. Брови нахмурены, губы сжаты. Встречаю его в разное время, и всегда идет он вот так, уставившись в землю. Кто он? Ему совсем не интересно смотреть на распустившиеся липы, на Ордынку, на прохожих. Не любит он нашу улицу, видно себя одного только любит, а может быть, не любит и себя.
Но, может быть, у него неприятности по работе? Или ушла жена? Ну что ж… наверняка она правильно сделала, противный у него характер.
А когда наступает время цветения лип, вся Ордынка благоухает. По улице льется аромат. Люди идут и дивятся, не понимая, что происходит в мире. Ах да… это липы цветут. Почему так чудесно кругом, сладчайший дурман в голове, что случилось такое? Ах да… это липы цветут!
Никто, пожалуй, на всей Ордынке не внушал мне такого уважения, да и такой симпатии, как свеженький и полный старичок с разбухшим портфелем. Он носил его как-то странно — на вытянутой, отставленной руке. У него были седые торчащие усы, всегда был он чисто выбрит, розовые щеки его лоснились, ботинки до блеска начищены, и весь он был воплощением аккуратности и порядка. Каждый день его можно было встретить у здания почты ровно в восемь пятнадцать. Он шел ровным шагом, никогда не спешил, и если я, опаздывая на работу, запыхавшись, бежала по улице и попадалась ему у Климентовского, неодобрительно качал головой.
Стыдно сказать, но он, этот милый и, наверное, добрый старик, был единственным, кто сумел научить меня дисциплине. Однажды, когда я, как обычно, опаздывала я в сбившемся набок берете бежала по Ордынке, он, встретившись со мной, вдруг остановил меня на ходу, взял за руку и строго, доброжелательно и немного грустно сказал:
— Ну зачем вы так зря и попусту теряете чувство собственного достоинства? Неужели не лучше выйти из дому пораньше на десять минут? Простите меня, старика!
Он отпустил мою руку и медленно проследовал вперед. А я… я побежала дальше, ощущая горькую справедливость его слов.
С тех пор я не опаздывала.
Осенью Ордынка становится совсем особенной. Нет весеннего звона. И хоть так же людно на улице, так же много машин, она как бы замирает в предчувствии зимы и стоит тихая, немного торжественная. Легкая грусть не оставляет меня тогда, странная грусть, которую неизменно испытываешь осенью, когда воздух чист и прозрачен и деревья стоят — не шелохнутся в золотом, роскошном своем уборе.
…Даже воздух казался тяжелым в те дни. Они шли по Ордынке серой колонной с вещевыми мешками, не попадая в ногу, ополченцы, только что одевшие форму. И вдруг голос вырвался из строя, один, неповторимо высокий: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, — идет война народная, священная война».
Они шли…
Как раз осенью я познакомилась на Ордынке с одной милой женщиной. Она несла много яблок в нитяной сетке. От тяжести сетка порвалась, яблоки рассыпались, она стала их подбирать. Прохожие помогали ей, но все спешили. Я, наученная старичком, теперь уже не торопилась и помогала ей прилежней других. В награду получила душистый апорт, от которого не смогла отказаться. Я держала в руке яблоко и думала о том, как странно, что именно оно является предметом бесчисленных легенд и сказок с незапамятных времен. Яблоко с древа познания добра и зла, яблоко раздора, яблоки Гесперид, наливные яблоки, умерщвляющие и возвращающие жизнь, яблочко на золотом блюдечке, показывающее все, что происходит на белом свете. В чем его загадка? И что откроет мне яблоко, подаренное на Ордынке? Пока я думала об этом, новая моя знакомая говорила, что яблоки прислал ей сын из Казахстана, что он летчик и служит сейчас там, сама же она химик, работает в институте и яблоки несет, чтобы угостить товарищей по лаборатории.
Теперь всегда, когда мы встречаемся с ней и вместе идем по улице, она рассказывает о себе. Муж ее был военным, служил в Каунасе. Этот день — 22 июня — был днем трехлетия их свадьбы. Когда ее с малышом и одним чемоданом муж посадил на уходящую машину — это был последний раз, как она виделась с ним. Она рассказала о тяжких днях эвакуации. О том, как рос ее сын, окончив школу, поступил в энергетический институт и вдруг с первого курса ни с того ни с сего сбежал, перешел в летное училище, стал летчиком.
Как-то я спросила ее:
— Почему вы не вышли замуж? Вы же остались совсем молодая, красивая.
— Красота здесь ни при чем, — сказала она. — Замуж выходят и некрасивые. А вот я — не вышла. Случается, и пожалеешь. — И улыбнулась мне.
На Ордынке зажглись фонари, падает снег. Сплошным потоком мчат автомобили. Мне захотелось пройтись по улице, подышать морозным воздухом, ощутить на щеках легкое прикосновение пушистого мартовского снега. Он падал крупными хлопьями, запорошил все липы, шапки и воротники прохожих. В торжественном его изобилии чувствовалась печальная расточительность уходящей зимы.
Из филиала Малого театра, что на Ордынке, выходил народ. Окончился спектакль. Меня обогнала молодая пара.
— А правда, эта Уиндермиер на нашу Тосю похожа? — спросила она и добавила: — Только далеко ей до нашей Тоси.
— Да, актриса хорошая, — ответил он. — А спектакль не понравился. Какое мне дело до английских лордов?! Вот написали бы пьесу про нашу Тоську. Это да!
Они свернули в переулок и пошли по Малой Ордынке, которая называется улицей Островского.
Мне очень захотелось узнать, кто эта Тося, и я пошла вслед за ними. Но больше о ней не говорили. До меня долетали отрывки из разговора о заводе, новых нормах, бригаде, автоклубе.
У маленького двухэтажного домика, в котором жил Островский, они остановились и продолжали разговор. Как не похож он был на ту беседу, которую бы мог послушать великий драматург, гуляя здесь.
Молодые люди рассмеялись, он обнял ее. Я поспешила пройти мимо. Нельзя подслушивать влюбленных.
Ночь. Погасли окна институтов, только в огромном доме несколько этажей еще освещено. Этот дом, самый высокий и самый новый на нашей улице, выстроен недавно, на месте сквера, где никак не приживалась сирень да и другие деревья. Здесь когда-то стояли дома, жили люди, но в первые дни войны крупная фугаска уничтожила все. Как хорошо, что именно здесь построен дом, такой высокий, такой нужный!
Аптека тоже не спит. Нет ничего уютнее по вечерам, чем освещенный телеграф и дежурная аптека. Они бессонно трудятся каждый на своем посту. Телеграф выстукивает новости, приветы, поздравления во все концы большой земли. Аптека — страж здоровья. Она готова всем помочь. Столько лекарств хранится на вращающихся полочках, столько порошков и микстур, что, кажется, можно вылечить от всех болезней всех жителей Ордынки.
В странствиях по свету, в своей ли стране или в чужих, я часто возвращалась мысленно к Ордынке, к моей улице, соизмеряя ее с другими улицами больших и малых городов. Ведь где бы ты ни был, нет-нет да и вспомнишь о доме, вспомнишь о малой своей Родине. А что это — малая Родина? Твоя ли родная деревня, полустанок, где ты родился и рос в домике дорожного мастера, твоя ли улица в городе, мал ли он или велик — все равно. А о большой нашей Родине вспоминаешь… Да нет, просто о ней не забываешь никогда, нигде потому, что она и есть мы — наша большая Родина.
Но вот еще освещенные окна. Там тоже бодрствуют всю ночь — это молочная кухня. Женщины в белых халатах наливают в особенные бутылочки пищу для самых юных граждан. Материнские добрые руки трудятся всю ночь, чтобы сотни крохотных малышей получили наутро свой завтрак.
Как интересно устроен мир! Появляется на свет маленькое существо и сразу предъявляет свои права обществу, повелевает, диктует, а само весит каких-то три килограмма. Только что родился и требует довольствия. Ну что же, приветствую тебя! Расти счастливым, маленький гражданин, на нашей Большой Ордынке! Но может быть, ты гражданка?..
Погас свет в окнах домов. Снег больше не падает. Изредка проезжают машины. Улица стала пустынной. Пора домой. До свидания, Ордынка, спокойно спи, наша улица.
Завтра ранним утром я снова увижу тебя. Встречу твоих пешеходов, загляну в их лица — счастливые или озабоченные, серьезные или нахмуренные, печальные или веселые, — идут, спешат, все многолюдней, все звончей наша улица, все шире, все гуще людской поток, метро заглатывает его, эту пеструю ленту лиц, возрастов и судеб.
А в последнее время я стала встречать на Ордынке девушку, высокую, стройную. Гордо несет она свою красивую голову, легкой, быстрой походкой проходит мимо. Встречаю ее ежедневно. Что я ей?! Но не было случая, чтобы она не улыбнулась мне: добрый вам день! Пусть вы не знаете меня, но мы не чужие. Нас многое объединяет. Мы живем на одной планете, в одной стране, в одном городе, живем или работаем на одной улице. Мы каждый день встречаемся с вами на Ордынке, на нашей Большой Ордынке, а это что-нибудь да значит.
Есть и в душе у каждого своя улица, главная улица твоей совести, которой идешь ты всю жизнь и встречи на ней оставляют след.
Думаю и я — озари добром, кого встретишь, каждый, кто пройдет и ответит тебе, понесет добро другому встречному, и будет множиться доброта, самое подлинное твое богатство, самая драгоценная и единственная твоя собственность.