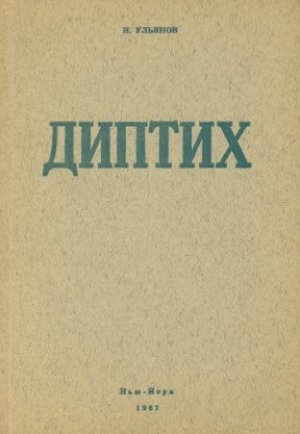
Покойный М. А. Алданов, прославившийся как романист, был вместе с тем, замечательным мастером очерка — жанра, популярного еще лет двадцать тому назад. Возник он в эпоху реализма и натурализма и знаменовал поиски такой литературной формы, в которой бы доминировал не вымысел, а наблюдение и изучение. Писатель здесь уподоблялся — натуралисту, недаром многие сборники таких очерков носили подзаголовок: «естественная история нравов». Появилась «Физиология Парижа», «Физиология буржуа», «Физиология тюрьмы». В России Некрасов выпустил «Физиологию Петербурга» и «Петербургские углы», Белинский — «Петербург и Москву», а Фаддей Булгарин «Очерки русских нравов или лицевую сторону и изнанку рода человеческого».
Само собой разумеется, что ничего общего с этой ранней ступенью очеркового искусства творчество Алданова не имеет. Очерк прошел с тех пор длинный путь углубления и заострения приемов. На Западе он давно перестал быть «физиологическим». К концу XIX века элементы мысли, науки, политики в нем возросли настолько, что романические приемы подверглись предельному сокращению. Уже тогда появились блестящие мастера, вроде Поля де Сен Виктора, которым начал завидовать Гюго. Успеху этому немало способствовали английские эссеисты, литературная деятельность Ницше, а позднее, таких философов писателей, как Унамуно, Ортега. Ко времени Алданова, очерк совершенно освободился от чужеродных примесей: беллетристики, построенной на вымысле, научной статьи и публицистического фельетона. Он всё больше превращался в форму игры свободной мысли, для которой наука, философия, политика служат только возбудителями, но цепей которых он научился избегать. Он приблизился к творчеству своего более благородного прародителя — Монтэня. Почти все очерки Алданова написаны на исторические темы, однако читают их не для приобретения знаний по истории. Привлекательность их в особой словесной ткани недостижимой ни при романсировании, ни при засилье добросовестной научной прозы. В этом смысле Алданов занимает видное место даже среди западных мастеров, а в русской литературе просто не имеет равных. Писать романы, не будучи человеком сносно образованным и умным можно; большинство средних писателей таковыми и являются, но совершенно невозможно идти в современный очерк не будучи блестящим эрудистом, артистом, не владея в совершенстве гимнастикой мысли, не впитав в себя умственного богатства своего века. В Алданове пленяют нас именно эти качества. Именно их сочетание породило серию очерков, блестящих, как коллекция старинного оружия чеканной работы. Их хочется сравнивать с металлическими изделиями, до того они добротны и прочны, и до того звонко легки, но в то же время увесисты. В чем тайна их привлекательности? Взор обращается, прежде всего к языку. Язык Алданова замечательный; не надо только подходить к нему с позиции «исканий». Ни переворотов в синтаксисе, ни открытий в лексическом составе, ни революции, ни реформы у него нет. Он исходит из старого доброго хозяйства русского литературного языка, в котором так много еще прекрасных запасов, неразработанного сырья, что нет необходимости в словесном конквистадорстве. Он стремится к тому, чтобы язык его не замечался при чтении. Говорят, это и есть лучший язык. Ни одного длинного периода, ни одного тяжеловесного рассуждения. Ни булыжников гелертерской прозы, ни ораторской трескотни, ни кислосладкой плавности морально-этических опусов. Это подвижной, полный интонационного богатства язык козёра — явление пожалуй новое в русской литературе, не знавшей «разговорных салонов», как во Франции. Он весь приспособлен к передаче остроты мысли и эффектов ее игры. Я не ставлю здесь задачей анализировать его риторические фигуры, эпитеты, семантические контрасты, вроде тех, что звучат в одной фразе о Леоне Блюме: «Его программа очень хороша. Осуществить её невозможно». Не останавливаюсь и на несравненном его искусстве иронии: «’левому крылу’ нередко надо бросать кость, — быть может с искренним пожеланием, чтобы оно этой костью подавилось». Хотелось бы только, когда говорят: «что вас восхищает в Алданове, неужели его скептицизм, исторические анекдоты и философия?» — попросить, не вступая в пререкания, указать другого современного писателя, который бы умел так властно заставлять читать свои очерки. В жанре лишенном сюжета, занимательной интриги и красочных описаний — это необыкновенно трудное дело, и здесь всего одним языком не объяснишь. Многое достигается, незаметной для читателя, египетской работой в библиотеках. Мало кто способен оценить, такие, например, строки в очерке о Ганди: «В Индии 600 государств, 2300 сословно-кастовых делений людей, 222 языка, из них более 30 главных. Из трехсот миллионов населения, трудолюбивого, честного, несчастного, огромное, подавляющее большинство ни на одном из этих языков не умеет ни читать, ни писать. Бесконечное множество верований. Сложнейшая основная религия, тесно связанная со сложнейшей мифологией, — за её философскими оттенками не всегда мог уследить ум Шопенгауэра. В повседневном же быту — культ коровы». Можно ли сомневаться в том, что для произведения на свет этих десяти строчек прочитан увесистый том об Индии, а то и не один. И, конечно, не один час просижен над сгущением и конденсацией извлеченного материала, над приготовлением из него настоящего бомбардировочного средства. Сила алдановского языка, как совершенной формы, такова, что мы наслаждаемся им независимо от нашего согласия или несогласия с автором по части общих идей.
В эпоху Возрождения существовало течение в поэзии, полагавшее, что цель поэта — изумлять. Верно ли это в отношении стихов? Сомневаюсь. Но в искусстве современного очерка способность изумлять имеет первостепенное значение. Правильнее было бы сказать — «поражать». Алданов усвоил секрет газетных репортеров и фельетонистов завладевать вниманием читателя против его воли. Легко, игриво подносит он сложнейший материал, отточенные мысли, и заставляет почувствовать к ним вкус. Он, как бомбометчик, стремится с первых же строк пустить в читателя словесный заряд необычайной силы, и сразив, и оглушив, вести потом на аркане, поражая время от времени новыми ударами. В этом искусстве меткой стрельбы он не имел себе равных. Иногда это было просто острое словцо, иногда фактическая справка, чуть не протокольного характера, но облюбованная, выбранная и поднесенная так, что никакие страницы остроумия не могут ее заменить. Выкопал же он откуда-то, что гитлеровская партия должна была вначале называться «партией социалистов-революционеров» ... или — цитата из воззвания французского патриота Дюка де Ришелье, который, будучи губернатором Новороссийского края в 1812 году, призывал жителей «явить себя истинными россиянами» в борьбе с его соотечественниками- французами. А чего стоят те три строчки, что посвящены бюджету Германской Республики в инфляционном 1923 году: «Государственные расходы по этому бюджету составляли 6 квинтиллионов, 533 квадриллиона, 521 триллион марок (биллионы не считались, как теперь не считаются пфеннинги». Это очень дорого стоющий эффект. Труд писателя похож в таких случаях на добычу золота. Надо промыть тонны песка, чтобы найти крупинку драгоценного металла. И надо при этом не ошибиться и не принять за золото какую-нибудь простую породу.
Тоже с цитатами и афоризмами. Все читавшие алдановские очерки знают, какое видное место занимают в них выдержки из документов и знаменитых авторов. Искусство пользования ими доведено до предела. «У меня в жизни было 22 дуэли: две из-за собак и ни одной из-за женщин». Выбрать эти слова из всех сентенций и заявлений графа Эстергази, виновника дела Дрейфуса, — все-равно, что одним взмахом карандаша дать портретный набросок. Такую же тонкость в выборе цитат находим в очерке о Ганди, отрицавшем европейскую цивилизацию и твердо верившим в корову: «Никто не почитает корову больше чем я», но «не надо защищать корову насилием ... это значило бы принижать высокий смысл защиты коровы». Выбранные с таким вкусом строки, создают Алданову великолепный трамплин для его собственного остроумия: «Собственно, Европа на корову и не нападает. Но, может быть, западная цивилизация вправе скромно пожелать, чтобы и ее с Леонардо, Декартами, Гёте и Пушкиными не так уж безжалостно разоблачали во имя культа коровы».
Наконец, никакие памфлеты и профессорские исследования не передадут более ярко духовного климата эпохи первой пятилетки, чем эта гениально найденная фраза об энтузиазме советской молодежи, у которой «уже четыре года ’в порядке непрерывки’ горят глаза оттого, что благодаря ликвидации обезлички и уравниловки в зарплате, хозрасчетные бригады арматурщиков на Турбострое четко выполняют регулировочное задание с недопродукцией всего лишь в 18 процентов, вызываемой вылазками еще не ликвидированных с корнем рвачествующих классово-чуждых одиночек». В современном пулеметном деле существует выражение: «огонь кинжального действия». Так называется короткий, но меткий сноп пуль, посылаемый в чувствительную точку неприятельского фронта. Алданов был великим мастером такого огня. Прочтите его краткие и острые характеристики знаменитых людей. «Освальд Шпенглер — Боссюэт германской философии». «Пилсудский сорвался со страниц исторических романов Сенкевича». Троцкий — «великий артист для невзыскательной публики, Иванов-Козельский русской революции». «Блюм в социалистическом лагере профессионал любезности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной лица».
Любовь к афористическому способу выражения породила множество настоящих жемчужин. Вот некоторые из них: «Партийная игра — организованная нечестность мысли». «Отношения между Европой и Советской Россией — трагикомедия коварства и любви». «Мифичность» современного политического языка иллюстрируется у него примером: «пишется ’самоопределение народов’, а читается ’бакинский керосин’». И наконец, одно из самых замечательных его mots относится к размышлениям о судьбах капитализма. «Поистине, должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей».
Конечно, Алданов, как всякий истинный писатель знает для кого пишет и, как всякий истинный писатель, ни для кого кроме умственной элиты своего времени не пишет. Писать «для народа» — не литература, а просвещение. Либо пропаганда. Даже «народные» рассказы и сказки Льва Толстого предназначались не для избы-читальни. Алданов очень взыскателен к своему читателю. Касаясь исторических сюжетов, он вероятно с ужасом думал об опасности превратиться в Мордовцева и наводнить очерки суконщиной историко-биографических справок и повествований. Он требует от читателя знания предмета о котором идет речь. Ему совсем неинтересно излагать историю польских разделов и патриотическую драму шляхты, чтобы от этого «исторического фона» перейти к своему герою кн. Адаму Чарторыйскому. Не только «фон», но и герой должны быть читателю хорошо известны. Только при этом условии артистизм штрихов и линий становится ощутимым. Алданов любит давать справки о фактах неизвестных самым начитанным людям. Идя по улица Denfert-Rochereau мимо памятника маршалу Нею, он ни за что не упустит случая обронить замечание, что памятник поставлен «на том месте, где не был расстрелян маршал Ней». Предполагая известной общую биографию кн. Чарторыйского, он привлекает внимание читателя только к одному пикантному факту — к его русскому происхождению. Отметить в образе величайшего ненавистника России представителя ополяченного русского княжеского рода и незаконного сына русского фельдмаршала кн. Репина — это и есть та — литературная находка, изюминка, с помощью которой сражают читателя.
В очерках, пожалуй ярче, чем в романах сказался взгляд его на историю. Подобно Анатолю Франсу он понимал всю жизнь людей на земле «как случайное и не очень удачное биологическое осложнение слепых, никуда не ведущих, ни для чего не нужных космических процессов». С подчеркнутым одобрением к выраженному мнению, приведен им и отзыв Черчилля о Бальфуре, которому всё безразлично, ибо он знает, что когда-то был ледниковый период и когда-то снова будет ледниковый период. Чем представляется история, созерцаемая с таких высот? Перед нами блестящая галлерея портретов: — Ллойд Джордж, Вильсон, Людендорф, Клемансо, Кайо, Ленин, Бриан, Пилсудский, Сталин, Троцкий, Де Валера, Альфонс XIII и многие другие. Посвященная им серия очерков — увлекательный рассказ:
Никакого положительного смысла и даже просто никакого смысла в их деятельности и шуме, которым они наполняли мир, наш писатель не видит. Клемансо, по его словам, не понимал, зачем всю жизнь свергал министерства, ожесточенно дрался в парламенте, в печати, на дуэлях, был остро ненавидим врагами и сам столь же бешено ненавидел. Слава, овации и бронзовый памятник пришли случайно, он их не ожидал и они могли не прийти вовсе. Тоже с Пилсудским. Этот неукротимой энергии человек еще меньше шансов имел на успех; он, по выражению Алданова, поставил на проигравшую лошадь, и в своем триумфе был абсолютно неповинен.
А как часто усилия героев приводят не к тому, к чему они стремились. Надо прочесть очерк о Пикаре, чтобы видеть, как замечательно подано в конце разочарование победивших дрейфусаров. Все невинно пострадавшие возвращены, честь их восстановлена, темные силы уничтожены, у власти борцы за правду и справедливость, и Пикар — главный виновник победы сделан военным министром. И что же? Уныние, разочарование, сознание бесполезности потраченных усилий. Какому-то восторженному дрейфусару захотелось плюнуть в лицо Пикару. А другой выразил свое настроение словами: «Dreyfus était innocent. Et nous aussi». Маршал Пилсудский хотел, по его словам, сделать «последнюю попытку править народом без кнута». «Очень придирчивый критик, — замечает по этому поводу Алданов, — оценивая эти слова о последней попытке, мог бы, пожалуй, заметить, что не стоило пятьдесят лет так страстно проклинать ’кнут проклятого царизма’».
Пусть профессора социологии ищут смысл в историческом процессе, пусть задним числом подыскивают политико-экономические законы, объясняющие захват власти бандой политических дельцов, ничего кроме улыбки эти поиски не способны вызвать. Только одно подобие закона мог приметить Алданов, — это повторяемость или, как он его называет словами Вико, — «возвращение истории». Но у Вико в этом как раз и усматривается «закон»; алдановская же повторяемость больше похожа на учение Экклезиаста, на свидетельство бессмысленности истории. «Пулемет заменил пищаль, вот и весь прогресс с XVI века». Первые же очерки, написанные в 1919 году, посвящены необычайному сходству русской революции и контрреволюции с революцией и контрреволюцией французской. В мире не случается ничего такого, чего уже не было когда-то. «Варфоломеевский год кончился. Варфоломеевский год начинается».
Однажды он привел выдержку из Шекспира: «История — нелепая сказка, рассказанная дураком». Но кто из читавших Алданова не знает, что, подобно самому Шекспиру, он без ума от этой сказки? Что ни говори, а созерцанию ее он посвятил жизнь. И какова бы ни была интерпретация людей и дел в его очерках, написаны они человеком, упивающимся ароматом прошлого. И волновало оно его необычайно. Презрение ко всему совершавшемуся в человеческом обществе сочеталось у него, как ни странно, с симпатиями и осуждениями. То и другое трудно бывает заметить за насмешливой, иронической манерой письма, но их можно проследить на всем протяжении его творчества. Беру первое попавшееся по руку. Рассказывая о подпольной деятельности Пилсудского, занимавшегося лет 50 тому назад экспроприациями в почтовых поездах, он ссылается на труды биографов и историков маршала, называвших «дела в Рогове, в Мазовецке, в Безданах — блестящими военными действиями». Особенно смелое нападение на поезд совершено было на полустанке Безданы в 1908 году. «От людей хорошо его знавших, — говорит Алданов, — мне не раз приходилось слышать о благородстве натуры и личной обаятельности Пилсудского. Каким образом он мог участвовать в ’блестящих военных действиях’ указанного выше рода, мне, признаюсь, остается непонятным. Одно дело кровь в чернильнице, другое — хрипящий в агонии кондуктор поезда, старичок-почтальон с простреленным животом ... Никакие метафоры, никакие «à la guerre comme à la guerre» из Бездан Аустерлица не сделают». И другой приговор, более мягкий по форме, но не менее суровый по существу. Повествуя о свободолюбии кн. Адама Чарторыйского, мечтавшего о наступлении либеральной эры, но не освободившего ни одного из десятков тысяч своих крепостных, он замечает: «попрекать свободолюбивых магнатов XVIII века крепостным правом так же бесполезно, как например, в наше время попрекать главу II интернационала его миллионами и роскошной виллой в окрестностях Брюсселя». Если собрать вместе все такие осуждения и выражения симпатии, то окажется, что осуждает он всегда строго и осуждает то, что принято считать злом, а расположение питает к тому, что во всеобщем представлении связано с понятием добра. У скептика, оказывается, существует ясно выраженная мораль. Не какая-нибудь новая, сочиненная, приноровленная к экстравагантному мировоззрению, а старинная мораль десяти заповедей.
Больше того, скептик и насмешник попал однажды сам в смешное положение; история оказалась циничнее. Проводя свои любимые параллели между русской и французской революциями и коснувшись темы пожирания якобинцами друг друга, он во взаимоотношениях Сталина с Бухариным хоть и видел что-то близкое к «возвращениям истории», но полагал, что Бухарина-то Сталин уж во всяком случае, не расстреляет. Глубоким он был скептиком.
И уж совсем не модной, явно портившей репутацию скептика, была любовь его к родине. Когда мне довелось упомянуть о ней в некрологе Алданова, одна дама строго меня отчитала за это печатно. В замысловатых и темных выражениях она пыталась, если не отрицать ее, то всячески затушевывать. Беру, однако, смелость еще раз заявить о глубокой привязанности, о настоящей влюбленности М. А. Алданова в Россию. Казалось бы, в изгнании ему легче было, чем многим другим, сделаться Джозефом Конрадом или Анри Труайя. Давно бы уже был «бессмертным». Вместо этого предпочел влачить тяжелую жизнь русского писателя заграницей и не изменять русскому языку. Читая его очерки ясно видишь, что написаны они человеком, постоянно думавшим о России, смотревшим на всё русскими глазами. Каких бы тем ни касался, о чем бы ни говорил, Россия была с ним всегда.
Все ненавидящие отчизну начинают с ненависти к ее «проклятому прошлому». Доктринерское мышление отождествило у нас любовь к русской истории с симпатиями к самодержавию. Алданова трудно заподозрить в таких симпатиях, но прошлое России он любил и знал, как дай Бог всякому записному патриоту. И это мне представляется признаком истинной любви, каковую трудно допустить у Константина Леонтьева, например, любившего только самодержавную и православную Россию, или у революционеров, соглашающихся любить лишь Россию социалистическую. Патриотизм Алданова «просвещенный», как у французов, которые, любя королевский период своей истории и гордясь им, воздвигают в то же время памятники Дантону, Камиллу Демулену, всем деятелям революции. Алданов любил не политический идеал, а Россию.
Что же остается от его скептицизма? В одном из очерков речь идет о Спинозе и Густаве Флобере. Спиноза считал необходимым условием познания природы и истины, полное бесстрастие философа. И сам старался быть образцом спокойно-созерцательного отношения к миру. Но вот он однажды узнает, что какой-то его знакомый невинно пострадал. Негодование завладевает им до такой степени, что бросив всё, он хочет устремиться на защиту попранной справедливости. «Не должно верить бесстрастию мудрых философов».
Флобер тоже всю жизнь хотел быть образцом безучастия к страстям и переживаниям, служившим ему материалом для романов. Но бывали случаи, когда некоторые из этих страстей, особенно политические, доводили его до бешенства. «Не должно верить бесстрастию объективных художников».
В конце концов, Алданов призывает не верить коммунистическим симпатиям Анат. Франса, его обожанию Ленина. И делает это убедительно. Он нам лишний раз дает урок, как нелепо приставать к писателям с такими требованиями, как политические убеждения. От писателей ничего нельзя требовать кроме одного — искусства. Но почему же из этого правила должен быть изъят сам Алданов? Почему, не веря бесстрастию Спинозы и Флобера, надо верить его бесстрастному созерцанию истории и общества? Да и таким ли уж холодным наблюдателем он был? Он, ведь, пытался делать историю. Человек, сказавший, что «после политики проституция — самое грязное занятие в мире» — состоял членом политической партии. Писательское лицо не тождественно с житейским обликом его носителя. Существует литературная поза. Гумилев за нее жизнью заплатил. Весьма возможно, что для искусства она важнее истинного облика человека, и не лучшим ли свидетельством писательского дара Алданова надо признать то, что он нас заставил поверить в его скептицизм. Он создал такой писательский образ, которого еще не было в русской литературе.