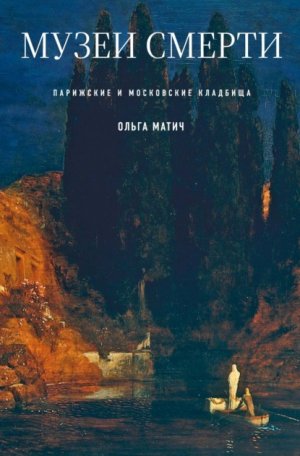
© О. Матич, 2021
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2021
© ООО «Новое литературное обозрение», 2021
I. Вступление
Мать любила рассказывать, что после смерти нашего соседа я, тогда трехлетняя, приносила игрушки к его украшенному цветами гробу, который стоял на столе в гостиной, и подолгу играла рядом. Соседка радовалась. Это было в 1943 году в маленьком городе в Словении, недалеко от Любляны. Эту историю я сама не помню, мне же запомнилась другая: увидев однажды через окно катафалк с чьим-то красиво убранным гробом, за которым следовали люди (как я потом поняла, провожавшие усопшего на кладбище), я попросила нашу словенскую прислугу (так дома говорили) повести меня на это торжественное шествие. Видимо, она не согласилась, так как дальнейших воспоминаний у меня нет.
В 1947 году, уже в Баварии, тоже в небольшом городе, я, второклассница, однажды прогуляла школу, чтобы пойти на кладбище. Дома рассказывали, что какой-то русский умер и его труп выставлен за стеклом. На следующий день, никому ничего не сказав, я отправилась на него посмотреть. Верхняя часть гроба была приподнята, и создавалось впечатление, что труп скорее стоит, чем лежит. Запомнилось, как я смотрю на него снизу вверх. Мне вообще нравилось ходить на это кладбище, приносить полевые цветы, собранные вместе с отцом неподалеку в баварских полях, и раскладывать на любимых могилах. Еще запомнилось чтение могильных надписей – видимо, эта привычка у меня оттуда. И хотя осмысление исторического значения этих надписей пришло много позднее, неосознанный интерес к ним возник в детстве, когда и родилась моя любовь к кладбищам.
Несколько лет назад мне приснился незабываемый сон о кладбище в Петербурге как о музее небывалой красоты под открытым небом. Мы гуляли по нему с давно умершим отцом. Вместо обычных надгробий на могилах стояли или лежали живописные картины, окруженные роскошными цветниками и деревьями, что-то вроде кладбищенского Эрмитажа в парке мертвецов. В его лабиринтах я испытала нечто наподобие эстетического экстаза, правда, искомую могилу в «загробном» пространстве, как и полагается в таких снах, мы не нашли. Хотя я литературовед, живопись, музеи живописи и практики ви́дения – это то, что я люблю больше всего. Проснувшись, я не помнила, чью могилу мы искали, но ностальгическая память об отце какое-то время меня сопровождала. Поначалу мне даже удавалось возвращаться в состояние между сном и явью, на то незабываемое сонное кладбище, чтобы в течение нескольких секунд переживать и его красоту, и присутствие отца – его «воскрешение», которое каждый раз радовало и осеняло все вокруг.
Получается, что кладбище как место памяти присутствует и в моей «сонной» жизни. Ведь сны отчасти и есть пространство памяти. Сон воскресил отца не в смысле воскрешения предков по Николаю Федорову[1], а в музейном парке мертвых, где они сосуществуют с живыми, вызывая у посетителя мысли и о собственной смерти.
Автор культа предков и их воскрешения Федоров называет кладбище тем пространством, в котором оно должно произойти[2]. Он пишет о запустении кладбищ, предлагая создать кладбищенский музей как «совокупный» памятник всем умершим, который станет храмом Бога отцов. Не стоит забывать, что памятник происходит от слова «память», а также что кладбище прямым образом связано с течением времени в пространстве.
Мы не только помним умерших, но и соблюдаем соответствующие ритуалы, в том числе и для того, чтобы они продолжали жить в нашей памяти. Ведь погребение на кладбище – это один из основных общественных институтов, которые нужны человеку и обществу. В русской православной традиции в завершение похорон всегда поется «Вечная память». Похоронные обряды, ритуализованные во всех культурных традициях, упорядочивают эмоции и поведение не только скорбящих, но и всех присутствующих.
«Музеи смерти: Парижские и московские кладбища» изображает такие кладбища, как Пер-Лашез в Париже или Новодевичье в Москве, как музеи искусства с целью определения архитектурных и скульптурных характеристик надгробных памятников, надгробных жанров и их исторических признаков, отображающих эпоху: барокко, неоклассицизм, романтизм, модерн и т. д.
В 1874 году французский философ-позитивист Пьер Лаффитт писал: «Могилы способствуют континуальности семьи, а кладбище способствует чувству континуальности жизни города и человечества»[3]. Если кладбище хорошо сохранилось, оно исполняет генеалогическую функцию и является своего рода архивом, ценным источником местной истории и предметом социологического анализа. Изучение заброшенной местности иногда начиналось с кладбища, где исследователи узнавали основные биографические данные захороненных – их имена, даты рождения и смерти. В больших городах надгробия позволяли судить о социальном и экономическом положении захороненных, а также об эстетических вкусах; в некоторых случаях памятники указывали и на профессию.
Начиная с XIX века интересные и красивые кладбища в больших городах стали туристическими объектами. Одни из самых ранних путеводителей немца Карла Бедекера, которые он начал издавать в 1850‐е годы, включали известные кладбища. В кладбищенском путеводителе по Парижу 1874 года больше пятнадцати страниц посвящено самому известному парижскому кладбищу Пер-Лашез с перечислением его знаменитых могил; оно и до сих пор остается популярной достопримечательностью.
В основном памятники знаменитостей на известных кладбищах отличаются художественностью, которой я уделяю особое внимание в этой книге. Между тем до середины XVIII века кладбища в больших европейских городах часто находились в прискорбном состоянии: там жили бедняки, а иногда и вовсе маргиналы, занимавшиеся сомнительными делами. Самое старое, средневековое, кладбище в Париже, Cimetière des Saint-Innocents, имело такую репутацию[4]. Оно было настолько переполнено, что в течение целого столетия, а то и дольше, кости выкапывали из могил, чтобы освободить место, и складывали в покойницких или оссуариях (ко́стницах). Это кладбище было закрыто в 1780 году. Подобные проблемы существовали во многих городах.
В эпоху Просвещения парижские власти стали реформировать кладбищенскую экономику: в 1780 году был издан указ, запрещающий новые захоронения на всех городских кладбищах – и не только вследствие переполненности, но и вследствие их опасности для здоровья и зловония. Saint-Innocents «славилось» всепроникающим запахом тления. Новая чувствительность к дурным запахам обычно связывается с возникновением буржуазии в конце XVIII века, когда ольфакторная сторона жизни в больших городах стала своего рода социальным вопросом. Запахи, приятные и неприятные, тоже имеют историю, особенно чувствительность к дурным запахам и зловонию в больших городах, в том числе на кладбищах[5]. Антропологическая история запахов в Новом времени соотносится и с классовыми различиями – с запахами «чужого».
Во второй половине XVIII века антисанитарное состояние многих кладбищ стало привлекать общественное внимание, иногда приводившее к официальным расследованиям и указам вроде того, который запретил захоронения в самом Париже. Медицинская наука эпохи Просвещения провозгласила миазмы разлагающихся трупов, в особенности тех, кто умер от заразных болезней, ядовитыми и вредными для здоровья. В связи с «буржуазной апроприацией кладбища, – пишет Мишель Фуко, – появилась одержимость смертью как болезнью <…> что именно мертвые переносят болезни на живых»[6]. Правда, в XIX веке медицинская теория об опасности трупных миазмов[7], издающих дурной запах, была опровергнута – в отличие от народных поверий об опасности мертвого тела, связанной с нечистой силой.
В том же XVIII столетии в России, особенно в Петербурге, возникли подобные санитарно-гигиенические вопросы об опасности разложения трупов и связанного с ним загрязнения воздуха. В статье «Кладбища», написанной гигиенистом Ф. Ф. Эрисманом и напечатанной в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона в 1895 году, тема трупных миазмов обсуждается в научных терминах; в конце статьи автор пишет, что медицина опровергла опасность мертвого тела для живых[8].
Санитарные причины, пусть и опровергнутые впоследствии, в 1870‐х годах стали использоваться для пропаганды кремации как более прогрессивного способа захоронения, особенно в Англии. Кремация, как мы знаем, существует с древних времен. В Индии прах покойника развеивается, предпочтительно над священной рекой Ганг; тот же обычай присущ буддизму. В Древнем Риме прах покойника часто содержался в специальных урнах в колумбариях[9]. Иудаизм и христианство, однако, считали кремацию языческой практикой; Русская православная церковь всячески ей сопротивлялась. Однако не так давно, под давлением распространения кремации в современном российском обществе, церковь постановила, что сожженные останки должны быть преданы земле, а не развеяны, как бы признавая кремацию в качестве возможного обращения с телом покойника. Католическая церковь приняла кремацию раньше. В любом случае для многих и в православии, и в католичестве этот вопрос – связанный с верой в то, что воскресение мертвых должно произойти в восстановленном теле, – остается амбивалентным.
Стоит упомянуть медицинскую практику, которой сопротивлялись и общество, и, конечно, церковь, – а именно анатомирование трупов в научных целях, включая занятия по анатомии, распространившееся опять-таки в эпоху Просвещения. Для вскрытий в медицинских целях чаще всего использовались трупы убийц или невостребованных бедных покойников. Ради пропаганды анатомирования английский философ утилитаризма Джереми Бентам (он умер в 1832 году) завещал свое тело известному анатому Т. Соутвуду Смиту для научных исследований[10]. Нелегальным снабжением трупов для анатомирования занимались так называемые могильные воры (grave robbers): они выкапывали свежие трупы на кладбище и продавали их соответствующим «клиентам». Разумеется, подпольная торговля трупами была запрещена, и власти с ней боролись.
Ранее могилы в основном располагались на кладбищах при церквах, но в связи с демографическими обстоятельствами во многих европейских странах их стали переносить за город. Церковь сопротивлялась новой практике, однако гражданское общество и административные власти победили. Из-за нового отношения к здравоохранению и «перенаселения» городских кладбищ в конце XVIII века их стали перемещать за пределы больших городов. В результате стали возникать так называемые садово-парковые кладбища с красивыми надгробными скульптурами; некоторые из них символизировали сентиментально-романтическое отношение к смерти и памяти.
В России в 1725[11] году Петр I запретил захоронения у городских церквей, и тем не менее на протяжении всего XVIII столетия, несмотря на запрет, при большинстве приходских церквей в Петербурге кладбища продолжали появляться. Сенатский указ 1772 года, при Екатерине II, снова запретил городские захоронения, и это привело к соответствующим результатам.
В европейских культурах конца XVIII и начала XIX века память становится сентименталистским, а затем романтическим кредо, в котором кладбище как идиллическое пространство сада или парка занимает основное место; мертвые образуют в нем своего рода сообщество, требующее надлежащего уважения. Это сильно отличается от того отношения, которое вызывало кладбище в предшествующие эпохи.
В эпохи сентиментализма и романтизма кладбище стало местом медитации о смерти. Вспомним английских «кладбищенских поэтов»[12], в первую очередь Томаса Грея и его знаменитую «Элегию, написанную на сельском кладбище» (1750) – сентименталистскую медитацию о почивших забытых селянах, о неизбежности смерти и о равенстве всех перед ее лицом. Василий Жуковский сделал два перевода этой элегии под названием «Сельское кладбище»: первый, ставший новым словом в русской поэзии, в 1802 году, второй – в 1839‐м. В известной элегии «Когда за городом, задумчив, я брожу» (1836), опубликованной в 1855 году, Пушкин противопоставляет столичное и сельское кладбища, отдавая безусловное предпочтение второму, отчасти потому, что его посетители, в отличие от горожан, выражают подлинную скорбь.
«Элегия» Грея завершается эпитафией, обращенной к посетителю. Вот ее последняя строфа в первом переводе Жуковского:
Сто лет спустя в раннем стихотворении «Идешь, на меня похожий» (1913) Марина Цветаева призывает прохожего остановиться на ее будущей могиле. В этом состоит дидактическое сообщение таких эпитафий. Известный современный поэт Мария Степанова пишет, что «эпитафия <стала> первым жанром письменной поэзии, предметом своеобразного контракта между живыми и мертвыми – пакта об обоюдном спасении <…> Единожды прочтенная, эпитафия разом становится летучей: транспортным средством, открепительным талоном, который предоставляет мертвым новую, словесную, природу и неограниченные возможности передвижения по внутренним и внешним пространствам памяти, по антологиям мировой лирики и коридорам наших умов»[13].
В Древней Греции эпитафия означала похоронную речь в память об усопшем. Как надгробные надписи в знак памяти они стали возникать в Европе в Средние века. Представитель школы «Анналов», культурный историк Филипп Арьес пишет в своей знаменитой книге «L’ Homme devant la mort» (1977; по-русски «Человек перед лицом смерти», 1992), что эпитафии отражают «новую потребность в утверждении индивидуальной идентичности в смерти»[14]. Многие выгравированные на памятнике эпитафии начинаются словами «здесь лежит» такой-то. Часто это молитва, призывающая прохожего ее произнести, или благочестивое высказывание. Арьес нам напоминает, что сентиментальное отношение посетителя к кладбищу, которое выражает элегии Грея, возникло только в конце XVIII века, т. е. в эпоху сентиментализма.
Эпитафии, зачастую формульные, не только увековечивают память погребенного, но и отражают соответствующие воззрения эпохи, а художественные стили надгробных памятников могут сообщить нам нечто об искусстве, особенно о скульптуре. Парижское садово-парковое кладбище Пер-Лашез можно назвать самым большим музеем скульптуры в мире, в котором представлена история ваяния начиная с раннего XIX века, нередко отличающаяся ретроспективностью. Например, надгробие на могиле Оскара Уайльда в виде крылатого сфинкса, установленное в 1914 году, отсылает к древнеегипетскому искусству, притом что сам памятник представляет ранний авангард. Уайльду принадлежит крылатое выражение: «все можно пережить, кроме смерти».
Главные парижские и московские кладбища, о которых пойдет речь, представляют собой музейное пространство. Именование Пер-Лашез музеем скульптуры можно соотнести с фукольдианской гетеротопией, со сложно устроенным «другим» пространством, противопоставленным простому и повседневному. Фуко вводит понятие гетеротопии в докладе «О других пространствах» («Des espaces autres», 1967[15]). Среди них он называет кладбище и музей, которые характеризует гетерохрония времени, т. е. разновременность или «разрыв» с традиционным временем. Фуко, однако, не сравнивает кладбище с музеем, который он ассоциирует с накапливанием «до бесконечности времени»[16]. Его временну́ю концептуализацию музея я применяю и к кладбищенской гетеротопии как наслоению различных временны́х пластов, отчасти художественных, в пространственном отношении напоминающих своего рода палимпсест.
Вполне применим к кладбищу и бахтинский хронотоп – как место, которое соединяет время (личная и историческая память) и пространство (ландшафт смерти). Кладбище, на котором находится множество поколений, является их буквальным соединением – локусом опространствленного времени; эта концепция применима и к историческому художественному музею. Пусть и совсем по-другому, но посещение могил покойников, присутствовавших в нашей жизни и часто вызывающих ностальгические эмоции, представляет собой объединение времени и пространства. Они неизбежно ассоциируются с воспоминаниями, т. е. с временем, которое течет назад в прошлое, чтобы затем оказаться в настоящем времени. Мысли о прошлом – воспоминания – накладываются на структуру кладбища, где пространство остается неизменным и постоянным, как и время в тех случаях, когда его определяют даты смерти захороненных.
Роман-хроника Валентина Катаева «Кладбище в Скулянах» (1975) именно об этом: два столетия, репрезентация которых определяется несколькими поколениями семьи повествователя, опространствливаются в историческом и личном отношении. Время, как пишет автор, становится «бесконечным»:
Время окончательно потеряло надо мной свою власть. Оно потекло в разные стороны, иногда даже в противоположном направлении, в прошлое из будущего, откуда появился родной внук моего сына <…> гораздо более старший меня по летам. Едва его ноги зашаркали по сухой полыни скулянского кладбища <…> почерневшим мраморным или известняковым плитам, ушедшим глубоко в землю, как наше бытие – его и мое – соединились, и уже трудно было понять, кто я и кто он[17].
Кладбище как локус воспоминаний рассказчика «Скулян» изображено заросшим, имена на надгробных плитах полустерты; к воспоминаниям в романе примыкают и дневники предков о российских войнах, в которых они воевали, начиная с первой Отечественной войны (1812) и кончая последней. Дневниковые записи перемежаются художественными размышлениями о преемственности поколений, которые объединяют время и пространство.
«Кладбищу Скулян» вполне соответствуют слова Пушкина 1830 года:
Гуляя по известным кладбищам как по историческому художественному музею, мы ощущаем постоянство времени и места. Из-за переполненности новые захоронения здесь не предвидятся, а если таковые и появляются, то принадлежат они обычно знаменитым историческим личностям.
Овальная фотография, которая стала появляться на надгробных памятниках в середине XIX века[19] (ее можно определить как своего рода memento mori), как раз и есть о памяти – о невозвратимом прошлом. Ролан Барт пишет, что «смерть является эйдосом» (видимой природой) фотографии[20]. Арьес сравнивает кладбища, где много фотографий на могилах, с фотоальбомом: «идешь от одной (могилы) к другой, как будто переворачиваешь страницы фотоальбома»[21]. Описывая такие кладбища, как Пер-Лашез, Новодевичье или эмигрантский некрополь Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, я буду создавать своего рода альбомы с фотографиями самых интересных могильных памятников. Федоров в «Философии общего дела» в утопическом ключе предлагает создание музейного кладбища, на котором «снимки с лицевых изображений, собранных и помещенных под общий крест, обнимающий их своим подножием, т. е. Голгофою, <будут составлять> лицевой синодик, музейский иконостас, заменяющий портретную галерею»[22].
Если же рассматривать фотографию как зеркальное изображение прошлого, то своего рода зеркала присутствуют на кладбище и совсем в ином ключе: в виде отражений, которые зависят от движения дневного света в отполированных надгробных памятниках и от визуальных практик посетителя. В них можно увидеть отражения того, что их окружает. Это и есть тот визуальный избыток, который предоставляет нам кладбище: помимо исторических фактов о захороненных, помимо исторических художественных стилей памятников мы видим и то, что в них отражается извне: природу садово-парковых кладбищ, соседние надгробия, а также посетителей, включая самих себя. Отражения создают своего рода двойную экспозицию, известную нам из фотографии, – наложение на один пространственный пласт второго визуального слоя, призывающего нас к более вовлеченному рассматриванию отполированных памятников. Я призываю посетителей обращать внимание и на эту сторону оптики кладбищенского пространства, которая составляет один из побочных мотивов «Музеев смерти».
Мы привыкли замечать отражения в воде, в том числе и себя – как в мифе о Нарциссе. В отсвечивающих высотных зданиях современных больших городов отражения стали частым явлением. К тому же окружающий мир часто предстает в них искаженным, напоминающим авангардное искусство. Похожие визуальные эффекты можно заметить и на кладбище; я буду обращать на них внимание, предлагая новую практику видения тем читателям, которые раньше этого не замечали.
Что касается мемориальной скульптуры, то в «Музеях смерти» особое внимание уделено ее художественным качествам – как во временно́м (историческом) ракурсе (история художественных стилей), так и в ракурсе параметров кладбищенского пространства. Меня занимают художественные надгробия, а не знатные личности, хотя именно на их могилах таковые обычно и находятся. Поэтому в основном я и пишу о памятниках историческим личностям.
Из самых необычных надгробных жанров на парижских кладбищах (в России он редко встречается) я подробно рассказываю о реалистической эффигии (gisant – фр., лежащее мертвое тело в полный рост), возникшей во второй половине XIX века. Эффигия изображает лежащее мертвое тело в полный рост, в отличие от стандартных вертикальных надгробных памятников. На московских кладбищах меня особенно привлек распространенный жанр стилизованной часовни, начиная с часовенного столба, также появившегося во второй половине XIX века.
Соединение различных памятников создает своего рода композицию кладбища. Реализуя кладбищенский пейзаж, архитектура и скульптура надгробных памятников организуют пространственные горизонтали и вертикали – основные кладбищенские параметры, символизирующие среди прочего соотношение смерти и жизни после смерти в религиозном сознании.
К моему огромному удивлению, тот давно забытый покойник, выставленный на немецком кладбище моего детства, всплыл в памяти во время недавнего посещения знаменитых Капуцинских катакомб (туристической достопримечательности Палермо)[23] – возможно, потому, что на самые интересные застекленные скелеты и забальзамированные трупы можно смотреть только снизу. Часть их облачена в соответствии с социальным статусом, большинство, разумеется, в монашеские одежды; надписи сообщают сведения об умершем; если это мирянин – указана и профессия. Помимо капуцинских монахов, там похоронены знатные жители столицы Сицилии; закончить свой жизненный путь в этом подземном кладбище считалось престижным. Живые приходили туда, чтобы посетить своих мертвых; это, конечно, отличалось от посещения кладбища, где смерть часто растворена в красивом садовом пространстве, скрывающем ее жуткие стороны. Захоронение в этих катакомбах началось в XVII веке, в эпоху барокко, а кончилось в 1920‐х годах. В них сделаны отдельные коридоры: одни предназначены для младенцев и женщин, небольшой коридор – для девственниц. С одной стороны, модная одежда на мирянах, подчас с кружевами, с другой – пустые глазницы и гримасы черепов; все это вместе производит гротескное впечатление, жуткое или комическое (или то и другое одновременно) – в зависимости от отношения посетителя к подобным зрелищам.
Ил. 1. Питер Клас. Vanitas. 1630. Музей Франса Халса, Харлем
Останки исполняют функцию memento mori – своего рода аллегории в стиле macabre в барокко. В дидактических memento mori часто появляется череп в напоминание о недолговечности жизни и грядущей смерти. Они, в свою очередь, отсылают к барочным натюрмортам в жанре vanitas: видное место в них зачастую занимает череп, рядом с ним иногда изображены часы, песочные или обыкновенные, и перевернутая чаша, символизирующая смерть (ил. 1). Здесь мы видим vanitas голландского художника Питера Класа 1630 года. Vanitas имеют сходную функцию с memento mori, однако назначение кладбищенских «натюрмортов» – память об умершем.
Ил. 2. Santa Maria della Concezione, Рим
Другие известные катакомбы находятся в Риме, в небольшой капуцинской церкви Santa Maria della Concezione на ставшей модной Via Veneto (ил. 2). На потолке одного склепа расположен скелет: в правой руке коса, в левой – весы справедливости. Эти катакомбы знамениты поразительными настенными украшениями: цветы и розетки, сердца и арки сделаны в основном из костей монахов-капуцинов: одно из бедра, другое – из позвонка, третье – из фаланги пальца и т. д. Есть там и часы, сделанные из костей пальцев и ступней. Большая люстра в самой церкви изготовлена из костей младенцев. В последнем подземном склепе висит табличка: «Мы были тем, чем вы теперь являетесь; вы станете тем, что мы теперь».
Посетив римские катакомбы в 1775 году, Маркиз де Сад утверждал, что никогда не видел столь потрясающего зрелища[24]. Меня же в 1970‐е годы стороживший катакомбы монах не хотел пускать – потому что я была в платье без рукавов! Пришлось накинуть шаль. Эти катакомбы – своего рода макабрический музей и, пожалуй, самое необычное зрелище смерти, которое я когда-либо видела.
В эпоху романтизма на кладбище доминировала память об умерших. Декадентское искусство стало отражать то, что Фрейд затем назвал «влечением к смерти» (Thanatos), существующим в противовес «влечению к жизни» (Eros). Я же имею в виду эстетизацию смерти, которую декаденты отчасти унаследовали от романтиков. Другое различие состояло в том, что романтики возвеличивали природу, а декаденты, считая себя эстетами, отдавали предпочтение искусственности. Соответственно, программный декадентский роман Ж.‐К. Гюисманса «Наоборот» («À rebours», 1886) переведен на английский как «Против природы» («Against Nature»). Что касается смерти, в нем изображается искусственное продление промежуточного состояния между жизнью и смертью, в котором и пребывает главный герой – потомок старинного рода, вырожденец дез Эссент[25]. Я бы назвала это состояние бытием на пороге смерти[26]. Сегодня бы мы сказали, что оно им отрефлексировано. В более широком смысле бытие на пороге смерти устраняет различия между жизнью и смертью, которые как бы перетекают друг в друга.
Одним из макабрических проявлений эпохи декаданса, на рубеже XIX – ХX веков, было посещение парижского морга, где напоказ выставлялись анонимные трупы; это стало модным зрелищем: у Томаса Кука, одного из ранних организаторов туризма, морг числился в прогулке по достопримечательностям Парижа. Известна и викторианская традиция посмертных фотографий, изображающих состояние на пороге смерти. Из необычных: фотографии красиво одетых умерших детей, изображенных в кругу семьи, будто они живые, т. е. пребывают в промежуточном состоянии между жизнью и смертью (конец XIX века). Приблизительно двадцать лет назад я видела выставку таких фотографий в парижском музее Орсе, где ребенок чаще всего был изображен на руках у матери. Вполне морбидное декадентское зрелище! Возможна более сочувственная интерпретация этих фотографий: они предлагают репрезентацию смерти как вечный сон, в котором пребывают умершие дети.
Этическая проблема, связанная с промежуточным состоянием между жизнью и смертью, возникла в Америке примерно пятьдесят лет назад. Благодаря новым технологиям в борьбе со смертью современная медицина научилась искусственно продлевать жизнь человека – обычно в вегетативном, бессознательном состоянии. В некоторых случаях физическая смерть откладывается на многие годы. Как следствие, возник целый ряд этических и юридических вопросов, которые относятся к тому, что стало называться «правом на смерть» (right to die): имеют ли право умирающий, его семья и врачи прекратить «противоестественное» состояние? То есть отключить пациента от соответствующих аппаратов, чтобы он мог «достойно» уйти из жизни. В 1990‐х годах Верховный суд США издал весьма сложные законы, призванные ответить на эти вопросы[27]. В результате многие стали составлять «завещания с предварительными юридическими разрешениями» (living will), подтверждающими «право на смерть» и таким образом предотвращающими юридические разбирательства и возможные конфликты, семейные и религиозные, связанные с искусственным продлением жизни.
Говоря об искусственном продлении жизни, будь то в медицине или в декадентских романах, следует упомянуть и обратную сторону того, что в современном дискурсе называется «правом на смерть», а именно страх погребения заживо (тафофобия). В главе под названием «Живые мертвые» Арьес описывает целый ряд исторических случаев погребения заживо во Франции, что в XVIII веке привело к введению предупредительных мер, в частности к указанию в завещаниях хоронить только по прошествии трех дней[28]. У романтика и протодекадента Эдгара Аллана По, одного из любимых авторов дез Эссента у Гюисманса, есть несколько рассказов в жанре ужасов на эту тему, среди них знаменитые «Падение дома Ашеров» (1839), «Преждевременное погребение» (1844) и «Бочонок Амонтильядо» (1846). Гоголь, как известно, больше всего боялся быть погребенным заживо.
В жанре ужасов в древнем славянском мире бытовали поверья о «заложных», или «нечистых», покойниках – о тех, кто умер неестественной, или «нечистой», смертью, к примеру убийцы и самоубийцы. Этих людей в народе ассоциировали с нечистой силой, а их греховное мертвое тело – со зловонием: «тела „нечистых“ покойников в могилах не истлевают, как у обычных умерших, а лишь распухают и страшно смердят». В других преданиях говорится, что таких покойников нельзя похоронить – закопать в землю, потому что их «земля не принимает»[29]. После смерти они являются живыми как привидения, словно существуя между жизнью и смертью[30].
В связи с «живыми мертвыми» вспоминается древняя традиция оставлять пищу, а иногда и алкоголь для умерших. Один мой знакомый недавно стал свидетелем того, как на Пасху его мексиканская бабушка оставила бутылку с выпивкой на могиле деда (она исполняла этот ритуал каждый год). Другая его мексиканская бабушка, правоверная католичка, возмущалась и ее осуждала[31]. В некоторых российских семьях, соблюдающих старые традиции, посещение могил в дни праздников, включая дни рождения усопших, сопровождается употреблением закуски и выпивки. Бывало, что в день Троицы, особенно в деревнях, посещения кладбища – места сосуществования смерти и жизни – превращались в народное гулянье.
Обычные посмертные практики, такие как бальзамирование, тоже можно записать в рубрику промежуточности. Забальзамированное и выставленное напоказ тело пребывает в промежуточном состоянии – между почти живым и истлевающим. Цветы перебивают запах тления; раньше это было и их прагматической функцией[32]. Что касается выставления усопшего в гробу, то есть люди, которые в своем завещании указывают, как именно их следует нарядить для похоронного ритуала. Я знала одну женщину, во всех деталях описавшую прическу, которую должны были зафиксировать в бюро похоронных услуг, причем то и дело меняла свои предпочтения. Иными словами, ей хотелось предстать в состоянии поддержания жизни в смерти. Те, кто прощается с усопшим, обыкновенно тоже хотят, чтобы его тело напоминало им живого человека. В том числе и для этого существует бальзамирование. В Капуцинских катакомбах Палермо находится почти полностью сохранившееся тело двухлетней Розалии Ломбардо по прозвищу Спящая Красавица, умершей в 1920 году. По желанию отца ее забальзамировали, используя новейшие на то время методы.
Вопреки стандартному отношению к мертвому телу как разлагающемуся трупу современный философ Ханс-Георг Гадамер пишет, что «человек тратит много времени и сил, чтобы задержать мертвых среди живых»[33]. Это подтверждает и практика бальзамирования, и другие способы продления жизни в смерти.
Нельзя не упомянуть «вечно живой» труп Ленина, увековечивающий его память в советском пространстве. Почитание забальзамированного трупа вождя заменило почитание святых нетленных мощей[34]. Как известно, при Мавзолее была создана специальная научная лаборатория для сохранения тела Ленина в надлежащем состоянии, а именно на пороге смерти. Мы с моим мужем Чарли Бернхаймером, специалистом по декадентству во французской литературе, посетили Мавзолей в середине 1990‐х и прозвали его декадентским музеем-паноптикумом, поддерживающим жизнь в смерти. Если сравнивать тело Ленина с надгробными памятниками, оно напоминает эффигию умершего[35] (скульптурный жанр, о котором я пишу в главах о парижских кладбищах). Юноши-смотрители требовали, чтобы мы быстро, не задерживаясь, прошли мимо «святых мощей» Ленина. Видимо, таков устав. Это несмотря на то, что никакой очереди не было!
Вернемся к традиционным восприятиям смерти. Верующие христиане увековечивают память об усопшем, воспевая загробную жизнь в похоронных обрядах, в светских же обрядах чествуется лишь память. Память и есть главная составляющая человеческого отношения к смерти другого. В то же время некоторые традиционные ритуалы, в частности сохранение промежуточного состояния тела почившего между жизнью и смертью, любопытным образом пересекаются с морбидными восприятиями смерти.
Забота о могилах в современном секулярном обществе не имеет того значения, что раньше, – отчасти поэтому кладбище теряет свою традиционную функцию. Известные кладбища в основном превращаются в объекты туризма. Это противоречит религиозному, сентиментальному и культурному назначению кладбища как места памяти. По словам Бренди Шиллас, современный человек «утратил чувство утраты» – в западном обществе смерть как коллективное событие, связанное с коммеморативной практикой, постепенно исчезает[36]. Желание вытеснить, если не вовсе исключить смерть из сознания характеризует современное общество несмотря на то, что она присутствует в самых различных макабрических формах поп-культуры: в виде вампиров и зомби, а также в изображениях насильственной смерти. Дина Хапаева называет это направление «занимательной смертью», фиксируя культ смерти в культуре на рубеже XX–XXI веков, но не в романтическом, а в возрожденном готическом смысле – Хапаева называет это «готическим ренессансом»[37].
Что касается вытеснения смерти в современном сознании, в английском языке часто используется эвфемизм ‘passed away’ (‘to pass’ означает ‘пройти’ в буквальном смысле) вместо умер; отчасти ему соответствует русское ‘скончался’ – хотя в последнем присутствует понятие конца. Стремление держать смерть на расстоянии, что особенно характерно для Запада, можно отчасти объяснить и новыми медицинскими технологиями, и тем, что люди чаще умирают в больнице, чем дома; это и создает дистанцию между живыми и умирающими – между жизнью и смертью.
В процессе вытеснения смерти или дистанцирования от нее (например, отказ от традиционных траурных ритуалов, которые умеряют боль утраты, и от посещения кладбища в память об ушедших) сыграли свою роль самые разные современные институты, технологии и практики. Одна из них – пресловутая всемирная сеть. В последние годы в социальных медиа, например в Фейсбуке, возникла практика увековечивания памяти, в которой участвуют все «френды» (понятие из блогосферы) умершего; там каждый имеет возможность поделиться личным горем или выразить сочувствие. Эта практика подменяет традиционное общение не только с мертвыми на месте захоронения, но и с теми, кто их любил: общение часто происходит в виртуальном пространстве, создающем нечто вроде сообщества памяти на расстоянии. Такое отношение к «своим мертвым» подменяет те чувства, которые мы переживаем в прямом контакте с мертвыми и живыми, а именно на кладбище, где жизнь и смерть сосуществуют. То, что существование в виртуальном пространстве отличает современное общество от более традиционного, стало прописной истиной. Впрочем, мое описание и анализ смерти и ее ритуалов вполне отвечают понятию «виртуальности», но не в современном его смысле. Мертвых вполне можно описать как тени, которые проходят и которых мы помним.
Михаил Зощенко пишет в «Повести о разуме» (1943), что «отношение к смерти – это одна из величайших проблем, с которой непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако эта проблема не только не разрешена (в литературе, в искусстве, в философии), но она даже мало продумана»[38]. Противоречия и амбивалентность характеризуют человеческое восприятие смерти и то, каким образом мы ее историзируем и анализируем. Как известно, смерть есть самый противоречивый, непознаваемый факт жизни, причем не только в том, как мы ее переживаем и осмысляем в случае ухода наших близких. Испокон веков смерть подлежит различным общественным формам регулирования, но вопреки нашему желанию она упорно сопротивляется упорядочению – эмоциональному, идеологическому, социальному, научному.
Культурный историк Томас Лакер, автор книги «The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains» («Работа мертвых: Культурная история останков», 2015), пишет именно о формах регулирования и упорядочения смерти в европейских и американском обществах. Исследуя историю смерти, он описывает ее социальные значения и функции. Лакера волнует то, как отдельный человек, семья, общество сосуществовали и продолжают сосуществовать со смертью и как в разных культурах обращаются с мертвым телом. «Работу», которую выполняют мертвые, точнее – «мертвое тело», он определяет как «цивилизующую», а о живых говорит: их «забота о мертвых <…> способствует размышлениям об основах символического порядка»[39]. Спокон времен забота человечества о мертвых, констатирует Лакер, была основой религий, форм правления, племен, кланов – осознания конечности жизни, цивилизации в целом. Иными словами, его интересует то, что «смерть оставляет за собой: функцию и социальное значение мертвого тела»[40], и то, как мертвое тело «работает» на живых, на память и историю.
По словам Лакера, «мы бесконечно вносим в мертвое тело смысл, потому что через него говорит человеческое прошлое»[41]. Кладбище – это пространство, которое по определению есть место личной и исторической памяти, восстанавливающее в нашем сознании тех, кто умер и кого мы знали лично, и тех, которых мы знаем по старой и новой истории. Но оно также является художественным пространством – скульптурным музеем мертвых. Эту «работу», однако, выполняют живые. Степанова пишет, что помимо территории «письменного свидетельства <работы, выполненной поэтом,> кладбище работает на нас» – это и есть одна из основных функций кладбища в пространстве памяти[42].
Среди современных пространств смерти в Америке, Англии и некоторых других странах имеется множество кладбищ в виде ухоженных газонов с плоскими мемориальными табличками, которые вделаны в траву. Вместо скульптурного музея они представляют горизонтальность кладбищенского пространства, а также отстранение от личной памяти за счет всеобщей одинаковости; иногда газонные кладбища окружены деревьями и другой зеленью. В случае более старых кладбищ или тех, где памятники дозволяются, современные обозначения захоронений в виде табличек совмещаются с небольшими памятниками, привнося элемент традиционной памяти.
В конце ХX века в некоторых штатах Америки, как и в Англии, стали возникать экологические кладбища, но они пока остаются редкостью. Мертвое тело кладут в землю, чтобы, как любое биоразлагаемое вещество, оно разложилось и слилось с природой по принципу «земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху»[43]. Окончательное разложение трупа происходит через две-три недели; получившееся удобрение может быть отдано семье, а затем его нередко используют, выращивая растения в память об усопшем. Сторонники этого метода захоронений всячески пропагандируют его как самое естественное, экологичное решение как извечной кладбищенской дилеммы, т. е. переполненности кладбищ, так и защиты природной среды в целом.
Описывая общие могилы на самом старом парижском кладбище Saints-Innocents, Арьес утверждает, что разложение трупа – истлевание его до самых костей, которые он называет лучшим удобрением, – длилось всего 24 часа[44]. Имеются в виду общие могилы XVII и XVIII веков, куда складывали множество трупов (см. с. 28).
История мемориальной архитектуры и художественных изображений обычно начинается с египетских пирамид, фаюмских портретов и полулежащих эффигий на этрусских памятниках. В моей книге описываются главные парижские (Пер-Лашез, Монпарнас, Монмартр и Пасси), московские (Донское, Новодевичье, Введенское и Ваганьковское) кладбища, а также эмигрантское под Парижем. Этот самый известный эмигрантский некрополь, основанный в 1927 году, называется Сент-Женевьев-де-Буа. Старейшее русское кладбище за границей (Кокад) с 1867 года находится в Ницце – любимом курорте русских, включая членов императорской семьи.
«Музеи смерти: Парижские и московские кладбища» в основном обращена к российскому читателю, поэтому в описании парижских кладбищ выделяются также русские захоронения, например большой античный храм Елизаветы Демидовой-Строгановой (с. 1818) на Пер-Лашез или самый большой памятник в виде часовенного склепа Марии Башкирцевой (с. 1884) на Пасси.
Перечисленные и многие другие вопросы о кладбищах обсуждаются в соответствующих исторических и культурных контекстах, включая политические, особенно в СССР. Вот два примера восстановления памяти бывших советских «врагов» в постсоветскую эпоху: при Ельцине были созданы братские могилы жертв сталинского террора на Новом Донском кладбище; при Путине из‐за границы привезли прах белых генералов Антона Деникина и Владимира Каппеля, а также «белого» философа Ивана Ильина, и перезахоронили их в престижном монастырском Донском некрополе XIX века. Что касается возвращения знаменитых русских на родину, то останки великого Шаляпина привезли из Парижа еще в 1984 году и перезахоронили на Новодевичьем – самом престижном московском кладбище ХХ столетия. Могила Шаляпина находится в старой его части, прямо у входа; огромный памятник представляет собой вальяжно сидящую фигуру знаменитого певца. Неподалеку захоронен Ельцин; на его могиле – огромная скульптура русского флага.
Книга заканчивается Кодой, посвященной российским бандитским надгробиям 1990‐х, с которых я и начала свои исследования. Статья была напечатана в «Новом литературном обозрении» в 1998 году. Если продолжить мои воспоминания, первое надгробие в бандитском стиле я увидела на главной аллее Ваганьковского кладбища во время похорон Булата Окуджавы в 1997‐м. Детали в Коде.
II. Парижские кладбища
В городах усопших обычно хоронили по христианской традиции – в земле, прилегающей к церкви. Мертвые парижане находились среди живых вплоть до Французской революции. Причем еще в конце Средневековья многие церковные погосты превратились по совместительству в светское пространство – по ним гуляли, на них торговали. Филипп Арьес пишет, что старые кладбища стали общественным форумом и местом встреч, а также рынком.
Католическая церковь всячески старалась изменить подобное отношение к кладбищу, но ни она, ни административные власти не преуспели в своих попытках урегулировать кладбищенский обиход местного населения. Противостояние установившейся народной практике продолжалось в течение нескольких столетий, и лишь в конце XVIII века власти сумели навести порядок, в 1780 году запретив захоронения в черте французских городов. Однако новым правилам воспротивилась церковь: кладбищенские услуги хорошо оплачивались – в форме пожертвований или оплаты похорон и захоронений[45].
До конца XVIII века самых знатных и богатых парижан обычно хоронили в самой церкви, всех остальных – в отдельных могилах на кладбище. Как я пишу, из‐за нехватки места для новых захоронений старые останки регулярно выкапывались и складывались по периметру кладбищенских стен в специально построенных для этого галереях – charniers (покойницкие). Останки бедняков ожидали общие могилы, иногда столь глубокие, что в них помещалось до 1500 трупов. Во время эпидемий чумы между XIV и XVII веками уровень смертности вырос и все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались донельзя переполненными. Со временем покойницкие превращались в ossuaries (ко́стницы); иногда из костей создавали своего рода архитектурное украшение. Если и оссуарии переполнялись, кости из них выпадали на территорию кладбища, создавая макабрическое зрелище.
Старейшее парижское кладбище – кладбище Невинных (Cimetière des Saints-Innocents) – возникло в XII веке рядом с главным рынком Les Halles (Ле-Аль), в районе, который потом стал называться «чревом Парижа», то есть в самом центре города на правом берегу Сены. Одной стороной оно выходило на улицу Сент-Дени (St. Denis), где располагалась церковь Невинных[46]. Как и всюду, знатных и богатых хоронили в ней, других – в часовнях, находившихся в аркадах под покойницкими; в XVII веке захоронение в часовнях стоило 28 франков[47]