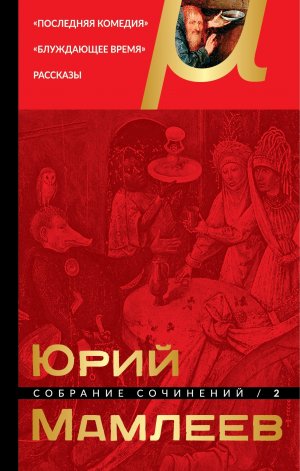
© Мамлеев Ю.В., наследник, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Последняя комедия
Предисловие к роману «Последняя комедия»
В этом романе в каждой главе описывается определённая метафизическая, или «оккультная», ситуация. Так, в первой главе («Небо над адом») рассказывается о человеке, попавшем под воздействие дьявольских сил, последняя глава («Боль № 2») посвящена встрече человека с Великим Неизвестным. В «Эпилоге» дана заключительная картина, которая объединяет все главы.
Особо следует остановиться на третьей главе («Как вверху, так и внизу»). В ней говорится о Мессии, Богочеловеке по имени Панарель, и секте, которая не приняла его. Основной мотив этой главы – трагический разрыв между Богом и миром. В конце концов сектанты убивают Панареля, но убивают потому, что возлюбили его: они не могут вынести этой любви, которая несовместима с их тёмной сущностью («он так прекрасен… Ничего подобного в миру не было»).
Т. Горичева очень точно описала этот момент в своей рецензии: «Одержимые злой волей, сами себя наказывают, не в силах перенести силу более мощную, которая светится на дне сколь угодно глубокого кенозиса, пробивается через последнюю человеческую нелепость».
В целом этот роман – космос встреч человека со сверхъестественным.
Юрий Мамлеев
Глава I. Небо над адом
Старичок был толстенький, пузатенький, с мертвенно-красным носом и лиловыми подтёками на лице. Взгляд его был мрачен и фантастичен. Он знал, что скоро умрёт. Особенно это знание поразило его, когда он один раз взглянул на себя в огромное, бездонное зеркало, которое висело у него в ванной. «Неужели и моё привидение тоже исчезнет?» – подумал он. Но больше своего привидения ему стало жалко тело, поскольку оно было его, особенно задницу, которая перед смертью распухла у него с добрую лошадь. Вид этой задницы в зеркале холодеюще умилил его. Он дотронулся до неё рукой, как будто она не могла исчезнуть. Однако отражение было потенциально стирающимся. Ещё раз взглянув на своё тело, он завыл. Так и выл посреди полотенцев, мыла и зубного порошка. Было страшно потерять себя – потерять себя после смерти. Он попытался думать, стараясь медленно выпрыгнуть на тот свет. Ему хотелось, чтобы это течение его мыслей продолжалось и в том мире. Тогда бы он сохранил себя.
Но пока он не умирал.
Невозможно было думать всё время, нужно было припасти остаток мыслей на самый конец, чтобы выпрыгнуть, выпрыгнуть, выпрыгнуть!.. Кроме того, своё тело всё время приковывало его внимание. Пухлые ручки. Белые, женственные, которые он поднял вверх, как бы для защиты, так не гармонировали со старчески-твердеющим телом. Взгляд его тупо застыл на собственной заднице. Он стал, словно наездник невидимого.
Вообще, самое главное, что было в прошедшей, многолетней жизни Мироедова (так звали старичка) – это дьявольские плевки, плевки в изображение Бога, которое в виде иконы висело у него в комнате под горшочком с цветами. Правда, последнее время на иконе ему виделась (словно по наваждению) кошачья мордочка, причём с папиросой в зубах. «Приидите ко Мне, труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас».
В сочетании с кошачьей мордочкой эта надпись особенно веселила Мироедова своей наглостью. Не раз он одиноко принимался плясать вокруг этой «иконы», переваливаясь и хрустко давя клопов. Иногда махал невидимому платочком. Вообще, ему казалось странным, что кошки адекватны Творцу. Не раз поэтому он пытался ловить их за хвост. И страшно причитал при этом.
Но сейчас всё это осталось позади. Собственная смерть чудилась ему существенней бытия Бога. Он видел её в провалах окон, в бездне, открывающейся в небе. Волосы шевелились у него на голове. Он чувствовал всем потеющим телом её приближение. Казалось, от страха, который не мог осознаваться полностью, настолько он был ужасен, сперма капала с его языка. Часто, в полусне, он ползал по полу, слизывая пыль, стараясь соотнести свою смерть с чем-нибудь нормальным, вроде пола.
Но исчезающее тело своё он жалел всё больше и больше. Точно его тело стало для него Богом, который сошёл с ума.
Дёргаясь ляжками, он думал о том, что этих токов не будет на том свете. Часто он заворачивался в одеяло. И пытался спать целыми днями. Чем ближе приближался конец, тем более застывал его разум, пытаясь быть вне осознания смерти. Единственное, что Мироедов истерически совершал, было нервное и вместе с тем субстанциональное поглаживание собственной задницы, у которой он словно вымаливал прощение за то, что умирает и расстаётся с телом. Он чуял смрадно-сладострастное воздыхание своей плоти, воздыхание, которое мутило мозг последним чувственным желанием – броситься на себя. Казалось, зелёные миазмы, угрюмо-эротические и в то же время потусторонние, исходят из его постели, в которой он корчился, умирая. Ему хотелось поцеловать собственный зад. Тысячи ощущений он вкладывал в это своё поглаживанье. Здесь роилась и слеза, и страх потерять себя, и прощание с собственным живым куском, и неопределённость конечного итога. В конце концов он гладил потому, чтобы заднице было теплее в могиле. Именно теплоты он жаждал больше всего. Тело становилось для него нежной грелкой, которая согревала его душу, отстраняя внебожеский холод абсолютного одиночества.
И теперь ему приходилось расставаться с этой грелкой. По стуку сердца он чувствовал, что конец рядом. Ощущая себя уже совсем в могиле, он ещё истеричней гладил и согревал зад, пытаясь умилить себя и этим безнадёжным, как слеза засохшего детского трупа, умилением хоть немного смягчить собственную смерть. Не имело смысла вызывать врачей (всё было неотвратимо) и вообще брать нечто несуществующее от ненавистной, тупой и автономной галлюцинации – внешнего мира. В него можно было только мочиться – мочиться неиссякаемой потусторонней струёй, пока потусторонность не зальёт этот идиотически кривляющийся лик.
Старик не успел ни о чём подумать, как умер. Он только судорожно вскинул руку к отекающей заднице, чтобы проститься, но не успел дотянуться. Рука с белыми оттопыренными пальцами дёрнулась и застыла, точно наткнувшись на небытие.
…Потусторонний восход его сознания был дик и сумрачен. Целый свод, целая вселенная виделась ему, но словно в полумраке его залитого отчаяньем духа. Вместе с тем была некоторая инфантильность, странная инфантильность загробного мира. Ему почудился некий дурацкий писк, вроде бормотанья «ну те, ну те», но потом всё смолкло и отодвинулось. И он увидел собственный труп. Ярко, зримо, обыденно, как видят труп лошади на залитой солнцем лужайке. Мир и пространство, казалось, целиком зависели от его сознания, а его сознание метнулось к этому трупу, как к кубку шампанского. Да и всё вокруг было слишком сумрачно и отчуждённо. Однако собственный труп не казался отчуждённым. Наоборот, в нём было что-то бесконечно-умилительное и трогательное, как в трупе собственного ребёнка. Конечно, в конце концов можно было существовать и без плоти. Нет ничего проще, чем абстрагироваться от собственного тела. Но эта жуткая чуждость и потерянность потустороннего! Он даже не пытался понять, что его ждёт в конечном итоге. Был только холод и страх от ощущения, что он не умер, а сошёл с ума, вернее, умер и сошёл с ума одновременно. Чуждость всего, его оторванность и вместе с тем присутствие в его душе казались диким переворотом, поставившем всё вверх дном. В уме зияла мысль, что спасения не существует и впереди ждёт только абсолютная тьма и саморазрушение. Мучительно хотелось на что-то опереться и замкнуться в подлинном самом себе. Вместе с тем прежние бесконечные привязанности клокотали в душе. Это присутствие совершенно неизменного своего сознания посреди целиком изменившегося мира ввергло его в бесконечную дрожь. Одновременно он осознавал, что он – гений.
Внутренне старичок завыл.
И потом, это чувство, чувство к собственному трупу!
«Люблю», – произнёс старичок бесплотными устами, глядя на своё, точно выкинутое из него, тело.
«Люблю», – произнёс он, ужасаясь, и слёзы залили его душу. Но от слёз был уже только холод.
Он ринулся к собственному трупу. «Ведь я теперь невидим для живущих», – почему-то мелькнуло в его уме.
«Люблю-с», – залило его до глубины.
Но неприспособленность к условиям нового мира и бредовость его чуть остановили Мироедова. Он с сумасшедшим любопытством вглядывался в собственное тело, которое он видел, наконец, полностью, но уже не в зеркале.
Труп был удивительно похож. Он даже мысленно сравнивал его со своими фотографиями. Вот и рубец, который он получил в детстве, упав с крыльца. Немного пугающ был нос, который выделялся слепым кукольным клювом, точно в спокойствии ловя невозможное. Старичку захотелось сдёрнуть его с самого себя. Но это было почти кокетство. Мироедов, если только можно называть его так на том свете, даже улыбнулся. В остальном лицо было захолустно, и волна жалости затопила «старичка» (старичка, разумеется, теперь в кавычках).
Оглядевшись ещё раз и ужаснувшись, покойник почувствовал неодолимое желание изнасиловать свой труп. Изнасиловать, разумеется, в лучшем смысле этого слова. От избытка любви. «Мой домик», – возопил он, как потерянный. Необходимо было только приспособиться и осознать, что, хотя он уже на том свете, это ещё не значит, что он не живой-с. И что специфическим способом он может испытывать загробно-эротическое наслаждение, причём связанное с определённым объектом. Его единственный, желанный объект был его собственный труп.
Он видел, как бы в качестве теней, людишек, ещё пребывающих в земном, так сказать, светском мире. Но понимал, что они его теперь не ощущают и не видят и он может спокойно упиться своим трупом. Хотя этот труп видеощущался им уже иным, чем «живым» людям, важно было, что это его труп, и он в стоне решил не упускать свою добычу. Более того, он вдруг почувствовал, что может вступить в контакт со своим трупом и вообще видит его более тайную, неземную и скрытую от плотских людей сторону.
Ему даже показалось, что труп по-особому, понимающе улыбнулся своему бывшему обладателю. Но так, что, безусловно, никто из живущих не мог видеть этой улыбки. Единственное, что его раздражало, так это слезливая привязанность к трупу его бывших друзей. Он почувствовал в этом что-то нехорошее. Правда, его друзья были достаточно странны, особенно в эмоциональном отношении. Он и на земле ждал от них всяческих подвохов. Но теперь, после его смерти, они совсем осатанели.
Пока труп прибирали, пока он находился в своей комнате, все эти старички и старушки (впрочем, было также двое молодых людей) словно вцепились в своего дружка, так странно преобразившегося. У них не было никакого страха перед покойником, и они, как мухи, облепив его, жужжали вокруг. Чего они хотели? Было непонятно. Их извивные руки всё время тянулись к трупу; то ли они старались ущипнуть его, то ли, наоборот, обласкать. Один даже плотоядно похлопал его по животу, как будто труп только что сытно пообедал. Мироедов – с того света – дико ревновал свой труп. «Чего им от меня надо?» – слёзно застревал он. Но старички то ли не признавали труп за труп, то ли ощущением его как предмета пытались доказать бытовую иллюзорность смерти.
Давний друг Мироедова, толстомордый пожилой человек в пенсне, прямо-таки впился в лицо, скорее даже в нос, синий, кукольный нос трупа, и всё время его подёргивал. Родственников у старичка не было, и он весь был во власти своих друзей. Мироедов уже было совсем нашёл тайные пути к контакту со своим трупом, но вид нервных, озабоченных, охваченных какой-то параноидальной извивностью людей отвлекал, раздражал и озадачивал его.
«Кыш, кыш, кыш!» – хотелось крикнуть ему на всю комнату. Неожиданно старички заперлись на ключ. Душа Мироедова похолодела. «Хотят изнасиловать», – подумал он. «Не отдам, не отдам, не отдам!» – завопило в нём всё. Но между тем старички и старушки, извивнувшись и как бы проплясав нелепый танец вокруг трупа, бросились друг на друга в свальном грехе. «Ах, вот оно что!» – изумился Мироедов.
Людишки тем временем, охваченные поˆтом и внезапно появившимся страхом перед трупом, сладострастно впились друг в друга. Комната мгновенно превратилась в сумасшедший дом: полуголенькие, с обнажёнными, старческими, но ещё резвыми задницами люди, визжащие друг в друга; холодный и невозмутимый труп Мироедова с кукольным синим носом, торчащим из гроба наподобие члену; и сам Мироедов, невидимый и неслышный для всех, но «орущий» от ужаса с того света.
Одна старушонка, сцепившаяся с молодым человеком, чуть ли не залезла под стол, на котором покоился гроб, и раза три лягнула труп голой задницей. Мироедов – с того света – готов был убить её в отместку – хотел, но не мог. «А я ещё был влюблён в неё целых полжизни и несколько раз хотел удавиться», – застонал Мироедов, пытаясь укусить свою душу.
Наконец, не дождавшись конца хохотливой оргии, он погрузился в сладостный, смертный сон.
Своим неистовым сладострастием и причастностью к нему трупа старикашки как бы доказывали ненадёжность смерти как ворот, ограждающих от бездны. Кто-то, уходя, опять толкнул труп задницей. Но у всех были очень весёлые и мокрые лица. Одна старушонка даже грызла трость, не в силах успокоиться от внутреннего похотливого визга. Кто-то мокрый от страха унёс сыр вместе с иконой.
Когда Мироедов очнулся, в комнате, по земному определению, было темно. Он видел, что никого рядом с покойником нет. У него возникло желание стать вечным стражем вокруг своего трупа. И, как потусторонняя сова, – одним взглядом – охранять свой покой от сладострастных поползновений. И он действительно застыл около собственного трупа, обратив всё своё существо в загробный взгляд, исполненный ненависти к живущим. «Это моё», – говорило всё его существо. Вдруг в комнате скрипнула дверь. Душа старичка напряглась от чудовищного ожидания. Он судорожно захотел сделать знак, знак, доступный живущим, что он присутствует. Но в комнату вошла одна кошка. Она жалобно мяукнула, словно шла на свидание с необычным котом или просто с трупом. Но, почувствовав неладное, она опрометью – шерсть встала дыбом – выскочила из комнаты…
Наутро Мироедова положено было хоронить. Процессия была весёлая, суматошная, с маханием солнечными зонтиками и со всеми друзьями, которые извивались вечером в свальном грехе. У Мироедова полегчало на душе. «Скоро похоронят, – облегчённо подумал он. – Там, в могиле, никто не помешает». Кроме того, и с самим трупом контакт восстанавливался, правда, весьма необычно и пока односторонним образом. Мироедов чувствовал, что его труп – неслышно для окружающих – истерически, но по-каменному хохотал, пока его несли в гробу к могиле.
Перед исчезновением, когда раздалась страшная и надрывающая душу музыка, одна старушка – из тех, что были вечером – прямо-таки упала в гроб, всем похотливо-слезливым личиком, как будто труп долгие годы был её лучшим любовником; с какой-то безотносительной наглостью она облизала всё лицо мироедовского трупа шершавым, влажным и трясущимся языком. «Пошла вон, стерва!» – прошипел сам Мироедов, уже предвкушая свою победу. Старушке же, наоборот, послышалось «Не уходи!», и она завыла, вцепившись костлявыми руками в волосы трупа. Золотое кольцо нервно блестело на солнце, около трупных волос.
Мироедов при, так сказать, жизни очень не любил эту старушку, но знал, что она была влюблена в него с двадцатилетнего возраста. Он – если бы мог – с удовольствием прогнал бы её со своего трупа пинком ноги, как прогоняют собаку с тела любовницы. Та старушка, которую на протяжении половины жизни любил сам Мироедов и которая вчера лягала его труп голой задницей, не пришла, так как уехала на юг с любовником – близким другом Мироедова.
Итак, нелюбимая старушка выла дурным голосом около трупа, друзья пугливо хмурились, предчувствуя своё будущее, звучала торжественная, мрачная, доводящая до абсурда своей безнадёжностью музыка, труп мелко и невидимо хохотал, мяукал кот, принесённый кем-то в авоське, а сам Мироедов мучился от нетерпения и ждал, когда всё это кончится – и он очутится один в могиле, вместе со своим трупом. На этот раз навсегда. Когда на крышку гроба тяжело и грубо стали бросать комья чёрной и влажной земли весёлые и неповоротливые могильщики, на Мироедова нашло временное затмение. Возможно, он ещё не успел отучиться от земных ассоциаций. Но когда всё опустело, и над могилой покойника чирикали только птички, Мироедов, осознав, что земля и гроб для него теперь не препятствие, радостно завыл и злобно, но мысленно харкнув по адресу удаляющейся нелюбимой старушки, быстро юркнул в могилу. И тут случилось нечто совсем несусветное. Труп тоже завыл – разумеется, по-загробному – и как бы простёр к Мироедову свои непонятные пустеющие руки. Мироедову даже показалось, что труп по-настоящему оживает; что щёчки его порозовели и глаза наполнились слезами, что животик колышется; потом ему почудилось, что труп, ринувшись навстречу, стал поедать его, Мироедова, поедать без остатка, содрогаясь и стараясь вобрать его – своего бывшего владельца – целиком в себя. Только впоследствии, уже очнувшись в собственном трупе, Мироедов понял суть того, что с ним происходило. Труп подмигивал и хохотал, пока его несли, а потом и пожирал собственную душу, именно потому, что и сам Мироедов, из любви к своему трупу, фактически присутствовал в нём частью своего сознания, хотя в основном был уже отделёный от него. И, таким образом, он хохотал и перемигивался сам с собою. Поэтому живущие на земле и не могли слышать хохот хоронимого ими трупа, так как в физической сфере труп был мёртв, а хохот раздавался в сознании Мироедова, частично спроецированном в собственный труп. Который он тем самым оживлял, однако же, главным образом, для своего восприятия или уж для восприятия нечеловеческих существ.
И, наконец, очнувшись в трупе, Мироедов понял, что он не воскресил этим своё тело, а просто душа его присутствует в нём как во внешнем для неё месте, как, скажем, человек присутствует в лесу, и, с точки зрения земного мира, труп его по-прежнему мёртв и недвижим.
Но это нисколько не разочаровало его. Пожалуй, наоборот. Возможность ощущать свой труп как объект или, во всяком случае, как полу-объект (потому что некоторые мутные и непонятные, но живые и потусторонние связи между душой и разлагающимся телом всё-таки возникали) позволила Мироедову и привычней, и адекватней выразить свои любовные чувства к трупу. Он даже захохотал от восторга, и его хохот, распугав гномов, отдался странным эхом в его мёртвом мозгу. И началась восхитительная любовная поэма. Мироедов, находясь в собственном трупе и никем не встревоженный, обнаглел и стремился до конца обнажить свою страсть. Какие-то странные токи связали его с трупом, и вместе с тем он, находясь там, был отделён от него.
Небо – бездонное небо ада – открылось ему. Где были души других людей? Может быть, он опять общался только с самим собой? Или они превратились для него в символы? Он чувствовал это небо краем своего сознания и, страшась потонуть в нём, ещё судорожней впивался в своего разлагающегося любовника. Он испытывал нечто похожее на земной оргазм, но только в холоде и в духе. Труп, оживлённый его присутствием, подобно Лауре, воссозданной воображением Петрарки, очаровывал его. Воспоминания, как змеи, влекли старичка в каждый уголок его тела. Вот член, мёртвый, бессильный, с мухой внутри, но какой же он, голубчик, с того света! Вот брови, которые столько раз изгибались от страха перед смертью; вот глаза, которые с ужасом смотрели на мир; а вот кровь, кровь, запёкшаяся во рту, который когда-то пожирал живое, содрогаясь в вампирической страсти; рот, который был орудием убийства и пожирания – для себя, для себя! – но ведь и теперь, мёртвый, холодный, он также достоин нечеловеческой ласки, хотя бы за то, что там, на земле, он был одним из самых совершенных кругов наслаждения – наслаждения для себя. Старичок силою духа пытался внести жизнь в пустующий рот своего трупа; чтобы хоть на мгновение увидеть его сладострастное шевеление в гробу – чтобы проглотить, проглотить хотя бы формально, хоть толстого червя, ползающего по родному личику. Личику, которое так любило нежиться в пуховой постельке! Ах, ему самому в своём гниющем трупе было так хорошо и уютно, как в постельке!
Но мёртвые токи будили трагические ощущения. Иногда он добивался еле чувствуемого содрогания мёртвой задницы – содрогания, которое вводило его в потусторонний оргазм. И это подрагивание заменяло ему музыку сфер – музыку, ставшую столь чуждой его изломанному и ставшему на дыбы сознанию. Мёртвый зад распухал, заслоняя собой Бога. Он не мог не наслаждаться им – наслаждаться со всем неистовством потустороннего. Ему казалось, что он ощущает даже трупный пот, как будто бы выделяющийся на заднице, и этот пот был ему сладок, как слёзы Абсолюта. И он выл, выл из родимого трупа, заслоняя своим вознесённым существованием исчезающий мир.
Между тем в трупе оживали картины его прошлого. Вся его жизнь, как во сне, проходила мимо него. Но он впивался в каждую клеточку своего трупа – точно в ней, в этой разлагающейся клетке, было заложено бессмертие. Разговаривал с ней, выжимал слюну, и каждое ощущение, каждый мысленный акт был погружён в вечность. «Ха-ха! Люблю! Ха-ха! Люблю!» – кричал старичок, брыкаясь в самом себе (иногда на него находили шизофренические капризы!).
Иногда труп для него принимал форму девы – девы с его чертами лица (точно он сам раньше был девой), но с некоторой идеальностью, идеальностью небесной эротики, незримо присутствующей на её сизом трупном лице. «Мой труп – дева! Мой труп – дева!» – орал Мироедов из своего гроба. Но даже птички не слышали его. Но и ему было не до этих галлюцинативных птичек.
Впрочем, он уже не мог отличить свой труп как труп и свой труп как деву. Его бесчисленные поцелуи – поцелуи в чёрный рот собственного трупа – убаюкивали его, как верующего самой древней и странной религии. Этот нарциссизм небытия, тем не менее, был причастен Абсолюту. Почему труп не разлагался до конца? Несомненно, страстные поцелуи его бывшего обладателя сохраняли его на физическом плане. Старичку даже показалось, что труп приоткрыл глаз и этим чёрным, точно провалившимся в бездну глазом смотрел на то, что абсолютно непонятно. Мёртвый зад выделял духовные испарения, испарения, в которых было столько теплоты, нежности и секса и вместе с тем потустороннего ужаса, что старичок, постанывая, прямо-таки купал свой дух в этих испарениях. Он плыл в них, как в облаках, окружающих мысль Бога. И вместе с тем сознание, что эти испарения исходят из его собственной, пусть мёртвой, но всё-таки его задницы, придавало душе Мироедова дьявольское, бесконечное умиление. Старичок даже облизывался в духе. Созерцая свой мёртвый зад с небесной высоты, он лил сладострастные слёзы, и ему казалось, что его задница оживает, пламенеет и, как вечерняя звезда, восходит над пустым миром – восходит из земли, из могилы, из мрака! – подобно сокровенному спасению. Иногда он даже впадал в квази-слабоумие от нечеловеческого восторга. «Господи, какая она стала розовенькая, как поросёночек! – хихикал он, извиваясь. – В ней столько же самосознания, как и в духе… Это только с виду она телесна! Я вижу в ней бесконечность и свои лики, свои бесчисленные, родные лики! И потом, эти изгибы, эти линии, которыми я так упивался при жизни! От неё шло столько токов! Больше, чем от сердца! Даже когда я садился на стульчак!»
Он помнил, как раз – при жизни – задница спасла его от гибели. Потому что именно ею он, один, в поле, почувствовал за пять вёрст присутствие убийцы и побежал, стремительно побежал, спасая свою жизнь. «Даже обычная интуиция тут бы не помогла», – говорил он потом друзьям.
«Не поминай имя Властителя всуе!» – покрикивал он на себя, когда слишком часто вспоминал о своей заднице.
И тогда успокаивался. Мёртвый мир окружал его. Он не знал, что уже не принадлежит теперь к человеческому роду, что он вошёл в новую, странную форму бытия; а он всё наслаждался и наслаждался своим трупом и, казалось, этому наслаждению не будет конца, как не будет конца самому Богу. Только небо – чёрное, бездонное небо ада с его прозреваемыми в высоте провалами, провалами, которые уходили в высшую тьму и втягивали даже богов – простёрлось над ним.
Это было небо над адом – над вечным, непостижимым адом, терзающим всё живое, и божественная чернота этого неба, которая поглощала все страдания, исходящие из адской тверди, была непроницаема, как улыбка Бога.
Глава II. Шиши
Объявилось лето. Марья Ивановна Доилкина со своей подругой Катюшей шла по глухому парку. Марья Ивановна представляла себя толстой бочкой, наполненной веселием. Но отчего только дрожат листья на деревьях? Доилкина объясняла это тем, что за веселием скрывалась пустота, о которой она всегда боялась думать. Катюша была тоже раздута, как арбуз, но с дурцой во взгляде и даже в некотором роде в лице; лоб и правда нависал на глаза твердокаменной задницей, а подбородок выделялся жирно-острым углом, так что промежду лба и подбородка была впадина, в которой и произрастало само лицо с бегающими, затуманенными небесной грязью глазками. Соблазняла также лохматость всей головы в целом. Зад напоминал отвислую, непомерно большую физиономию, прикрытую, однако ж, платочками.
Воздух был напоён невидимым мраком. Солнце так нежило похотливые тела женщин, что они готовы были броситься сквозь это невидимое. Марья Ивановна вслух учила геометрию. «Хо-хо-хо!» – кричала иной раз Катюша. Всё было поразительно нормально.
Подруги подошли к огромному деревянному клозету, стоявшему у пыльной дороги наподобие дворца. Он был разделён на две половины, мужскую и женскую, и был так грязен и в полутьме, что как только подруги вошли, им показалось, что на них что-то опустилось. Катюша тоскливо осматривалась, пока Марья Ивановна гадила. Стояла угрюмая тишина.
– Бумажки вот, жаль, нету, – вздохнула Марья Ивановна на толчке.
В это время в дыру, которая светилась между досок, отделяющих мужскую половину от женской, просунулась огромная мужичья рука с ворохом бумаг в кулаке. Кулак был сер, самодовлеющ и в чёрных, гривистых, как у хорошего льва, волосах. Человечьего голоса, однако, не раздалось. Рука же, точно оторванная от её обладателя, застыла с комком листов. Впрочем, чувствовалось дыхание чьей-то мёртвой любезности – там, за перегородкой.
Марья Ивановна вскочила с толчка. В глазах её выражался непомерный ужас. Путаясь в белье, одёргиваясь на ходу, она побежала по дороге. Быстро, быстро, не оглядываясь и покрикивая в кошмаре. Катюша трусила за ней.
Из мужского клозета, однако, никто не выходил, и дверь в него была до мертвенности неподвижна.
Марья Ивановна бежала и вопила; потом начала бежать молча, но в этом было уже что-то угрюмое и бесповоротное, точно нарушилось равновесие в мире и вылезло нечто ужасное, тёмное и липкое.
– Да погоди же ты, трусоватая, – задыхаясь от быстрого бега, останавливала её Катюша, дёргая за руку. – Давай вернёмся… Может, мужик-то хороший… Ну, чего ты испугалась? Давай вернёмся и познакомимся.
Марья Ивановна остановилась. Неподалёку были уже дома, и уборной за лесом не было видно. Но лицо Марьи Ивановны было скошено в какой-то беспричинной бесповоротности.
– Катя, никогда, понимаешь, никогда не говори мне об этом случае, – сурово, по-мужски, оборвала она.
– Тьфу ты! Да может, я счастье своё там потеряла, твоему страху поддамшись, – скуксилась Катюша и топнула слоновьей ножкой.
Лицо её сдвинулось в том смысле, что лоб ещё больше округлился и лицо провалилось под него. Только глазки по-лохматому блистали из телесной бездны.
– Ох, какая ты недотрога, – вздохнула она. – Я вот иная птаха.
До дому шли молча. Молча открывали дверь, ведущую в узкий проходной коридор. Домик был одноэтажен, деревянно-старенький, с оконцами-глазками, и делился на две половины: в одной, как всё равно две сестры, жили подруги. На подокошках стояли цветочки, прикрытые от внешних взоров уютными занавесками.
Марья Ивановна начала драить комоды. Сама по себе – внутренне – она ещё больше пыталась раздуться, словно хотела допрыгнуть до солнца. Только боялась тихого шелеста занавесок за своей спиной. Катюша же совсем сморщилась: глазки глядели внутрь себя, а голос – словно из души – говорил:
– Недоглядели мы чего-то, недоглядели… Ох, озорницы…
Она бродила по комнате, как вслепую, швыряла ногой попадающееся и всё бормотала. Что потеряла своё счастье. При слове «счастье» она улыбалась так, что становилось жутко.
Кириллов между тем одиноко сидел – во тьме, у клозета. Когда дамы ушли, он не понял. Спустя вышел на свет, в лес. Потянулся и сделал вокруг себя гимнастическое упражнение. Был он приземист, весь в чёрном, словно и тело его было чёрное, но лицо, однако ж, выглядело бледным, как обычно; правда, само оно было маловыразительно: как будто что-то в нём было чересчур и потому спряталось. Когда прыгал он вокруг себя, порой головой вниз, то был похож на прыгающую чёрную точку. Опростившись и как-то съёжившись, пошёл вниз по дороге. Шёл медленно, где-то застревая. Когда же вышел к городу, где дома, оживился. Бойким и точным глазом, как говорят, интуитивно, нашёл дом, где прятались подруги. Крякнув, пошёл туда…
Марья Ивановна и Катюша пили чай вприкуску. Тихо мурлыкал кот, сквозь сон видевший демонов. Горела древняя, притемнённая лампа: для уюта. Манила к себе пухлая, большая кровать с пятью подушками: подруги были духовными лесбиянками (правда, на сие время разведёнными).
Вдруг раздался стук в дверь. Марья Ивановна выглянула в окно: солнце уже садилось. «Кого это несёт», – подумала она.
– Кто? – спросила она у двери.
– Из Госстраху, – раздался надтреснутый, словно его разрубили топором, голос.
«И вправду, кругом пожары, – подумала Марья Ивановна. – Как бы совсем не сгореть».
И открыла дверь.
Перед ней стоял улыбающийся, весь в чёрном, приземистый человек в полувозрасте. Руку он поднял вверх, как бы приветствуя Марью Ивановну.
– Проходите, – сказала она.
Человечек увёртливо проскочил вперёд. Оказавшись перед Катюшей, он даже руки расставил от радостного изумления.
«Из Госстраха, – подумала Марья Ивановна. – То-то мне дети снились; значит, и взаправду к диву».
Пришлось зажигать верхний свет. Кот, недовольный, поплёлся в другую комнату.
«Господи, до чего же оне грязны, словно у меня в заднице, – неприязненно прошипела про себя Марья Ивановна, оглядев незнакомца. – Как это я сразу не заметила. И ширинка не застёгнута, тоже мне агент. Впрочем, всё бывает».
Катюша же, присмотревшись к неизвестному, глядела на него волком.
Кириллов вёл себя тихо, словно летел. Чёрный макинтош его распахнулся, и он чего-то деловито вертелся, ничего не делая.
– Ну? – тупо спросила Марья Ивановна, прислонившись животом к обеденному столу.
Бледное, протяжённое лицо незнакомца поворачивалось из стороны в сторону.
– Вещички осмотреть бы надо, – пробормотал он.
И, не дожидаясь согласия, подошёл к шкапу, в котором хранилось обычно что-то неопределённое. Подошёл и вдруг стал обнюхивать его, обнюхивать каждую щель, поводя своим, вдруг оказавшимся длинным и пропито-безжизненным, носом. Нос на глазах у подруг стал всё больше и больше синеть. Глаза Катюши смягчились; только поглядывали чуть вкось, на какие-то паутинки.
«Ненормальный какой-то», – спокойно подумала Марья Ивановна.
Человечек всё более удалялся в сторону, искоса бросая взгляды на стены и потолок, может быть, на лампу. Ощупывал занавески.
Оказавшись на полукухне, полузакутке, который, однако, был хорошо виден подругам, он, открыв крышку, заглянул в кастрюлю с супом. Улыбнувшись, оставил всё как есть.
«Да он голодный, – догадалась Марья Ивановна. – То-то такой оборванный. Небось недавно работает».
Катюша почесала зад.
– А это что? – вдруг воскликнул Кириллов, доставая из-под кровати пыльную галошу. – А это что?
Он поднял её наверх, на уровень лица, и подмигнул Марье Ивановне.
– Галоша, – ответила она.
– Да ну??? – съязвил Кириллов, швыряя галошу обратно под кровать.
– Да она недорого стоит теперь; совсем копейки, – вздохнула Марья Ивановна, и её женственный взгляд вдруг затвердел, словно она не видела вокруг ничего.
– Ну да ладно, пустяки, – бросил на ходу Кириллов. – Не будем.
Марья Ивановна огляделась. Всё шло своим чередом. Катюша стояла у окна и чесала, рукой внутрь, свою жирную спину. Лицо её было отсутствующее и как бы в синеве, которая, впрочем, пропадала у самого интимного места: у впадающих внутрь тела глаз.
Кириллов лихо подскочил к столу. Скинул макинтош.
«Сейчас будем оформлять», – подумала Марья Ивановна.
Кириллов сел и виделся ей со спины; вдруг она заметила, что из кармана его брюк (из того, что находился на какой-то необжитой его заднице) торчит пучок тех самых бумаг, которые предлагала ей огромная рука в земляном клозете.
Как небом поражённая, Марья Ивановна воскликнула:
– Это он!
Человечек, однако, не обратил на её слова никакого внимания; он словно ворошился в пустоте.
Марья Ивановна глазами указала Катюше на торчащий пучок бумаг и повторила:
– Это он.
Лицо Катюши засветилось в смрадной полуулыбке; свет пронзил её изнутри до самой кожи; она взвизгнула, но внутрь себя, так что крик был не слышен. Взгляд её упал на огромные руки приземистого гостя: они были в точности схожи с той.
Наступило молчание.
– Оформилось, – вдруг бодро произнёс Кириллов, подавая Марье Ивановне пустой листок бумаги. – Подпишите.
Марья Ивановна остолбенело заглянула в чистый лист, словно в зеркало, и скованно-грубым, словно не её движением руки поставила подпись: «хуй».
Кириллов удовлетворённо кивнул головой.
Марью Ивановну объял такой ужас, что ей почудилось: её тело почернело, и волосы на голове и внизу стали, как проволока. Она хотела было встряхнуться, да не могла; душа словно заледенела, и мысли в ней поникли, как на похоронах. «Да ну», – всё хотела она вскрикнуть, но крик гас в самом начале. Катюша же, напротив, выглядела веселей; глаза её светились из-под нависшего лба, как лихие демонические точки; рот кривлялся, и только что не срывались весёлые, матерно-богохульные словечки. Пальчики её извивались и теребили свой живот.
Кириллов вдруг стал непомерно угрюм и мрачен; Марье Ивановне показалось, что волосы его стали дыбом, в то время как именно он навевал на всех страх, а не его пугали, спина сгорбилась, и глаза строго осматривали пространство.
«Господи, до чего же он строг!» – подумала Марья Ивановна механически, но так, что по коже прошёл мороз.
Катенька невпопад сделала слабую попытку заигрывания: она вдруг подошла к Кириллову и похлопала его по спине, заранее, в улыбке ожидая кокетливый ответ; однако ответа не последовало, а от пиджака Кириллова поднялась такая пыль, что на минуту в комнате ничего не стало видно: ни Кириллова, ни Марьи Ивановны, ни мебели. Когда пыль рассеялась, Марья Ивановна стояла посреди с приподнятыми руками, как будто в молитве; Кириллов же угрюмо сидел в кресле у книжного шкапа и читал рваный старый журнал; мрак исходил от его фигуры.
Катенька долго не могла очухаться от пыли: она забилась ей в нос, в глаза, в маленькие уродливые ушки; она тряслась, чихала и размахивала ручками; в шёпоте всё же приговаривала: «До чего же оне грязны! Словно ему тыща лет, и он с того света».
Наконец Марья Ивановна почувствовала, что ещё одна минута, и она не выдержит: закричит, забьётся в истерике, запрыгает вверх ногами; собственно, это сделать было уже давно пора, но Марью Ивановну сковывало появление какого-то нового мира.
В эту минуту Кириллов вдруг резко приподнялся с кресла, так, словно встал не только он один, но с ним ещё кто-то, невидимый (хотя в действительности второго не было) и, подойдя к Марье Ивановне, вежливо и осторожно похлопал её по плечу, проговорив:
– Всё в порядке.
Глянул на неё птичьим, вымершим взором.
– Листочек я возьму с собой, а копию вам пришлю или принесу, – продолжил он, направляясь к выходу.
Катюша чихнула.
– Куда же вы… Апчхи… Не скрывайтесь, – замахала она ручками.
Но Кириллов между тем уже был во дворе. Марья Ивановна, захлопнув дверь, быстро вернулась в комнату, и тут с ней произошло что-то совсем непонятное и дикое: ей показалось (или это было во всех сферах также?), что она начала танцевать вверх ногами, вниз головой, на руках, причём очень бойко, истерично и подпрыгивая чуть ли не до потолка. Кастрюли сыпались ей в матку. А Катюша стояла в стороне и, сморщенно улыбаясь, аплодировала.
Когда Марья Ивановна как бы очухалась, то испугалась: везде, во всех ли мирах происходил этот танец или в земном было спокойно? Она тревожно заглянула в лицо Катюши: оно было расщеплено, разорвано в хищной улыбке, но по прятавшимся глазкам было непонятно, видела она этот танец или нет.
– Продолжим чаёк? – уютно спросила Катюша.
Внутренне взвыв, Марья Ивановна присела к столу.
– Сахарку, сахарку подложи, Мария, – подмигнув, отозвалась Катенька. – Нехорошо.
Было темно. Марья Ивановна взглянула в окно. Там виднелись зимние узоры, и стекло наполовину было окутано льдом, словно на улице посреди лета стоял лютый мороз.
– Как изменилась погода, – вздохнула Марья Ивановна.
– Почему же; по-моему, очень жарко, как всегда, – равнодушно ответила Катюша.
– Как теперь жить-то будем? – надрывно спросила Марья Ивановна. – А?.. А?..
– А вот посмотри, – Катюша кивнула своей круглой, нечеловеческой головой на угол стола.
Там, одинокие, лежали сложенные листы бумаги, те самые, которые предлагала огромная рука в лесном клозете.
– Он придёт, он придёт! – завопила Марья Ивановна, не помня себя, в чёрном страхе. На ум ей пришла знаменитая любезность Кириллова. – Теперь мы от этого никуда не уйдём, – добавила она шёпотом.
– А я тебе не дам сжечь эти листы, – сурово пригрозила ей Катенька. – И не дам ими подтираться. Не для того они были даны.
– А для чего, для чего же? – закричала Марья Ивановна, словно превращаясь в воющее чёрное облако на своём стуле.
Впрочем, ей и в голову не приходило их сжигать, и крик «для чего?» скорее вопрошал об определённости, чем о реальности, которая и так вошла в дом с этими листами. Марья Ивановна боялась к ним даже прикасаться. Кот сбёг из дому; он предпочитал бродить по улице и спокойно видеть людей, огни, демонов, фантомы, находясь между тем и этим миром, никого не трогая и ничего не касаясь, только испытывая лёгкий кайф от такого положения и от своего бытия.
Дома же стало непонятно и вместе с тем торжественно. Точно все комнаты залил свет, прорвавшийся из иного. Катюша так прямо и купалась в этом свете. Впрочем, она его принимала за другое, за своё. Марья Ивановна же бесилась, хотя ужас не позволял особенно раздрызгиваться. Листы по-прежнему лежали на столе. Марья Ивановна не ставила рядом даже чашек и тянулась обедать в стороне, на полу, рядом с собственной тенью. Катюша же была весела и всё бормотала, что скоро, скоро придёт агент из Госстраху. И сурово грозилась куда-то в пустоту. Марья Ивановна чувствовала, что долгого ожидания она не вынесет, что терпение её вот-вот лопнет, но тем не менее сделать было ничего нельзя, тем более что Кириллов о себе напоминал: то какая-нибудь пташка залетала в окно, то в ночи верещал в стене голос, то хлопал что-то у трубы, то приходила молочница.
Так шли дни. Наконец звуки и явления начали исчезать, но от этого стало ещё страшнее, потому что нахлынула тишина. И Кириллов присутствовал в ней ещё резче, чем прежде, так как его присутствие было теперь полностью невидимым. А может быть, таился не Кириллов и не какое-нибудь существо, а что-то совсем нечеловеческое, протяжённое, не связанное с Кирилловым. Ушки Катеньки поэтому были навострены теперь на глубь вещей, точно их одинокость уже не зависела от её сознания. «И-гу-гу!» – тихо улюлюкала она, глядя на стену. Марья Ивановна, остолбенев, ходила из угла в угол. Больше всего она боялась, что разорвётся сердце. Был отпуск, и не надо было ходить на работу.
Вдруг пришло письмо. Принёс его светлый растрёпанный мальчик с остановившимися глазами. В конверте лежал большой белый лист. Когда Марья Ивановна развернула, там было всего два слова, крупными буквами: «Приду сам».
Катюшенька, искоса заглянув в письмо, подпрыгнула от радости, но тут же злобно посмотрела на Марью Ивановну. Та потаённо, как-то не по-своему урчала: словно в её брюхе появился железный ребёнок, который передавал свои звуки через её гортань. Тело её оформилось и стало как-то крепче. Казалось, что отворились все чёрные двери в невидимое, и непостижимость входила в мир, принимая вид обычного, чтобы не раздавить аборигенов; но та, самая страшная дверь, в которую могло пройти то, от чего немедленно разорвётся сердце, была пока ещё прикрыта.
Поэтому Марья Ивановна и могла жить. Но тьма охватывала горло. Наконец, ночью, при свете звёзд, нечеловечьи дрыгнув голой ногой, она соскочила с постели. На босу ногу, с распущенными волосами, в белой длинной рубашке она подбежала к Катюше, грезившей в полусне, полуоскале. В руках Марии был крест с распятым Люцифером; этот крест в своё первое посещение принесла ей молочница.
Сурово она толкнула съёжившуюся Катюшу.
– Я выйду за него замуж, – проговорила Мария, и её глаза на уже изменённом лице загорелись. – Выйду за его замуж, вот в чём выход.
Кирилов, который проживал в доме № 21 по улице Чехова, в коммунальной квартире № 8, отдыхал в своей комнате.
– Лексей Никитич, – громко окликнула его из коридора соседка, Капитолина Петровна, – в кипяточке не нуждаетесь, я могу отлить, а то у нас воду сейчас отключат.
– Нет, нет, спасибо, – отозвался из комнаты Кириллов. Он отдыхал в кресле, у окна, выходящего в чёрное. Два члена его, обнажённые, покоились по бокам на брючинах, словно Кириллов их просушивал. Один, поменьше, был бирюзовый, небесно-голубого оттенка, другой, огромный, был неприятно красного цвета, до того кровяной, что напоминал нездешнюю вытянутую геморроидальную шишку. В руках у Кириллова была гитара, протяжённое лицо плыло в полуулыбке, а знаменитые волосатые пальцы так и ходили по гитаре, выбивая мелодичные, нечеловеческие звуки.
Вдруг Кириллов вскочил. И быстро-быстро, с недоступной юркостью поскакал вдоль стен, срывая обои. Когда на стенах остались лохмотья (всё произошло за какие-нибудь две-три минуты), он опять присел и углубился в чтение. Волосы его чуть-чуть встали дыбом, впрочем, было впечатление, что просто поднялась какая-то тёмная полоса. Два члена опять выпали из брюк, но Кириллов взглядывал на них чересчур строго, так что они были как в химере. Очень, до неприятности, странны были глаза, которые глядели в разные стороны, точно Кириллов мог видеть два оторванных друг от друга пространства.
Смрадный, но тихий кашель шёл от его спины. Гитара валялась на полу. Книга в руке слегка дрожала. Было такое впечатление, что читал он наоборот, но тем не менее от смысла прочитанного в его душе поднимался холод. Тусклые глаза, вдруг объединившись в одно выражение, иногда подымались вверх, к окну, где виделось чёрное провальное небо с бессмысленными звёздами. Кириллов тогда улыбался и гладил себя за ухом. Неслышный смех рассыпался от его существа по всей комнате.
А между тем у подруг всё пошло невпопад. Чашки падали из рук, надоедали птахи, залетавшие в окно. Но самое истеричное (истеричное посреди мрака!!) было то, что Катюша стала дико ревновать Марию к незнакомцу. Ещё раньше ужас Марии перед Кирилловым она принимала за любовь. Теперь же, когда Мария решила сама броситься в омут, прежде чем он её поглотит, и обозначила себя, воскликнув: «Я выйду за него замуж!», Катюша совсем осатанела. Она точно не хотела знать, что решающее слово остаётся за Кирилловым.
Незаметно подкравшись, со сморщенным, уходящим в непонятное личиком, она щипала Марию за жирные ляжки, как будто в её ляжках была заключена вся жизнь. Мария страдала, но молча, словно ушла в остолбенение.
Катюша кусала её нежный, матовый платок в цветах и сумрачно старалась вызвать её на контакт. Но Мария упорно молчала; её глаза заледенели, и сердце, видимо, было погружено в мертво-водяное ожидание, ожидание прихода Кириллова. Знаки опять разгорались. Но были ли это знаки?! Чем больше становился её ужас, тем ярче чувствовала Катенька, что это не ужас – а любовь. (Впрочем, ужас, после согласия выйти замуж, стал уже другим, скорее это был уже за-ужас и относился он не столько к Кириллову, сколько, главным образом, к некоему миру, который становился тождественным её сознанию). Глядя в холодно-мерцающие, с пустыми льдинками вместо мыслей глаза Марии, Катюша сжималась, лже-чувствуя в них огонь любви, всё время пускала слюну и пыталась укусить Марию.
Наконец её терпение, подтачиваемое молчанием Марии, кончилось. Ночью Катюня оголилась. Голая она была особенно, до непомерности безобразна: голова с сократовским лбом и маленькими, истинно вонючими глазками была точно приставлена к отчуждённому туловищу, которое – по высшему ощущению – всё было в каких-то ямочках, каракулях и отростах. Ноги болтались, как будто приставленные из страха. А маленький, но юркий животик свисал к гениталиям каким-то асексуальным комком. В глазах же, напротив, выражался непомерный эротизм. Оголившись, Катюша с хриплым воем бросилась к кровати Марии (после развода они спали отдельно) и сдёрнула с неё одеяло. Мария изумлённо уставилась на неё.
– Пусти, – прошипела Катюша. – Я к тебе, я хочу любви.
И она ринулась, головой вниз, как потусторонняя крыса, к животу Марии. Та своими белыми, мощными руками обхватила её голову, не давая Катюше проникнуть глубже, к самому похотливому нутру. Впрочем, её губы коснулись живого, мягкого живота Марии, и Катюша несколько раз лизнула языком эту плоть. Зад же Катеньки томно выделялся на фоне этой безобразной картины.
– Ты что? – спросила Мария, не выпуская из своих цепких рук её головы.
– Я хочу с тобой поговорить, – прошипела Катюша из-под рыхлого брюха Марии.
– И всё?? И зачем же надо лезть целоваться??
– А ты молчи побольше.
– Как у тебя распух зад, – вздохнула Мария, слегка обмякнув, но не выпуская головы Катюши.
– Ты так любишь его, что не даёшь мне куснуть тебя как следовать, – пробормотала Катюша в темноте. – Отпусти голову… Ты мне не нужна, я только хотела проверить твою любовь к нему и поговорить с тобой по душам, молчунка…
– Не пущу, – угрюмо проговорила Мария. – Врёшь ты всё.
– Ты любишь его! – взвизгнула Катюша. – И всегда любила, ещё начиная со знакомства в клозете… Я это поняла потом, по твоим глазам.
– Не говори мне о нём, – завыла Мария нечеловеческим голосом, – не говори мне о нём… Лучше кусай моё нутро… – она со слезами отпустила голову Катюши.
Голова со зловещими глазками тут же оказалась рядом, супротив лица Марии.
– Так вот как ты любишь его, – прошептала Катюша, хрустнув зубами.
– Не говори мне о нём, – отшатнулась Мария в угол кровати, – не говори мне о нём. Я его не люблю, я за него выхожу замуж.
– Ты отнимаешь у меня моё счастье, – лицо у Кати сморщилось, как у развратницы при виде Бога. – Не отнимай.
Ручки её сжались в самоё себя.
– Ты мечтательница и психопатка, Катюша, – вдруг спокойно ответила Мария. – Как можно в таком человеке, как он, видеть счастье?
– Дура! – вырвалось у Катюши.
Разговор закончился в криках, бормотании, в начинающемся бледном рассвете, в полушёпоте, с выкатываньем глаз. Мария стояла на своём.
А вскоре появился Кириллов.
– Из Госстраху, – опять раздался хрипловатый, с дурцой, голос из-за двери.
Кириллов влетел, словно сумасшедший. Хватался за голову, рвал обои. Мария никак не могла на чём-нибудь остановиться. Катюша ползала за ним чуть ли не на четвереньках, иногда совсем опускалась на пол; шипы от корявого, разбитого пола ранили её в нижние губы, и её верхнее лицо вздрагивало и томилось тогда в сладострастной улыбке. «Кириллов, Кириллов!» – вдруг вспомнила она своим за-подсознанием обозначение незнакомца и закричала. Потом опять поползла и протянула к нему смятые, пугливые руки. Кириллов совсем обалдел от неё, фыркал, сверкал своими невыразительными глазками и, казалось, ничего не понимал в Катюше. Впрочем, он несколько раз отпихнул её ногой. Наконец Мария, опомнившись, собралась с духом. Похолодев, точно ей на спину опустилась чья-то огромная, но невидимая рука, она посмотрела в глаза Кириллову и сказала:
– Я хочу выйти за тебя замуж. Навсегда.
Кириллов вдруг посерьёзнел, опустил глаза. В комнате стало душно от невидимого потока. Волосы на голове Кириллова опять встали дыбом, и он успокоился.
– Хорошо, – ответил он. – Завтра в семь часов утра у остановки «Бор» шестого трамвая.
Хлопнув дверью, он вышел. Мария на крыльце проводила его долгим, холодным взглядом. «Точно в наш дом опустилась небесная родина», – подумала она.
Катюня, забившись в угол и сжимая пухлые ручки, чернела от мыслей. Но вместе с тем возникал в её душе свет, от которого мысли исчезали и рыдания томно превращались в лёд, и кружилось в голове, как на танце.
Когда Мария, к вечеру, взглянула на неё, Катюша совсем примирилась. Губы только по-чёрному дрожали в оторванной злобе, но глаза улыбались.
– Я знаю свою судьбу, – сказала она занавеске.
Всю ночь Мария не спала, но в то же время видела сны. К шести часам утра пришла небывалая трезвость. Убралась, умылась, сухо попила чайку. Катюша наблюдала за ней выдолбленным, осторожным взором.
– Я пойду туда пешком, – кивнув ей, сказала Мария.
Катюша осталась одна. Быстро мелькали в голове непонятные линии, она прямо подпрыгивала от света внутри себя. Говорила со стульями, но трезво, с расчётом. Просто хотелось петь. Дверь в комнате слегка качалась от ветра. «Ну-ну», – говорила Катюша. Душа словно разлилась в пространстве, и от этого ей было больно, как листьям. Слёзы возвращали душу к себе, но это были уже не просто слёзы, но чёрненькие бесноватые существа, вернее, стихии. За спиной обливали водой, хохотал ветер, игриво гоготала смерть в заднице. Себя не было. Не было и тела. Но в то же время было так страшно за себя, что Катюша разучилась думать. Появилось своё, непомерное, весёлое, похожее на божество в шаманской пляске. Прошло всего несколько минут. И Катюша, одна, заплясала, заходила по всей оголённой комнате. Опухлившиеся плечики вздрагивали, тело становилось змеевидным, зад расширялся, как смачное облако, а знаменитая сократовская голова на бездушной шее покачивалась из стороны в сторону. Катюня пела, но про себя. По углам ходили вещи. На кресле лениво облизывался приблудший кот. Вдруг Катюня взглянула на время. Часы на стене бились по-прежнему тяжело, неумолимо. «Отчего в нашей комнате нет зеркал?» – подумала Катя. «Надо, надо бежать… бежать к ним, к Марии… от себя и от смерти… к ним… Ах уж эта наша небесная родина!» – встрепенулась она, заплакав. Холодно одевшись, вышла из дому.
На улицах было пусто, как после пришествия Христа. Багровое солнце поднималось вдалеке. «Смерть, где твоё жало, ад, где твоя победа?» – подумала она.
Никого не было. Пошла в одиночестве по прямой.
– Я ещё успею их опередить, – усмехнулась она, садясь в одинокий трамвай. – …Марию и Кириллова.
На остановке «Бор» было пустынно. Мария, подходя, вглядывалась в одинокие фигуры. Несмотря на вставшее летнее утро, было холодно и даже как-то сумрачно, хотя отчуждённое красное солнце быстро поднималось вверх. В душе Марии был лёд и беснование; а внутри, в бездне, чернело так, как будто непознаваемое сорвалось с цепи. Рот кривлялся, хотя взор был строг и спокоен; но, приблизившись к остановке, она захохотала. По этому хохоту можно было предсказывать будущее. Юркая старушонка, вздрогнув, бросилась от неё наутёк.
Невдалеке стоял Кириллов и приветливо махал Марии рукой. Лицо его выглядело обычным, даже слегка вялым.
– Пошли, – коротко сказал он.
И указал на огромный раскинувшийся пруд в стороне от домов, но также и от всего, что можно назвать вечным. Как это Марья его сразу не заметила! Он серел, серебрился не так уж далеко, всего в шести минутах ходьбы по пустой, безлюдной дороге.
Цепкие, выжженные глаза Кати наблюдали за ними из тьмы своих впадин.
Она стояла невдалеке, незаметно, под деревом, и смеялась. Тьма не сходила с её глаз, но из уст лился улюлюкающий дикий смех. Нехорошим, тайным бугром вздымались груди… Катюша смотрит. Вот Мария и Кириллов стоят совсем близко друг от друга, вот вместе идут к пруду. Почему солнце опускается вниз, к горизонту, на востоке? Или это потому, что видимость? Вот они медленно, почти касаясь друг друга, идут. Одни.
– Я буду прислуживать им… в их протяжённом и безличном браке, – бормочет Катя.
Мария и Кириллов, как чёрная, устремлённая нелюдь, подходят к самому пруду. Медленно идут вперёд. Скоро вода коснётся их ног.
– Через минуту их не станет, – вздохнула Катюша.
Глава III. Как вверху, так и внизу
– Он жив?! – истерически спросила мужа красивая, вычурная женщина в ободранном платье, остановившись посреди чёрного двора.
– Лиза, ты каждый раз спрашиваешь о его здоровье. Это неприлично, особенно при мне. Уверяю тебя, что это ещё молодой, здоровый кот лет трёх-четырёх, не больше.
Муж даже строго схватил женщину за рукав. Кругом были деревья, летнее ночное небо, сумрачные облака в нём, и домишки, точно хоронившие богов.
Лиза всплакнула и, размахивая руками вдаль, бросилась в тёмную дыру своего подъезда. Мокрый пёс выскочил из дыры ей навстречу. Муж – его звали Костя – нервно поспешил вперёд. Дом был двухэтажен, но по внутреннему ощущению огромен. Казалось, в нём могли бы разместиться сонмы чудовищ. Но и так там жило достаточное количество существ. Пёс, лизнув пустоту, поднял морду вверх, на облака, словно видел там миски с пропахшим мясом мамонта. Тьма облизывала дома, и в ответ кто-то деревянно хохотал в окнах. Редкие огоньки за тихими занавесками были неподвижны.
Лиза, в такт луне, тяжело поднималась по деревянной лестнице на второй этаж. «Легка она не той лёгкостью, – думал внизу Костя, глядя на неё. – А так тяжела». Скрипнул потолок.
– Почему, почему ты не ревнуешь меня к коту?! – нечеловечьи визгливо закричала Лиза с высоты на мужа.
– Сначала не зови его Господь, – ответил Костя, поправив шляпу. – У него и так есть красивое имя: Аврелий.
Растворилась дверь в узкий, чёрный, как мысль Дьявола, коридор с бесчисленными дверцами по бокам. Вместо статуй – по сторонам – стояли вещи: комоды, тюки, чемоданы с ночными горшками и картинами. Звонко запела где-то кровать.
– Проходи, проходи, – не глядя, сказал Костя.
– Всё равно я тебе этого не прощу, – прошипела Лиза и попыталась что-то ущипнуть.
Стукнул какой-то котелок.
– Я опять забыл, где клозет, – сказал Костя.
– Но ты живёшь здесь пять лет, – прошептала Лиза. – Пойдём, пойдём скорее… к себе.
– Так и знала, знала, знала! – раздался вдруг дикий вопль из клозета.
Клозетная дверь распахнулась. Изнутри, как из мешка, вылетели полуголые, уже в летах, супруги Мамоновы – Ефим и Натали. Натали, бушуя грудью, двинулась на отчуждённо-сжавшегося Костю.
– Сколько раз я вам говорила, – заорала она, – что мы не можем иметься у себя в комнате: нет места, кругом вещи и дети!
– Предупреждали ведь: не лезьте в клозет, а стучите! – завыл Ефим и упал на пол.
– Сколько мук, сколько мук, – завизжала Натали, схватившись за волосы. – Ночью спишь, усталая… Днём невозможно полюбиться: стучатся в клозет, как крысы… Так и ночью, ночью в кои раз соберёшься, не дают покоя… Покоя, покоя! – закричала она, точно зовя на помощь.
– Я не виноват, – посерел Костя, – в коридоре двадцать пять человек…
– А мы объявление для кого вывешиваем?! – злобно зарыдала Натали. Она рванула Костю на себя. – Читайте: «Занято». Занято, занято было! – неестественным, плотски металлическим голосом закричала она. – Чорт образованный, читай: «Занято»!
Из комнат стали молча выходить соседи. В перерывах между криками Натали стояла мёртвая тишина. Вышел малоухий, серый мужик – Лепёхин – и, призрачно посмотрев на Мамоновых, погрозил кулаком в открытый, пустой клозет. Старушка Низадова выползла с зеркальцем. Зевнул появившийся пёс.
«Где Лиза? – тоскливо подумал Костя. – Где Лиза?»
Лизы нигде не было.
«Наверное, ушла к коту… Теперь всё», – ужаснулся он.
– Будьте вы прокляты, – прохрипел вставший на ноги Ефим.
Он схватил Натали за обширную талию и швырнул жену обратно в клозет.
– Хоть рож ваших никогда не увидим! – крикнул он, захлопнув клозетную кровать.
Костя у себя в комнате долго не мог найти подходящий сосуд для мочеиспускания. Как лунатик, в полутьме он бродил от буфета к кровати и к столу. Тень от взъерошенной головы пучком росла на стене. Плюнув, помочился в футляр от охотничьего ружья. Лиза не возвращалась.
Луна взглянула в тёмное окно. Наконец стукнуло в дверь, и Лиза вошла. Костя уже лежал в постели, скуксившись, словно покойник, которого не так положили в гроб.
Лизонька быстро разделась и нырнула в холодную постель, рядом с Костей… Ей казалось, что муж отключён и расписывает картины чужого воображения. Но неожиданно, с лёгким гортанным криком, он потребовал любви. Лизонька, распластавшись, покраснела: в уме виделся образ кота.
– Прости, прости, прости! – почти закричала она этому образу.
Без прощения у кота она не смогла бы даже кончить.
Но сейчас было особенно тяжело. Несмотря на внутренний визг «прости», чёрная морда Аврелия с укором смотрела на неё из глубин. Костя, как чемодан, болтыхался наверху. Но даже чувственно наслаждение не было наслаждением – всё снимали униженность и стыд за соитие перед котом. Даже кожа трепыхалась от безобразия.
«Ну, прости же, прости!» – чуть не закричала она, дрыгнув ногой, и конец был вял и безразличен, как осеннее сморкание в носовой платок. «Лучше уж так, чем так», – подумала она облегчённо.
Костя, отпыхтев, опять помолодел и был бледен, как труп водяного.
– Ты слишком много приписываешь ему, – сухо сказал он, надев очки.
При упоминании о коте Лизу бросило в жар.
– Но прежде всего не называй его Господь; это вредит нашим отношениям, – проговорил Костя. – …Подумай о том, что на самом деле он более прост.
Рано утром в коридоре опять раздался истерический крик. Кричал сосед Савелий по прозванию «лохмотун» – кричал просто так, из пустого клозета, откуда только что выкатились супруги Мамоновы, оставив после себя клубок пыли. Утро наступало тяжёлое, пасмурное, ещё более мрачное, чем ночь, именно потому, что был день, а тьма не сходила. Грязно-серый свет лился в прямое, длинное, нелепое горло коридора. Где-то зашурушились занавески.
Строгий старичок Панченков, заглянув в клозет, всё-таки увидел, что Савелий не просто орёт, но ещё, по обыкновению, сбирает с себя вшей и целует их. (У него была такая странная привычка, на которую никто не обращал внимания.) Но Панченков, однако же, взвился.
– Безобразие! Безобразие! – заголосил он. – Почему Савелий здесь не гадит! Клозет не молельня и не столовая, чорт побери! Я буду жаловаться милиции!! Мне жить осталось совсем ничего! – неожиданно, тонким голоском, взвыл он. – Не потерплю! Обманщики!! Кругом надувательство!! Несправедливость!
Его уняли, бросив на него одеяло. Выходной этот день начинался, как во тьме, впопыхах, точно на головы всех были накинуты мешки. Только Мамоновы не подавали знаков. Савелий вышел из клозета совсем захмурённый и пошёл на кухню: спать. Костя ещё дремал, как выкатилась Лизонька, заплаканная и с гитарой в руках. Оно прошла на кухню и села на подоконник, открыв окно: там виделся мир: двор с деревянными постройками, лужайками и много котов, собак среди странных, монстровидных людей, теряющихся в серой мгле. Лизонька вздохнула свободней: наконец-то повеяло чем-то лёгким. Голова её стала твёрже, как чугун, наполненный мыслью. Бренькая на гитаре, она запела. На странный, не то таинственно-германский, не то мастодонтный рёв посыпались все – поближе к ней, к Лизе. Даже Савелий – на полу – дохнул во сне. Пришла старушка Низадова, молодящаяся под самоё себя, со своим вечным зеркальцем. Она неизменно подмигивала себе, молодой, квази-виднеющейся там, в зеркале. Пришёл и угрюмый Николай, который никогда ничего не понимал. Он сел на пол и закурил. Только деловое существо – Семёнкина – хлопотала возле ведра. Она рада была бы всех прогнать, но любила, когда её видели в деле.
– Грустно поёте, Лизонька, – сказала одинокая жирная дама, Екатерина Ивановна, обычно натыкающаяся на столбы.
Старичок Панченков поднял руки вверх.
– Мне жить осталось немного! – прокричал он высоким, бабьим голосом.
«Где Аврелий, – тоскливо подумала Лизонька, – красота моя предвечная, где ты?» Она отдыхала от стыда перед ночным соитием с мужем. Во время таких отдыхов томно кружилось в голове, и луна точно входила в сердце.
– Лиза, Лиза! – вдруг раздался крик, и появился Костя в одних трусиках.
Но никого не пугал его вид.
– Уходи, уходи! – пробормотал он, вдруг сконфузившись. – Ведь сейчас Сыроедов принесёт твоего, то есть своего, кота – кормить…
Соседи переглянулись. У Лизы появились слёзы на глазах. Костя, пожав плечами, мгновенно исчез. И правда, вдали, из соседского коридора, дверь в который была полуоткрыта, послышался хриплый лай мятущегося Сыроедова. Аврелий был его собственный кот, и он держал его на свободе, однако же кормил по утрам при себе. Сыроедов был маленько сильный, коряжистый, красный и со взором, точно исходящим из стали, в которой появился скованный разум. Даже спал он всегда в кепке. Все не любили его за складки на шее и потому разошлись, кроме Низадовой, которая сжимала своё старчески-миловидное, круглое личико, смотрясь в зеркало, поставленное на стол. Когда она это совершала, то ни на кого не обращала внимания; высшая цель её была – выжать из своего похотливо-сморщенного личика настоящую мужскую сперму, точно она была ею наполнена изнутри. И чтобы она – эта сперма – потекла масляной, жирной струёй из корявого носа, из больных ушей, из жизненных, с истерией, глаз. Это было бы пределом её мечтаний; иными словами, своё личико Низадова рассматривала, как думающий член. Такое своеобразное извращение прямо-таки убаюкивало её, погружая в водяную смерть.
Сыроедов, наткнувшись на спящего Савелия, выругался и чуть не уронил облизывающегося кота. Лизонька побагровела и, закрыв глаза, читала молитвы. Она всегда была не в себе, когда Сыроедов по утрам своими огромными красными лапищами кормил кота, похлопывая его по морде. То, что над котом издевались, она принимала за сон. Но тем не менее страшно боялась, что его убьют. Когда Костя возражал, что Бога нельзя убить, Лизонька плакала и говорила, что Бога – нельзя, а возлюбленного – можно, а этот, кот шептала она, не только Господь, но и мой возлюбленный в образе. Однако ещё больше возможной смерти она страшилась отчуждённости кота, особенно во время еды или молитвы. Тогда она рвала на себе волосы и рыдала целыми ночами. «Он опять не смотрел на меня, – говорила она про себя. – Как тяжко быть оторванным от собственной красоты».
Но иногда, вглядываясь в Аврелия, – даже когда он был обычным – она в муке чувствовала, что Красота и Блаженство, исходящие от кота, невыносимы, как божественная ноша, для её души. Что они столь огненны и сладчайши, что её душа сгорает в этом свете, только приблизившись к ним и не вкусив и малой доли. «Недоступно, недоступно!» – кричала она тогда и билась в забытьи.
Сыроедов, между тем, сев на корточки, кормил кота с пальцев. Лиза, осознав, что чем больше мучений коту, тем больше Небесного Света, запела. Вообще, у неё бывали состояния, когда она пела, глядя на кота. И глаза её горели тогда любовью, пред которой стушевались бы любовники-люди.
Наконец Лиза бросила петь. Костя угрюмо поглядывал на всё из щели. Дитя старика Панченкова, стоя на четвереньках сзади Кости, щекотало его пятку. Несмотря на утро, было темно.
Так и бывали они: приземистый Сыроедов, облапив Аврелия, всё совал ему в рот свежее мясо, стекающее ему по пальцам; Лизонька с размётанными волосами сидела на подоконнике и грубо-пристально, не отрываясь, смотрела на кота; только старушонка Низадова, глядя на себя в зеркало, попискивала, выжимая из своего личика что-то родное и липкое, напоминающее ей сперму, да доносились обрывочные, не то скотские, не то людские выкрики со двора.
Вдруг откуда-то взвился старичок Панченков. Пошевелив задом, он прямо-таки взмыл над Лизою и, деревянно повернув голову, посмотрел в окно.
– Никак Мессия опять во дворе, Мессия! – прокричал он, обращаясь к спящему Савелию.
Мессия, или, как он сам себя иначе называл, Панарель, появился здесь недавно, поздней весной. Откуда Он пришёл и кто Он такой – никто даже формально не знал. Жители вышеописанного дома № 7 вообще не обратили на него большого внимания. Но кое-кто, из других окружающих, зашевелился.
Внешний вид Панареля вполне соответствовал представлению о Мессии: он был высок, худ, с женственно-мужественным лицом и глубокими, не из мира сего, глазами. Общее впечатление было как от стремительного, но величественного существа. Он утверждал, что учит как власть имеющий и говорит не от Себя, а от Небесного Отца, его пославшего. Проповедовал он религию любви и обещал не более и не менее как спасти погибшее. Это последнее особенно вызывало какое-то мутное беспокойство и даже подозрение. Укусов, садист-эзотерик, который был склонен причислять самого себя к погибшим, часто, прислонившись к помойке и прожёвывая крупу, покачивал головой: «Да ведь Он идёт против мирового порядка, который не есть любовь… И что это у Него за Папенька, который противопоставил Себя Творцу». Но соблазн, однако же, был велик. Тем более что Панарель обещал «давать воду жизни даром». Часто Укусов, насладившись убиением курицы (у него не бывало оргазма без умерщвления), потный и понурый, чуть подпрыгивая, брёл на проповеди Панареля.
«Не так, как мир даёт, Я даю… Но человек возлюбил тьму…» – доносилось до него издалека.
Из понимающих один Грелолюбов, который считался извращённым гностиком, первое время не был озабочен действиями Панареля. Грелолюбов жил через забор от дома № 7. Он не раз приходил послушать Панареля, посмотреть его чудеса, но относился к нему равнодушно-спокойно, хотя и как-то по-братски. Сам Грелолюбов считал тварный мир результатом трансцендентного эротического акта Единого, а самих тварей, таким образом, – феноменами эротического воображения Творца. Духи и люди, например, – по Грелолюбову – существуя, как и весь мир, в уме Единого Бога, быди игрушками, персонажами Его трансвоображения.
Строгая иерархичность мира была следствием неравномерности отдельных моментов истечения высшей фантазии; иными словами, все существа в равной степени возбуждали Единого, и ценность неповторимость каждой личности зависела от её способности пробудить трансцендентное «вожделение» и вызвать его на себя. Тем более что в какой-то степени все разумные существа были автономны, и свобода воли не нарушалась.
В этом пробуждении и состоял смысл закулисной жизни Грелолюбова: он считал, что если он будет более сладострастен и неповторим, то и торжества, и бытия выпадет на его долю побольше. Он даже потаённо возжаждал заработать на этом личное бессмертие. С грустью смотрел он на мир: люди, твари, не зная, что они существуют ради трансцендентного эротизма Всевысшего, мало занимались собою в этом отношении, и Творец терял к ним интерес. Как окаменевшие, бездушные истуканы коченели они, теряя свой смысл, душу, эстетический шарм, превращаясь в грубую и телесную материю, то есть в отходы. Лишь некоторые ещё возбуждали нарциссическую волю Творца (такой путь был весьма двусмыслен, так как период, когда мир не существовал, соответствовал абсолютному нарциссизму Единого, Его самотождеству, и мир, чтобы существовать, потенциально должен был стремиться заинтересовать собой Творца, однако, желательно не через пробуждение до конца Его нарциссизма). Сейчас, по мнению Грелолюбова, дело обстояло особенно плохо: возгорался особый период, который в нашем сознании мог преломляться как период бреда Всевышнего, и история была переполнена кошмарными фантомами; добавьте ещё прежние окаменелости, к которым интерес был уже навеки потерян и которые, однако же, – может быть, из милости – автоматически существовали, как смердящие трупы разочарованности; плюс различные отходы, нюансы, феномены самоуничтожения; поэтому было понятно, отчего Грелолюбов так вздыхал и жаловался, что он один ещё, по существу, сознательно заигрывает с Вожделением Единого, правда, без декаданса… Таков был гностик тьмы и дьявола, и такова была его теория.
Однако Грелолюбов не прочь был по-своему оценить «дикую» религию добра Панареля. Правда, Небесного Отца, к которому взывал Панарель и Сыном которого он себя объявлял, Грелолюбов относил к одному из высших начал, а отнюдь не к самому Абсолюту.
Когда во дворе дома № 7 целый смрад малых сил (сих?) собирался послушать Панареля, рассаживаясь, где кто мог: на пнях, на деревьях, на скамейках, на земляных клозетах, Грелолюбов, отвиляв задницей, тоже шёл туда.
Не обижал Панареля вниманием и Иров, угрюмый монстр, главарь некой метафизической банды, занимающейся непотребными духовными операциями. Сам Иров лицом был тяжёл, словно окаменевшее божество, но со взглядом водянисто-властным и неподвижно-беспокойным (кроме того, лицо его было в серых буграх).
Венцом всего был Виталий, у которого сам Грелолюбов ходил в учениках, да и Иров подучивался (Укусов был более сам по себе). Виталий основал школу нового гнозиса, гнозиса, порвавшего со светоносными религиями и заключившего союз с мраком.
Сразу же после первой большой проповеди Панареля, когда малые разошлись, Виталий решил поговорить с Панарелем по душам. Около были и Укусов, и Грелолюбов, и Иров. Панарель покойно согласился.
Решили пройти тропкой, между высоким, раздражающим своей нелепой таинственностью забором и пустой канавой. Тропинка, виляя по чахло-зелёным лужайкам с облёванными бумажками, вела к одинокой, словно не от мира сего в своей мирности, пивной. Панарель шёл впереди, высокий и лёгкий, Виталий чуть сзади, покачивая точно превращающимся в мысль животом; остальные – сбоку. В пивной, напоминающей летнюю веранду, почти никого не было: только пил молоко хмурый, неразговорчивый молодой человек. Укусов, крикнув, пошёл за пивом – равнодушная официантка чуть пролила на пол. Было тепло, и дул свежий ветер, точно деревья стали живые, но по-смертному. Расселись за столиком. Панарель не отказался от пивка, но пил, не пьянея. Остальные как-то нехорошо оживились. Грелолюбов, своим видом обычно жабообразно-мистический, на этот раз был подтянут и строго смотрел на Панареля, словно требовал от него отчёта. Иров выглядел каменно-оживлённо: может быть, ему хотелось узнать вести оттуда. Но Панарель был по-прежнему светел и, казалось, находясь с ними, улетал.
Засвидетельствовали о себе. Панарель сухо улыбнулся.
… – Ну, как вам наш тёмный гнозис? – подмигнув Панарелю, проговорил, наконец, Виталий. – Я не говорю о Грелолюбове, он у нас юродивый зла, а о том… Ну, сами понимаете…
– Я пришёл сюда не для того, чтобы открывать, а для того, чтобы спасать, – ответил Панарель. – Что говорить о том, что всё равно не вместится в человеческие головы… Что я и сам-то не до конца знаю, ибо Отец мой Небесный больше меня. Но один спасённый больше любого знания, говорю я вам…
– Так это вы серьёзно: спасать! – расширив глаза от удивления, воскликнул вдруг распустившийся Грелолюбов. – Дорогой мой, вы не туда попали, – продолжил он, бесцеремонно толкнув в бок Панареля. – Здесь некого спасать… Может быть, вы не так поняли своего Папу… Или не туда занесло… Знаете, всё бывает.
Виталий, однако, одёрнул Грелолюбова. Укусов, тревожно блуждая глазами, всматривался в Панареля, забыв о пивке. Виталий грустно улыбнулся (был он приземист, и тень от его странных ушей падала на Панареля). Напротив зевала продавщица.
– Ну-с, ну-с, – пробормотал Виталий, подвинув соль в солонке к себе поближе, – ведь не скажете же вы, что для их спасения достаточно одной воли творца, а каковы они сами, какова их воля – это безразлично… Тогда вся история мира превратится в комедию, в театр марионеток… А если от них тоже зависит – то вам здесь, в миру, делать нечего… Сами Себя вы только и спасёте… Меньшая, лучшая часть человечества – давно глубоко наша, до последней капли спермы, по последнего вздоха, сами же вы говорили, что «человек возлюбил тьму»; а как возлюбил, это мы даже лучше вас знаем, ибо тьма стала их душою… Другая часть, подавляющее большинство людей на земле, – вообще несущественны; они сдёрнули с себя все маски и пришли к своей сущности, а сущность их – небытие… Не мешайте им навечно умереть… У них нет даже пародий на богов, есть только пародии на обезьян… Духовная и вечная жизнь для них непосильное и нелепое бремя… Спросите любого из них об этом, он даже не поймёт, о чём вы его спрашиваете… А я уверен, что если бы даже поняли, не захотели бы никакого бессмертия. Небытие в виде «жизни», то есть грязное ничто – их сущность здесь и, надеюсь, полное небытие – их будущее там…
– Только поэтому Я и пришёл сюда: чтобы победить мир, – ответил Панарель.
– Послушайте… дорогой мой, – уркнув, по-своему интимно опять обратился к нему Виталий, – зачем вы здесь?.. То, что мы здесь, это понятно: мы любим ад, мы теплы к нему, наша душа и его геенна – сродни, и потому его боль – наш хлеб насущный; мы посланы адом, который желает преобразиться, чтобы объять весь мир. И если вы, как вы говорите, сын Божий, то мы тоже знаем, чьи мы сыны… Мы сыны ада, и на земле потому, что возлюбили ад. Вы даже здесь, среди этих скотов, зверо-роботов слышите то, что они не услышат даже волею Бога – хи-хи, – ибо есть в душе нечто, куда не имеет доступ даже Бог… (вспомните вашего Мейстера Экхарта)… Да, да, вы и здесь слышите музыку сфер, зато мы здесь слышим адский хохот, который они тоже не слышат, но который нам слаще, чем ваша музыка сфер… И неизвестно, что ещё приведёт к высшему Концу… Зачем, зачем вы здесь?!!
– Сыну Божьему надлежит отдать свою жизнь за род сей, неверный и лукавый, – ответил Панарель. – Он будет предан, распят и убит, но воскреснет из мёртвых и вознесён будет… И оставлю здесь церковь для спасения их.
– Ничего у вас в этом мире, везде, среди людей, где бы вы ни были, не выйдет, – пухло вздохнул Виталий. – Они способны только жевать да изобретать свои машины, чтоб лучше жевалось… Если спасёте, то считанных, кто и сами, может быть, спасутся. Ваша церковь превратится в камень… Ад? Спасение от него? Думаю, даже подвалы ада побрезгают ими… Ад им ещё надо заслужить. Они выбрали своё будущее. Они «думают», что после смерти ничего нет – и так действительно будет, для них. Для них и здесь в духе ничего нет. И это своё «ничего нет» они перенесут в вечность. Те же, кто «верят», по сути, неотличимы от неверующих… Их невозможно спасти.
– Неужели вы думаете, что Я это всё не знаю? – вдруг раздражённо прервал Панарель. – Но помните: то, что невозможно человеку, возможно Богу…
– Да полно… Уж не ошиблись ли там – нелепо! – случаем, – вдруг захохотал Грелолюбов. – Скорее, они всего-навсего просто трупы. Знаете, бывает такое квази-воскресение мёртвых… Так что тут всё беспредметно.
Ожирев личиком, он подмигнул Панарелю. Укусов расплескал пиво. Панарель встал. Через минуту они уже выходили из пивной. Грелолюбов, опять набросив жабообразность, семенил около Панареля, отламывая веточки с попадающихся деревьев.
– А всё-таки, – подкрикивал он, обращаясь руками на себя, – может быть, то, что мир сейчас, в некотором смысле, так воплощён и утратил связь с потусторонним – это тоже своего рода спасение. Может быть, будет совсем утрачена эта связь, и после многих столетий они утвердятся только здесь, даже в смысле физического бессмертия, защитив себя таким образом от нечеловеческого. Ведь здесь, под защитой тела, они смогут стать, как господа в хлеву… А сейчас к этому только переходят – отсюда неизбежно то, что видим: жертвы, трупы, омертвение и исчезновение… Тогда наша задача – тоже устроиться здесь, в посюстороннем (в конце концов и для нас это тоже безопасно и выгодно: ведь от добра добра не ищут, плевать на невидимое, останемся здесь), но так как мы не можем без духа, без отчаяния, без провалов и абсурда, без всего высшего, то мы в конце концов перенесём потустороннее сюда и хотя спасём мир от вечности во скоте, но и привнесём бездны… Хотя, может быть, и без всяких тамошних крайностей… Нам же лучше… Любовь к аду любовью, но иногда и у самого дух захватывает… Хочется передышки… А? – Грелолюбов на ходу, болтая ножками, заглянул в глаза Панарелю.
Наступила тишина. Панарель вдруг медленно стал уходить от них. Виталий тоже куда-то исчез.
На истоптанной, точно слонами, тропке остались трое: Грелолюбов, Укусов и Иров. Где-то выл не то человек, не то кошка. Хохотали дети.
– А всё-таки: Он так прекрасен, – вдруг сказал Укусов. – Ничего подобного в миру не было… Что мы можем ему противопоставить?
– Мерзость, мерзость нашу! – вдруг закричал Иров, до того молчавший. Лицо его словно тяжело задымилось в сером. – Про мерзость нашу забыли!? Ибо как Он велик в Красоте своей Неизреченной, так мы мерзки в своей бездности. Мерзости, мерзости побольше! Не гнушайтесь даже малой, человеческой.
Дальнейшие события приняли несколько странный, вычурный оборот, когда выяснилось, к кому конкретно пришёл Панарель. Во-первых, он старался обходить обитателей дома № 7, то есть Лизоньку с Костей, кота Аврелия с его хозяином, Низадову и т. д., точно они действительно были хоть и живые, но намертво в лапах Виталия (про Виталия говорили, что он может совершать чудеса, даже будучи мёртвым). Учил же Панарель в основном близживущих обитателей, соседей. Но вскоре оказалось, что и к ним он пришёл, может быть, не как к главным: потому что с особенной страстью учил Панарель среди различных животных. Когда весть об этом дошла до гностиков, Грелолюбов даже запрыгал от смысла. «Звери, по существу, во всяком случае многие из них, – души людей, отставших в своём развитии, – подумал он. – И Панарель решился на великий подвиг: прийти не только к малым сим, но совсем к окостеневшим!.. Только на каком языке он будет с ними разговаривать?» И правда, здесь были трудности. Собрав вокруг себя, на заброшенной лужайке, между помойками, целое море разнообразных тварей, Панарель, разумеется, не говорил по-человечески: он то оборачивался в полукота-полусобаку, то вставал на четвереньки, то выл. Укусов, не раз наблюдавший за этими сценами из-за помойки, плакал, вытирая грязным рукавом лицо: велико было смирение Панареля и желание его спасти самую, казалось, ничтожную тварь. «Приидите ко Мне, труждающиеся и обременённые, и Я вас успокою… ибо Я кроток и смирен сердцем, и бремя Моё легко», – вспоминал Укусов слова Панареля.
Не раз Панарель бегал наперегонки с дворовыми собаками, ел с ними из одной миски. «Возможно, тут какие-то непонятные для нас шифры, – морщась, думал Укусов, – и магия, действующая только на животных… Он внушает им некоторые данные на их же движении или языке… Возможно, в их уме отражается Панарель как высшая сила в виде собаки-кота, и это ведёт к сдвигам в их душах… Ну и ну… А может быть, он хочет их убедить, что он и они – это одно и то же, и он в них, а они нём… Хе-хе».
И Укусов уходил к себе – мраковать.
Нередко люди тоже присоединялись к этим сборищам, и Панарелю приходилось то лаять, то говорить человеческим голосом. Великолепны же были эти картины, когда Панарель, как некий дух, метался среди этой разношёрстной толпы трубочистов, профессоров, идиотов, собак и истерически мяукающих кошек. Постепенно люди со своей назойливостью стали вытеснять животных, но разницы было мало. «Что вы время зря теряете, – шептал на ухо Панарелю Виталий. – Они вас за огородное чучело принимают, и люди, и собаки». И точно, Панарель дивился неверию их. «Кусни, а то не поверим», – сказал ему один пожилой человек, повернув к нему ухо. Панарель куснул и сказал: «Блаженны не видевшие, но поверившие».
Тяжело было также с учениками: никто не шёл. Панарель выбрал, правда, одного старого изодранного кота и толстого человека, полудурка. Кот, однако же, от страха обмочился и чуть не издох, а с человеком тоже получился конфуз. Панарель хотел было для начала, чтоб испытать его веру, перепрыгнуть с ним с крыши одного сарая на другую, соседнюю: расстояние было пустяковое, иной, даже самый плохонький, физкультурник вполне мог бы перескочить. Но человек, однако же, умудрился провалиться и упал в канаву. Панарелю пришлось его подлечить и отпустить с миром.
Между тем весть о Панареле охватила окрестности. От скуки к нему стекалось много народу. Особенно развлекали людей чудеса, которым они тут же находили «объяснения». Последнее было настолько смешным, что Грелолюбов ждал, что Панарель вот-вот рассмеётся: однако улыбку Панарель оставил где-то далеко, может быть, у отца. Больше всего чудес было связано с воскресением из мёртвых: причём попадались преимущественно собаки и кошки.
Нередко люди звали его к какой-нибудь жуткой, только что погибшей кошке; окружали тесной толпой: все такие взлохмаченные, с красными лицами; дети пытались его ущипнуть; некоторые большие дяди дышали ему в затылок; насторожившись, смотрели, как Панарель прикасается рукой к трупу; и дико хохотали, когда кошка оживала и вскакивала; под трубное улюлюканье она обычно, наметавшись, бросалась сквозь толпу вон; хохот всё время возрастал и преследовал кошку; нередко её потом ловили и снова убивали. Детишки с добродушной хитрецой по нескольку раз в день теребили Панареля воскрешать одну и ту же кошку, которую они – после каждого воскресения – неизменно вешали. «Кто не будет, как это дитя, не войдёт в Царствие Небесное», – сказал как-то Панарель про одного ребёнка.
Но взрослые особенно любили играть с ним в шашки. Вечерами, после проповеди, нередко устраивались сеансы одновременной игры, где Панарель сражался один на ста – ста двадцати досках.
Взрослым было лестно обыграть Сына Божьего. Потные, издавая какие-то странные, петушиные выкрики от страсти, они во что бы то ни стало стремились выиграть. Коты вертелись тут же. Если кто-нибудь выигрывал – из наиболее развитых, – то прямо-таки возносился душою, считая себя равным Господу («может быть, он и взаправду Сын Божий, чем чорт не шутит», – думал иной). Он смеха некоторые показывали Ему язык. Другие – себе на уме – насмехались: «Сын Божий, а в шашки не у всех выигрываешь». Но всё же такой он был им более приятен, нежели когда творил чудеса. Вызывал же недоумение он у многих через воскресение мёртвых. Были, которые страшно обозлились на него из-за этого. Прежде всего, от воскрешённых собачек и кошечек не стало отбою на всей улице. Они вертелись под ногами, нагло заглядывая в глаза своим бывшим хозяевам, урчали, просили еды. Вообще же, после воскресения они стали необычайно нервны: кусали свои хвосты, гонялись за тенями. Гвалт стоял во всех дворах.
Иной раз ночью в окна заглядывало и чьё-нибудь усопшее человеческое рыло. Деточки гонялись за ним по утрам.
Слава Панареля росла. Всё больше и больше народу по-своему симпатизировало ему. Кое-кто предлагал свои услуги; один сиворылый, стриженый человек, озираясь, судорожно отозвал его в сторону и сказал, что может помочь ему устроиться на работу: продавцом в пивной ларёк.
Под конец Панарель взмолился. Отойдя от всех к реке, белой, словно слёзы, Он, прислонившись к дереву, возопил:
– Отче! Не о себе молю, а о том, чтобы Слово Божие пришло к ним. Пусть, если надо, оно оденется во все земные, глухие одежды: пусть это будет стон кошки, крик птицы, мычание коровы. Если через Меня недоступно им это, обрати Меня в змею, в барабанного идола, во что хочешь, лишь бы Оно пришло к ним во спасение их. Пусть они поверят ему в устах идиота или ребёнка, в устах женщины или ослицы, но пусть придёт!.. Святый Отче!
После молитвы мало кто видел Панареля. Часто Он оставался один. Изредка – в стороне – замечал людей, играющих в футбол или свистевших про себя. Какой-то голос шептал ему: «Если ты даже спасёшь их от ига материи и скотоумия, о их ада и от их небытия, то уверен ли ты в том, что высший мир в конечном итоге дарует им благо? Выдержат ли они там непосильную ношу? Не уничтожит ли их свет? Может быть, есть возможность для них здесь обособиться, храня лишь горстки света?»
Этот голос удивил Его: как будто кто-то упорно не желал понимать Его миссию. Но больше всего поразило его молчание Отца. Он всегда чувствовал: Я в Отце и Отец во Мне, и это «чувство» было больше, чем обычное горение духа в нём. Горение, которое всё-таки распаляло его тело, перенося в бездную, бессмертную реальность, с которой Земля с её хлопушками и взрывами была видна только как грязный и зловонный плевок. Это было пламя, благодаря которому Он мог сказать: «Радуйтесь, Я победил мир!» Но связь с Отцом была ещё беспредельней; в Отце он видел себя вынесенным в столь мощную, но далёкую от мира область, о которой бессмысленны всякие вопросы, но которая несла его в себе, как серебристую звёздочку. И в то же время была каким-то непостижимым образом в нём. Но теперь эта связь неожиданно и грозно порвалась. Он чувствовал в себе всё тот же дух и огонь, и свет вечности, но то самое запредельное вдруг померкло для него. Это было настолько неожиданным, что Он и не знал, что решить. Погрузившись в Себя, Он слушал вращение времени, шёпот духов, вздох Неизречённого, тайны стирающихся клише; видел мерцание ада и пересечение сил, игру знаков; но теперь Он был один. Почему?
Однако ничего не оставалось, как продолжать свою миссию. Надеясь, что связь восстановится, вспыхнет снова…
В миру продолжалось всё то же… Учеников не было… Но слава его росла… Однажды Укусов обомлел: он увидел Панареля стоящим на балконе второго этажа; балкон выходил в тесный проулок между высокими заборами. По этому проулку или, вернее, канаве шли толпы людей и приветствовали Панареля; некоторые плясали, но большинство очень резво пело лихую песню: «Он хороший парень, он хороший парень» и хлопало в ладоши; Панарель же, стоя на балконе, преобразился: он выглядел не то обезьяной, не то монстром, не то просто каменной глыбой. Дети махали ему ручками.
Укусов обернулся к проходившему мимо Грелолюбову и кивнул головой:
– Дальше идти уже некуда… Это последняя точка. Даже когда Он лакал из миски и оборачивался псом, было не то.
А на следующий день у Панареля появился двойник: откуда-то из помойки вылез человечек, точь-в-точь похожий на Панареля, в таких же жестах и одухотворённости, но как-то уже в иной интерпретации.
Первым делом он подскочил к двум здоровым, отолстевшим от одурения котам и, потрепав одного по белой мордочке, провизжал:
– Помните, что вы – боги!
И потом быстро скрылся за помойкой, подмигнув напоследок истинному Панарелю.
Иров прозвал этого двойника очень просто и коротко: Саша.
Иной раз этот Саша грозился кулаком из-за какого-нибудь прикрытия – самому Виталию.
Панарель неожиданно исчез.
В этот же день уставший от своих операций Иров наткнулся около забора на пятерых старичков, несущих кое-как холодильник. Про них с подобострастием говорили, что они уважают холодильник, как божество и отчитываются перед ним, стоя на четвереньках.
– Ну… Ну, – сказал Иров, когда старички остановились, чтоб передохнуть. – Вы считаете себя ниже холодильника и его – вечным!
– Конечно, – пугливо ответил один старичок. – Он нас переживет… А потом: по нему топором ударишь – и ему ничего, а по нам топором – и нас не будет… Разве нас с ним сравнишь!
И старички двинулись с места.
Старичков этих, поклоняющихся холодильнику, однако ж, скоро сурово одёрнули за ересь. Но Панареля никто из милиции и других местных властей не разыскивал: они его принимали за затейника и даже собирались наградить. Так что тюрьма ему не грозила.
Панарель снова, через несколько дней, появился у дома № 7, утром, как раз, когда там разыгралась известная сцена с котом Аврелием, и старичок Панченков, выглянув в окно, покричал: «Никак Мессия опять во дворе, Мессия!»
Этот крик равнодушным эхом отозвался в коридорах дома № 7: его обитатели никогда не ходили на проповеди и чудеса Панареля – точно чувствуя на себе – во сне – тяжёлый взгляд Виталия.
Лизонька – когда Сыроедов унёс кота – укатила к себе: плакать. Костя ушёл за пивом. Кажется, был выходной, и наступила своеобразная тишина.
Что творилось за окнами дома? В три часа дня раздался, однако ж, стук в квартирную дверь: то ломился Грелолюбов. Его по неестественности уважали в этом обществе. В хохотке, по тёмным уборным, рассказывали друг другу, что-де у Грелолюбова – ушастый член. Ушки-де рудиментарны и маленьки и находятся у основания члена, однако же перед соитием разбухают, и Грелолюбов помахивает ими, как слон, перед тем как броситься на женщину. Ещё говорили, что он может подслушивать этими ушами. Более тайные уверяли, что во время соития ушки уходят внутрь, словно бестелесные, и Грелолюбов ими там непрерывно махает, так что женщине кажется, что она летит на шабаш. «Люблю ушки евойные», – говорила обычно Екатерина Ивановна, которую Грелолюбов чаще других выделял.
На сей раз Грелолюбов был немного не в себе. Повертев головой, он посторонился и всё спрашивал про Лизонькиного кота Аврелия. Сыроедов, позабыв обо всём, тут же выскочил из какого-то угла со своими расспросами. У него была привычка криком обо всём расспрашивать, больше о непостижимом. Грелолюбов еле укрылся от него в закутке. Сам он был пьян и плохо держался на ногах, но внутренне был трезв, так как всё утро чувствовал своей задницей нацеленный на неё невидимый член. Перепутавшись в уме, Грелолюбов вилял задом, куда-то скрывал его, гладил, обливал одеколоном, но ничего не помогало. Из своей комнаты Екатерина Ивановна гулким, грудным голосом зазывала его.
– Не до тебя, не до тебя, Катька, – бормотал Грелолюбов, путаясь в тайнах своих последних снов.
Дикий крик застал его где-то у света. Неподалёку стоял Лепёхин и, повернув своё серое лицо к окну, в котором виделись смутные черты какого-то явления, мёртво орал – он всегда орал, когда видел что-нибудь вечное. «Опять, опять эти узоры», – бормотнул Грелолюбов. Землистость поглощала лицо Лепёхина, но из маленького, красно-сморщенного рта, всё время уменьшающегося, лился крик, точно вечность была непознаваема. Чей-то мелкий-мелкий хохот раздавался то там, то сям. Но как только появлялся Грелолюбов – все в страхе разбегались.
Вдруг Грелолюбова рвануло к Екатерине Ивановне. Она, распустив свои пышные руки, тянулась к нему, приподнимаясь с постели (дверь была полуоткрыта). Чёрным кустом мелькнул ничего не понимавший Николай. Грелолюбову же захотелось вылить себя в Екатерину Ивановну, может быть, тогда не так остро будет чувствоваться этот невидимый член, нацеленный ему в задницу. В ней – в заднице – он предощущал холод адского соития с потусторонним. Извиваясь спиной, как будто она превратилась в змею-искусителя, подмигивая затылком Невидимому, он с визгом бросился на Екатерину Ивановну. «Зад, зад утепли только… руками, руками!» – визжал он каждую минуту, словно чувствуя себя не только в Екатерине Ивановне, но и ощущая на себе – сверху, у зада – слепую волю холодного сладострастия.
Крик стоял во всём коридоре. Только одна Семёнкина драила на кухне свои кастрюли. Когда вопли стали затухать, из комнаты с измученным, воспалённым лицом вышла Лизонька. Аврелий мяукал где-то на чердаке. Дверь в квартиру была почему-то открыта, словно обозначая перелом, и какие-то типы то и дело мелькали на лестничной клетке, заигрывая со своей тенью.
Вдруг в дверях обозначилась фигура Панареля. Курчавое дитё бросилось от него в сторону. Усталый, с горящими глазами, Панарель тяжело шёл по коридору. Супруги Мамоновы юркнули перед его носом – в клозет. «Я умру, умру скоро!» – завыл в своей комнате старичок Панченков. «Скоро!» – точно отозвались все стены. Савелий, проснувшись, глотно урчал, глядя на Панареля и приглашая его выпить на двоих. «…а тому радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах», – говорил Панарель, словно про себя. У какой-то лестницы, опять ведущей во двор, его остановил взъерошенный, астеничный, с бледным, точно лающим лицом, человек. Он уже давно преследовал Панареля, и фамилия его была Ферченко.
– Я хочу вас спросить! – закричал он. – Укусов… Укусов…
– Что Укусов?
– Укусов повадился, говорят, маленьких девочек пятилетних насиловать… Но ведь это же бонапартизм, – завизжал Ферченко, меняя свой голос на другой, нечеловеческий. – Да, да… бонапартизм… Потому что я могу насиловать только их куколки… Да, да, я брожу по детям, когда они играют у песка, краду их куколки и тотчас убегаю… Насилую рядом, где-нибудь в кино… Если не нравится, то несу обратно, девчонкам… Расколдуйте меня, освободите!
– Веруешь? – спросил Панарель.
– Расколдуйте!!
– И хочешь освободиться?
– Не хочу, не хочу! – вдруг заверещал Ферченко уже третьим голосом. – Я только завидую Укусову. Ведь бонапартизм: насиловать малолетних… А я только куколки! Да ещё за мной бегут!!! Не хочу, не хочу, не хочу!
Панарель молчал. Странные, сверхживые глаза его были в глубокой тоске и точно по стенам.
Откуда-то сверху послышался вопль Лизоньки и её мутное хихиканье, мигом она оказалась около Панареля. Снизу, из щели, выглянула голова Савелия.
Лиза с ненавистью взглянула на Панареля.
– Пошёл вон! – закричала она. – Опять пришёл в наш двор проповедовать?.. Люди, люди! – завыла она, обращаясь к голове Савелия. – Он хочет съесть моего кота!.. Да, да, он его выслеживает и скачет за ним по ночам по крышам!.. Чорт немазаный, на кого ты руку поднимаешь?!
Появился, как тень, Лепёхин. Панарель молчал.
– Помалкиваешь, – злобно взвилась Лизонька. – Я тебе покажу, Сын Божий! – подступилась она к нему, заглядывая в лицо. – Ишь… Мой кот – и Сын Божий, и Дух, и Отец, и возлюбленный мой во плоти… А ты – нечисть, водяной, оборотень, загогулинка! А ну, поцелуй меня, если любишь моего кота…
И Лизонька пристукнула ножкой.
Панарель был недвижим.
– Убирайся вон! – взвизгнула Лизонька, как-то неестественно подпрыгнув.
Сверху, с каких-то дыр и провалов, послышалось шмыганье Кости – он по обыкновению измерял логарифмической линейкой тело Лизонькиного кота. Голова Савелия погрузилась в сон: он умел спать стоя. Лепёхин изумлённо, как на несвойственную вечность, смотрел на Панареля. Его маленький рот совсем вобрался в себя, а большое, серое лицо было, как землистая луна, светившаяся своим мутным светом.
Панарель стал удаляться. Все трое – он, Лепёхин и Лизонька – оказались во дворе. На лестнице осталась одна сонная голова Савелия, торчавшая снизу. Ферченко же куда-то исчез.
– Я натравлю на него своего кота! – вопила Лизонька, распустив руки в воздух. Взгляд её стал тяжёл и упёрся в одну точку. – Да, да… Он будет лаять и гнать тебя со двора!
Панарель уходил в сторону. Из-за помойки высунулось личико его двойника и прокричало, обращаясь к Лизоньке:
– Дерзай, дщерь! Вера твоя тебя спасла!
Лепёхин сел на траву.
День окончился как-то сумрачно и непонятно.
Следующие дни потекли, как во сне в снах и в то же время реально, словно обнажилась бездна. Всё смешалось – и трупы, то есть обычные жители, и Панарель, и гностики, и обитатели дома № 7. Панарель совершал какие-то таинственные, может быть, не предусмотренные им самим обряды. Сонмы котов вились около его ног. Но молчание Отца становилось всё глубже, словно верхняя связь между ними теперь отсутствовала. Лизонька среди оргий (кот Аврелий казался сонным) бросалась на Панареля: «Кто Тебя послал – знаешь. А кто нас послал, таких мерзких? Ответь!» – и смотрела на него взлохмаченным, словно сквозь сетку, ненавидящим взором. Костя вдруг стал совсем сморщен: то ли его добило Лизонькино отношение к коту (он уже не мог с ней полноценно совокупляться, а только кричал, как кошка), то ли ещё что. Он стал более приземист, ручки сделались, как слабоумные крылышки, которыми он только махал, бездействуя, глаз же получился сосредоточен и словно оторван от его существа. Он начал почему-то голыми руками охотиться на голубей, и иногда ему удавалось поймать. Душить же не душил, а только поглаживал, сидя на корточках, и приговаривал: «Глазки у голубей мерзкие, как у ангелов; недаром они имеют к ним отношение».
Стоявший обычно рядом с ним Ферченко, вожделея, смотрел на голубей: ему казалось, что пуговичные, жестокие в своей вещественности и отчуждённости глаза голубей отражают отношение ангелов к человеку. От этого у него незримо, словно у богини, вставал член и ум мутился от желания изнасиловать голубя, особенно эти пуговичные стеклянные глазки. Это была бы победа над его слабостью к куколкам.
Не раз Костя приподнимался и махал издалека руками Панарелю: тот призрачно виднелся где-то за деревьями. Ферченко же весь дрожал: задница его подрагивала, глаз стремился к голубке, а из кармана торчала куколка.
Однажды разыгралась совсем уже безобразная сцена. Костя поймал голубку и, ужаснувшись через её глазки Подножию Ангельскому, возопил от радости, что ангелы не воплощены и им нет доступа в физический мир. «Вот уж воистину – бодучей корове Бог рога не даёт!» – кричал он. От счастия он предложил млеющую голубку на изнасилование Ферченко. Ферченко смущённо повёл ушками и даже раскраснелся от стыда. Но Костя был настроен по-доброму: бери. (Сам Ферченко почему-то не решался ловить голубей). Панарель виделся где-то далеко за заборами, как шагающая башня. Но из-за помойки уже вылезал, готовый на всё, его двойник Саша. Через некоторое время картина получилась несусветная и жуткая: Ферченко упал на колени, куколка выпала на траву, и сам он, накрыв голубку, являл собой престранно и вполне непристойное зрелище; а вокруг чуть ли не хороводом кружились какие-то люди. Некоторые падали. Дело в том, что Грелолюбов решил немного оживить трупы. Он так устал от бесконечного томления в заднице, от неги, от ожидания совокупления с незримым, что почти заболел: то есть решил пообщаться с людьми. Ничего, разумеется, не вышло. Только самые лучшие, и то под хмельком, положительно и с хохотом восприняли внешнюю сторону соития Ферченко с голубем. Их пришлось чуть ли не ткнуть носом в эту сцену, иначе они решили бы, что ничего нет. Пьяненькие, весёлые, одурманенные водкой, они подумали, что Грелолюбов нарочно подкупил Ферченко для их веселия. Как людовидные столбы, они подплясывали вокруг свернувшегося в клубок и раскрасневшегося Ферченко. Лепёхин, раздув рыло, серое, как туман, грозился на них кулачком, ни в чём не принимая участия. Вдруг из угла вышел вечно молчащий Николай с гитарой. Сел около Ферченко, у бревна, и запел. Грелолюбов изумлённо уставился на него. «Как-то идёт не так!» – остолбенело подумал он.
Но он был доволен. Вскоре выползла сама Низадова с миской каши: погреться на солнышке да посмотреть на умом ретивого Ферченко. Но больше смотрела в миску, которая ей казалась миловидным зеркальцем. Хохотал Костя. Где-то из щели появилась настороженная голова Савелия. Из-за помойки шелестел двойник Панареля Саша и приговаривал: «Не чтит, не чтит Панарель своего Папеньку… Папа велел всем во мраке жить…» С крысой в зубах перебегал дорогу почему-то встряхнувшийся кот Аврелий. Уже слышно было томное, изнебесное, но с провалами, пение Лизоньки.
Грелолюбов, распустив брюхо, словно командующий, бродил вокруг своего хаоса. «Люблю зло наше», – похрюкивал он, похрюкивал он, поглаживая себе живот и лоснясь от непознаваемого. Изредка он слегка подпрыгивал и делал плавное движение рукой около своей задницы, словно отгоняя нацеленный на неё член. При этом глазки его теплели от удовольствия во безумстве. Дрыгнувшись, осмотрел мир: шипение извивающегося Ферченко, столбовидных людей, мадам Низадову, чтящую самоё себя в миске с кашей, безмолвного Панареля вдалеке, Свершающего свои непонятные действа. С особенной неприязнью взглянув на Панареля, Грелолюбов ещё раз оглядел всё и вздохнул, обращаясь к своему Богу: «Обрати, Господи, их всех в тени, а оставь только меня».
Скоро как-то стало нехорошо, словно между разномирностью появились щели, и подул ветер. Ферченко, нелепо улыбаясь, встал на ноги, и голубка выпорхнула из-под его мокрых ног. Вдруг из-за подвалов, из-за заборов, просто из травы стали вылезать какие-то потные, разгорячённые люди. То были воскресённые. Шум стоял вокруг, точно пространство изменилось. Так просто и вместе с тем уже не отсюда. Среди воскресённых виделись всякие: Грелолюбов различал даже необычайных. Костя, покраснев, сжав кулачки, уже бросался на огромного рыжего дядю, вылезающего с упорным выражением глаз. Но вдруг откуда-то появился Виталий. Он взмахнул рукой, точно ударяя всех, и сказал:
– Предоставьте мёртвым оживлять своих мертвецов.
Одним летним, нечеловеческим в своей отрешённости утром Грелолюбов вышел на полупустынный двор дома № 7. В окне Кости и Лизоньки кто-то махал длинным платком. Поглядев на кота Аврелия, Грелолюбов, обнажившись, присел на столик: погреться и помечтать. Иногда одиноко махал ручкой, словно отгоняя от зада что-то невидимое, но в то же время антропоморфичное. Хохотал, глядя на солнце. Но личико было в тоске по неслыханной, трансцендентной мерзости. Тенью почувствовал где-то сбоку Виталия; тот шёл мимо, точно на чей-то зов из глубин потустороннего пространства. Только ушки невидимо морщились. (Майка сползла ему с плеч, обнажая неестественное в своём самодовлении тело).
Грелолюбову показалось, что Виталий совершил перед этим такую чудовищную мерзость, которую нельзя выразить даже на языке ангелов. «Как он огромен, как до дрожи огромен… там, на закате», – подумал Грелолюбов. Одинокая фигура Виталия виднелась где-то у черты, точно ничего рядом с ним не существовало. Не хватало ещё, чтобы он поднял руку, как бы приветствуя то, что должно появиться на горизонте.
– О зле, о зле нашем, – воздыхал между тем в уме Виталий. – О двуединстве молюсь: о Боге и Тьме… О том, что отрицает самого себя и открывает бездну… Об абсолютном отрицании молюсь: об отрицании Богом самого себя и об истечении этого отрицания к нам, к тварям… Полюбить хочу это зло до конца, ненасытно… Ибо в любви этой нет уничтожения зла и она абсурдна… Она есть разрыв, свет перед тьмой, который не разгоняет тьму, а, напротив, её сгущает; любовь эта есть светильник тьмы, и возгорание её и сладко, и коротко… Двуединый, пошли мне эту любовь, чтобы она повела мой разум во мрак… Дай мне светильник тьмы!
На этом закончил Виталий. И вдруг пошёл, пошёл не только по земле, но куда-то ещё, хотя по видимости просто шёл. «Скоро, скоро… увидимся», – махнул он рукой Грелолюбову.
Грелолюбов так и замер, оставшись. Его доброе лицо и толстая задница точно подёрнулись грустной дымкой.
Между тем вдали от дома № 7, там, где обрывался город и начиналась поляна, небольшой лес и овраг, бродил одинокий Панарель. Его мысли были об одном: об Отце и о великом разрыве с Ним. «Я в Отце, и Отец во Мне», – вспоминал он, и ему виделись огромный круг, незаходящее солнце и то, что Он и Тот, который за пределом мира сего – одно. Как бесконечно ему было быть ещё до сотворения в предмирном круге, в руках Того, Кто был Им. И пылать в сверхнебесном, солнечном море любви, идущим от Себя, который больше, к Себе, который рядом. И потом, здесь, на земле, хотя многое исчезло, этот жар не оставлял его: он чувствовал его в сиянии, исходящем от своего лица; чувствовал, когда смотрел в холодное, пустое небо; ибо Он был не только в Себе, но и ещё где-то далеко-далеко, перед миром, у самого исхода, и в то же время у Себя. Он любил себя в Отце и Отца в Себе. Но «Я и Отец – одно» и «Я люблю Отца» и «Отец возлюбил Меня», и это так торжествующе, так безмерно отрадно, так беспредельно, ибо Любящий и Любимый сливались в одно, и в сути это была Любовь Самого Себя, который больше, к Себе. Он был там и в то же время был здесь, и тот, который был там и который был беспределен, лелеял его в своих руках. Здесь, на земле, это была его личная религия, в отличие от той, которую он хотел оставить людям во спасение их. Их спасение было его главной задачей на земле; его же религия или, скорее, сверхвера, могла быть только для него. Да, да, Он любил Себя Собою, любил прежде основания мира такой бесконечной любовью, что сейчас ему казалось странным, каким образом Её можно было вынести… Но и здесь, на земле, до разрыва, эта сладчайшая радость единства с Отцом, то есть единства с Собою, была с ним!! Но ведь не для этого Он пришёл сюда, в мир, это с большим блеском существовало и в вечности, нет, он пришёл «спасти погибшее». И Отец, несмотря на всю свою любовь к нему, послал его в этот бездонный мрак, называемый миром, в окружающий подземный холод, где слышалось даже внебожественное пение!! Да, да, ради этой чаши он и пришёл. Но почему тогда вдруг всё переменилось, точно его Я, которое больше и которое был там, ушло от него, почему померк свет, что сдвинулось во вселенной?!! Всё шло, как было задумано, до того как померк свет. Но теперь всё переменилось. Уже нет учеников, а одни беззубые, хохочущие трупы. Уже нет знания оттуда, а есть только стон из бездны. Неужели Отец оставил его одного?.. Неужели здесь он не восполнил чего-то в Отце? Как он может быть разлучён – даже на время – с Тем, который «возлюбил Меня прежде основания мира»? Новая тайна угнетала его, и взор был обращён в Самого Себя; дул ветер, и несуществующие деревья покачивались, как призраки; и вместе с тем нужно было завершать свою миссию уже Одному, без Него. Мимо, не обращая внимания, проносились некие человечки, гоняясь друг за другом в каком-то странном, неестественном подскоке… Прошёл парень, дующий в трубу. Быстро юркнула чёрно-красная кошка.
Особенно потрясло Его изменение предначертаний. На Его глазах – на глазах у всех потрясённых ясновидцев – рухнуло астральное клише будущего. Уже не быть Ему преданным и распятым, не быть вознесённым на небо. Не восстать из мёртвых и не встретить Марию на дороге. Не стонать на кресте рядом с распятыми разбойниками. Некому будет сказать: дети. Но за всем этим разрушением уже виднелись новые черты… Взамен Голгофы и распятия и казни еле прозревал иная страшная картина… И темнело у Него в глазах, не потому что он не хотел идти до конца, а потому что не знал, что всё это значит. «Ибо Отец мой покинул Меня». Но нужно было совершить и выпить чашу до дна, несмотря на катастрофу в потустороннем. И Он решился не противиться новому, непонятному предначертанию, хотя перед глазами стояла всё более выявляющаяся в своей чёрной безысходности и вырванности картина, картина, имя которой было: Его будущее.
Медленно Панарель удалялся от этого запустелого места. Мелькнул человечек, убегающий от самого себя. А как же те, ради которых Он пришёл, малые сии посреди чёрного неба?.. Но их судьба была уже вне.
…Через несколько дней Иров решил поговорить с Ним. Его каменно-блуждающее лицо было воспалено от злобы.
– Я ненавижу тебя, – тихо сказал он, приблизившись к Господу.
Они были одни за пустынными домиками, у леса.
– Прежде, нежели пропоёт петух, полюбишь меня так, что не сможешь этого вынести, – ответил ему Господь.
И Иров ушёл к себе, во тьму.
Там, ворочаясь в самом себе, ночью, почувствовал он прилив нечеловеческой любви к Господу. Словно его существование раскололось надвое.
К утру он вышел в сад и встретил там Валерия… в светлом миру – Укусова.
– Ты скорбишь, потому что полюбил Его? – содрогнувшись, спросил у него Иров.
– Его невозможно не любить, – заплакал Валерий, как женщина. – Я не могу теперь целовать своих деток!! – закричал он высоким голосом, в истерике, поднимая лицо вверх, к небу. – Его образ стоит передо мной… Что-то уходит от меня… Я люблю Его, и этого я Ему никогда не прощу.
– Этого и я Ему не прощу, – медленно ответил Иров, и его неподвижное лицо с водянистыми глазами сдвинулось.
– Что же ты предлагаешь?
На следующий день Господь появился один на поляне, у реки, вдали от домов. «Сыну человеческому суждено быть съеденным, – думал Он. – Вот скоро солнце опустится за деревья, и там, на дороге, покажутся они… Отче! Избавь от часа сего, и для сего ли часа Я пришёл?!.. Но пусть будет воля неведомая!»
Там, на дороге, показались одинокие фигуры Ирова и Валерия. Как чёрные, потусторонние точки надвигались они. Когда спутники приблизились к Господу, Иров бросил на Него взгляд, прямо в глаза, и заплакал, потому что понял, что Господь знает всё. Знает, что суждено Ему здесь, на земле, и не хочет этому противиться.
– Что делаешь, делай скорее, – сказал им Господь.
Валерий пошёл в лес за сучками. Иров разгрёб яму. Когда всё было готово, Иров, зарыдав, ударил Его несколько раз ножом в грудь и руки. Господь стоял, прислонившись к дереву. Его мысли были о Небе и о Себе – там. Его миссия спасения была закончена, и завеса опустилась, но оставалась неразгаданной тайна: разрыв с Отцом, обозначивший чёрную перемену на земле; оставалась будущая жизнь в Нём. «Отец мой имеет жизнь в самом себе», но, может быть, и в самом чистом свете заключена тайная трагедия, недоступная всему воплощённому??..
Когда Иров, словно в забытьи, наносил свои последние удары, глаза Господа были уже закрыты для мира: Он в духе посылал только предсмертные лобызания Себе, Небесному, столь внезапно отдалившемуся от Него, и видел бездонный свет, в котором были глубина и тайна, столь далёкие от всего живущего… Последнее Его слово было: «Свершилось…»
Иров и Валерий, мокрые от слёз, поедали тело Господа, отрезая от него кусочки и поджаривая их на костре. Земля была пуста и мертва.
Глава IV. Куры и трупы
Конец длинного коридора строения номер восемь, что в Лианозове по Пыльной улице, делает загиб, образуя тёмный угол, вернее, обширный закуток, в котором пять или шесть комнат-квартир. Рядом, в глубине, собственный клозет с несколькими толчками. Но решительнее толчков здесь выделяются лица людей. Да и сами обитатели хороши. Они выходят из тьмы, как одеревенелые боги неизвестного, тайного племени.
Взять хотя бы Саню Моева. До описываемых здесь событий никто о его внутренних странностях и не слыхивал. Если не считать, конечно, пения рожка. Но об этом сам Саня охотно и, пуская слюну, рассказывал по вечерам. Дело состояло в том, что когда он мочился (а мочился Саня по нескольку раз в день), то неизменно откуда-то из глуши – только для его уха – раздавалось таинственное пение рожка. От этого у Сани не раз бывали нервные расстройства, и он пытался даже расчёсывать свой член гребешком. Больше никто ни из какой глуши пение рожка никогда и не слыхивал. Хотя сам Саня просил подслушивать. На последнее особенно клюнула сластёна Евгения – гибкая женщина лет тридцати, жиличка комнаты номер три. Именно благодаря своей сладостности. А сластёной она действительно была до абсурда и даже после половой оргии подмывалась компотом. Её били за это, ругали, но она от себя никогда не отказывалась. Часто, особенно летом, только прослышав, что Саня, тяжело крякая, идёт в дворовый клозет, она выскакивала из своего окна, туда, где бледное небо и просторы, и настраивала своё ухо на «глушь». Оттуда, из «глуши», и доносилось до Сани нежное, хотя и немного диковатое пение рожка.
Но сама Евгения никогда ничего не слышала. Нередко, вернувшись в комнату, она залезала в слезах под кровать. И какие-то томные запахи порой через полураскрытые двери доходили до нюха одиноко бродивших по коридору обывателей.
Её муж – Миша – жил рядом, в углу и, наоборот, никогда не шевелился ни на какие знаки. Это было потому, что вся чувствительность Миши сосредоточилась в половой сфере. В быту, в обыденной жизни, он даже надевал на свой член байковый чехол, который заботливо сшила ему родная сестра. А во время соития часто кричал: «Ой, мама… Ой, мама!»
Отпадали также угрюмая старуха Анфиса, любившая в жизни только плясать, и работящий мужик Григорий, который (по отключённости своей) с течением жизни потерял членораздельную речь, объясняясь занырливо, односложно и улюлюкая, как живая труба. Напротив, единственный интеллигент в закутке-коридоре, несколько странный Семён Петрович, прислушивался. Однако ж ничего не слышал. И после этого, как правило, пытался писать свои доносы на кошек.
Жена Моева – Груня – не принимала всерьёз слух о пении рожка; она, мясистая и пристукнутообразная (в здоровом смысле этого слова), на вопрос о моче и рожке только повторяла, выпятив на собеседника вместо глаз огромные груди:
– Санька уврёт… Уврёт Санька… Ничего не было.
И после этих слов всем хотелось выть. Выть, потому что такой уж был у Груни голос.
Но больше всего нервозен Саня становился, когда пение рожка связывали с его платонической возлюбленной Евдокией, у которой от разврата выпали почти все зубы и которую Саня в мечтах своих особенно выделял. Эта тридцатипятилетняя женщина жила у самого края закутка и любила петь. «Горемычная», – говорила о ней бабка Анфиса, проплясав.
На бабку иногда нападали приступы слезливости, и тогда она, промелькнув вонючей тенью, неслышно заскакивала к кому-нибудь в комнату и, подобравшись сзади, тяжело клала руку на плечо, что-нибудь просюсюкав потом. Жильцы шарахались, порой падали, но Анфиса отвечала:
– Родные мы друг другу… Родные… Ведь в один тувалет ходим, один… Да после этого мы все друг другу матеря, – и убегала, оскалясь.
Итак, кроме пения рожка, на виду вроде не было особенных тайн. Исключая намёки. Например, около строения, поскольку место было полупригородное, стоял общественный курятник, где держались подсобные куры. Да и вообще, на воле гуляло много кур, принадлежащих Бог знает кому. Из-за этого, между прочим, часто бывали драки.
Но однажды… Впрочем, день этот начался как обычно: с очереди. Дело в том, что клозет в закутке коридора был единственный на весь этот бесконечно длинный, с заворотами, коридор, и хотя в клозете стояло несколько толчков, как в женской, так и в мужской половине, всё равно трудно было уложиться, и, по множеству жителей, порой, особенно в часы пик, возникали огромные очереди. Некоторые приходили с книжками, с картами строения мозга, с научными брошюрами о том, что ни Бога, ни души нет. Надо было скоротать время, а науку любили все, тем более что иные работали специалистами. Гоготали, обменивались мнениями о том, что ничего нет, хлопали друг друга по задам. Впрочем, не всегда. Иногда возникала мертвенная, нелюдимая тишина. Как в могилах, из которых ушли покойники. Только вдруг возникавшие визг и полудраки напоминали о жизни, о бытии.
На этот раз всё было сумрачно и одиноко. Даже плакат о том, что «нет загробного мира», упал на пол. Груня, супружница Сани, стояла в очереди уже полчаса. Терпение кончалось. Она была последней. Как только распахнулась клозетная дверь под буквой «Ж» и выскочила рваненькая старушонка с газетами, Груня забежала внутрь.
В этой кабине было почему-то два толчка, почти рядом, и на одном из них сидела профессорша, не жена профессора, а сама специалистка, оказавшаяся по воле судеб в этой коммунальной квартире. Груня, мысленно харкнув, юркнула на толчок, который заскрипел. Профессорша изучала карту головного мозга и до того была погружена в своё занятие, что плакала. Она думала о том, что, наконец, нашла в мозгу человеческую индивидуальность, и теперь в сотый раз доказано, что души нет и что всё содержится только в мозгу. Грязные слёзы, слёзы счастья, текли по её щекам, и она вспоминала, как трудно ей приходилось в этом практическом мире из-за слишком большой направленности её работ на идеальное, на теорию, на Добро, а не на святую практику по обработке действительности. Груня, отличавшаяся стыдливостью, чуть не уснула – для защиты – под слёзы и всхлипы профессорши. В последний момент, перед соскоком, Груня вспомнила, что надо подтереться, и механически сунула руку в щель, где хранились газеты. Оцарапав кисть, она рванула что-то вроде тетради и вместо газет на самом деле увидела тетрадку, на обложке которой слезливым почерком было написано: «Интимный дневник Саши Моева».
– Ну и ну, – обалдела она и чуть не плюхнулась вниз. – Надо почитать.
Но то, что Груня прочла в первых строках, так поразило её, что, грубо соскочив с толчка, – под возмущённый вопль профессорши, которой помешали думать, – она убежала в свою комнату. Но и в комнате туман (который она почему-то назвала «научным») плыл перед её глазами. Сквозь «научный» туман выплывали строчки, а больше всего мокрые места на тетрадке, явно напоминавшие размытые слёзы.
Слова же были совершенно несусветные, вроде: «Пеструшка сегодня опять не дала… Весь вечер тайком гонялся за белой курицей… Весь живот в пуху… Как больно клюётся петух… За что?». И кроме того, было нечто совсем неприличное.
Наконец Груня ахнула, но тут же подумала, что её наверняка разыгрывают. Пожевав язык, она вспомнила, что Саню действительно недолюбливал большой серый петух, надутый и надменный, который частенько подскакивал и клевал его в зад. Саня не раз скрывался от него по чердакам. Решив, что такая дурашливость петуха очень некстати пришлась к этому розыгрышу, Груня решила всё-таки в намёке расспросить соседей. Она сразу же направилась в клозет, к думавшей профессорше. Мимо просеменил запоздавший старичок с ночным горшком.
Профессорша ещё сидела на толчке. Груня зашла и с несвойственной ей робостью прижалась к стене кабины.
– Что тебе, Груня? – строго спросила профессорша, поправив очки.
– Бывает, что мужик живёт с курою, как с бабою, или не бывает, Софья Олимпиадовна?! – протрубила Груня, прикрывая застенчивость похабным смешком.
– Выйдите вон! – взорвалась профессорша. – Вон отсюда… Наука… Наука!! – закричала она громким, зазывающим голосом.
Груня, выругавшись и ничего не осознав, выскочила из кабины. Но почему-то тупо успокоилась. Однако ж спустя полчаса, по бабьему любопытству, задала этот же вопрос странному старичку Семёну Петровичу. Тот – к её удивлению – сначала промолчал, а потом вдруг осторожно повернул к ней заросшую седыми волосами головку и подмигнул. Этот подмиг разозлил её, и ей захотелось швырнуть в старичка кастрюлей…
Незаметно, в хлопотах, прошёл вечер. Груня, у которой был отгул, тихо, в комнате, поджидала Саню, попивая чай из самовара и навалившись грудями на липкий стол. Тетрадка, в доказательство гнусного розыгрыша, лежала на самом видном месте.
В дверь что-то стукнуло, и на пороге показался Саня. По её мыслям, он возвращался с работы, но был почему-то весь в пуху и с неестественным, диким взглядом, как будто только что сошёл с небес.
Увидев тетрадку, он закричал, взвизгнув что-то про пьянку, из-за которой он тетрадь не в тот тайник засунул, и начал, бегая по комнате и стуча грязными подошвами, мерзко каяться. Почему-то вскрикивал, упоминая о курах, что имел дело не с естественными отверстиями, а с поверхностью куриного тела, которое бьётся и т. д. Груня завыла. Глаза её заблестели, и она встала. Грудь (на которой, по сновидениям Сани, росли, как сочные огурцы, мужские члены) высоко вздулась и обнажилась. Она колотила себя в эту обнажённую грудь красными кулаками и кричала:
– Это от мене – к курам!!! Это от мене – к курам!!!
Больше она ничего не могла выговорить. Казалось, красные сосцы её взбухли от крови и возмущения. Саня до того перепугался, что опрометью выбежал из комнаты.
Как ни странно, к ночи гнев Груни немного поулёгся. «Чему бывать, тому не миновать», – успокаивала она себя (Груня любила здравый смысл). Но ярость всё же не давала покоя. Саня, тихий и присмиревший, всё время назойливо лез со своими поцелуйчиками. Груня, по бабьей слабости, не отказала. Саня на этот раз был старателен, не кряхтел и держал добрые полтора часа. После чего разомлевшая Груня не знала, то ли ему дать по морде и простить, то ли обласкать и простить. Однако утро показало всё в ином свете. Проснувшись, Груня обнаружила, что она вся в курином пуху; пух забился чуть ли не в матку, обложил бигуди. Ярость и желание отомстить за измену закипели снова. Дала затрещину полусонному Сане. Тот промямлил, что-де куры хорошие, и, желая польстить Груне, пробормотал, что любил их из-за ихнего сходства с нею. Получил ещё затрещину. Обмываясь, Груня ещё больше была не в себе. Внутри настойчиво сверлило: надо донести, чтоб Саня понёс суровое наказание. Но одно удерживало её: ещё ночью появилась у неё успокоительная мысль: Саня крепок, как мужик, только с нею, а-де к курам он почти импотентен. Но в этом ещё надо было убедиться. Поэтому за завтраком Груня предъявила опять перетрусившему Сане ультиматум: или она на него донесёт, куда следует, или он покажет ей свою куриную любовь. Для чего ей это было нужно, Груня, конечно, не упомянула, и судьба Сани теперь зависела от его импотенции.
При слове «донос» сам Саня так одурел, что только кивнул головой, но потом подскочил и, схватив Груню за руку, как в забытьи, потащил её в курятник. Груня, матерясь, кричала, что ей надо сначала позвонить на работу, чтобы попросить отгул.
Наконец, отзвонившись, Груня вбежала к курам, но то, что она увидела, удовлетворило её уже с обратной стороны: куры летали по всему сараю, кудахтали, Саня плакал, кидался на них, как в объятия, и особенно норовил настичь одну большую и жирную курицу… «Хорош… Хорош… Мой-то», – только и приговаривала Груня.
Наконец Саня повернул к ней заплаканное лицо и проревел, что у него ничего не получается. Он был в истерике. На дикий шум потянулись соседи. Груня решила, что надо закругляться; «непутёвый», – сурово-ласково одёрнула она Саню. Анфиса плясала уже где-то невдалеке. Бежал Миша, на ходу надевая на свой член байковый чехол. Улюлюкал, как живая труба, Григорий. Казалось, сами куры понимали его. Впрочем, все решили, что была милиция. Только Евгения, высунувшись из окна, настраивала своё ухо на пение рожка. Компот тёк по её губам.
Груня затолкнула Саню в дворовый клозет и, несколько обрадованная, вприпрыжку побежала на работу. Саня заснул в клозете. И во сне видел Бертрана Рассела.
Раскрытие такого порока осложнило дальнейшую Санину жизнь. Порой он цеплялся за свою платоническую влюблённость в Евдокию, в ту, у которой от разврата выпали зубы. Груня одним напоминанием о возможности доноса держала Саню в чёрном теле. Заставляла теперь стирать бельё, мыть пол, выносить горшки.
Саня пытался найти злополучную тетрадь, но она как в воду канула: так надёжно Груня её припрятала. С течением времени ей даже стало нравиться такое положение: действительно, Саня был тих, как мышка. В отношении кур Груня убедила себя, что Саня-де впал в слабоумие и что эти куры для него – как игрушка для сопливого дитя. Правда, иногда ревность укалывала её в самое сердце, и она бросала сердитые взгляды на какую-нибудь чересчур крупную курицу. И никогда не отказывала себе в удовольствии полакомиться курятиной. «Что ж, женщина есть женщина», – меланхолично думал тогда Саня, поглядывая на жующую жену. Сам он никогда не притрагивался к курятине, проявляя несвойственный ему гуманизм. На этой почве происходили иногда сцены, нарушавшие более или менее стабильный ход семейной жизни.
– Будешь жрать или нет?! – однажды, совсем рассвирепев, заорала на него Груня в присутствии гостей.
– Не буду, – побледнев, ответил Саня.
– Жри, жри и не выплёвывай, – протрубила Груня.
– Да для меня это всё равно что человечину есть, пойми ты, в конце концов! – завизжал Саня, вскакивая со стула. – Дай я лучше их съем! – закричал он, указывая на гостей.
– Саня, донесу, – сурово пригрозила Груня.
Саня сразу обмяк, сел за стол и, давясь, начал жрать. Гости переглядывались…
И хотя после таких сцен вроде всё опять входило в своё обычное русло, Саня внутренне всё больше грустнел. Появился даже намёк на религиозность.
Так текли дни. Но одно событие совсем доконало Саню. Началось оно в один чистый воскресный день, уже ближе к осени, когда все разбрелись по лужайкам, а в клозете, на толчке, осталась одна платоническая Санина возлюбленная Евдокия, которая надрывно пела там, бренча на гитаре. Рано утром она «выблевала» в толчок своё дитя, зародыша, и её тянуло к этому месту. Саня, как кот, жмурясь от удовольствия, сидел на полу коридора, подслушивая это пение из клозета. Он любил, когда Евдокия пела. Незаметно к нему подошла бабка Анфиса. На этот раз она не плясала.
– Профессорша-то помирает… Недолго ей осталось жить, – прошамкала она.
Саня вскочил: слово «смерть» больше значило для него, чем «любовь».
– А я не знал, – оторопел он.
Действительно, дни профессорши, как говорится, заканчивались.
Бедняжка недавно узнала об этом и поэтому целые дни грезила о пересадке мозга. Она считала, что её «я» заключено в мозгу, причём буквально, даже без всяких намёков на современные варианты психофизического параллелизма и т. д., не говоря уж об ином. Странно, что её так взволновало приближение собственной смерти. Точнее, не столько взволновало, сколько ввергло в дикое, какое-то антинаучное недоумение. Раньше она относилась к этому проще: для неё главным было доказать, что всё в мозгу, в материи, причём особенно её раздражало всякое упоминание о бессмертии души. Она готова была скорее сама издохнуть, уйти в ничто, лишь бы, как она выражалась, «ничего такого не было». Не раз, услышав где-нибудь слова «дух», «бессмертие», она тяжело плевалась, как верблюд, и швыряла в обидчика, чем попало. В этом отношении приближение смерти ничего не изменило. Но зато ей страшно захотелось выжить (чтобы, между прочим, иметь возможность доказывать, что ничего нет) и при этом выжить строго научным путём. Иного пути, кроме пересадки мозга, она не видела. Поэтому профессорша ужасно боялась, что её соседи-враги, пока она будет в забытьи, оторвут и стащат её голову вместе с мозгами и спустят в толчок. От страха она нацепила на голову шлем и так и бродила в полусне по коридорам и клозетам. Её домработница, полуняня, следовала за ней. Письма, информации, мольбы и угрозы сыпались в Академию наук, в Министерство обороны, здравоохранения и т. д. Больше всего норовила профессорша, чтобы её мозг (её «индивидуальность», как она говорила) пересадили свинье.
Почему именно свинье, а не человеку, она, конечно, не могла почувствовать, а просто ссылалась на то, что-де трудно сразу для такого эксперимента найти существо. А ей до рёва не терпелось, тем более что оставшиеся дни всё уплывали и уплывали. Когда сделалось совсем плохо и уничтожение ощущалось уже всей шкурой, до печёнок, профессорше особенно яростно захотелось увидеть себя свиньёй. Ей даже снилось, что пересадка удалась и она выбрана Главным Учёным Мира; в Лондоне собрался конгресс; хрюкая, она поднимается на кафедру; читает доклад по генетике; ей рукоплещут… Сон, правда, странно окончился: вдруг присутствующие учёные коллеги разом обратились в свиней, и все они, вместе с ней, с визгом и хрюканьем, сквозь которые прорывались научные формулы, бросились в море…
Проснувшись, профессорша мучительно думала, при чём здесь море и куда делось стадо свиней, но надумать ничего не могла. Настойчиво звонила даже в милицию, чтобы торопили с пересадкой. Впрочем, все инстанции молчали.
Тем временем Саня, поражённый страшной новостью, всё время вертелся у дверей профессорши, расспрашивал врача, который отмахивался от него, как от буки.
Неожиданно произошёл ещё один сдвиг. К дому подкатили две роскошные машины, из которых вышли более или менее элегантные люди. Из них пятеро были иностранцы, а один – московский учёный, друг профессорши. Оказывается, этот друг решил хотя бы утешить профессоршу в ответ на её письмо и захватил с собой приехавших с визитом американцев – в основном своих учёных коллег и одного художника. Все пятеро были знаменитости.
Они быстро выпрыгнули из машины. Худощавый и высокий мужчина, мистер Брант, мировой специалист по грядущей пересадке мозгов, однако, был до чудовищности манекенен. Сане даже показалось, что у него нет глаз. Другой, генетик, выглядел так, что его жену вполне могли бы судить за скотоложство. Один же внутренне был до того элементарен, что вообще находился ниже уровня всякого восприятия, и описать его нет никакой возможности.
Моментально вся компания, за исключением куда-то скрывшегося художника, втиснулась в комнату профессорши. Сане, благодаря знанию языка, удалось тоже пролезть, вроде бы в качестве своеобразного гида. Хохотали, шутили, хлопали друг друга по плечам, обнажая золотые зубы.
Профессорша смердела на кровати. Саня рванулся было объяснить мистеру Бранту, в каком смысле надо понимать всё окружающее, но учёный оказался так глуп, что не нуждался ни в каких объяснениях. Кроме того, он считал себя агностиком, и это тоже помогало ему сохранять невозмутимость всегда и везде.
Удобно расположившись на стуле, мистер Брант развлекал профессоршу показом вполне пристойных фотографий. Профессорша весело гоготала, указывая пальцем на книжную полку с работами Бранта. До смерти ещё оставалось дня три-четыре. Хохот то и дело вспыхивал в комнате. Ради шутки кто-то предложил сымитировать (разумеется, вполне театрально) пересадку мозгов. Не было только свиньи. К всеобщему удовольствию, Саня припёр небольшую грязную свинью. Профессорша хохотала больше всех; она прямо тряслась от восторга на своей железной кровати. Домработница испуганно жалась в углу, за шкаф; ночные горшки пролились под ноги мистеру Бранту, но он оставался холоден и, лишь обыграв всё чисто прагматически, каменно хохотал…
Иностранцы улыбались в автоматически-пьяном восторге. Громовой хохот временами просто сотрясал комнату. Неожиданно появился художник, он был явно выпивши. Осмотревшись, он подошёл к Сане. Тут же оказался человек, описать которого нет возможности.
– Вы знаете, – обратился художник к Моеву, – пересадка мозга – дело будущего… Я уже не говорю о несовместимости тканей… Но у каждого есть своя мечта, я бы даже сказал Золотая Мечта, пусть и выходящая за границы возможного на сегодня… У мистера Бранта, моего друга, Золотая Мечта такова: он хочет, чтобы ему – именно ему – пересадили, хотя бы частично, мозг свиньи. Это было бы великое самопожертвование: для науки и во имя будущего человечества. Мистер Брант способен на такой подвиг. Наука знает много жертв но превратить себя ради науки в полусвинью – это уже сверхпрогресс. Конечно, в этом случае мистера Бранта ждут также и почести: подлинная мировая слава, поездки, речи, балы, большие деньги, памятник после смерти, полёт на Луну…
Человек, который был вне восприятия, безразлично молчал. Саня в основном вежливо улыбался; он хотел было спросить что-то у художника, но его поразил нарастающий гогот и хохот.
Вдруг двери распахнулись. На пороге стояла бабка Анфиса с метлой в руке.
– А ну вон отсюда! – закричала она. – Вы гогочете, а человек подыхает… Тьфу, помирает…
Но увидев, что профессорша ржёт больше всех, она так и остолбенела. Впрочем, иностранцы её и не поняли. Вскоре, однако же, одарив профессоршу электрическими игрушками-безделушками, компания с хохотом выкатилась к машинам. Через минуту «посетители», как тихо назвал их про себя Саня, умчались в центр.
А профессорша осталась одна. Она довольно похлопывала себя по животу: после такого строгого посещения ориентация понемногу возвращалась к ней. Она знала, что через несколько дней умрёт, но от этого ей было только весело. Наконец-то она убедится, что «ничего нет». Как долго ждала она этого часа, как мечтала о нём! Сколько брошюр написала об этом, сколько лекций прочла! При таких воспоминаниях румяное самодовольство появлялось на её смертельно бледнеющем лице. Правда, в глубине души она теперь бредила случайно подслушанными словами о пересадке мозга свиньи человеку, мистеру Бранту. В тайне ей самой очень захотелось, чтобы уже не её мозг пересадили свинье (она и раньше не раз говорила, что устала от своей интеллигентности и от постоянного умственного напряжения), а мозг свиньи частично, для обновления, пересадили бы ей. Чтобы хоть немного пожить другою, мечтала она.
Между тем жизнь в квартире протекала своим чередом; Саня только ходил совершенно обалдевший, и внутри его зрело решение; на время он оставил даже своих кур. Притих и петух, раньше клевавший его в задницу. О чём-то переговаривались соседи, нечленораздельно трубил Григорий; Евгения же совсем засластилась; Мишина сестра шила брату новый, в цветочках, байковый чехол на член. Вздыхал врач: положение профессорши было настолько безнадёжным, что не имело смысла не только класть в больницу, но и приходить к ней, тем более что была домработница.
В самый день смерти профессорша как-то по-железному расплакалась; желание пересадить себе мозг свиньи выплыло наружу и стало устойчивым.
– Наука… наука… наука! – громко кричала она, так, что было слышно в коридоре.
– Ась? – отзывалась иной раз бабка Анфиса, заходя в комнату.
А учёная грезила. Ей уже казалось, что пересадка совершена, и ей хотелось хрюкнуть – громко и уверенно. Но вместо хрюка выходил пустой звук, подобный гудению в трубе, звук, совершенно лишённый сладострастия. Однако профессорша в этом ничего не понимала, и ей с облегчением казалось, что она действительно хрюкает. Неожиданно ей захотелось самца, и именно свинью. Надтреснутым голосом она попросила домработницу. Та, испуганная, отошла в угол. Профессорша ворочалась. «Я – свинья, я – свинья, – бормотала она сквозь смертельную дрёму, – наука совершила чудо: я стала свиньёй… Хрю… хрю… хрю!» Огромное, тяжёлое ватное одеяло она временами принимала за самца, жирного и расплывчатого, навалившегося на неё. Машинально она задирала ноги, гудела (а ей казалось, что хрюкала) и комкала край одеяла, пытаясь впихнуть его в разлагающуюся матку.
Позвали Саню. Он робко присел рядом, на стуле. Профессорша затихла и поглядела на него наполненным пустотой взглядом.
– Александр Дмитриевич, с незаконченным высшим образованием вы, – проговорила она. – Назовите, когда я умру, ту свинью, которую пригоняли, моим именем. Зовите её именем Софьи Олимпиадовны… Она умрёт, её детей назовите… И так далее. Чтобы память осталась.
Потом учёная забылась. Свиньи пропали. В уме всплывали одни формулы. Особенно долго почему-то реяла таблица умножения, и этот инфантилизм отдавался в её ноге мучительной болью. «Только бы не было бессмертия, – бормотала она, ничего не узнавая, – только бы ничего там не было…»
Вдруг, выпучив глаза, точно увидев какую-то научную формулу, по-водопроводному крякнув, профессорша отошла в высший, не существующий для неё мир.
Труп сразу же начал разлагаться, точно отрицал самого себя. Омерзительная, но какая-то особая вонь исходила от растекающегося мяса. Домработница плакала, а свинья имени Софьи Олимпиадовны сначала было лезла в дверь, привлечённая нечеловеческим смрадом, но потом почему-то испугалась и с хрюканьем понеслась по коридору во двор.
Поэтому похороны собрали быстро. За гробом, в котором уже было одно тесто и выделялись лишь очки, почему-то нацепленные на него (может быть, в знак того, что хоронят научного работника), поплелись обыватели. Саня шёл последним. Среди провожающих было много баб. Они были до того сладострастные, пухлые и подвижные, до того наглые в своём безразличии к торжеству похорон и вместе с тем человечные, что Саня просто пускал слюну. Но когда он забегал вперёд и видел лица, от испуга член его съёживался, как мышка: до того каменны и зверины были лики, точно выдолбленные топором…
Поминки прошли совсем лихо. Саня не забыл притащить свинью имени Софьи Олимпиадовны. Груня опять заставила его жрать курятину. Саня плевался, всем мешал и чуть не сорвал с Мишиного члена новый байковый чехол. Разразился скандал. Мишина сестра прямо-таки вцепилась в лицо Сани. Миша кричал, что всё равно не сорвано, и целовал сестру. В углу ела компот его жена – сластёна Евгения. Громко плясала бабка Анфиса. Мат, смешанный с бульканьем водки, раздражал Евдокию: она любила лунное, тревожно-спокойное сладострастие. Семён Петрович, известный своими доносами на кошек, до того обожрался, что длинный, белый селитер вылез из его рта и свалился кому-то в тарелку.
Вызвали «Скорую помощь.» Свинья носилась среди врачей, улюлюкал Григорий. Но Саня был ото всего отчуждён: даже Евдокия не могла настроить его на спокойно-возвышенный лад. Все эти события, а главное, видение смерти и дамоклов меч доноса, до того измотали его, что он был на грани решения, к которому исподволь шёл всю жизнь. Это решение было связано, конечно, с христианством. Надо сказать, единственное, во что верил Саня, было: современному человеку – со всей его ситуацией – что-что, а спасение уже никак невозможно. Сколько бы он ни бился головой об стену – всё равно конец один. Поэтому Саня не обольщался найти для себя что-либо приличное в христианстве, хотя и решил креститься; наоборот, если он чем-то себя и баловал, то это лишь мыслью о том, что можно продать душу дьяволу – продать, разумеется, за долголетие; причём в сокровенных мечтах своих Саня грезил о вечном теле; крещение же нужно ему было только потому, что за крещёную душу ещё можно что-то выпросить у Сатаны, а нехристь и так уже в его власти.
Саню прямо-таки до оргазма умиляла эта идея. Она распирала его. «И так, и эдак – конец один: погибель, – думал он, – все эти бредни о спасении – просто наркотик; потусторонне так ужасно и путь настолько чудовищен, что рано или поздно погибнешь, а через Сатану всё-таки хоть поживёшь здесь, на земле, в ограждении ото всего, самостоятельно и подольше. Только надо обязательно креститься, за христианскую душу – хо-хо-хо – и больше дадут. Хорош путь, – хихикал он, – через церковь – к дьяволу». Саня – по доброте душевной – не прочь был и других привлечь на эту стезю. Единственное, что его смущало: мало дадут. В маниакальных мечтах своих он бредил вечным телом. А по трезвости иногда даже был согласен на годика два-три лишних, и то стеснялся: «за такое дерьмо – и три года жизни, – краснел он под одеялом, – да за теперешние души месячишко покинут – и то слава Богу. А что значит месячишко – тьфу!» Но потом вспоминал мгновения любви к курам, течение спермы, и выл, что не только за месячишко, но и за минуты две-три продал бы всё на свете. К тому же можно ещё было улучшиться, подрумяниться, подпотеть, набить цену, но без крещения это всё оставалось беспредметным.
Итак, события нарастали. Подгоняемый вдруг развившимся утробным страхом перед случайной смертью, Саня прямо-таки летел навстречу Сатане, правда, летел через церковь. Он всячески торопил события, хотел быстрее креститься, но мешали те же нелепые страхи: а вдруг раздавит машина, и не успею продать? Вечерами он чуть ли не забивался за диван и никуда оттуда не выходил. Груня гудела своими грудями.
В день крещения, перед походом в церковь, Саню прослабило. Его воображение, расстроенное соитиями с курами, рисовало быль – одну кошмарнее другой. То ему казалось, что ангел не допустит такого надругательства, то он будет разбит параличом прямо в церкви, на полу. То просто кто-нибудь Недоступный схватит его за шиворот и оттащит в сторону, как поганого щенка. Только созерцание куриц успокаивало его. Подхватив одну из них подмышку, Саня поплёлся в церковь. По пути он всё время визжал про себя – чтобы, как он выражался, «успокоить Провидение», – что, мол, возможно, он и не сунет своё рыло к Сатане, и крещение выплеснет его в христианство. У церкви, под нервное кудахтанье куры, он прозрел картину: к нему подходит огромный чёрный петух, величиной с одноэтажный дом, и, злобно клюнув в темя, поднимает в клюве, как червяка.
Когда Саня пришёл в имманентный вид, он стоял чуть ли не на паперти, а кура с кудахтаньем улетала прочь от церкви. Ругнув странного петуха, Саня ринулся в храм. Обряд, на удивление, прошёл очень спокойно… Отец был так смирен, что и самого Дьявола мог принять за образцового христианина.
После своего обращения Саня уже окончательно распустился, обнаглел, точно ему всё дозволялось. Он начал было даже кидаться на Груню с кулаками. И осмеливался поругивать свою платоническую возлюбленную Евдокию, не молился ей, как бывало, и упрекал за сгнившие от минетов зубы. Но знал: время не ждёт. К тому же в любой момент, к примеру, его могли бы пристукнуть. Пора уже было идти напрямик, к Сатане.
Но одно лихое изменение произошло в душе: обнаглев, Саня зарился теперь только на вечное тело. «Лишь бы не продешевить», – мокрый от пота, думал он, одинокий, под одеялом, поглаживая ляжки. Душа разрывалась от наслаждения при мысли, что он сможет вечно (по крайней мере, до конца этого мира) смердеть и стирать пот со своих жирных ног. «Только вечно тело», – выл он про себя.
В уме всё время плыла неприятная история, случившаяся с одной московской студенткой, история, хорошо им пронюханная. Девочка (она была очень проста, как все) полюбила человека, который, как выяснилось впоследствии, прошёл чёрное посвящение. Неожиданно он показал ей свою силу; о реальном мире она, конечно, не имела никакого представления: всё было вычитано из учебников; поэтому ей и в голову не пришло подумать об источнике этой силы, она приняла её как факт. Возлюбленный спросил, хочет ли она, хотя бы частично, обладать этой силой. Она с радостью согласилась, подпрыгнув при этом и вспомнив любимую химию. Немного рассмешило её, правда, то, что нужно было раздеться, распустить волосы, надеть белую рубаху и, взяв образ (картину, как она называла), босиком выйти с учителем на улицу (дело было летом)… Вечером они вышли, таким образом, и никто не обратил на них внимания. Обнажилась луна, и они очутились у безлюдного перекрёстка. Девочка, с золотистыми распущенными волосами, была по-ночному прекрасна. Учитель приказал ей встать на пересечении дорог и попрать босой ногой образ Бога, что девочка, нимало не сомневаясь, и сделала. К её изумлению, явственно послышалось ржанье лошадей, и перед ней предстал феномен эманации Дьявола. Это была великолепная тройка, царская карета, и в ней юноша с короной на голове. «Чего ты хочешь, дочь моя?» – последовал роковой и знаменитый во все века вопрос. Девочка вспомнила, что можно попросить всё, что хочешь – так говорил возлюбленный – и громко воскликнула: «Хочу японские чулки!» «Да будет так», – ответил юноша, и всё скрылось.
На следующий день исчез возлюбленный; во всяком случае, больше его никто не видел. Девочка осталась одна. Японские чулки немедленно пришли к ней: вдруг познакомилась в универмаге с женщиной, только что вернувшейся из Японии. Но скоро стала расти невыносимая тревога. Не находила себе места и т. д. Всё удивлялась: при чём здесь икона; повесила себе, из интереса, сразу три и подолгу, тупо уставившись, смотрела на них. Появился беспричинный хохот. Или просто смотрела в одну точку. Из точки иногда почему-то выплывала обезьяна, причём очень похожая на Дарвина; по ночам ей казалось, что этот обезьянодарвин расставляет по углам книги об эволюции; днём в слезах она читала своего любимца, пытаясь найти там ответы, напоминая дебила, копошащегося в детских раскладных игрушках.
Дальнейший ход Саня потерял из виду, но во всей этой истории его особенно задел мотив японских чулок. «Ну, как так можно, ну, как так можно!!!» – мысленно подпрыгивал он на одном месте. Финал этой антидрамы казался ему настолько трупным, что в его уме происходило какое-то смешение. Особенно изводила его мысль о том, каким образом такое существо – эта девочка – сможет воспринимать собственное бытие после смерти, отданное во власть нечеловеческой иерархии. И с особым неистовством он жаждал вечного тела. Путаясь в предположениях о том, как его заслужить, он тем не менее решил сначала попытать счастья сразу и обычным путём: церемониал и т. д. ему был известен.
Но чем ближе было к установленному им самим сроку, тем больше страх овладевал им. Как бы не совершить роковую ошибку, не слишком запросто угодить в ад, прозевав при этом земную жизнь. Теперь он решительно был согласен только на вечное тело; всё другое блёкло перед потусторонним огнём ада. «Надо быть осторожным, как можно более осторожным», – урчал он про себя. Вспоминал свою осторожность при переходе улиц. И решил, что, пожалуй, надо видоизменить ситуацию (пот так и стекал с дрожащей задницы). Прямое и наглое требование вечного тела могло не понравиться Сатане. Поэтому-де имело смысл совершить как бы предварительный вызов, на котором не заключать договор (при мысли о договоре у Сани сразу же ёкало сердце), а просто спросить, возможно ли для него получить вечное тело и при каких данных. Одним словом, оговорить всё до мельчайших деталей.
Наконец Саня, из патологического страха, стеснённого, правда, истерическим желанием сделать через Сатану своё бытие непрерывным, решился даже несколько сюрреально видоизменить обряд. Чтобы-де, как он успокаивал себя, не слишком воплотить для первого раза, чтобы тихонечко снизить ситуацию, обсыпать юморком и сгладить, тем более что вызов как бы предварительный. «Сглаживанье» частично заключалось, например, в том, что местом вызова был избран знаменитый общественный клозет. Образ был отклонён, и выбор пал на механическое распятие, бессознательно оставленное мистером Брантом и т. д.
Обмыслив всё и, наконец, потихонечку осмелев («безопасность, безопасность самое главное!» – визжал он по ночам в ухо Груни), Саня двинулся к цели.
Ночь была тёмная и до идиотизма безлунная. Впрочем, в клозете горел ровный, но какой-то умирающий свет. Саня, стремясь всё-таки развязать страшный узел, загнал страх в самые тайники, чуть ли не в член. Только там, в самом кончике, он, дрожа, надеялся на безответность своего призыва.
К ужасу его члена, вдруг из толчка раздался голос. Если бы затем появилось видение, Саня бы не выдержал: упал в обморок и, вероятно, член бы его оторвался (по инерции страха) и, окровавленный, свалился в толчок – в этот чёрный алтарь. Странный гул и бульканье воды сопровождали голос. Слова были: «Дам вечное, но только куриное», и так было повторено два раза. Смысл этих слов под конец неожиданно вернул Саню к реальности и к своим желаниям. Он даже завизжал, хотя где-то был совсем остолбеневши.
– А душу… душу!? Душа-то моя останется или куриная?!? – завопил он, упал на колени перед толчком. Голос оттуда надменно молчал. Внеземная тишина охватила Саню. Душа была отлетевшая и точно не здесь. Внезапно он почувствовал, что вызов окончен. Тогда дико захохотал.
– Не куриное, а голубиное!! – закричал он, вскочив на ноги.
В глазах виделся только угол с паутиною, у потолка клозета.
– Не куриное, а голубиное! – застонал он, леденея.
«Ко-ко-ко», – почудилось ему в глубине какое-то женственное кудахтанье. Не в себе, он вылетел из клозета в коридор. Там, из другого конца, навстречу ему на четвереньках полз Семён Петрович.
– Голубчик мой… голубчик! – по-бабьи, рыдая, выкрикнул Саня, выбежав во двор, в окружающую распростёртую ночь. – Вот она, вечность! – закричал он, схватившись за голову и осматриваясь кругом.
Везде была бездонная тьма.
Илья Садовников, тогда ещё молодой парень лет двадцати пяти, как-то летом, на даче, вышел во двор, чтоб испражниться около чёрной, уходящей вдаль, ямы. Он сидел опустошённо, ни о чём не думая. В это время огромная, ни на что не похожая свинья выскочила из-за кустов и намертво, как некий упырь, впилась ему в задницу, как раз в то место, откуда уже выходил кал. Илья завизжал и упал ничком, головой в землю; внешне положение у него было такое, как у истово молящихся, бьющих лбом об пол.
Свинья, возможно, и озверела бы, вгрызаясь мордой в кал и зад Ильи, если бы не птичка, вдруг стремительно вылетевшая Бог весть откуда и севшая на ухо свинье. Свинья почему-то страшно испугалась и, с хрюканьем ломая кусты, унеслась в темноту трав и деревьев… Илья долго болел: неистовое животное вырвало кусочек его задницы, который оно, наверное, успело проглотить вместе с калом.
Первое время у Ильи болезненно ныло сердце и вообще, был полный разброд в мыслях: ему стало казаться, что этот вырванный кусочек его тела имел когда-то тайно-интимный, несколько даже эзотерический смысл; он нередко в слезах гладил изуродованное место.
Но потом более значительные переживания смыли этот прилив странной, почти астрологической жалости к себе.
Дело в том, что по ночам, во сне, ему стала являться эта свинья или, как говорят некоторые мистики, «приходить». Он ясно видел её ощеренную, безобразную морду и, главное, глаза – очень тупые, но наполненные патологически-животной силой, и эта сила, выраженная в таком, как удар кулака, взгляде, была направлена только на одно – на зад Ильи, который он тоже видел во сне как бы сквозь флёр собственного, родного сознания.
Теперь Илью – и во сне, и наяву – мучили извивающиеся, копошащиеся вопросы. И главный из них был: какое он сам, в конце концов, его чистое «я», имеет отношение к этой свинье и вообще к свиньям. «До какой степени мы связаны с ним одной верёвочкой?» – думал он. И почему свинья так пристально смотрит на него во сне; и почему его родное, субъективное тело так странно, в качестве еды, притягивает свинью? А может, и в другом его качестве?
Даже нюансы мучили его: например, что именно влекло свинью к нему: его задница или кал?..
Илюша совсем обессилел от этих задач; ему были смешны «биологические» ответы, так как за всем этим он видел реальные, не поддающиеся формальному мышлению бездны…
В конце концов, совершенно травмированный и физически, и психологически, он уехал лечиться в санаторий, но поскольку понятие «травмы», как медицинское, не выражало и сотой доли его состояния, которое было вызвано обострённой метафизической реакцией, то санаторий тут был не при чём. Физическая травма, разумеется, прошла, но не больше. Вернувшись из санатория, Илья на многие годы запил. Но боль № 1 – так называл он теперь «это» – не проходила.
Да и жизнь его была достаточно одинокая. В бессмысленно-юркой комнатушке, где он жил, обитали ещё мать Антонина Ивановна и сестра Галя. Когда появилась боль № 1, он и их стал воспринимать как-то нереально, через призму этой боли. Кроме того, когда он чувствовал позыв, но него всегда теперь нападала страшная тоска. Она была вызвана не только общим унижением, но и тем, что он ощущал во время испражнения какую-то непосредственную, мракобесную связь со свиньёй, и вообще с некоей крикливой, идиотической, но вместе с тем жизненной силой, направленной в бессмысленно расширяющуюся вселенную. От тоски у него мутился ум, и мамаша вместе с сестрёнкой находились уже не в пространстве, а как бы в сгустке тоски. И плясали они тоже в этом сгустке. Иногда в припадке бессмыслия, перед тем как пойти в клозет, он жестоко избивал своих родных ночными горшками.
Впрочем, они – родные – были тоже достаточно патологичны, но только мелко, суетно. Старушка Антонина Петровна была чрезмерно похотлива и потихоньку удовлетворялась, обмусоливаясь об толстых, объёмных мужчин где-нибудь в густо набитых трамваях, троллейбусах.
– Курочка по зёрнышку клюёт и сыта бывает! – лихо, обращаясь в пустоту, приговаривала она, приплясывая у себя в доме, посреди комнаты…
Галя же часто жевала, и когда жевала, то беспрестанно говорила, в обычное же время была тиха, забита и пряталась, нередко даже под кроватью.
Часто, когда Илья собирался по-большому – а это все заранее потаённо предчувствовали – мать и сестра замирали у себя на местах и настороженно смотрели на него из своих смирных щелей большими опустошёнными глазами. Этот раздражающий мистицизм совсем расшатывал Илью. Иногда в клозете с ним творилось чёрт знает что. Со всех углов и даже с потолка на него смотрели свиные морды и тянулись к нему, но не телесно, а больше взглядом, как будто взглядом можно прижаться к человеку.
Нравственно утомлял его и выматывал также сам процесс испражнения.
Часто, встав с толчка, он был не в состоянии надеть даже брюки, и так и застывал, облокотясь об стену, задумываясь, как бы улетая вдаль…
Надо сказать, что когда он кончал испражняться, свиные морды тотчас исчезали, и он мог спокойно обдумывать своё положение… Говорят, что время лечит даже любовь, и Илья утешался этой мыслью, надеясь, что по крайней мере к старости всё это у него пройдёт, а пока надо привыкать и мучиться…
Но неожиданно – уже года через три после появления боли № 1 – его охватило странное состояние, на которое вначале он не обратил особого внимания, но которое вскоре овладело им настолько, что боль № 1 стала тускнеть. Началась вся эта история с пустяка: на вечеринке кто-то из знакомых уронил карандаш и тотчас поднял его. Илью вдруг это страшно и внезапно обозлило. И обозлил почему-то именно тот факт, что человек этот прикоснулся рукой к полу. Эта неожиданная злость была настолько странна и непонятна, что Садовников не на шутку испугался.
– Тьфу ты, чертовщина какая-то, – плюнул он с перепугу, – что он мне сделал плохого?
Но дикая мысль не оставляла его.
«Как всё это плохо, плохо», – бормотал он про себя.
– Что плохо? – вдруг завопил он. – Что, собственно, трагического случилось?
И вдруг бесконечное ощущение какой-то скрытой трагедии пронзило его насквозь. Но сознание взбунтовалось.
– Тьфу ты, сумасшествие, ерунда какая-то, просто я переел, – хихикнул он в пустой бокал.
Но смешок был гаденький, патологический, такой, каким смеются перед тем как вешают собственную дочь…
– Просто наваждение, – хлопнул себя Илья по ляжке и вышел на балкон подышать свежим воздухом.
Самое странное было то, что все остальные события происходили своим чередом: кто-то пил, ел, разговаривал о звездолётах. Илья тоже понемногу включался в эту жизнь. Вечеринка должна была длиться ещё долго-долго, несколько часов. Илья почти не пил, беседовал, даже танцевал, но иногда, например, посреди танца, мысль о каком-то большом, чудовищном горе сжимала его сердце и заставляла его биться ровно, холодно и до дикости опустошённо, как перед психической смертью.
В конце вечеринки кто-то из мужчин уронил на пол спички, естественно, поднял их. Илье вдруг стало так нехорошо, что он подошёл, побледнев, и укусил этого человека в шею.
– Педераст, педераст! – завизжали на всю комнату дамы. – Уложите его спать.
Илья глупо улыбнулся и заперся в уборной… Возвращаясь к себе домой, старался не думать о ерунде. Спал тревожно, с пронизывающими, хаотичными мыслями, но очень отвлечённо, точно он не спал, а путешествовал в пустом пространстве. Проснулся он со смутным ощущением какой-то большой случившейся неприятности, но в чём дело, он никак не мог понять. Перебирая все последние события своей жизни, он повторял: «Это в порядке, это в порядке… Так в чём же дело?»
Неожиданно его взгляд остановился на его голой матушке, которая в это время, сидя на кровати, нагнулась до полу, чтобы достать ночной горшок. Уже через секунду он так подозрительно на неё смотрел, что матушка вздрогнула и приподнялась.
– Что ты, что ты, Илья, чего ты так на мня смотришь, – махнула она на него рукой, как на чёрта. – Ты же никогда не ворчал, когда я мочилась перед тобою… Чево ты, – бормотала она, голая, прячась от него в кровать (Галя в это время была, как всегда, под кроватью).
Илья выскочил на улицу. И долго, долго бродил.
«О, какая суета! Суета! – думал он. – Разве они могут меня понять??. Но что произошло?»
У него было такое ощущение, что произошло что-то грозное и неотвратимое.
«В конце концов, – анализировал он, – установим факты. – Мне, неизвестно по какой причине, становится ужасающе неприятно, если я вижу, что кто-либо из людей прикасается рукой к полу. Я чувствую, что они почему-то становятся мне чужими, чужими… О, как это страшно… Ведь и так люди чужие, но этого часто не замечаешь, кроме того, иногда они бывают одновременно родными, а здесь… здесь… словно трое людей, которые на моих глазах прикоснулись к полу, оказались за какой-то вечной, непреодолимой стеной, и с ними нельзя уже обменяться даже человеческим взглядом. Они ненавистны».
Так думал он, и его ужасало присутствие новой боли. Когда он забрёл по нужде в клозет, то был поражён тем, что свиные морды не появлялись, если только не считать намёков, и вообще, на сей раз испражнялось не так психологически болезненно, как обычно, почти легко и радостно. Боль № 2, как всуе, на толчке, назвал он новое состояние, затмила реальность прежней боли.
В таком смятении он провёл несколько дней.
Пытаясь разобраться в самом себе, он обнаружил, что, во-первых, это страшное чувство отчуждения и злобы появляется в нм лишь тогда, когда кто-либо прикасается рукой именно к полу, а не к чему-нибудь ещё. Например, если кто-нибудь прикасался к земле, это чувство не возникало.
Во-вторых, очевидно было, что за всю жизнь каждый человек не раз прикасался рукой к полу, но для Ильи это не имело значения. Боль № 2 возникала, только когда прикосновение происходило у него на глазах и, конечно, начиная со дня той удивительной вечеринки. И, наконец, это чувство могло относиться только к объекту, а к нему самому, чего бы он ни касался, оно не относилось.
За эти несколько дней Садовников наблюдал немало случаев, когда люди прикасались рукой к полу. Его сестра Галя вообще часто всем телом лежала на полу под кроватью, и она стала быстро внушать Илье ужас и отвращение… Дома происходили скандалы из-за того, что он отказывался есть с ней за одним столом. Галочка, напомним, умела говорить только во время еды. «Тогда силы в меня входят», – объясняла она, а в обычное время молчала. Поэтому Илья особенно не выносил теперь этих трапез.
Видел он также, как соседка-старушка мыла пол, как девочка мучила на полу кошку, как упал в коридоре мальчик. На этого последнего Илья так разозлился, что украдкой обмочил его с головы до ног.
Тянулись дни, месяцы. Илья видел, что не только отдельные люди, прикоснувшиеся к полу, раздражали его, но постепенно боль № 2 простёрлась как бы на весь мир, который стал ещё более чужд, нереален, судорожен и враждебен.
Но всё-таки ведь не это отчуждение от людей и мира так испугало его с самого начала. «Ну и чёрт с ними, с людьми, да и со всем миром», – думал он. А близкие – мать с сестрой – уже и так давно смущали его сознание. Так что в злобе не было ничего катастрофического. Судорожно поразило его – и понемногу стало разрушать душу – другое: почему боль № 2 появляется от такой патологически нелепой, бессмысленной причины, как прикосновение к полу?
Действительно, чем уж так отличаются люди, прикоснувшиеся на его глазах к полу, от других?! «Да ничем не отличаются!» – пожимал плечами Илья. Так почему же одних он ненавидит лютой ненавистью, а с другими может быть иной раз ласков, добр и почтителен?
Злоба и отчуждение, таким образом, были лишь конечными результатами действия каких-то сил, находящихся вне всякого понимания.
Этот яростный мистицизм доводил Илью до исступления. Ночью, босой, в одной рубашке, он метался по сонной комнате и выл: «Почему, почему, почему?» Копаясь в самом себе, расспрашивая мать, он страстно желал найти в своём детстве, в своём подсознании что-либо указывающее на его неприязнь к полу, на сексуальные травмы, связанные с ним и т. д. Но ничего не находил. С полом у него было связано только одно – пустота. Пол никогда не занимал хоть какое-нибудь микро-место в его душе. Илья просто не подозревал о его существовании. Он даже не мог выдумать причину своей неприязни к нему. Эта бессмыслица не просто бесила, но и пугала его. «Конец, конец, – стучал он часто зубами, съёжившись у себя под одеялом. – Конец».
Он не видел никакого основания для возникновения боли № 2; словно её окружала одна бездонная вечная пустота, ничто, из которого неожиданно выплывало это чудовище. Он с ужасом чувствовал, что у этой боли нет причины, и последнюю бесполезно искать; что эта боль – голова без туловища, лес без планеты, дождь без туч. Он вспоминал свои прежние странности. Но даже самая яркая из них, боль № 1, несмотря на некоторые причудливые детали, в основном имела вполне достойное человеческого разума объяснение. Действительно, не очень-то льстит тщеславию богочеловека всё время испражняться, да ещё после того, как твой зад привлёк пристальное внимание свиньи. Тут не просто галлюцинации могут появиться.
Илье теперь казалось, что его мать и сестра ведут вполне нормальную жизнь, ибо их патология заключалась в самом существе жизни, а его последняя патология была бессмысленна и вообще лежала вне мира.
– Ну и что ж, что мать обмусоливается, – говорил сам себе Илья, – она же не виновата, что, так сказать, мир вложил ей в чрево половые органы, а мужиков у неё нет, да они и злющие… А что удивительного, что Галя говорит с нами только тогда, когда жуёт, и кроме того, спит под кроватью?!. Ведь она так напугана… Только моя патология – не от мира сего, – жаловался он самому себе.
Иногда Илья пытался мысленно возвратиться к начальному пункту, к вечеринке, и восстановить в памяти, как, откуда, из какой тьмы появилась в нём злоба на человека из-за того, что тот поднял с пола карандаш. Может быть, она появилась из воспоминаний о прошлой жизни? Или, может быть, пол – это некий символ, и она – эта ненависть – как волна дошла до него из бездны времён, из бездны первоначального, когда все мы были единый комок навсегда для нас теперь Неизвестного?
– А, воспоминания, символы, – безнадёжно махал рукой Илья, – это ещё больше запутывает дело. Я в электричестве-то, как все, по сущности ничего не понимаю, а тут воспоминания, магия, символика! Просто боль № 2 появилась из пустоты… но, возможно, связанной с какой-то чудовищной катастрофой, постоянно присутствующей в мире.
Но шли годы. В конце концов, отчуждение от людей само по себе мало угнетало Илью. «Не целоваться же мне с ними», – успокаивал он себя. Иногда он срывался: однажды, в гостях, он страшно разозлился и наорал на человека, нагнувшегося, чтобы поправить себе ботинок.
Но постепенно главная причина транса – нелепость боли № 2 – перестала так давить на него. «Ну, непонятно, и ладно, – думал Илья. – Мне от этого ни холодно, ни жарко; есть же в мире беспричинные явления, например, сам мир».
Понемногу он успокаивался и окончательно привык как к боли № 1, так и к боли № 2, как привыкают к сознанию смерти, хронической болезни, вечной разлуке…
Что касается боли № 1, то она хоть и далеко не исчезла, но, однако ж, значительно потускнела: квазигаллюцинации совсем не появлялись, оставалось только общее угнетённое состояние при испражнении, прерываемое иногда взрывами хохота; часто теперь он переключал своё сознание с одной боли на другую, когда одна из них чересчур надоедала и утомляла его… Обе они придавали необычайную мрачность всему миру, но жить всё-таки было возможно, и иной раз даже неплохонько… Ведь были всякие гаденькие развлечения…
Так прошло ещё два года. Илья избегал людей, на его глазах прикоснувшихся к полу, и был добр и ласков со всеми остальными. И вот, наконец, произошло событие, перевернувшее всю его жизнь и в какой-то мере развеявшее весь прежний кошмар.
Он встретил свою любовь в лице молоденькой девушки по имени Тамара. С отчаянием обречённого, измученного человека он бросился в это чувство, как в чистую, бездонную, всё смывающую реку.
Сразу всё прежнее – и кошмарно-жизненная патология матери, и обе боли, и смерть, и бич Божий – куда-то исчезло, и в мире ничего не стало: ни язв, ни усмешки Дьявола, ничего, кроме этой чистой, маленькой девушки, которая своей улыбкой преобразила весь мир.
Тамара обладала удивительно богатым, тонким, казалось, бездонным подсознанием, которое было озарено, однако, скорее даже не верой, а ясным, хотя и, разумеется, априорным чувством того, что в мире, несмотря ни на что, есть абсолютная чистота и Бог.
В другой раз Илья, может быть, назвал бы это инфантильностью, но сейчас он с отвращением отбросил всякое копание; Тамара была чиста, тонка, почти всё понимала, её душа откликалась почти на всякое внутреннее движение; она вызывала в нём глубокое чувство, сама полюбила его – что же ещё нужно для спасения от этой мерзости запутавшегося в грязи и рефлексии мира? Так думал Илья. Естественно, что он пошёл на свет, зажжённый во мраке пещеры.
И действительно, ничто больше, никакие сомнения, никакая боль не мучила его, когда он был вместе с Тамарой или думал о ней. Он просто забыл обо всём.
«Тамара – это ребёнок, устами которого говорит Бог», – любил повторять он про себя.
И роман прошёл все самые утончённые стадии: от платонического восхищения до постельного экстаза. И трудно было отдать предпочтение той или иной форме. У каждой находились свои неповторимые, единственные черты, своя нега, своя мистика, своё озарение, своя теплота, свой жар. Илья забросил всё на свете, ни с кем не встречался, на родственников совсем не обращал внимания, предпочитая проводить время в маленькой комнате Тамары. Даже о Господе он вспоминал, приплюсовывая к нему Тамару.
Уже прошло несколько дней после полного обладания, и, казалось, счастью не видно конца. Все нюансы предшествующих стадий сплелись в один венок. Весь остальной мир виделся, как во сне…
Однажды Илья, упоённый, проснулся на постели и влюблённо смотрел, как Тамара одевается. Вдруг его неприятно поразило, что пальцы Тамары, надевавшей чулки, слегка коснулись пола. Неожиданно сердце его заныло от тяжёлого, даже жуткого предчувствия. Это предчувствие возникло где-то глубоко-глубоко, в подсознании, и обнаружило себя только в странной, почти физической тоске сердца. Душа его ещё яснела и улыбалась Тамаре.
Прошло полдня, однако ж подспудная внутренняя тревога не оставляла его. Вместе с Тамарой он вышел на улицу; всё по-прежнему было во сне. По-прежнему его сознание упивалось Тамарой, но внутри, под сознанием, в еле проглядывающей глубине, уже бушевали какие-то тёмные, не выразимые на человеческом языке бури. От этого в глазах Ильи начала уже пробиваться тоска.
Он поехал на работу – читать лекции. По дороге, вспоминая боль № 2, он возмущался её нелепостью и убеждал себя в том, что всё это чушь, абракадабра, и, тем более, это не может влиять на его вечную, божественную любовь.
Такой ход мыслей выглядел ясным, понятным и разумным, но тем не менее он со страхом прислушивался к чёрному голосу Неизвестного в своей душе и с содроганием чувствовал, что в нём есть силы, которые не контролируются ни разумом, ни волей. Всё же он усиленно, подгоняемый страхом перед прошлым, убеждал себя в том, что боль № 2 – это чушь, и она не выдерживает критики даже ребёнка; и когда Илья заставляя действовать в своей душе только рассудок, то ему становилось даже смешно. «Ведь надо же – считать людей чужими только потому, что они коснулись пола!» – говорил он самому себе. И ему действительно делалось смешно и радостно, что такой пустяк является для него единственным препятствием в жизни.
«Пора забыть о такой ерунде!» – напуская на себя важный вид, думал Илья. Но ему сразу приходилось убеждаться, что Неизвестное также имеет свой язык, человеческая душа – не только рассудок. Когти неведомого впивались в его сознание, начинало опять ныть сердце, и он чувствовал, что, совершенно независимо от его доводов, в его душе мечется ужас.
На лекциях Илья попытался уйти в абстрактность формул, но никакие хитросплетения не могли скрыть поднимающуюся даже во время работы до боли реальную тоску. Тоску оттого, что втайне Илья уже чувствовал Тамару чужой, страшно чужой, только из-за того, что она прикоснулась рукой к полу.
Поехал он домой совершенно надломленный, но ещё не веря тому, что ему не удастся – усилием воли – подавить эту мерзкую, прилепившуюся к нему чушь.
…До чего же прекрасным бывает на земле утро! Но и на это утро, и на следующее Илья просыпался в холодном поту: боль № 2 не оставляла его. Но он по-настоящему ужаснулся только тогда, когда обнаружил, что он, стремясь подавить боль № 2, думает уже не о том, что она – чушь, а о том, что, может быть, он ошибся, и Тамара не касалась рукой пола. Что же больше всего его мучило? То, что патологически разрушились любовь и наслаждение, разрушилось счастье, которое, казалось, он наконец-то достиг.
Любовное состояние блаженств упорно, минута за минутой, подтачивалось мыслью о том, что Тамара коснулась пола и, следовательно, она чужая; как только он мысленно, всей душой порывался обнять её образ, срабатывала тёмная глубь подсознания, и внутренний, спятивший с ума Дьявол вопил в нём, визжал и пришёптывал: «Так ведь она коснулась пола… Значит, она чужая тебе… Чужая, чужая… Она далеко от тебя… Ты любишь своего врага… Это иллюзия, что она тебе друг… Она коснулась пола… Тсс!»
Этот голос, сначала еле слышный, особенно когда Илья видел перед собой ясный облик Тамары, был с нею, потом, точно сорвавшись с цепи, стал звучать не только в её отсутствие, но и моменты высшего экстаза. Он визгливым чёрным упырёнком верещал, когда Илья целовал лицо Тамары, её руки, жестоко и бессмысленно срывая блаженство; замыкал душу в тяжёлый камень, когда они прогуливались где-нибудь вдоль реки; вертляво и глубинно-гнойно срывал каждый яростный, ставший уже истерическим, порыв к Тамаре.
Боль № 2 сокрушала любовь, не давала ей опомниться, не оставляла ни минуты передышки, жгучим, смрадным гвоздём засев в душу Ильи. Всё счастье рушилось.
Илью доводило до слёз, до исступления это нелепое уничтожение; ведь Тамара было по-прежнему рядом, ничуть не изменилась и, ни о чём не подозревая, по-прежнему любила его; вот её родные черты, вот голос, который всё тот же, как в начале любви, вот она – рядом, и вместе с тем он не может её коснуться без боли, без распада и отчаяния; любовь рядом, но он не может любить, у него парализовано сердце, душа, мозг. Стоило хоть лёгким ветерком пронестись в его душе мысли о прикосновении к полу, как сердце его сжималось от тоски, чёрная тень падала на ещё свободную часть сознания, которая пока могла любить. Дело стало доходить до того, что эта смертоносная мысль, если только она не загонялась на какие-то минуты в подполье, нередко мешали Илюше овладевать Тамарой как женщиной.
«Ты целуешь ехидну, врага, ведь она коснулась пола! Она совсем не та, за кого ты её принимаешь!» Дрожью пробегала эта мысль по всему его существу, даже в тем мгновения, когда он обладал Тамарой. Это слова звучали во сне, и чей-то голос хрипло надрывался в своей властной и бесконечной нелепости; иногда ему казалось, что он слышит вой одинокого чёрта, брошенного в послесмертное пространство. Душа Ильи была расколота на две половины: одна отчаянно и беспомощно любила Тамару; другая сжигалась огнём боли № 2, и дым от этого уничтожения обволакивал ещё свободную часть души.
Жить рядом с любимой – и быть бессильным; целовать её – но механически, без всякого блаженства, убитого нелепой идеей; обладать любимой – и ничего не чувствовать; знать, что счастье – около, но реально его нет, – вот на что был обречён Илья. Это доводило его до слёз, до визга, тем более что он страдал один. «Лучше уж совсем её не встретить, – думал Илья, – чем любить женщину, которая на моих глазах превращается для меня в труп. Каждый мой поцелуй отравлен этим ядом. И, главное, было бы уж совсем всё кончено, а то ведь нет – я, допустим, целую её и в первый момент чувствую всю прежнюю прелесть, душа плещется в неземном тепле, и вдруг раз – появляется она, мысль, гадюка, и всё разбито, блаженство сорвано, тепло превращается в жуткий мёртвый холод. Мои глаза, только что растопленные в нежности, стекленеют».
– Иметь и не иметь, – рыдал Илья, метаясь по бесконечным московским улицам. – За что такие муки?.. Садизм, садизм!
Этот действительно садистский механизм действия боли № 2, когда она на какой-то момент позволяла Илье по-прежнему любить Тамару, а потом – когда нежность нарастала – жестоко уничтожать любовь, этот жуткий механизм держал Илью в капкане: он и не в силах был оторваться от Тамары, потому что мгновениями чувствовал прежнее бесконечное обожание, и в то же время блаженство неожиданно срывалось, и начинались неповторимые, единственные в своём роде мучения. «И почему, почему в самом начале?! Хотя бы год, год счастья!» – стонал Илья.
Скоро он убедился, что у него нет такой власти, чтобы подавить боль № 2; её нелепость ощеренно-потусторонне смеялась над всеми доводами разума; оказывалось, что дорогие ему люди вызывали у него дикое, непреодолимое отвращение, если они при нём касались рукой пола, но объективно ненавистные ему люди, если они, конечно, не касались пола, были ему неизмеримо менее противны, чем те, дорогие и близкие…
Лишь величайшими усилиями воли и разума ему удавалось на какие-то жалкие минуты или часы загонять боль № 2 глубоко в подполье сознания и хоть немного отдыхать около Тамары…
Но тем болезненнее становился обратный выход чудовища. Однако он продолжал упорно, с яростью маниакально влюблённого, день за днём отстаивать своё счастье. Но поражений было неизмеримо больше, чем побед.
Одно время он впал даже в самообман: не в силах побороть боль № 2 лобовой атакой, он стал бредить: вдруг в действительности Тамара, когда надевала чулок, не коснулась рукой пола, – воображал он. Целыми днями, на работе, в столовой, на улицах Илья коченел, пытаясь в деталях припомнить эту зловещую секунду, положение Тамариных пальцев, движение руки.
Иногда ему казалось, что она на самом деле коснулась пола; иногда – нет. Когда он об этом думал, лицо его было опустошено, хотя чувствовалось, что он погружён в лихорадочные мысли, а взгляд был дик и целеустремлён. И поражало ещё выражение отчаянного мученичества и поиска, поиска какого-то «философского камня».
Иногда по его лицу пробегало радостное, жалкое, детски-беспомощное облегчение: в этот момент Илья думал о том, что если Тамара лишь слегка, на одну секунду, мизинчиком коснулась пола, то, может быть, всё не так страшно, и боль № 2 почти не распространяется на неё, если не считать капельки, а «капельку» можно и потерпеть, ради любви, святой, великой, единственной…
Но он мучился не «капельку». Задавал своей матери нелепые вопросы: какой шанс коснуться пола, если надеваешь чулки?.. Антонина Ивановна пугалась и пряталась от него в шкафу.
Ему пришла тогда в голову мысль: если Тамара, может быть, почти не коснулась, то не лучше ли предупредить её, объяснить всё, сказать – ведь она родная, должна понять! – сказать, что совместная жизнь невозможна, невыносима, если она будет прикасаться к полу… Но его страшила реакция Тамары: наверняка она сочтёт его сумасшедшим и, возможно, даже порвёт с ним или, наоборот, ни во что не поверит… Но всё же лучше предупредить, чем так мучиться… Но пока он колебался, роковое свершилось: Тамара уронила на пол гребёнку, на его глазах подняла её, явственно коснувшись рукой пола…
Последние слабые надежды рухнули. Всё было кончено. Тьма объяла его. Он даже не замечал, что постоянно плачет – наедине с самим собой.
Последним усилием воли он заставил себя частным образом обратиться к известному психиатру. Врач, очень мыслящий в своей сфере старичок, внимательно выслушал его. Заставил повторить всё в мельчайших деталях, несколько раз. Ездил к родным, подробно расспрашивал их о детстве Ильи, мать – о течении беременности. Запросил копии всех историй болезни. Потом пробовал лечить Илью гипнозом, но совершенно безуспешно. Пробовал ещё кое-что. И, наконец, велел Илье прийти к нему на последнее собеседование. Это был памятный день, по-психиатрически рваный, с ветрами.
Старичок встретил Илью явно обескураженный и даже озлобленный.
– Знаете что, молодой человек, – сказал он, внимательно и ехидно вглядываясь в Илью. – Иль вы очень нехорошо шутите, или… Дело в том, что никакого объяснения вашему состоянию не может существовать… Оно настолько нелепо, что, естественно, напоминает бред, но бред возникает как проявление общего психического заболевания, а вы психически в настоящее время абсолютно здоровы, понятно вам?!. Самое тщательное обследование не обнаружит у вас сейчас и намёка на какой-либо психоз. Если же принять версию невроза или пограничного состояния, то, кроме всего прочего, эти заболевания связаны с реакцией на внешний мир. Понятно вам?!. Ваше же состояние абсолютно нелепо, между ним и всей вашей жизнью – да и жизнью вообще – нет никакой связи. Кроме того, у вас нет картины заболевания; такое ощущение, что в вашей душе есть одна абсурдная точка, не связанная ни с внешним миром, ни с вашей жизнью, ни с вашей психикой, ни с состоянием вашего здоровья. Мы, как видите, ничем не можем вам помочь, кроме общеуспокоительных средств, – смягчился он. – Я даже боюсь давать вам какие-либо советы, так как не знаю, к чему они приведут.
Врач кончил и вдруг неожиданно потерял всякий интерес к Илье. Он просто ждал, когда тот уйдёт.
Илья весь вечер пробродил по свистящим, как змеи, московским улицам и холодел при одной мысли о том, что теперь он уже не может рассчитывать на помощь людей – даже наука оказалась бессильной. Приходилось надеяться только на самого себя. Потрясло его также и то, что боль № 2 оказалось загадочней самих душевных болезней, загадочней самого безумия.
Между тем эта боль неугасимо мучила Илью. Он даже чувствовал, что слабеет физически. В конце концов Тамара не на шутку встревожилась. Увидев, что депрессия обнаружена, Илья махнул на всё рукой и, усталый, уже не скрывал своего молчаливого отчаяния.
– Что с тобой, милый, что с тобой? – шептала ему Тамара по ночам…
Но Илья медлил, страшась безумного открытия, несмотря на то, что он яростно желал облегчить душу, разделить горе, чуть параноидно надеясь, что, может быть, от этого боль № 2 будет стихать.
Вдруг Илье пришла в голову, как ему показалось, блестящая мысль.
«А что, если, – подумал он, – подать Тамаре естественную причину моей тоски; порок в ней самой; что я не могу отделаться от страшной памяти о нём… Таким путём я, скрыв за занавес жуткую, сверхъестественную причину отчуждения, всё же смогу разделить с Тамарой само чувство тоски и отчаяния… И, возможно, мне будет легче. Но какой недостаток, какой порок выбрать?!»
Илья долго думал над этим, отбрасывая те или иные варианты. Один не подходил из-за своей надуманности, другой – из-за своей ничтожности и смехотворности…
Однажды Илья, прокопавшись полдня в грязном белье, которое он хотел в прачечную отнести, радостно взвизгнул:
– Эврика, эврика!
«Я скажу ей, что она лишь формально верит в Бога, – решил он. – Значит, на самом деле не верит. В Бога великого, недоступного! Скажу, что это страшит, пугает меня, что я боюсь за будущее её души; что, наконец – при моей религиозности – это чудовищно отдаляет её от меня…»
Выбрав подходящий момент у себя дома, когда они были почти вдвоём – только Галя спряталась под кровать и заснула там на целые сутки – Илья начал своё жуткое, кровавое объяснения… Он внимательно следил за реакцией Тамары. Сначала Тамара была немного поражена и шокирована такой странной и абстрактной причиной. Откровенно говоря, она ожидала – и боялась этого больше всего – что тут замешана другая женщина. Однако потом она вдруг осознала значимость этой причины и глубоко оскорбилась – прямо застыла в слезах – от такого грубого недоверия к её душе.
Поначалу Илья действительно не скупился на выражения, называя её даже тупой по отношению к бессмертию, но, видя её отчаянный, немой протест, судорожно стал напирать на свои нервы, на смещение каких-то пунктов, на повышенную, патологическую требовательность к ней.
Она поняла одно: он глубоко страдает. Но причина, как ей казалось, внутри души, была поправима: не то что самое страшное – любовь к другой; ведь Тамара считала, что верит в Бога. Она бросилась изо всех сил утешать и убеждать Илью. Прошёл час. Пока Илья, ощутив искру надежды в душе, лежал на диване, бросив тело в пустоту, Тамара, бродя по коридору и комнате, болезненно искала дефективность своей долгой, ещё с детских, ясных времён, веры и любви к Богу. «Как всё же он чувствителен и глубок, мой Илья, – металась она. – Действительно, мучительно жить с человеком, который духовно трупен… Но всё же я не такая, не такая… У меня есть свои слабости, но неужели всё то, что я чувствую, веря в Бога, не существует?»
– Атеистка, атеистка! – визжал ей вслед Илья, отчаянно стремясь подбодрить себя и этим криком заглушить истинную причину: боль № 2.
От ретивости ему даже стало казаться, что Тамара и взаправду атеистка.
Разыгралась безобразная, нелепая сцена. Даже Галя проснулась у себя под кроватью и завыла… Илья так подпрыгивал, так неистовствовал, внутренним криком своего сознания стараясь как бы убежать от боли № 2, что Тамара совсем разрыдалась.
Когда всё угомонилось и звёзды начали улыбаться им в окна, Тамара робко подошла к Илье и, погладив его, сказала:
– Пойдём в церковь… Я буду молиться. Там нам будет легче; ты увидишь, что я искренне верю, и всё пройдёт.
Поцеловавшись, они с разными, но жаркими надеждами пошли в храм.
В этот вечер начинался праздник, внутри церкви было светло, как будто от ликов восходило солнце, и раздавался колокольный, тайный, как плач Бога, звон.
Тамара сразу настроилась на возвышенное, и слёзы текли по её лицу. Илья сначала тупо стоял около неё. Одна интеллигентная старушка, стоящая рядом, вдруг рухнула наземь в молитве и поклоне. Рукой она коснулась пола. Это так разозлило Илью, что он чуть-чуть поддел её ногой. По чистоте своей старушка, правда, в это не поверила.
Между тем служба текла своим чередом. Звон кругом стоял, благолепие. А Илюша только смрадно наблюдал, коснулся ли кто пола.
Наконец Тамара, облегчив свою душу, каждым движением, порывом молчаливо обращалась к Илье. «Ты видишь, я верую, верую, верую!» – она уже прямо, безмолвно и отчаянно смотрела на него.
– Нет, не веришь, голубушка, – трупно шевелился Илья в своей душе, пристально глядя на Тамару. – Нет, не веруешь… Явное дело – хитришь… Не веришь, и всё.
Глаза Тамары наполнились слезами от сухого блеска глаз Ильи. Так прошло ещё полчаса. Тамара умоляюще, но с укором смотрела на Илью.
«Да не вера мне твоя нужна, дура, – вдруг нервно взвизгнул он про себя. – Не вера… Снять боль № 2… Перенести на другое… Поэтому мне надо, наоборот, твоё отчаяние, а не вера…»
…Тамара пробивалась к выходу. Илья шёл значительно впереди.
И вдруг он захохотал, прямо в лицо верующим, патологическим таким, не потусторонним небесно, а потусторонним с другой, чёрной стороны жизни, хохотом… Никто из верующих даже не поверил в этот хохот… А он, содрогаясь, так и пошёл с ним, с этим хохотом, на улицу из церкви…
Когда Тамара подошла к нему, он уже успокоился, и вид у него был чуть благостный.
– Мне легче, дорогая, – сказал он. – Будь со мной… Будь со мной… Не всё ещё прошло… Помоги развеять тоску.
– Что ты, всё будет в порядке, просто у тебя расшатались нервы, – успокаивала его Тамара, прижимаясь к нему. – Я с тобой, и мы оба верим в Бога…
Эта странная, смещающаяся игра продолжалась ещё два дня. Тамара была с ним особенно ласкова, делила грусть; Илья пытался увериться в том, что она атеистка, и закопаться таким образом в своих мыслях о её атеизме, но как он ни старался заглушить боль № 2, она давала себя знать резкими и внезапными ударами. Он хотел не обращать внимания, уверяя себя, что всё идёт хорошо, но на третий день боль № 2 уже плыла по его душе, как огненный шар по пространству. Все ухищрения были уничтожены. Однажды днём Илья сидел с Тамарой за обеденным столом. Вдруг всё его сознание охватила мысль о том, что даже и будь Тамара самой чёрной, пакостной атеисткой, он всё равно любил бы её, любил судорожно, ничуть не меньше; а вот теперь, когда она коснулась пола, он почти ненавидит её.
…Тамара ласково улыбалась ему: «всё идёт хорошо, туман рассеивается, ты видишь, я верю в Бога». Вдруг лицо Ильи исказилось. Никогда оно не было таким ужасным и патологическим. Он опрокинул чашку.
– Да не вера мне твоя нужна, дура! – заорал он, вскочив. – Не вера… И не Бог твой воображаемый… Дура!
Он заметался по комнате.
– А что же, Илья?! – в страхе залепетала Тамара.
– Хочешь скажу, хочешь?! – Илья приблизил своё горящее, трясущееся лицо к лицу Тамары; глаза его злобно, нечеловечьи блистали, а руки так и извивались на месте. – Хочешь?.. Я ненавижу тебя за то, что ты прикоснулась рукой к полу… Понимаешь?.. Я ненавижу тебя за то, что ты рукой коснулась пола! – и он потянулся, чтобы сдавить её.
Тамара упала на пол около его ног, обхватила их руками.
– Илюша, Илюша, что ты говоришь, – бормотала она в слезах. – Ты с ума сошёл, с ума сошёл… О чём, о каком поле ты говоришь?.. О какой руке?!!
Но Илья уже тряс её, ни на что не обращая внимания.
– Встань с пола, дура, – неистово кричал он, – не смей при мне касаться его руками!.. Идиотка, ты губишь нашу жизнь… Встань, встань же!..
Илья резко поднял её, так что Тамара вскрикнула от боли.
– Я запру тебя в шкаф, – вопил он. – Я запру тебя в шкаф, идиотка… Чтобы ты никогда, никогда не видела пола!
Вдруг он, чего-то не выдержав, как-то бессмертно, навзрыд разрыдался и упал в кресло…
А через некоторое время, придя в себя, они долго-долго разговаривали. Мёртвое солнечное небо, видное из окон, проплывало мимо их сознания. Иль подробно, шаг за шагом, рассказывал Тамаре о боли № 2, о всех своих мучениях, о психиатре, о церкви, обо всём, вплоть до последней сцены. Тамара была совершенно потрясена, но что-то в Илье заставляло её верить, что всё это действительность, а не клинический бред.
Окончательно её убедил подробный разговор со старым психиатром, который раньше обследовал Илью. Это была действительность, а не кошмарный сон. Но иногда странная нереальность происходящего вынуждала Тамару повторять Илье, что он всё выдумал, для того, чтобы уйти к другой женщине или просто скрыть то, что он разлюбил её и хочет жить один. Но Илья не уходил ни к себе, ни к другим женщинам, наоборот, он судорожно цеплялся за Тамару, и это окончательно обескураживало её, заставляя верить в странное, а происходящее. Потянулись невыразимые, и земные, и в то же время изнутри охваченные непонятно-нереальной силой, дни. Тамара всё время тревожно заглядывала в глаза Ильи: есть ли там боль № 2.
Она старалась всячески развеселить и отвлечь его: они носились по театрам, по концертам, по знакомым.
Тамара помогала ему и лаской, и в то же время старалась занять его ум чем-нибудь великим: они оба – она ради него – взялись за серьёзное изучение кантианства и всех его последствий.
В конце концов, она верила в то, что любая нелепость – пусть с большими усилиями – сожжет быть преодолена жизнью и любовью. А любила она Илью беззаветно. Поэтому Тамару не охватывала полная безнадёжность, когда временами, серди знакомых, среди шуток и танцев или на концерте, когда величественно звучала музыка Баха, глаза Ильи явственно наливались дикой, непонятной тоской и отвращением.
Однако нервная, неистребимая дрожь пробирала её, когда внезапно Илья отходил ото всех куда-нибудь в сторону, в уголок, чтобы его не видели…
Но всю серьёзность положения она поняла однажды, спустя несколько месяцев после объяснения, ранней весной, ночью, когда Илья, мучимый кошмарным сном про людей, коснувшихся пола, вдруг проснулся и завыл. В этот момент он почему-то напомнил ей Офелию.
– Я не могу больше так жить, – бормотал Илья. – Это продолжается каждый день… Сплошная пытка… Но я люблю тебя… Уедем, уедем отсюда…
– Куда? – в ужасе спросила Тамара.
– Туда, где нет полов, – и Илья остановил на ней тяжёлый взгляд.
Тамаре с дрожью показалось, что под «местом, где нет полов» Илья подразумевает что-то дикое и жуткое, возможно, тот свет или невыразимо потустороннее… В страхе она подумала, не предложил ли ей Илья повеситься вместе с ним. Но всё оказалось проще. Илья всего-навсего хотел уехать – хотя бы временно, на лето – в деревню и поселиться в избе, где нет пола… После того как Илья настаивал на этом в течение недели, Тамара согласилась.
Теперь уже она решалась на многое, на то, о чём раньше не могла и побредить. Закончив все свои социальные дела, супруги выехали в глушь, в поисках избы без пола… Место они облюбовали в краю, где стояли подтреснутые старинные церкви и монастыри.
Деревушка, в которой они поселились, как раз расположилась у подножия знаменитого полуразрушенного монастыря. Вся она так и тонула в беспредельности русской природы и в умиротворённости. Людей здесь уже почти не было, так что Садовниковы сначала вроде легко нашли не то избу, не то часть избы с полуразрушенным полом, так что оставалось доконать его собственными силами. Достав топор, супруги принялись за работу. Тамарочка особенно старалась и неистовствовала – что не сделаешь ради любви! Но тут как-то случаем их застукало пьяное, не то местное, не то иное начальство. Формально изба кому-то принадлежала – и разразился нелепый скандал. Кто кричал о притеснении религии, кто о расхищении соц. собственности на дрова. В конце концов, то ли напугавшись того, что Садовниковы из Москвы, то ли просто умилившись от трёх поллитр столичной водки, начальство угомонилось, но потребовало всё же с Садовниковых письменного объяснения с указанием – самое главное! – причин уничтожения пола.
Тамара сослалась на то, что они с Ильёй – «дикари». Пока шла вся эта суета вокруг вечных стен, Илье даже чуть полегчало с болью № 2.
Но, наконец, всё успокоилось, пол был уничтожен, и супруги зажили на земле, несмотря на то, что лето стояло достаточно сырое и дождливое.
Первое время они жили хорошо, хотя и сумрачно, и Илья, обрадованный некой тихостью и приглушённостью боли № 2, был в странном возбуждении. Ему казалось, что, словно пристыжённая всей этой обстановкой старины и покоя, боль № 2 стала какой-то благолепной и умиротворённой; Илья даже считал, что в ней появился религиозный дух. Но он был в возбуждении – потому что не знал, к чему всё это придёт – и страшно волновался за конечный исход.
Тамара плескалась в реке, думала о Боге и об остатках пола.
Всё выявилось и стало на место не каким-то днём, не каким-то часом, не каким-то событием, а невидимо и постепенно, по мере того как Илья убеждался, что боль № 2 нисколько не угасает; что она по-прежнему существует, вечно и неподвижно; что этой нелепой жизнью без пола нельзя уничтожить воспоминания о том, что Тамара всё-таки прикоснулась к нему; что всей этой своей беготнёй с гитарой по полям и лесам да по монастырям Божьим Илья лишь засуетил боль № 2, но никак не уничтожил её; что вот она по-прежнему стоит перед ним – невозмутимая и холодная, жестокая и неподвижная, как будто вся вселенная, и небо, и земля, прошли, как дым, перед её лицом.
И он не находил для себя ни покоя, ни выхода. Илья чувствовал, что ненавидит Тамару, что каждое прикосновение к ней – яд, потому что возникает мысль о прикосновении к полу. Боль № 2 зияла в его душе, как и раньше, когда он впервые почувствовал её…
Всё было вечно и неизменно по-прежнему. И Тамара с ужасом убеждалась в этом по блеску глаз Ильи, по его нервным, негативным движениям… Одно время Илья чуть стыдился пере природой, пред избой без пола, пред Тамарой за своё окончательное, жуткое поражение и самообманничал, но увидев, что Тамара поняла всё, поплыл по течению. У него не было больше сил сопротивляться.
Только злоба, страшная злоба охватила его. Он носился по лесным полянам, мимо простых и напоённых жизнью деревьев с одной мыслью: «Ненавижу, ненавижу!»
Сейчас он ненавидел не только людей, прикоснувшихся на его глазах к полу, но и всё остальное человечество – за то, что оно допустило боль № 2. «Негодяи, комедианты!» – думал он. Часто, присев на какой-то пенёк, окружённый лесными цветами, он вынашивал детски-фантастические планы мести человечеству.
«Удрать, удрать бы куда-нибудь подальше, где нет полов», – рассуждал он иной раз.
Даже пенёк, на котором он сидел, он ненавидел за то, что, может быть, около него бродили люди, прикоснувшиеся к полу (в этой деревушке он заметил уже двоих прикасателей). Он чувствовал, что впадает в полную прострацию, особенно по отношению к Тамаре. Илья по-прежнему любил её, но всё большее место занимала ненависть, правда, какая-то идиотская. Ему иногда хотелось воткнуть ей в задницу иголку или захохотать во время полового акта. Он еле сдерживался, но потом и это состояние пустил на самотёк. Однажды, когда Тамара, стараясь спасти его, любовно-измученно, со слезами, точно говоря: «ещё не всё потеряно, ещё усилие, усилие», смотрела на него, у Ильи возникло неудержимое желание ударить её по щеке. Он взвизгнул и выполнил это. Трудно было представить что-нибудь более отвратительное, жалкое и патологическое. Закрыв лицо руками, Тамара забилась в угол. «Не будешь прикасаться к полу», – злобно прошипел Илья…
Уже через несколько минут он горько, истерически раскаялся, и им обоим стало так страшно, что они, прижавшись друг к другу, замерли в углу, болезненно-радостно и безнадёжно поглаживая друг друга. Но вскоре у него снова появилось желание бить её… «Мы в заколдованном круге», – с ужасом думала Тамара. В отчаянье она решилась поить его водкой, надеясь, что алкоголь трансформирует боль № 2, но ничего подобного не случилось: в опьянении Илья стал ещё более дик и свиреп. Он даже гонялся с топором за соседскими курами, которые часто бродили по полу в одной хозяйской избе.
Положение усугублялось ещё и тем, что Тамара, вынужденная спать на голой земле, простудилась и серьёзно заболела. Надо было срочно ехать в Москву. Но Илья вдруг заупрямился. Он ни за что не хотел возвращаться в дом, где существуют полы.
«Дай мне хоть каплю свободы!» – брызжа слюной, вопил он на Тамару, валяющуюся на земле в лихорадочном забытьи.
Наконец – после долгих препирательств – они возвратились в Москву. В глубине души Илье уже всё было безразлично. В Москве его сестра Галя по-прежнему большую часть жизни спала под кроватью, мамаша обмусоливала уже не мужчин в троллейбусе, а какие-то тумбы, но всё это была реальная, земная жизнь. Илья находился вне этого.
Тамара долечивала свою простуду. В один прекрасный день Илья осознал, что он живёт, по существу, с трупом. Суть заключалась в том, что за какой-то месяц после возвращения Илья окончательно разлюбил Тамару. В конце концов, его толкнул на это инстинкт самосохранения: если любовь сопровождается такими мучениями, которые никакой волей нельзя устранить, то единственный способ избавиться от мучений – убить любовь. Илья медленно, но неумолимо и органически, всей своей изувеченной душой подходил к этому выводу. Он долго, отчаянно боролся за свою любовь, наверняка теперь последнюю, но больше не было сил.
«Можно ведь жить без любви, – мучительно думал Илья, – как я жил раньше, до Тамары… И боль № 2 достигла такого апогея только потому, что она действовала по отношению к любимой, к самой близкой… А на остальных наплевать… Не так уж страшно… Терпимо… Ведь жил же я раньше».
Это был приговор. Любовь была раздавлена, втоптана в грязь, как дохлая кошка. С этого момента всё пошло в геометрической прогрессии. Тамара стала для Ильи трупом. Он, правда, цинично хотел сохранить её около себя в качестве домашней хозяйки.
Тамара же сама была парализована обрушившимся горем, видела, что Илья не любит её, и тоже плыла по течению.
Иногда только Илья судорожно и цинично-ласково заглядывал в её теперь уже умершие для него глаза и, внутренне безумствуя, целовал их. У него даже пропала охота избивать её.
Но, странное дело, хотя главная причина мучений – столкновение боли № 2 и любви – исчезла, Илья по-прежнему находился в состоянии какого-то потустороннего страдания. Боль № 2 сама по себе теперь не волновала его. Но когда исчезло чисто личное, интимное страдание, – открылось бездонное, чистое небо объективного ужаса, и имя этому было: нелепость, непознаваемость и всемогущество боли № 2.
Как будто она была часть великой, скрытой и страшной для людей силы, таящейся вне сознания.
Илья даже нервно ловил себя на мысли о том, что боль № 2 будет действовать против него самого и он возненавидит и отречётся от себя, прикоснувшегося к полу…
Он вспомнил, что для того чтобы уничтожить боль № 2, он прибегал к помощи самых великих философских идей, которые когда-либо существовали на земле, – и всё было бесполезно. К тому же он занимался самоанализом, пытаясь, используя все психоаналитические достижения, вырвать боль № 2 из подсознания. Но Илья везде наталкивался на пустоту – под конец он убедился, что боль № 2 вовсе не кроется где-то в подсознании, как он думал раньше. У неё как будто не было источника, поэтому она была неуловима.
Он вспомнил, что прибегал также к помощи религии, экстаза, молился Богу, погружался в небытие – и опять всё безрезультатно.
Особенно поразило его в своё время, что даже погружение в небытие, в сон без сновидений, не помогает ему; очнувшись от этого состояния, он сразу же, с первым утренним блеском сознания, чувствовал в душе раздирающее присутствие боли № 2, как будто и в небытии совершалось её подспудное, вечное движение…
И вот однажды, когда он в полутьме лежал один на диване и все эти картины снова прошли по его душе, ужас охватил его.
«Что же такое боль № 2, – думал он, – откуда она пришла? Где её цель, её смысл? Что ей нужно от человека? Если даже и вера, и разум беспредметны для неё, если все усилия разума и веры проходят мимо цели, как будто боль № 2 находится по ту сторону их, по ту сторону всего, что существует для духа?»
Он жадно уцепился за эти вопросы и продолжал лихорадочно, точно проваливаясь, думать: вспоминал весь ужас человеческой жизни, всю её игривую, сладострастную двойственность, весь её страшный, опустошённый бред; вспоминал он также боль № 1, её исступлённую унизительность и какую-то идиотическую обречённость; не обошёл и это вечное, раздражающее присутствие потустороннего в мире…
Но все его мысли бежали, стягиваясь, как к центру, к боли № 2. Она стала его Абсолютом. Углубляясь в идею этой бездонной потусторонности боли № 2, потусторонности даже по отношению к нашему потустороннему, Илюша чувствовал, что боль № 2 – это просто частное, видимое проявление какой-то огромной, сверхзапредельной силы, у которой даже бессмысленно спрашивать, кто она, куда она идёт, для чего ей мы, люди, и т. д. Может быть, эта сила когда-то случайно коснулась его, ни о чём, разумеется, не подозревавшего; в другом случае она могла бы пройти и куда-то мимо; но теперь это её воздействие сказалось на нём в виде совершенно нелепого и навеки закрытого для человеческого разума шифра – боли № 2.
Охваченный такими мыслями, Илья тут же ощутил, что больше всего его начинает мучить то, что эта сила, по-видимому, не только вне духа, но и сильнее, глубже, значительнее его, значительнее самого абсолютного духа, следовательно, значительней не только всего, что существует для человека, но и всех высших проявлений абсолютного духа, первозданней и Бога, и бессмертия, и самого Духа в его бесконечном и чистом виде.
Это ощущение ввергло его в дикий, мёртвый, неистовый трепет, потому что вся его жизнь основывалась на предположении, что Дух – самое высшее в мире; и Илье никогда не приходило в голову, что это действительно так, но только для человека.
Даже Бог, в конце концов, открывался как Дух; во всяком случае, он был близок Духу и человеку, и хотя в «определение» Бога входила и непознаваемость, но это была не та абсолютная потусторонность и непознаваемость силы, которая случайно проявила себя лёгким смешком в виде боли № 2; непознаваемость Бога, его потусторонность, была осмысленна, прочно укладывалась, как один из кирпичиков, в само понятие Бога, входила в число других близких Духу и человеку определений; потусторонность же этой силы была совершенно бессмысленна, абсолютна и античеловечна, и у неё не было никаких других определений, кроме этой ужасающей непознаваемости, да ещё странных, нелепых проявлений, хохотушек вроде боли № 2.
Возможно, сам «Дух» и весь «Бог» в целом были всего лишь игрушками в руках этой силы…
Вдруг, одновременно с нарастанием этих мыслей, Илью сковал явный, предгибельный ужас. И в тот момент, когда он всё больше углублялся в эту бездну, внезапно он увидел, что прямо из открытой дверцы письменного стола, находившегося рядом, протягивается костлявая, чёрная – вне всех миров – рука. И чей-то хриплый, чуть дружелюбный голос, переходящий в предсмертный хохот, проговорил:
– Иди… Иди… Сюда… Сын мой…
– Кто ты?! – теряя власть, выкрикнул Илья.
– Я тот, кто пришёл увести за собой даже спасённых, – произнёс голос.
Эти страшные слова, как пустой шар, наполненный непознаваемым, вошли в сознание Ильи, разом выбросив из него всё прежнее, чем он жил до сих пор…
И всё…
Когда в комнату, где жили Садовниковы, вломились соседи и близкие, никто не признал в трупе, лежащем у стола, Илью. «Очевидно, это труп другого человека», – решила врачебная комиссия.
Поэтому захоронили Илью посторонние люди, на отшибе кладбища, под чужим именем.
Эпилог
История трупа бедного Илья Садовникова этим не кончилась. Так как его труп не признали его личным трупом, а чьим-то чужим (причём по объективным данным), то захоронение, по существу, получилось мнимое и неизвестно чьё. Было непонятно также, что всё это значило.
Это особенно задело почти обезумевшую Тамарочку. Она теперь почти всё время касалась рукой пола – и даже часто ползала на четвереньках, чтобы уверенней себя чувствовать на полу. Но, главным образом, её несло куда-то вперёд – к неизвестной могиле любимого человека. Ей казалось, что если она увидит её, то разгадает тайну боли № 2. Но могилы, по существу, не было.
Ездила она часто далеко за город – по какому-то сумасшедшему наитию – и собирала там цветы с могил старух. Глаза её блестели при этом, но каким-то обратным блеском, как будто она плакала вовнутрь себя.
А потом стали исчезать все следы Садовникова. Сначала исчезла ложка, которой он ел суп у Тамарочки, потом – пиджак, оставленный у неё на стуле, потом она будто бы потеряла его записную книжку, со всеми именами и фамилиями. Но чем более Садовников исчезал, тем более он внушал ей ужас, от которого она не могла оторваться. Но она упорно продолжала искать пустоту.
С распущенными волосами, воздушная и полунежная, грезившая о том, чего нет, рыскала она по всем кладбищам, знакомясь порой с иначе настроенными нищими, истуканами или людьми, устремлёнными ввысь.
Вошла она, например, в кружок верующих в ушедшего Панареля – и оказалось, что уже везде по России были разбросаны его ученики. И учение, и жертва Его не прошли даром: сонмы людей, верующих в Бога и в любовь Его, всё возрастали и возрастали.
Угрюмый же монстр Иров и садист-мистик Укусов, съевшие тело Господа, тоже процветали на земле, но только в каком-то нехорошем смысле. Они до того похорошели, что даже обитатели дома № 7 шарахались от них по углам. Впрочем, злые, но метафизически осведомлённые языки говорили, что их скоро сдунет с лица земли и, повинуясь своей необъятной, предсказанной любви к Господу, они уйдут туда, где царит вечное благо, которое они ненавидят и которое, может быть, обернётся для них адом…
Не то произошло с отцом странного семейства «тёмных гностиков» – с Виталием. Он бросил своих учеников и, трижды непонятный, ушёл вдаль… искать других поклонников… или замирать в своей тьме…
Всё это слышала мимоходом Тамарочка от людей найденного ею кружка верующих в Панареля как в Сына Божьего.
Они смотрели на неё расширенными глазами, как на нездешнюю, не понимая, однако, в чём дело. И только тогда Тамарочка окончательно поняла – какой-то мутной полосой своего засознания – что она уже не та Тамара, которая ходила в церковь и боролась за свою любовь, и что произошло с ней нечто страшное и бесповоротное, хотя для мира она, видимо, как бы «сошла с ума»… И теперь она навеки отнята у себя самой.
Потом она понеслась дальше, не задерживаясь в кружке… Под одиноким мостом встретила она однажды ещё довольно блудливого молодого человека, вид которого, однако, был неопределёнен. В авоське у него была мёртвая курица, а сам он был мокрый и помятый. Часто он – прерывая свою речь – хохотал. Представился Саней Моевым. Кукарекал.
Тамара приняла его просто, как беду. Впрочем, она уже перестала различать счастье от беды. Лёжа с ним где-то в постельке (Тамара отдалась ему почти механически, и это не умерило её упорного желания найти могилу Ильи), она покойно выслушивала его речи о дьяволе.
– Душа у меня очень поганая, Тамара! – кричал Саня, голый. – Даже дьявол её не берёт. Взамен вечного тела! Всё суёт под нос куриное… Надо бы мне, любовь моя, улучшить душу, подчистить её – а потом уже к Сатане!!.
Во время любого соития держал он где-нибудь на буфете, рядышком, череп давно убитой свиньи имени Софьи Олимпиадовны, той самой умершей профессорши, которая мечтала перед смертью пересадить себе мозг свиньи и которая, видимо, уже доказала себе, что ничего нет. На могиле её лежало в жёлтой коробке письмо от мистера Бранта, в котором он писал о своих научных надеждах по трансформации человека.
Связь Тамары с Саней Моевым продолжалась недолго: оба они рвались в разные стороны. Саня так и норовил «улучшать свою душу»: за это он теперь был готов всё отдать. Тамара же была плохой партнёршей в этом отношении: она или молчала, или зевала всегда. И Саня называл её «лунная», считая, что у неё вообще перестала быть душа и обучаться «улучшением души» при ней нет никакой возможности. Тамара же вскакивала по ночам с общей постели – и убегала далеко-далеко, на какие-то кладбища. Хохот Моева преследовал её по пятам…
Естественно, так долго продолжаться не могло даже между ними, и хотя больше хулиганил Моев (то, например, убегал от клозетов, то запирался в них на три-четыре часа), он сам и ушёл от Тамары, а она почти ни на что не реагировала, включая и его курьёзы с курами… Последнее, что Моев в ней увидел: свет, исходящий от её фигуры…
Но в душе Тамары – хотя она этого и не замечала – вдруг стало темнеть… Пристроилась она вскоре в одном деревянном домике, в карликовой комнатушке. Ей уже давно дали инвалидность, но Тамаре её маленькой пенсии хватало по отсутствии жизни в ней (в нашем смысле)…
Через месяц стала замечать: кто-то приходит. Сначала появлялась голова в окне – огромная, сократовская, женская. Узнали – человек вокруг стал шляться, женщина, и всё время ищет чего-то. Цепкая, маленькая и жизнерадостная. «Я прислуживаю им… в их протяжённом и безличном браке», – часто бормочет она, не улыбаясь, поднимая палец вверх.
Тамаре эта голова стала надоедать. Особенно по ночам. И вдруг появился Кириллов. В два часа ночи. Тихий такой и пыльный, с двумя членами. Один, голубой, посинел, а другой, красный, побагровел, скорее даже почернел. Кашлял всё время, а Тамару опасливо обходил стороной, только Катьку (то была она) прогнал от Тамары тряпкою раз и навсегда.
Тамара улыбалась ему из глубины своей мирообъемлющей постели, комната словно раздвинулась, и Кириллов скользил в ней, как по воздуху. Потом, порхнув, пропал куда-то. Осталась от него наутро только гитара…
И со многим ещё пришлось встретиться Тамаре, о чём и сказать тяжело…
Одним неприятным осенним днём (словно всё ушло во мрак) набрела Тамара на одну могилу, ближе к краю кладбища. Надпись была еле видная: «Мироедов». Она сразу почувствовала, что всё здесь как бы сосредоточено в одной точке. Отчего так, она не могла понять; но по ауре учуяла наверняка, что это не могила Ильи (по фамилии же Тамара не искала его – она считала, что Илья уже давно потерял всякие обозначения)…
И она замерла рядом.
…Вдруг мёртво-покойная аура этой могилы (старичок продолжал в ней наслаждаться своим трупом) как-то оживилась и сгустилась, и Тамаре показалось, будто трупная сперма вытекает из гроба, пробиваясь сквозь землю наверх… Ошеломлённая, она понеслась вперёд, не забывая о своей цели…
…А через несколько дней никто её уже не видел – ни на кладбище, ни в миру. Она исчезла навсегда, словно нашла, наконец, могилу Ильи, которой нигде не было.
Конец
Блуждающее время
Часть первая
Глава 1
Шептун наклонился к полутрупу. Тот посмотрел на него отрешенно и нежно. Тогда Шептун, в миру его иногда называли Славой, что-то забормотал над уходящим. Но полутруп вовсе не собирался совсем умирать: он ласково погладил себя за ушком и улыбнулся, перевернувшись вдруг на своем ложе как-то по-кошачьи сладостно, а вовсе не как покойник. Но Слава шептал твердо и уверенно. И они вдвоем рядышком были совершенно сами по себе: вроде бы умирающий Роман Любуев и что-то советующий ему человек по прозвищу Шептун: ибо он обычно нашептывал нечто малопонятное окружающим.
Правда, окружение его было совершенно дикое. Дело происходило в конце второго тысячелетия, в Москве, в подвале, или, точнее, в брошенном «подземном укрытии» странноватого дома в районе, раскинувшемся вдали и от центра, и от окраин города. Однако окружающие дома здесь производили впечатление именно окраины, только неизвестно чего: города, страны, а может быть, и самой Вселенной. Некий жилец с последнего этажа небольшого дома так и кричал, бывало: «Мы, ребята, живем на окраине всего мироздания!! Да, да!!» Многие обитатели, особенно пыльные старушки, вполне соглашались с этим.
В «подвале» (точнее, в «подземном царстве») жили бомжи, а если еще точнее, бывшие видные ученые, врачи, эксперты, инженеры, но и бывших рабочих тоже хватало. Никакого социального расслоения там уже не было.
Полутруп расположился в углу, на кровати из хлама, где не было даже лоскутного одеяла, зато на воле стояло жаркое лето. Шептун шептал ему о том, чего нет.
– Да не полутруп он вовсе, не полутруп! – завизжал вдруг диковатый, как сорвавшийся с цепи, старичок из дальнего угла.
– Он уже сколько раз умирает, и все ничего! Сема у нас гораздо больше на полутруп похожий, если вглядеться как следует, особенно со стороны души! Правда ведь, Семен? – и старичок обратился к угрюмо бродящему в помещении среднего роста мужчине. Тот кивнул головой и промолчал.
В стороне кто-то выл:
– Все погибло, все погибло!
На него никто не обращал внимания.
Шептун Слава отпал. Это потому, что Роман-полутруп изумил его своей лаской. Он опять повернулся, причем на бок, и положил свою ручку под щечку, даже чуть-чуть замурлыкал себе под нос – правда, духовно Шептун, который уводил людей перед их смертью в фантастический разум, не понимал этого. Не понимал он и того, почему Роман все время умирает, но не до конца. Уже который раз Слава шептал ему, шептал и шептал о каких-то черных норах, о золотых горах после смерти, а Роман всегда возвращался. Возвращала его к жизни тихая нежность к себе. Один ученый, из заслуженных бомжей, так и сказал про него: «Нарцисс в гробу».
С тех пор это прозвище как бы закрепилось за Романом Любуевым, хотя называли его часто весьма разными именами. Известно, что бродяги и бомжи народ бестолковый.
И, когда Роман положил себе ручку под щечку, он еще имел смелость потянуться на своей измученной кровати, словно изнеженный императорский кот.
– Ну, этот будет жить, – определил молодой очкастый блондин из бывших экспертов.
– Жизнь сошла с ума, – заключил некто в стороне.
Да Роман и не был так уж болен и стар в свои тридцать шесть лет, чтобы запросто уйти из этого мира. Шептун и тот был чуть постарше.
– Семен, а ты о чем думаешь? – спросил постоянно воющий о гибели человек. Он перестал внезапно выть, точно остановленный какой-то мыслью, и вопросительно посмотрел на того самого, мерно шагающего взад и вперед мужчину по имени Семен, о котором было сказано, что он больше похож на труп, чем Роман.
Семен, кстати молодой и мощноватый человечище, остановился и так посмотрел на вопрошавшего, что тот опять завыл. Потом Семен как-то пристально добавил:
– Мне, Николай, думать и не надо. У меня взамен дум тоска есть.
Семен Кружалов этот наводил ужас на окружающих его, выбитых из ординарной жизни людей, хотя сам по себе он обычно был тихий и даже застенчивый. Ужас наводили его глаза, голос и иногда – поведение, в котором обозначалась порой страшная затаенная угроза, причем угроза совершенно неведомого рода: не убийство, не душегубство, а нечто пострашнее, а что именно – определить и понять было нельзя, потому что она никогда не переходила в действие. Но такой угрозы, скрытой и таинственной, было вполне достаточно, чтобы всякое сопротивление ему мгновенно увядало. Но особенно мучили его глаза: появлялось в них одно выражение, от которого просто отшатывались.
– Труп живой в меня вселился, вот что, – раскрылся как-то Семен Кружалов. – Вот в чем разгадка. Я уже не только Семен Кружалов, мудрый человек, но и поживший труп при этом. Потому и смотреть на меня жутко. Ведь это он, труп, часто сквозь мои глаза проглядывает. Он, а не кто-нибудь, – и Семен поднял указательный палец вверх. – Мне самому взглянуть бывает на себя страшно. Хорошо, что в нашем подвале нет зеркал.
В подвал, правда, заходил милиционер, но, глянув в глаза Семену, застрелился, выйдя оттуда. К счастью, событие списали за счет психики служивого, а на подвал махнули рукой. Семен по скромности редко рассказывал об этом. Но ясно было всем, что Роман Любуев, или Нарцисс в гробу, в смысле трупности был на десять очков ниже, чем Семен, тем более Роман слишком уж любовался своим отсутствием и безжизненностью, и даже жил этим любованием, особенно когда действительно был при смерти. Нарцисс в гробу – потому так и звали его. И, конечно, Семена он не оспаривал, он даже побаивался его. И Шептун тоже к Семе подластивался: чего, мол, шептать такому, живой труп в нем почище всяких шалопутов может этакое нашептать, что… Лучше не подходить.
Плакали в подвале очень часто, кроме Семена, конечно, но не очень глубоко, просто оттого, что, дескать, жизнь стала какая-то непредсказуемая. Но с другой стороны, и хохотали при этом много – причем от всей души.
Впрочем, шла нормальная жизнь. А хлеб повседневный каждый добывал по-своему, порой с фантазией.
У Кружалова, у единственного, была даже собственная комната, точнее, угол в этом подвале, но решительно отделенный от другого пространства, напоминающего скорее подземное общежитие или брошенное бомбоубежище, чем простой подвал. Вероятно, когда-то, лет шестьдесят назад, здесь действительно было бомбоубежище. Эта догадка веселила всех, но не больше.
– Какие бомбы на нас, бедолаг, сейчас могут падать? – тихо шептал Слава Роману Любуеву. – Невидимые, невидимые бомбы… Которые душу убивають…
Роман отнекивался и не верил, что душу можно убить.
Иногда точно свет какой-то возникал в этом подземелье: это приходил ночевать художник-бомж, приносивший сюда картины странного художника Самохеева, который дарил ему некоторые свои полотна. Бомжи считали, что эти картины вообще ничего не стоят, и именно этим хороши.
– Кому, кроме нас, нужны такие пейзажи, – утверждал воющий по дням и ночам бомж Коля. – Одни гробы, из гробов нечеловеческие руки высовываются, бабы, небо хмурое и земля больная… Правда, здорово написано. Пусть и висят у нас тут, под землею. Во-первых, видно плохо, во-вторых, красиво.
В подземелье приносили свечи, и некоторые внимательно по ночам рассматривали эти «загробные пейзажи».
Друг странного Самохеева бомжом скорее был по душе, чем по обстоятельствам, но часто, выпив стакан водки, плакал перед этими картинами…
– Мне так не нарисовать, – жаловался он.
Потом он уносил эти картины куда-то, и стены бомбоубежища долго тогда пустовали.
– От бомб жизни мы здесь спасаемся, бомжи, – нередко кряхтел старичок, указавший пальцем на Семена: дескать, какой Роман труп по сравнению с Кружаловым, хоть и нарцисс при этом. Роман всего-навсего обычный умирающий, а вот Семен – это да…
Кружалов выделял этого старичка и никогда не пугал его своим взглядом. Старичок очень гордился этим.
Кроме себя самого, с живым трупом внутри, Семен отличался еще одной особенностью: к нему в подземелье приходила женщина, причем красивая, молодая и очень образованная. Это поражало всех.
Глава 2
Марина Воронцова была не только образованная, но и загадочная, даже необычная молодая женщина. Было ей всего около тридцати лет, уже успела развестись, и жила она свободно, как хотела, преподавала в разных университетах историю мировой культуры…
Однокомнатная ее квартира, довольно просторная, не без антиквариата, но недорогого, располагалась в доме, отдаленном от «бомбоубежища» всего на расстоянии двух коротких автобусных остановок.
Несмотря на свою красоту, Марина, чуть не с ранней юности, ненавидела свои зеркальные отражения.
Как только ее взгляд падал на себя в зеркале, в ее глазах вспыхивал злой огонь, который говорил: это не я. «Это не я, – шептала самой себе Марина. – Пусть красива. Ну и что? Я больше и значительней, чем это существо, которое вижу в зеркале. К тому же – почему «существо»? Если существо, то, значит, я кем-то создана, а я не хочу быть кем-то созданной, даже Первоначалом».
Иногда это доходило до бешенства. «Глаза, нос, уши – зачем мне все это? – бормотала Марина, одиноко расхаживая по своей квартире. – Я бесконечна, я не это маленькое существо с распущенными волосами… Повешу-ка я на свои зеркала черную материю, как делают, когда покойник, как будто я умерла».
И решила она занавесить свои зеркала черным полотном. Даже близкие друзья испугались такого действа. Пришла тогда ее лучшая подруга, Таня Самарова, в некотором отношении даже противоположная ей по внутренним тайнам души, и сразу заявила, хотя и со смешком, что, дескать, не стоит. Не стоит, мол, играть со смертью в кошки-мышки, хотя смерть, конечно, в целом – пустяки, всего лишь смена декораций.
Они сидели за журнальным столиком. Марина смеялась и пила вино, глядя на занавешенное большое зеркало, расположенное в центре, у стены, как будто это была картина гениального художника. Смех редко был ее качеством, но именно со своей Таней она могла поддаваться некоторому веселию.
– Ты спроси у своего Главного, у Буранова, стоит ли ненавидеть свои отражения, – шутила Марина.
– Нет, лучше ты спроси у своего Главного, – ответила Таня.
– Кого это ты имеешь в виду? – осторожно спросила Марина.
– Конечно, того, кого никто не знает. Фамилия, правда, есть: Орлов, – обронила Таня.
– Ну, это уж слишком, – вырвалось у Марины. – Во-первых, ведь я сама по себе. Во-вторых, это единственный, так сказать, человек, который для меня невероятен, и никто не знает, кто он на самом деле… Твой Учитель, конечно, велик, но этот…
Она махнула рукой.
– Но все-таки они знакомы друг с другом, если вообще о них можно употреблять слова, взятые из обычного оборота жизни, – вставила Таня и хлебнула винца.
– Нет, нет «обычного не надо», – процитировала Марина. – Лучше пойду в свое подземелье, к бомжам… Пойдем со мной?
Таня отказалась: мол, это не мое. Марина странно улыбнулась, и подруги расстались…
Марина приходила к Семену раза два-три в неделю – хотя, понятно, никакой близости между ними не было. Ее просто тянуло к Семену как к некоторой (пусть не такой уж и чудовищной) загадке: Марина ценила по-настоящему людей.
Семен относился к ее приходам снисходительно, хотя во многом удивлялся ей. Поползновений не делал, а просто тупел от загадочности. Марина приносила ему не раз полевые цветочки.
Семен нюхал, причем именно в этот момент в нем появлялся труп. Понюхав, Сема-труп ставил цветочки в бутылочку из-под водки, а потом – в угол, где иногда появлялись крысы.
Марина ничего не боялась: она уже давно разучилась чего-либо страшиться, относясь к этому миру и ко всему, что происходит, как к бреду, в котором, однако, есть интересные дыры… только вот куда они вели, эти провалы…
Семен, впрочем, даже оберегал ее от пугливо-любопытствующих взглядов своих бродяг. Те вообще ничего не понимали в этой истории.
Кружалов обычно приглашал Марину сесть на свой помоечный табурет, другой табурет ставил перед ней, на нем, конечно, появлялись полбутылки водки, а сам садился на пол, скорее на землю: определить, что это – пол, земля или небо – действительно было трудно.
И на этот раз, после обсуждения с Таней «черных зеркал», Марина пришла и уселась на этот неустойчивый табурет.
После первой же рюмки Семен стал жаловаться на то, что он – труп.
– Ничего страшного. В каждом из нас гнездится труп, – утешила его Марина, – потому что все мы умрем, как выражаются люди. Да и весь этот мир – огромный труп, ведь все в нем погибнет, так что ж тут необычного, Семен, если ты считаешь себя трупом? – заключила она.
– Хитришь, Марина, хитришь. Зачем? – угрюмо ответил Кружалов. – Сама ведь знаешь, что во мне не простой труп, а живой. А это жутко. Я, Марина, в ад хочу.
– Как будто мы на этой планете уже не в аду, – усмехнулась Марина. – Сиди уж тут, на табуретке.
– Все-таки ответь: почему ты ко мне приходишь? Разве я человек?
Семой овладело какое-то бесконечное спокойствие. Это бывало, когда труп в нем совершенно обнажался. Марина знала эти моменты. И любила их. Дело в том, что в глазах Семена она улавливала при этом бытие смерти, если можно так парадоксально выразиться. И Семен тогда просто не находил себе места в этом мире, ибо он, мир этот, целиком не соответствовал тому, что было у него внутри. Поэтому Семен угрюмо высказывал в этом случае свое желание сбежать в ад, рассчитывая, что он найдет там себя, свое местоположение. Марина разубеждала его в этом, не советуя стремиться сломя голову туда, объясняя Семену, что ад – это не его место и что, вообще говоря, во всей Вселенной, видимой и невидимой, еще нет места для таких, как он, Семен.
Взгляд Семена при таких беседах становился до того парадоксальным, что у Марины захватывало дух, и она благодарила Себя за то, что видит такое.
Под словом «Себя» она имела в виду, естественно, нечто бесконечное. И ей иногда хотелось сломить свою «вечность», чтобы познать то, что не входит ни в какие рамки. Мрачная была девочка, одним словом, хотя выглядела она порой весело.
Семен втайне был согласен с ней. Так и сидели они одни, в подземелье, при свечах и крысах, за бутылкой водки, при шорохах – ибо любопытствующие бомжи ползали около угла своего Семена в надежде что-либо понять.
Семен знал об этой их слабости, только повторял про себя: «где уж им…»
Прошло некоторое время.
Тени на стенах все время видоизменялись, точно откуда-то возникали и исчезали допотопные существа. Марина внимательно посмотрела на Кружалова.
– Жуток ты сегодня чересчур, Семен, – улыбнулась она. – Что ты видишь?
– Смерть, смерть вижу, – прорычал неожиданно Семен. – Все вокруг меняется, черты уже другие, что-то рушится… И ты уже не та, и картина не та за твоей спиной.
Вдали, за камнями, завыли.
«Это опять наш Коля», – подумала Марина.
– Все формы, все уже другие и пространство тоже, – тихо рычал Семен. – Смерть, смерть везде вижу. Когда смертию умирают, это конец, и все, а я ее вижу, она живая, я живу смертию, а не умираю… Да, да, Марина…
– Может, помочь тебе? – участливо спросила Марина. Семен посмотрел на нее дико-потусторонним взглядом.
– Это пройдет, Сема, пройдет, это еще не самое страшное, – шепнула Марина, наклонившись к нему. – Ничего не бойся, наблюдай – и все…
Из какой-то норы выползло существо, похожее на человека.