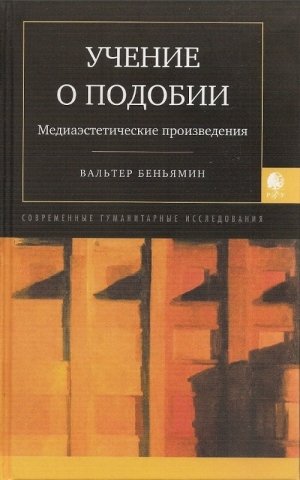
О языке вообще и о языке человека
Всякое выражение духовной жизни человека можно понимать как некую разновидность языка, и такое понимание, словно истинный метод, повсюду обнаруживает новые проблемные ситуации. Можно говорить о языке музыки и скульптуры, о языке юстиции, в непосредственном смысле не имеющем ничего общего с теми языками, на которых составлены немецкие или английские судебные постановления, о языке техники, который не совпадает с профессиональным техническим языком.
Язык в этой связи означает принцип, направленный на сообщение духовных содержаний в соответствующих предметах — технике, искусстве, юстиции или религии. Одним словом, всякое сообщение духовных содержаний есть язык, причем сообщение с помощью слов есть лишь особый случай сообщения — человеческого и лежащего в его основе или базирующегося на нем (юстиция, поэзия). Но существование языка распространяется не только на все области выражения человеческого духа, каковому выражению язык в том или ином смысле присущ всегда, — оно распространяется вообще на все. Нет ни в живой, ни в неживой природе такого события или вещи, которые не участвовали бы определенным образом в языке, ибо каждому важно сообщить свое духовное содержание. Но слово «язык» в таком употреблении отнюдь не является метафорой. Ведь мы не можем представить себе ничего такого, что сообщало бы свою духовную сущность не в выражении, — и эта мысль всецело содержательна; от более или менее высокой ступени сознания, с которой такое сообщение по видимости (или на самом деле) связано, никак не зависит то, что мы ни в чем не способны представить полное отсутствие языка. Некое существование, которое не состояло бы ни в какой связи с языком, — это идея; но такую идею не сделать продуктивной, в том числе и для тех идей, сфера которых очерчивается идеей Бога.
Верно лишь то, что в этой терминологии всякое выражение, поскольку оно есть сообщение духовных содержании, причисляется к языку. Во всяком случае выражение согласно всей глубочайшей сущности своей должно пониматься только как язык; с другой стороны, чтобы понять сущность языковую, мы все время должны спрашивать, для какой же духовной сущности она служит непосредственным выражением. Немецкий язык, к примеру, ни в коей мере не является выражением всего того, что мы посредством него — якобы — можем выразить, нет, он есть непосредственное выражение того, что в нем сообщает себя. Это «себя» есть духовная сущность. Отсюда, прежде всего, само собой разумеется следует, что духовная сущность, которая сообщает себя в языке, есть не сам язык, а нечто, что нужно от него отличать. Воззрение, согласно которому духовная сущность вещи как раз и состоит в ее языке, воззрение это, рассматриваемое как гипотеза, есть великая бездна, в которую может обрушится любая теория языка[1], и задача последней — парить, держась над, именно над нею. Различение духовной сущности и сущности языковой, в которой первая себя сообщает, — главнейшее в теоретико–языковом исследовании, и оно, различие это, кажется столь несомненным, что, напротив, часто утверждаемое тождество между духовной и языковой сущностью составляет глубокий и непостижимый парадокс, выражение которого обнаруживали в двойном смысле слова λόϒος. Впрочем, этот парадокс в виде решения занял центральное место в теории языка, но остается парадоксом и неразрешим там, где его помещают в начало.
Что сообщает язык? Он сообщает духовную сущность, ему соответствующую. Фундаментальный смысл имеет понимание того, что эта духовная сущность сообщает себя в языке, а не посредством языка. То есть у языков нет глашатая (Sprecher der Sprachen), если понимать под ним того, кто посредством этих языков сообщает себя. Духовная сущность сообщает себя в языке, а не посредством языка; это означает, что снаружи она отличается от языковой сущности. Духовная сущность тождественна языковой лишь постольку, поскольку она сообщаема. То, о чем в духовной сущности можно сообщить, составляет ее языковую сущность. Таким образом, язык сообщает некую языковую сущность вещей, духовную же их сущность — лишь поскольку она непосредственно заключена в языковой, поскольку она сообщаема.
Язык сообщает языковую сущность вещей. Но самое отчетливое явление этой сущности — сам язык. Поэтому ответ на вопрос: что сообщает язык? — гласит: всякий язык сообщает сам себя. Например, язык этой лампы сообщает не лампу (ибо духовная сущность лампы, поскольку эта сущность сообщаема, — отнюдь не сама лампа), а язык–лампу, лампу в сообщении, лампу в выражении. Ибо в языке обстоит так: языковая сущность вещей есть их язык. Понимание теории языка зависит от того, удастся ли достичь ясности в этом утверждении, ясности, которая вместе с тем уничтожит в нем всякую видимость тавтологии. Это утверждение — не тавтология, ибо оно означает: то, что у духовной сущности сообщаемо, и есть ее язык. На этом «есть» (или «есть непосредственно») основано все. То, что у духовной сущности сообщаемо, не являет себя яснее всего в ее языке, как предварительно говорилось выше, а это сообщаемое есть непосредственно сам язык. Или: язык духовной сущности непосредственно совпадает с тем, что у нее сообщаемо. Что у духовной сущности сообщаемо, в том она сообщает себя; то есть каждый язык сообщает сам себя. Или точнее: каждый язык сообщает себя в самом себе, он в строжайшем смысле есть «медиум» сообщения. Медиальное, то есть непосредственность любого духовного сообщения, — это основополагающая проблема теории языка, и если будет угодно называть эту непосредственность магической, то исконная проблема это его магия. В то же время разговор о магии языка указывает на другое — на его бесконечность. Она обусловлена непосредственностью. Ведь как раз потому, что посредством языка ничто не сообщает себя, то, что выражает себя в языке, нельзя ограничить извне или измерить, и поэтому каждому языку присуще его собственное несоизмеримое, единственное в своем роде бесконечное. Его языковая сущность, а не вербальные содержания обозначают его границы.
Языковая сущность вещей есть их язык; если применить это положение к человеку, оно означает, что языковая сущность человека есть его язык. То есть человек сообщает свою собственную духовную сущность в своем языке. Но язык человека говорит словами. Таким образом, человек сообщает свою собственную духовную сущность (постольку, поскольку она сообщаема), именуя все остальные вещи. Но знаем ли мы какие–либо другие языки, занятые именованием вещей? Нельзя возразить в том духе, что нам неизвестен никакой иной язык, кроме языка человека, это неправда. Нам неизвестен никакой иной именующий язык кроме человеческого; отождествляя именующий язык с языком вообще, теория языка лишает себя глубочайших прозрений. Итак языковая сущность человека в том, что он именует вещи.
Зачем он именует? Кому сообщает себя человек? Различен ли этот вопрос для человека и для других сообщений (языков)? Кому сообщает себя лампа? Гора? Лисица? И ответ здесь гласит: человеку. Это не антропоморфизм. Истинность этого ответа обнаруживается в познании и, наверное, в искусстве. К тому же — если лампа, гора и лисица не сообщали бы себя человеку, какое имя он должен был бы им дать? Но он их именует; он сообщает себя, именуя их. Кому сообщает он себя?
Прежде чем дать ответ на этот вопрос, стоит еще раз проверить: как сообщает себя человек? Следует провести кардинальное различие, сформулировать альтернативу, перед которой неизбежно выдаст себя ложное по существу мнение о языке. Сообщает ли человек свою духовную сущность через имена, которые дает вещам? Или в них? В парадоксальности такой постановки вопроса заложен ответ на него. Тот, кто полагает, что человек сообщает свою духовную сущность посредством имен, тот опять же не может принять, что сообщает он именно духовную сущность — ибо это не происходит посредством имен вещей, то есть посредством слов, которыми он обозначает вещь. И опять же он может лишь принять, что он сообщает нечто (eine Sache) другим людям, ибо это происходит через слово, которым я обозначаю некую вещь. Такое воззрение свойственно буржуазному пониманию языка, несостоятельность и бесплодность которого в дальнейшем будет обнаруживаться со все большей очевидностью. Согласно ему средство сообщения — это слово, предмет его — определенная вещь (die Sache), а адресат — человек. В соответствии с другим воззрением, у сообщения нет ни средства, ни предмета, ни адресата. Согласно ему в имени духовная сущность человека сообщает себя Богу.
В сфере языка имя обладает лишь таким смыслом и таким неизмеримо высоким значением: оно есть глубочайшая сущность самого языка. Имя есть то, посредством чего больше ничего не сообщает себя, в чем язык самочинно и абсолютно сообщает себя. В имени сообщающая себя духовная сущность есть язык вообще (die Sprache). Там, где духовная сущность в сообщении себя есть сам язык в его абсолютной целостности, — лишь там есть имя и там есть лишь имя. Таким образом, имя как перешедшая по наследству часть человеческого языка свидетельствует, что язык как таковой есть духовная сущность человека; и именно поэтому среди всех духовных сущностей лишь духовная сущность человека сообщаема без остатка. На этом основано отличие человеческого языка от языка вещей. Но поскольку духовная сущность человека есть сам язык, человек может сообщать себя не посредством него, но исключительно в нем. Высшее воплощение этой интенсивной тотальности языка как духовной сущности человека есть имя. Человек — это тот, кто именует, именно так мы узнаём, что его устами говорит чистый язык. Вся природа, постольку, поскольку она сообщает себя, сообщает себя в языке, то есть в конечном счете в человеке. Потому он господин природы и может именовать вещи. Лишь посредством языковой сущности вещей он может выити из себя самого и добраться до познания их — в имени. Творение Божие завершается тем, что вещи получают свое имя от человека, из которого говорит в имени один лишь язык. Имя можно назвать языком языка (если родительным падежом обозначать отношение не средства, а медиума), и в этом смысле, конечно, человек—глашатай языка (Sprecher der Sprache), ведь он говорит от имени (im Namen), и как раз поэтому он единственный его глашатай. Называя человека говорящим (например, в Библии это видно из характеристики его как дарующего имя: «как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей»[2], многие языки вобрали в себя этот метафизический вывод.
Но имя — это не только последний возглас, оно еще и подлинный глас языка. Так, в имени является сущностный закон языка, по которому высказывать себя и сказывать обо всем остальном — одно и то же. Язык — и духовная сущность в нем — лишь тогда высказывает себя в чистом виде, когда он говорит в имени, то есть в универсальном именовании. Так, в имени достигают высшего выражения интенсивная тотальность языка как абсолютно сообщаемой духовной сущности и экстенсивная тотальность его как универсально сообщающей (именующей) сущности. Язык в согласии со своей сообщающей сущностью, с универсальностью своей, несовершенен тогда, когда духовная сущность, говорящая из него, не языковая, то есть не сообщаемая во всей своей структуре. Лишь у человека есть совершенный в своей универсальности и интенсивности язык.
В свете этого вывода можно теперь, не опасаясь путаницы, поставить вопрос, чрезвычайно важный с метафизической точки зрения, который, впрочем, здесь может быть поставлен со всей ясностью пока лишь как терминологический. Именно следует ли духовную сущность не только человека (что необходимо), но и вещей и тем самым духовную сущность вообще обозначать в контексте теории языка как языковую? Если духовная сущность тождественна языковой, то вещь согласно своей духовной сущности есть медиум сообщения, и то, что в ней сообщает себя, есть, следуя медиальному отношению, именно сам этот медиум (язык). Тогда язык — это духовная сущность вещей, то есть духовная сущность с самого начала полагается сообщаемой или, скорее, полагается как раз в сообщаемость, и тезис о том, что языковая сущность вещей тождественна их духовной сущности, поскольку последняя сообщаема, в этом их «поскольку» становится тавтологией. Содержания у языка нет; в качестве сообщения язык сообщает духовную сущность, то есть сообщаемость как таковую. Различия языков — это различия медиумов, которые разнятся, как бы упорядочиваясь по плотности; в двояком отношении — по плотности сообщающего (именующего) и сообщаемого (имени) в сообщении. Обе эти сферы, в чистом виде разделенные, объединенные лишь в языке имен у человека, разумеется, постоянно соотносятся друг с другом.
Для метафизики языка отождествление духовной сущности с языковой, предполагающее различия лишь в степени, влечет за собой градацию всего духовного бытия, его подразделение по степеням. Эта градация, совершающаяся внутри самой духовной сущности, более не подпадает ни под какую высшую категорию, а потому ведет к подразделению всех духовных, равно как и языковых сущностей по степеням существования или бытия, что в отношении духовной сущности было обычным делом уже в схоластике. Но отождествление духовной сущности с языковой в свете теории языка обладает такой колоссальной метафизической значимостью, поскольку ведет к тому понятию, которое всегда словно само собой выдвигалось в центр философии языка и составляло теснейшую ее связь с религиозной философией. Это — понятие откровения. Во всяком языковом формообразовании обитает конфликт сказанного и сказываемого с несказанным и не сказанным. Исследуя этот конфликт, мы видим в перспективе несказанного также и последнюю духовную сущность. Ясно, далее, что в отождествлении духовной и языковой сущности это отношение обратной пропорциональности между ними оспаривается. Ибо здесь тезис гласит: чем глубже дух, то есть чем больше в нем существования и действительности, тем сказываемее он и сказаннее, ведь как раз смысл этого отождествления в том, чтобы сделать отношение между духом и языком совершенно однозначным, так что обладающая наибольшим языковым существованием, то есть наиболее фиксированная форма выражения (Ausdruck), в языковом отношении самая точная и непоколебимая, одним словом, самая высказанная, вместе с тем была бы чистой духовностью. Но как раз это имеется в виду в понятии откровения, когда неприкосновенность слова считается единственным и достаточным условием и характеристикой божественности духовной сущности, которая в нем высказывается. Наивысшая духовная сфера религии (в понятии откровения) вместе с тем единственная не ведает несказанного. Ибо ей сказывают от имени и она высказывается как откровение. Но здесь возвещается, что лишь наивысшая духовная сущность, такая, какой она является в религии, в чистоте своей опирается на человека и обитающий в нем язык, тогда как любое искусство, не исключая и поэзии, не на окончательном, высшем воплощении духа языка основано, а на вещном духе языка, хотя бы и в своей совершенной красоте. «Язык, мать разума и откровения, их А и Ω», — говорит Гаман.
Сам язык не высказывается в самих вещах совершенно. Это положение имеет двойной смысл в соответствии с собственным и переносным значением: языки вещей несовершенны и они немы. Вещам недоступен чистый языковой принцип формы — звук. Они могут сообщить себя друг другу лишь через более или менее материальную общность. Эта общность непосредственна и бесконечна, как у любого языкового сообщения; ей присуща магия (ибо существует и магия материи). Человеческий язык ни на что не похож потому, что его магическая общность с вещами нематериальна, исключительно духовна, и символ тому — звук. Этот символический факт высказан в Библии, когда говорится, что Бог вдунул в человека дыхание: это было вместе жизнь и дух и язык.
Далее рассматривается сущность языка на основе первой главы книги Бытия, но тем самым не преследуется цель интерпретации Библии, и Библия здесь не становится некоей откровенной истиной, положенной в основу размышления, — скорее, мы должны понять, что обнаруживается в библейском тексте касательно самой природы языка; и обращение прежде всего к Библии здесь совершенно необходимо лишь постольку, поскольку наши рассуждения принципиально следуют ей в том, что язык в них полагается последней, необъяснимой и мистической действительностью, которую можно рассматривать лишь по мере ее раскрытия. Библия рассматривает себя саму как откровение, и поэтому в ней с необходимостью должны обсуждаться основополагающие факты языка. Во втором изложении истории творения, где рассказывается о том, как Бог вдунул в человека дыхание, сообщается и о том, что человек был создан из праха земного. Это единственное место во всей истории творения, где говорится о материале, в котором творец выражает свою волю, в остальном созидающую скорее непосредственно. В этой второй истории творения человек был создан не словом (Бог сказал — и стало так), но этому человеку, созданному не из слова, был придан дар языка, и человек был возвышен над природой.
Но такая своеобразная революция акта творения, когда он направляется на человека, столь же ясно показана и в первой истории творения, и он в совершенно ином контексте, но с той же определенностью, свидетельствует об особой связи между человеком и языком в акте творения. Однако различающаяся ритмика актов творения в первой главе допускает нечто вроде исходной формы, от которой значительно отклоняется лишь акт сотворения человека. Впрочем, здесь нигде — ни применительно к человеку, ни к природе — не идет речь о ясно выраженном отношении к материалу, из которого они были созданы; имеется ли в виду всякий раз, когда говорится: «Он создал», творение, скажем, из материи — этот вопрос здесь остается открытым. Но ритм, в согласии с которым происходит творение природы (в 1–й главе «Книги бытия»), таков: Да будет — Он создал (сделал) — Он назвал. В отдельных актах творения (1:3; 1:14) возникает лишь «Да будет». В этом «Да будет» и в «Он назвал» в начале и в конце акта всякий раз появляется глубокая, отчетливая соотнесенность акта творения с языком. Начинается он с созидательного могущества языка, а в конце язык словно присовокупляет к себе сотворенное, именует его. Таким образом язык есть творящее и завершающее, он есть слово и имя. В Боге имя творит, потому что оно есть слово, слово же Божье познает, потому что оно есть имя. «И увидел Бог, что это хорошо», иными словами — Он узнал об этом посредством имени. Абсолютное отношение имени к познанию пребывает лишь в Боге, только там имя, поскольку оно в глубине своей тождественно творящему слову, есть чистый медиум познания. Это значит, что Бог сделал вещи познаваемыми в их именах. Человек же именует их мерою познания.
В сотворении человека трехчастный ритм сотворения природы уступает место совершенно другому порядку. В нем и язык обретает другое значение; тройственность акта сохраняется, но тем сильнее — и именно в таком параллелизме — заявляет о себе дистанция: в тройном «сотворил» стиха 1:27. Бог сотворил человека не из слова и не поименовал его. Он не хотел подчинять его языку, но в человеке Бог выпустил на свободу язык, который служил Ему медиумом творения. Бог почил от дел своих, предоставив в человеке свое творческое начало самому себе. Это творческое качало, лишенное своей божественной актуальности, стало познанием. Человек познает тот же самый язык, в котором Бог — творец. Бог создал его по образу своему, он создал познающего по образу созидающего. Поэтому положение о том, что духовная сущность человека — это язык, нуждается в пояснении. Его духовная сущность — это язык, на котором было созидание. В слове было созидание, и языковая сущность Бога есть слово. Всякий человеческий язык есть лишь отражение слова в имени. Имя в столь же малой степени может сравняться со словом, как познание с творением. Бесконечность всякого человеческого языка непременно остается, по сути, ограниченной и аналитической по сравнению с абсолютной неограниченной и созидающей бесконечностью Божьего слова.
Глубочайший образ этого божественного слова и то место, где человеческий язык ближайшим образом связан с божественной бесконечностью обычного слова, место, где он не может стать конечным словом и знанием не может стать — это имя человека. Теория имени собственного — это теория границы между конечным и бесконечным языком. Человек — единственное из всех существ, само именующее себе подобных, а равно и единственное, кого не поименовал Бог. Упоминая в этой связи вторую часть стиха 2:20, мы поступаем, быть может, смело, но такая мысль вполне допустима: что человек поименовал всех существ, «но для человека не нашлось помощника, подобного ему»[3]. Равно как и Адам, заполучив жену, сразу дал ей имя (Жена — во второй главе, Ева — в третьей). Нарекая своих детей именем, родители посвящают их Богу; имени, которое они дают, не соответствует — в метафизическом, а не этимологическом, понимании — никакое знание, ведь детям дают имя при рождении. Строго говоря, ни один человек не должен соответствовать своему имени (в его этимологическом значении), ибо имя собственное — это слово Бога в человеческом звучании. С ним каждый человек удостоверяется в том, что создан Богом, и в этом смысле оно само творит — премудрость мифа выражает это в воззрении (которое встречается довольно часто), что имя есть судьба человека. Имя собственное— это общность человека и творческого слова Бога. (Она не единственна, человеку известна и другая языковая общность с Божьим словом.) Посредством слова человек связан с языком вещей. Человеческое слово — это имя вещей. Таким образом, уже не может возникнуть представление, соответствующее буржуазному взгляду на язык, что слово относится к вещи случайным образом, что оно есть знак вещей (или знания о них), установленный некоей конвенцией. Язык никогда не подает просто знаки. Но ошибочно было бы отвергать буржуазную теорию в пользу мистической теории языка, по которой слово как таковое есть сущность вещи. Это неверно, потому что вещь сама по себе не имеет слова, она создана из слова Бога и познается в своем имени по слову человека. Но это познание вещи не есть спонтанное творение, в отличие от последнего оно не происходит из языка абсолютно неограниченным и бесконечным образом; имя, которое человек дает вещи, зиждется на том, как она сообщает себя ему. В имени слово Бога не осталось творящим, оно отчасти открылось зачатию, пусть и зачатию в языке. Это зачатие направлено на язык самих вещей, а из них, в свою очередь, неслышно, в безмолвной магии природы излучается слово Бога.
Но для зачатия и одновременно спонтанности, таких, что в подобном своеобразном соединении встречаются лишь в сфере языка, у языка есть свое собственное слово, которое пригодно и для этого зачатия безымянного в имени. Это перевод языка вещей на язык человека. Необходимо обосновать понятие перевода в самых глубоких пластах теории языка, ибо оно имеет слишком далеко идущие последствия и слишком масштабно, чтобы можно было рассматривать его так или иначе задним числом, как мы делали прежде. Все свое значение оно обретает в идее, согласно которой всякий высший язык (за исключением слова Бога) можно рассматривать как перевод всех остальных. Упомянутое отношение между языками как медиумами различной плотности обеспечивает переводимость языков друг на друга. Перевод — это переход одного языка в другой через континуум превращений. Перевод проходит сквозь континиумы превращений, а не через абстрактные области равенства и подобия.
Перевод языка вещей на язык человека — это не только перевод немого в звучащее, это и перевод безымянного в имя. То есть это перевод с несовершенного языка на более совершенный, и здесь он способен к одному — к познанию. Но объективность этого перевода коренится в Боге. Ибо Бог создал вещи, созидающее имя в них — это зародыш познающего имени, подобно тому как Бог, создав каждую вещь, дал ей имя. Но очевидно, что это именование — лишь выражение тождества творящего слова и познающего имени в Боге, а не предвосхищенное решение той задачи, которую Бог явным образом возлагает на самого человека: дать вещам имя. Принимая в себя немой, безымянный язык вещей и передавая его в именах звукам, человек решает эту задачу. Она была бы неразрешима, если бы между человеческим языком имен и безымянным языком вещей не было родства в Боге, если бы они не были выпущены на свободу из одного и того же созидающего слова, ставшего в вещах сообщением материи в магической общности, а в человеке — языком познания и имени в блаженном духе. Гаман говорит: «Все, что человек вначале слышал, видел глазами… и чего касались руки его, было… живым словом; ибо Бог был словом. Со словом этим на устах и в сердце возникновение языка было столь естественным, столь близким и легким, словно детская игра…». У живописца Мюллера в его сочинении «Первое пробуждение Адама и первые блаженные ночи» Бог призывает человека к именованию такими словами: «Муж из праха земного, приблизься, в созерцании стань совершеннее, совершеннее стань чрез слово!» Это соединение созерцания и именования содержит в себе безмолвие в сообщении вещей (животных) по отношению к словесному языку человека, вмещающему эту немоту в имя. В той же главе сочинения у автора высказывается мысль, что лишь то слово, из которого созданы вещи, позволяет человеку именовать их, оно сообщает себя в различных языках зверей, пусть и безмолвно, в образе того, как Бог по очереди дает животным знак, по какому они предстают перед человеком, чтобы он дал им имя. Таким почти утонченным способом в этом образе знака возникла языковая общность безмолвного творения и Бога.
Безмолвное слово в наличном бытии вещей настолько бесконечно далеко отстает от именующего слова в человеческом познании, насколько и последнее отстает от творящего слова Бога, и тем самым дано основание для множественности человеческих языков. Язык вещей может войти в язык (die Sprache) познания и имени лишь в переводе — сколько переводов, столько и языков, с тех пор как человек выпал из райского состояния, в котором был лишь один язык. (Впрочем, в Библии это последствие изгнания из рая появляется позже.) Райский язык человека был, вероятно, целиком познающим; впоследствии же, когда на более низкой ступени творение вообще должно было дифференцироваться в имени, все познание еще раз бесконечно дифференцируется в разнообразии языка. Причем даже существование древа познания не способно утаить то, что райский язык был всецело познающим. Яблоки с древа должны были открыть познанию, что есть добро и зло. Но сам Бог распознавал это уже на седьмой день со словами творения. «И вот, хорошо весьма». Познание, на которое соблазняет змей, знание о том, что есть добро и зло, безымянно. Оно в высшем смысле ничтожно, это знание и есть единственное зло, какое ведомо райскому состоянию. Знание о добре и зле бежит имени, это познание извне, чуждая творчеству имитация созидающего слова. В этом познании имя выходит из самого себя: грехопадение есть момент рождения человеческого слова, в котором имя больше не обитало невредимо и которое вышло из языка имен, из познающей, можно сказать, собственной имманентной магии, чтобы стать явным образом, словно бы извне, магическим. Слово должно сообщать нечто (помимо себя самого). Это настоящее грехопадение духа языка. Слово как внешне сообщающее, будто пародия явно опосредующего слова на явно непосредственное, созидающее слово Бога, и упадок блаженного духа языка, Адамова языка, стоящего между ними. И в самом деле слово, которое согласно предсказанию змея познает добро и зло, по сути, тождественно слову, сообщающему нечто внешним образом. Познание вещей покоится на слове, а познание добра и зла есть — в том глубоком смысле, в котором это слово понимает Кьеркегор, — «болтовня», и ему ведомо лишь одно очищение и возвышение, которому был подвергнут болтливый человек, грешник, — это суд. Конечно, для слова, вершащего суд, познание добра и зла непосредственно. Его магия иная по сравнению с магией имени, но она оттого ничуть не перестает быть магией. Это слово, вершащее суд, изгоняет первых людей из рая; они сами разбудили его, следуя вечному закону, по которому вершащее суд слово подвергает наказанию, как глубочайшую свою вину, пробуждение самого себя — и ожидает его. В грехопадении, поскольку была затронута вечная чистота имени, возвысила голос чистота более строгая, чистота слова, вершащего суд, чистота приговора (Urteil). Для сущностных связей языка грехопадение имеет тройное значение (не упоминая об остальных его последствиях). Выступая за пределы чистого языка имени, человек превращает язык в средство (а именно несоразмерного ему познания), и тем самым — хоть бы и в одном аспекте, — в простой знак; последствием этого затем стало умножение языков. Второе значение связано с тем, что из грехопадения, в качестве восстановления поврежденной после него непосредственности имени, возвышается новая непосредственность, магия суждения (Urteil), которая более не покоится блаженно в самой себе. Третье значение, вполне, как кажется, возможное, состоит в том, что происхождение абстракции как способности духа языка тоже следует искать в грехопадении. То есть добро и зло как неименуемые, безымянные, находятся за пределами языка имен, покидаемого человеком как раз тогда, когда он в бездне этого вопрошания. Имя же в отношении уже имеющегося языка предоставляет лишь основу, в которой коренятся его конкретные элементы. Но абстрактные элементы языка — как можно было бы предположить — коренятся в слове, вершащем суд, в суждении. Непосредственность (это и языковой корень) сообщаемости[4] абстракции заложена в судебном приговоре (Urteil). Эта непосредственность в сообщении абстракции явилась в судебном обличил, когда человек после грехопадения покинул непосредственность в сообщении конкретного, имя, и впал в бездну опосредования всякого сообщения, слова как средства, суетного слова, в бездну болтовни. Ибо — следует сказать об этом еще раз — болтовней был вопрос о добре и зле в мире после его сотворения. Древо познания стояло в Божием саду не ради сведений о добре и зле, которые оно способно было бы предоставить, но как символ суда над вопрошающим. Эта чудовищная ирония — явный признак мифического происхождения права.
После грехопадения, которое, сделав язык посредником, заложило основу множественности языков, до смешения их оставался один лишь шаг. Поскольку люди нарушили чистоту имени, достаточно было только отойти от того созерцания вещей, в котором человек проникается их языком, — чтобы отнять у людей общее основание уже пораженного духа языка. Там, где путаются вещи, должны смешиваться и знаки. К порабощению языка в болтовне присоединяется — как почти неизбывное его последствие — порабощение вещей в шутовстве. В этом отдалении от вещей, которое было порабощением, возник план строительства Вавилонской башни, а с ним и смешение языков.
Жизнь человека в чистом духе языка была блаженной. Но природа нема. Впрочем, во второй главе книги Бытия можно отчетливо ощутить, как эта немота, которой человек дал имя, сама стала блаженной, только низшего порядка. У живописца Мюллера Адам говорит о зверях, покидающих его после того, как он дал им имя: «…и узрел благородство, с каким устремлялись они от меня, потому что человек даровал им имя». Но после грехопадения, когда Бог насылает проклятие на землю, облик природы коренным образом меняется. Возникает другая ее немота, которую мы подразумеваем, когда говорим о глубокой скорби природы. Вся природа начнет жаловаться, если ей даровать язык, — такова метафизическая истина. (При этом «даровать язык» значит, разумеется, нечто большее, чем «сделать так, чтобы она смогла говорить».) Это утверждение имеет двойной смысл. Во–первых, оно означает, что она жалуется на сам язык. Безъязычие — вот великое страдание природы (ради искупления природы в ней присутствуют жизнь и язык человека, а не только поэта, как обычно считается). Во–вторых, в нем говорится, что она станет жаловаться. Но жалоба — это самое неопределенное, беспомощное выражение языка, почти все, что в нем есть, — это дуновение чувства; и где бы ни шелестела листва, в шелесте этом слышна жалоба. Природа скорбит, ибо она нема. Обернув эту фразу, мы проникнем еще глубже в сущность природы: она немеет, потому что ее вынуждает к этому скорбь. Во всякой скорби обитает глубочайшая склонность к безъязычию, что бесконечно больше, чем неспособность или нежелание нечто сообщать. Скорбящее чувствует, что целиком и полностью познано непознаваемым. В обретении имени — даже если именующий богоподобен, если он блажен, — всегда, похоже, остается предчувствие скорби. И насколько же сильнее это предчувствие, если обретается имя не в блаженном райском языке имен, а в сотнях человеческих языков, где имя уже поблекло, но в которых, по речению Бога, познаются вещи. У вещей нет имен собственных, кроме как в Боге. Ибо в созидающем слове Бог, конечно, вызвал их к жизни по их собственным именам. Но в языке людей они переименованы. В отношении человеческих языков к языкам вещей есть нечто, приблизительно обозначаемое как «переименование», — как глубочайшая языковая основа всякой скорби и (со стороны вещей) всякого онемения. Переименование как Языкова я сущность скорби указывает на другое замечательное отношение языка — на сверхопределенность, которая господствует в трагическом отношении между языками людей, на них говорящих.
Существует язык скульптуры, живописи, поэзии. Подобно тому как язык поэзии в том или ином смысле имеет основание в человеческом языке имен, пусть и не только в нем, вполне мыслимо и то, что язык скульптуры или живописи имеет основание, например, в разнообразных языках вещей, что в них присутствует перевод языка вещей на бесконечно более высокий, хотя и принадлежащий, скорее всего, к той же сфере, язык. Речь идет о безымянных, неакустических языках, о языках из материала; при этом имеется в виду материальная общность вещей в их сообщении.
Между прочим, сообщение вещей, очевидно, относится к такому типу отношений общности, что мир в целом постигается в нем как нерасчлененное целое.
В познании форм искусства важное значение имеет попытка трактовки их всех как языков и поиск взаимосвязи с природными языками. Примером, лежащим на поверхности, поскольку он касается акустической сферы, будет родство пения с языком птиц. С другой стороны, очевидно, что язык искусства можно понять лишь в его глубочайшей связи с учением о знаках. Без последнего всякая вообще философия языка остается полностью фрагментарной, потому что связь между языком и знаком (связь между человеческим языком и письмом — лишь отдельный ее пример) изначальна и фундаментальна.
Это дает повод обозначить другую противоположность, которая проникает всю область языка вообще и существенно связана с упомянутой противоположностью между языком в узком смысле и знаком, но которая не совпадает с нею ближайшим образом и всецело. Дело в том, что язык — это всегда не только сообщение сообщаемого, но вместе с тем и символ того, что невозможно сообщить. Эта символическая сторона языка связана с его отношением к знаку, но в определенном отношении распространяется, к примеру, и на имя и суждение. Последние обладают не только функцией сообщения, но и, по всей вероятности, тесно с нею связанной символической функцией, которая здесь, по крайней мере в явном виде, упомянута не была.
В результате этих размышлений остается очищенное понятие языка, сколь бы несовершенным оно еще ни было. Язык того или иного существа есть медиум, в котором сообщает себя его духовная сущность. Непрерывный поток этого сообщения струится сквозь всю природу от самых примитивных форм существования до человека и от человека к Богу. Человек сообщает себя Богу посредством имени, которое он дает природе и себе подобным (в именах собственных), природе же он дает имя в согласии с принятым от нее сообщением, ибо и природа вся проникнута безымянным, немым языком, остатком созидающего слова Бога, которое сохранилось в человеке как познающее имя и — над человеком — как нависший судебный приговор. Язык природы можно сравнить с тайным паролем, который каждый часовой передает следующему на своем собственном языке, причем содержание пароля — это сам язык часового. Всякий высший язык есть перевод низшего, пока в последней ясности не развернется слово Бога, которое составляет единство этого языкового движения.
Перевод и примечания И. Болдырева[5]
Письмо Мартину Буберу
[О сущности языка]
Мюнхен, 17 июля 1916 г.
Мне пришлось дождаться разговора с господином Герхардом Шолемом[6], чтобы прояснить для себя свою принципиальную позицию по отношению к журналу «Jude», а тем самым и возможность самому написать для него статью. Ибо в запальчивости, связанной с охватившим меня духом противоречия по поводу очень многих статей первого номера — особенно в связи с их видением войны в Европе, — я потерял отчетливое сознание того, что моя позиция по отношению к этому журналу на самом деле была и может существовать лишь как позиция по отношению к политически действенной литературе (Schrifttum), которую окончательным и решительным образом обнаружила для меня наступившая война. При этом понятие «политика» я беру в самом широком его смысле, в котором оно сейчас постоянно используется. Но прежде замечу: я прекрасно сознаю, что мысли, которые последуют ниже, весьма предварительны, и там, где формулировка их кажется аподиктической, я тем самым имею в виду прежде всего их принципиальную значимость и необходимость для моих собственных практических действий.
Широко распространено, более того, повсюду присутствует как само собой разумеющееся мнение, что литература может повлиять на мир нравственности и на поведение людей, давая им мотивы для поступков. Политическое писательство стремится к тому, чтоб подвигнуть людей на определенные действия, давая им определенные мотивы. В этом смысле и язык оказывается лишь средством более или менее суггестивного распространения мотивов, которые руководят тем, кто действует, в его душе. Для такой точки зрения характерно, что то отношение языка к поступку, при котором первый не был бы средством для второго, совершенно не учитывается. Подобное отношение существует как для бессильных языка и письма (Schrift), низведенных до обычного средства, так и для убогого, ущербного поступка, чей исток не в нем самом, а в неких мотивах, которые могут быть произнесены и высказаны. Эти мотивы, в свою очередь, можно обсуждать, оспаривать, выдвигая другие мотивы, и так мы (в принципе) получаем наконец поступок как результат некоего всесторонне взвешенного вычислительного процесса. Всякое деяние, согласующееся с экспансивной тенденцией нанизывания одного слова на другое, кажется мне ужасным и тем более губительным, что в целом отношение между словом и поступком, которое есть у нас, — как механизм осуществления единственно правильного Абсолютного, — распространяется во все больших масштабах.
Писательство вообще я понимаю как поэтическое, пророческое, предметно–деловое — в том, что касается его воздействия, но в любом случае лишь кзкмагическое, то есть непосредственное. Всякое благотворное, даже всякое не губительное в существе своем воздействие письма основано на его (слова, языка) тайне. В каких бы многоразличных формах ни мог язык обнаруживать свое воздействие, он будет делать это не передачей содержания, а чистейшим раскрытием своего достоинства и сущности. И если я здесь не рассматриваю другие формы действенности — поэзию и пророчество, — то мне всякий раз представляется, что кристаллически чистое устранение невыразимого в языке есть доступная нам и самая очевидная форма воздействия внутри языка и тем самым с его помощью. Мне кажется, что это устранение невыразимого как раз и совпадает собственно с предметной, трезвой манерой письма, намечая связь между познанием и поступком прямо–таки внутри языковой магии. Мое понимание предметного и вместе с тем политически важного стиля и письма таково: подвести к тому, в чем слову отказано; только там, где в несказанной, абсолютной ночи открывается эта сфера бессловесного, между словом и побудительным поступком может пробежать магическая искра, там, где есть единство их, одинаково реальных. Лишь интенсивная направленность слов к средоточию внутреннего онемения достигает истинной действенности. Я не верю в то, что слово каким–то образом отстоит дальше от божественного, чем «реальная» деятельность, поэтому оно не может иначе вести к божественному, нежели через себя самого и собственную чистоту. В качестве средства оно лишь множится.
Для журнала язык поэтов, пророков, а то и власть имущих, песнь, псалом и императив, которые, в свою очередь, могут представлять собой совершенно иные связи с невыразимым и источники совершенно иной магии, — для журнала они не подходят, а подходит лишь предметно–деловая манера письма. Человеку не дано предугадать, достигнет ли он ее, да и было таких журналов, похоже, немного. Но мне приходит в голову «Атенеум». Насколько непостижимо для меня действенное писательство, настолько же я неспособен им заниматься. (Моя статья в «Цели»[7] была написана совершенно с тем же внутренним ощущением, но вот в том контексте, от которого она отстояла дальше всего, это было очень трудно заметить.) В любом случае то, о чем будет говориться в «Jude», станет для меня поучительным. И хотя моя неспособность сколько–нибудь ясно высказаться по проблеме иудаизма совпадает с этой стадией становления журнала, сказанное не значит, что не наступит более благоприятный момент для осуществления замыслов.
Возможно, в конце лета я приеду в Гейдельберг. В таком случае мне очень хотелось бы попытаться в живой беседе осветить то, что я здесь смог выразить весьма неполно, и исходя из этого, быть может, получилось бы что–то сказать и об иудаизме. Я не думаю, что мои убеждения в этом вопросе иудаизму чужды.
С нижайшими поклонами,
Ваш Вальтер Беньямин.
Перевод И. Болдырева[8]
О программе грядущей философии
Центральная задача грядущей философии состоит в том, чтобы обратить в познание те глубинные прозрения, которые она, проникаясь систематикой кантовской мысли, черпает из настоящего и из предчувствия великого будущего. Историческая преемственность, достигаемая за счет обращения к системе Канта, единственно обладает надежным систематическим значением. Ибо Кант — новейший, а после Платона — единственный из тех философов, чья мысль была направлена не непосредственно на объем и глубину познания, а в первую очередь на его оправдание. Обоих философов объединяет уверенность в том, что познание, за которое мы несем полнейшую ответственность, обладает в то же время наибольшей глубиной. Они не изгнали из философии требование глубины, а поступили с ним единственно справедливо, отождествив его с требованием оправдания. Чем непредсказуемее и смелее заявит о себе расцвет грядущей философии, тем сильнее она должна бороться за достоверность (Gewißheit), критерием которой является единство системы, или истина.
Однако самое важное затруднение, возникающее при восприятии истинно сознающей время и вечность философии Канта, состоит в следующем: та самая действительность, познавая которую и прибегая к которой он намеревался обосновать познание на достоверности и истине, является действительностью низкого, может быть, самого низкого порядка. Проблема кантовской, равно как и любой великой теории познания, имеет две стороны, и только одной из них Кант дал действенное объяснение. Прежде всего, это вопрос о достоверности непреходящего познания, и, во–вторых, — вопрос о достоинстве преходящего опыта. Ибо универсальный философский интерес одновременно направлен и на вневременную действенность познания, и на достоверность временного опыта, который рассматривается как его ближайший, если не единственный, предмет. Только вот философам этот опыт в его общей структуре не был известен как единичный временной опыт, и Кант здесь не исключение. Если бы Кант желал[9], прежде всего в Пролегоменах, вывести принципы опыта из наук, и особенно из математической физики, то в начале него, в том числе и в «Критике чистого разума», сам опыт не был бы идентичен миру предметов этой науки; и даже если бы он принял эту идентичность за существующую, как приняли ее неокантианские мыслители, то и в этом случае осталось бы старое, идентифицированное и определенное таким образом понятие опыта, определяющим знаком которого является его отношение не только к чистому, но в то же время и к эмпирическому сознанию. А ведь как раз об этом и идет речь: о представлении о голом, примитивном и естественном опыте, который казался Канту как человеку, неким образом разделявшему горизонты взглядов своего времени, единственно данным и единственно возможным. Этот опыт был, однако, как уже указывалось, единичным, ограниченным во времени, и помимо этой формы, которую он в известной степени делит с любым опытом, этот опыт, который в полном смысле слова можно было бы назвать мировоззрением, был опытом Просвещения.
Он не слишком отличался от опыта других столетии Нового времени. Это был один из наиболее приземленных видов опыта или восприятия мира. То, что Кант взялся за свой огромный труд именно в условиях эпохи Просвещения, свидетельствует о том, что он предпринимался с учетом опыта, как бы редуцированного к нулю, к минимуму значения. Можно даже сказать, что именно величие его попытки, свойственный ему радикализм имел предпосылкой подобный опыт, внутренняя ценность которого приближалась к нулю и который мог бы обрести (позволим себе сказать «печальное») значение только благодаря своей достоверности. Ни перед кем из докантианских философов не стояла подобного рода теоретико–познавательная задача, ни один из них, правда, и не имел подобной свободы действий, чтобы вот так, без сожаления, грубо и тиранично обойтись с опытом, квинтэссенцией, лучшим образцом которого была неоспоримая ньютоновская физика [sic]. Для Просвещения не существовало авторитетов, причем не таких, которым следовало бы подчиняться беспрекословно, а таких, что выступали бы в роли духовных сил, способных придать опыту большое содержание. Только путем наблюдения за тем, как это понятие опыта низкого порядка оказало ограничительное влияние и на Кантово мышление, можно выяснить, с чем связано столь невысокое положение опыта в ту эпоху, в чем заключается его поразительно ничтожный специфически метафизическии вес. При этом речь идет, конечно же, о том самом положении дел, на которое часто указывали как на религиозную и историческую слепоту Просвещения, не осознавая, в каком смысле эти отличительные признаки Просвещения касаются всего Нового времени.
Для грядущей философии очень важно осознать и определить, какие элементы Кантова мышления должны быть восприняты и сохранены, какие преобразованы, а какие отвергнуты. Каждое требование обращения к Канту основывается на убеждении, что эта система, получившая в наследство опыт, с метафизической стороной которого справились Мендельсон и [Гарве?], на основе приобретавших размах гениальности поисков достоверности и оправдания опыта достигла такой глубины, которая окажется адекватной некоторому грядущему новому и более высокому виду опыта. Тем самым к современной философии предъявляется главное требование и в то же время утверждается его выполнимость: создать по типу кантовского мышления теоретико–познавательную основу для понятия опыта более высокого порядка. Темой будущей философии должно стать выявление и отчетливое различение в кантовской системе определенных моделей (Турik), которые помогут правильно оценить опыт более высокого уровня. Кант нигде не оспаривал возможность метафизики, он лишь стремился установить критерии, на основании которых единственно и могла бы быть доказана такая возможность. В век Канта опыт не нуждался в метафизике; во времена Канта с исторической точки зрения единственно возможным было лишить ее каких бы то ни было претензий, потому что претензией его современников к ней были слабость и лицемерие. Поэтому речь здесь идет о том, чтобы создать пролегомены к грядущей метафизике на основе кантовских моделей и при этом держать в поле зрения эту грядущую метафизику, этот более высокий опыт.
Грядущая философия должна подойти к ревизии философии Канта не только со стороны опыта и метафизики. И, с позиций метода, то есть будучи подлинной философией, подойти вообще не с этой стороны, а с понятийной стороны познания. Важнейшее заблуждение кантовского учения о познании сводится, и в этом нет сомнения, к пустоте современного ему опыта, и, таким образом, двойная задача — создание нового понятия познания и формирование нового представления о мире на основе философии — станет задачей единой. Слабость кантовского понятия познания часто обнаруживалась там, где чувствовался недостаточный радикализм и недостаточная последовательность его учения. Кантовская теория познания открывает область метафизики не потому, что она сама несет в себе примитивные элементы неплодотворной метафизики, которые исключает любая другая. В теории познания любой метафизический элемент является болезнетворным ядром, которое проявляет себя в изоляции познания от области опыта в его полной свободе и глубине. Развитие философии ожидаемо потому, что каждое такое уничтожение метафизических элементов в теории познания в то же время указывает на глубокий, метафизический, осуществленный опыт. Существует, и здесь обнаруживается историческое ядро грядущей философии, тесная связь между тем опытом, глубокое исследование которого никогда не могло привести к метафизическим истинам, и той теорией познания, которая не могла удовлетворительно определить логическое место метафизического исследования; и все же представляется, что смысл, в котором Кант использует термин «метафизика природы»[10], связан с направлением исследования опыта на основе теоретико–познавательно обоснованных принципов. Недостатки с точки зрения опыта и метафизики проявляются внутри теории познания как элементы спекулятивной (то есть ставшей рудиментарной) метафизики. Важнейшими из этих элементов являются: во–первых, вопреки всем основаниям не до конца преодоленное у Канта понимание познания как отношения между какими–то субъектами и объектами или каким–то субъектом и объектом; во–вторых: опять же только частично преодоленная связь познания и опыта с человеческим эмпирическим сознанием. Обе эти проблемы тесно взаимосвязаны, и насколько Кант и неокантианцы преодолели объектную природу вещи–в–себе как причины ощущений, настолько все еще остается исключить субъектную природу познающего сознания. Эта субъектная природа познающего сознания, однако, исходит из того, что оно построено по аналогии с эмпирическим сознанием, которое, разумеется, окружено объектами. Все это — совершенно метафизический рудимент в теории познания; часть именно того плоского «опыта» этих веков, которая отложилась в теории познания. Несомненно, что в кантовском понятии познания большую роль играет одухотворенное представление об индивидуальном духовно–телесном «я», которое с помощью органов чувств воспринимает ощущения, на основании которых формируется его представление. И все же это представление является мифологией, и по своей доле истины она равна любой другой познавательной мифологии. Нам известны первобытные народы так называемого преанимистического уровня, которые идентифицируют себя со святыми животными и растениями, называют себя их именами; нам известны безумцы, которые тоже отчасти идентифицируют себя с объектами своего восприятия, не противостоящими им более как объекты; нам известны больные, которые связывают ощущение своего тела не с самими собой, а с другими существами, и ясновидящие, которые утверждают, что, по меньшей мере, могут постигать чужие впечатления как свои собственные. Общечеловеческое представление о чувственном (и духовном) познании как нашей, так и кантовской и докантовской эпохи является мифологией, как и другие, названные выше. Кантовский «опыт» является с этой точки зрения, касающейся наивного представления о постижении восприятий, метафизикой или мифологией, только современной и особенно бесплодной в религиозном плане. Опыт, понятый в соотнесении с индивидуальным духовно–телесным человеком и его сознанием, а не как систематическая спецификация познания, опять же во всех своих видах является только предметом этого действительного познания, а именно его психологического ответвления. Оно систематически делит эмпирическое сознание на степени безумия. Познающий человек, познающее эмпирическое сознание — это некий вид безумного сознания. Тем самым речь идет о том, что разные виды эмпирического сознания различаются только степенью. Эти различия одновременно являются различиями значения, критерий которого, однако, может состоять не в правильности познаний, о которых никогда не идет речь в эмпирической, психологической сфере; одна из самых высоких задач грядущей философии — установить истинный критерий, позволяющий различать значение видов сознания. Видам эмпирического сознания соответствуют столь же многочисленные виды опыта, которые, с точки зрения их связи с эмпирическим сознанием в плане истины, имеют лишь значение фантазии или галлюцинации. Ибо объективное отношение между эмпирическим сознанием и объективным понятием опыта невозможно. Любой настоящий опыт основан на чистом познавательно–теоретическом (трансцендентальном) сознании, если, конечно, этот термин употребим здесь при условии, что он разоблачает все субъектное. Чистое трансцендентальное сознание отличается по виду от любого эмпирического сознания, и отсюда вопрос, приемлемо ли здесь использование термина сознание. Главным вопросом философии, который можно отнести ко временам схоластики, остается вопрос о том, как психологическое понятие сознания относится к понятию сферы чистого познания. Отсюда логически проистекают многие проблемы, которые заново поставила феноменология. Философия основывается на том, что в структуре познания лежит и подлежит выявлению структура опыта. Этот опыт также включает религию, а именно как истинный опыт, причем ни Бог, ни человек не являются объектом или субъектом опыта, но этот опыт основан на чистом познании, в осуществлении которого философия только и может, и должна мыслить Бога. В этом состоит задача грядущей теории познания — найти для познания сферу тотальной нейтральности к понятиям объект и субъект; другими словами, отыскать исконную автономную сферу познания, в которой это понятие ни в коем случае больше не будет обозначать отношение между двумя метафизическими сущностями.
В качестве программного положения грядущей философии нужно выдвинуть тезис о том, что с этим очищением теории познания, которое Кант сделал необходимым и возможным рассматривать как радикальную проблему, появилось бы не только новое понятие познания, но одновременно и новое понятие опыта, в соответствии с отношением, которое между ними обнаружил Кант. Разумеется, при этом, как сказано выше, ни опыт, ни познание не должны быть связаны с эмпирическим сознанием; однако и здесь бы ничего не изменилось, более того, именно здесь нашло бы свое действительное подтверждение то, что условия познания являются условиями опыта. Это новое понятие опыта, которое было бы основано на новых условиях познания, и было бы логическим основанием и логической возможностью метафизики. Ибо по какой иной причине Кант вновь и вновь делал метафизику проблемой, а опыт — простым основанием познания, если не потому, что исходя из его понятия опыта возможность метафизики в ее прежнем значении (разумеется, не метафизики вообще) должна была оказываться исключенной. Очевидно, что отличительное в понятии метафизики не лежит в неправомерности ее познаний, во всяком случае, для Канта, который иначе не написал бы к ней Пролегомены, а заключается в ее универсальной силе, непосредственно соединяющей через идеи целостный опыт с понятием Бога. Таким образом, задача грядущей философии вырисовывается как нахождение или создание такого понятия познания, которое, связывая между тем понятие опыта единственно с трансцендентальным сознанием, логически делает возможным не только механический, но и религиозный опыт. Тем самым мы говорим вовсе не о том, что познание делает возможным Бога, а о том, что оно делает возможным опыт и учение о нем.
В требуемом здесь и рассматриваемом как должном развитии философии можно усмотреть признаки неокантианства. Главной проблемой неокантианства было устранение различия между созерцанием и рассудком, метафизического рудимента, каким является и все учение о способностях в том виде, который оно принимает у Канта. Тем самым — с преобразованием понятия познания — в то же время преобразуется понятие опыта. То есть несомненно, что редукция всего опыта к научному, как она с некоторой точки зрения закрепилась за историческим Кантом, в данном случае не обязательно имеется в виду у самого Канта. У Канта однозначно присутствовала тенденция, противостоящая распаду и делению опыта на отдельные научные области, и хотя более поздняя теория познания откажется от оглядки на опыт в обыденном смысле слова, представленной у Канта, с другой стороны, в интересах непрерывности опыта, ее представление в виде системы наук еще неполно, и в метафизике должна быть найдена возможность создать чистый систематический опытный континуум; представляется что ее действительное значение нужно искать в этом направлении. Но при неокантианском пересмотре одной, и не самой основной, метафизирующей (metaphysizirenden) мысли у Канта одновременно произошло изменение понятия опыта (Erfahшngsbegriff), а именно, что характерно, прежде всего, в сторону чрезмерного развития механической стороны относительно пустого просветительского понятия опыта. Конечно, нельзя упускать из виду, что в своеобразной корреляции с механическим понятием опыта стоит понятие свободы, получившее дальнейшее развитие в неокантианстве. Однако и здесь нужно подчеркнуть, что общая связь этики с понятием, которое Просвещение, Кант и кантианцы обозначают как нравственность, так же мала, как и связь метафизики с тем, что они называют опытом. С новым понятием познания произойдет важнейшее преобразование не только понятия опыта, но и понятия свободы.
Здесь можно было бы вообще отстаивать мнение, что с нахождением понятия опыта, которое уступило бы логическое место метафизике, было бы намечено различие между сферой природы и сферой свободы. При этом здесь, где речь идет не о доказательстве, а только об исследовательской программе, стоит сказать следующее: насколько необходимо и неизбежно на основе новой трансцендентальной логики преобразование области диалектики, переход от учения об опыте к учению о свободе, настолько же недопустимо превращать это преобразование в смешение свободы и опыта, даже если понятие опыта превратится в метафизическое понятие свободы в каком–то, возможно, еще неизвестном смысле. Ибо изменения, которые будут раскрыты в ходе исследования, могут быть весьма непредсказуемы: трихотомия кантовской системы относится к значительным и основным частям той типической модели (Тypik), которую нужно сохранить, и прежде всего должна быть сохранена именно она. Может быть поставлен вопрос о том, должна ли вторая часть системы (умолчим о сложности третьей) быть связана с этикой или категория каузальности получает через свободу[11] все же другое значение; трихотомия кантовской системы, глубинные метафизические отношения внутри которой еще скрыты, имеет свое решающее основание в троичности категорий отношения[12]. В абсолютной трихотомии системы, которая именно этим троичным делением связана с целой областью культуры, лежит одно из мировых исторических [преимуществ?] кантовской системы над системами его предшественников. Формалистическая диалектика посткантианских систем все же не основана на обозначении тезиса как категорического, антитезиса как гипотетического и синтеза как дизъюнктивного отношения. Тем не менее, кроме понятия синтеза важным станет и займет систематически более высокое положение понятие особого не–синтеза двух понятий в одном третьем, так как кроме синтеза между тезисом и антитезисом возможно и другое отношение. И все же это вряд ли может привести к четвертичному делению категории отношения.
Но если большая трихотомия должна быть сохранена для деления философии и в случае, если делимые неверно определены, то не совсем так это работает в случае всех отдельных схем системы. Примерно как Марбургская школа начала с устранения различия между трансцендентальной логикой и эстетикой (если еще можно задать вопрос о том, не должен ли аналог этого разделения переместиться на более высокую ступень), так II таблица категорий должна быть совершенно пересмотрена, как это и требуется повсеместно. Именно здесь, в получении нового понятия опыта даст о себе знать преобразование понятия познания, так как аристотелевские категории[13], с одной стороны, устанавливаются произвольно, но, с другой стороны, используются Кантом совершенно однобоко с точки зрения механического опыта. Прежде всего, нужно хорошо взвесить, должна ли таблица категорий сохранить столь же единичный и дискретный характер, который она имеет, и нельзя ли ее вообще обосновать логически более ранними исходными понятиями или связать ее с ними в рамках учения о степенях (Lehre von den Ordnungen), отведя ей определенное место среди других элементов либо расширив до пределов такового. К такому общему учению о степенях принадлежало бы тогда и то, что Кант истолковывает в трансцендентальной эстетике[14], — в дальнейшем все без исключения основные понятия не только механики, но и геометрии, языкознания, психологии, описательной естественной науки и многих других, насколько они имели бы непосредственное отношение к категориям или другим высоким философским понятиям порядка. Яркие примеры здесь — это основные понятия грамматики. Представляется, что в дальнейшем с радикальным исключением всех тех элементов, которые в теории познания дают скрытый ответ на скрытый вопрос о становлении познания, освободится большая проблема ложного познания, или заблуждения, логическая структура и порядок которого должны быть установлены так же, как и в случае истины. Заблуждение не может более объясняться из заблуждающегося, а истина — из правильного разума. Для исследования логической природы ложного и заблуждения в учении о порядках предварительно должны быть найдены категории: повсюду в современной философии утверждается знание, что категориальный и родственный порядок чрезвычайно важен для познания многоступенчатого и немеханического опыта. Искусство, право и история —все эти и другие области должны ориентироваться на учение о категориях с совершенно иной, в отличие от Канта, интенсивностью. Однако в то же время в связи с трансцендентальной логикой возникает одна из самых больших проблем системы вообще, а именно — вопрос о ее третьей части, другими словами, о тех научных видах опыта (биологических), которые Кант не утвердил на почве трансцендентальной логики, и о том, почему он этого не сделал. И в дальнейшем — вопрос о взаимосвязи искусства с этой третьей, а этики — со второй частью системы. Фиксация неизвестного Канту понятия идентичности, вероятно, должна играть большую роль в трансцендентальной логике, хотя оно не стоит в категориальной таблице, но все же оно открывает, по всей видимости, самое высокое понятие трансцендентально–логического и, возможно, действительно пригодно для того, чтобы заложить основы автономной по отношению к субъектно–объектной терминологии сферы познания. Трансцендентальная диалектика уже в кантовском варианте[15] указывает на идеи, на которых основывается единство опыта. Однако для углубленного понятия опыта, как уже было сказано, кроме единства необходима непрерывность, и в идеях должно быть показано основание единства и непрерывности того невульгарного и не только научного, но и метафизического опыта. Должна быть доказана конвергенция идеи с самым высоким понятием познания.
Кантово учение, чтобы найти свои принципы, должно было соотнести себя с наукой, в связи с которой оно могло сформулировать эти принципы, — примерно так же дело будет обстоять с современной философией. Значительное преобразование и корректировка, предпринятые на основе одностороннего механикоматематически ориентированного понятия познания, могут быть достигнуты только путем установления связи познания с языком, как во времена Канта это уже попытался сделать Гаман. Осознавая совершенную определенность и априорность философского познания, равноценность ее принципов математическим принципам, Кант полностью отказывается от факта, что любое философское познание имеет выражение только в языке, а не в формулах или числах. Но этот факт должен быть в конце концов утвержден как решающий, и ради него должно быть также утверждено систематическое преимущество философии над всей наукой, в том числе над математикой. Понятие познания, полученное в ходе рефлексии над его языковой сущностью, создаст соответствующее ему понятие опыта, которое также будет включать области, настоящее систематическое упорядочение которых не удалось провести Канту. Самой высокой из них является область религии. Итак, наконец–то можно сформулировать требование к грядущей философии: на основе кантовской системы создать понятие познания и соответствующее ему понятие опыта, о котором речь идет в учении о познании. Такая философия либо называлась бы в своей общей части теологией, либо стала бы выше теологии, поскольку она включает историко–философские моменты.
Опыт — это единое и непрерывное разнообразие познания.
В целях прояснения отношения философии к религии нужно повторить изложенное выше в той части, в которой это касается систематической схемы философии. В данном случае речь идет об отношении между тремя понятиями: «теория познания», «метафизика», «религия». Вся философия распадается на теорию познания и метафизику, или, говоря словами Канта, на критическую и догматическую часть[16], однако это разделение, не по содержанию, а по принципу деления, не является принципиально важным. Оно означает лишь то, что на основе критического осмысления познавательных понятий и понятия познания теперь может быть построено учение о том, на чем прежде всего основано критико–познавательное понятие познания. Пожалуй, нельзя точно показать, где прекращается критическое и начинается догматическое, потому что понятие догматического должно лишь обозначать переход от критики к учению, от общих — к особым основным понятиям. Вся философия является, таким образом, теорией познания, всего лишь теорией, критической и догматической к любому познанию. Обе части, как догматическая, так и критическая, целиком подпадают под область философского. И так как это происходит, так как догматическая часть не совпадает с отдельной научной частью, то естественно возникает вопрос о границе между философией и отдельной наукой. Значение термина «метафизическое», как он был введен ранее, состоит здесь в том, чтобы объяснить эти границы как не предзаданные, и преобразование «опыта» в «метафизику» означает, что в метафизическую или догматическую часть философии, в которую превращается самая высокая теоретико–познавательная, то есть критическая часть, потенциально включен так называемый опыт. (Иллюстрации к этому отношению для области физики см. в моем сочинении об объяснении и описании[17]. Если, таким образом, в самом общем виде описано отношение между теорией познания, метафизикой и отдельной наукой, то все еще остаются два вопроса. Во–первых, вопрос об отношении критического к догматическому моменту в этике и эстетике, который мы здесь оставим в покое, между тем как мы все же должны постулировать решение в систематически аналогичном смысле, как в области учения о природе, — и во–вторых, вопрос об отношении философии и религии. Пока ясно только то, что, по сути, речь должна идти не о вопросе отношений между философией и религией, но об отношении между философией и учением о религии; другими словами, речь идет о вопросе отношения познания вообще к познанию в религии. Вопрос о бытии религии, культуры и т. д. тоже может играть роль в философии, но только в направлении вопроса о философском познании такого бытия. Философия всегда без исключений вопрошает о познании, в то время как вопрос о познании ее бытия является только одной, хотя и совершенно исключительной, модификацией вопроса о познании вообще. Следует особо подчеркнуть: философия вообще в своих вопросах никогда не сталкивается с единством бытия, а всегда только с новыми единствами законностей, интегралом которых является «бытие». Исходное, или первоначальное, теоретико–познавательное понятие имеет двойную функцию. Иногда оно является тем понятием, которое через свою спецификацию, после общего логического обоснования познания вообще, проникает к понятиям отдельных познавательных типов и тем самым к отдельным типам опыта. Это его действительное теоретико–познавательное значение и в то же время более слабая сторона его метафизического значения. И все же исходное, или первоначальное, понятие познания в данной связи не приходит ни к конкретной тотальности опыта, ни тем более к какому–либо понятию бытия. Но существует единство опыта, которое ни в коем случае не может пониматься как сумма опытов, к которой непосредственно относится понятие познания как учения в своем непрерывном раскрытии. Предмет и содержание этого учения, эта конкретная тотальность опыта — религия, которая дана философии поначалу только как учение. Источник бытия лежит теперь в тотальности опыта, и только в учении философия наталкивается на абсолютное как бытие и тем самым — на ту непрерывность в сущности опыта, в пренебрежении которой предположительно коренится недостаток неокантианства. С чисто метафизической точки зрения исходное понятие опыта переходит в его тотальность в совершенно другом смысле, нежели в его отдельные спецификации, а именно: непосредственно, при чем смысл этой непосредственности в отличие от смысла опосредованное еще нуждается в обосновании. Познание метафизично — это означает в строгом смысле, что оно ссылается через исходное понятие опыта на конкретную всеобщность опыта, то есть на бытие. Философское понятие бытия должно подтверждаться религиозным понятием учения, которое в свою очередь должно подтверждаться теоретико–познавательным исходным понятием. Все это — только некоторые наброски. Основная тенденция в определении отношения между религией и философией следующая: одновременно выполнить требования, во–первых, потенциального единства религии и философии, во–вторых, помещения познания религии в философию, и в–третьих, целостности трех элементов системы.
В первом посмертном издании работы Шолем датировал ее возникновение «началом 1918 года» (Zeugnisse. Theodor W. Adorno zum 60. Geburtstag. Im Auftrag des Instituts fuer Sozialforschung hg. Von Max Horkheimer, Frankfurt am Main, 1963. S. 33 [Предисловие]; предисловие находится ниже [см. Текстологическую справку]). Эта дата была им позже пересмотрена. В письме к одному из издателей он писал: «Мое указание на то, что работа написана в начале 1918 года, неверно, как это следует из письма Доры (жены Беньямина) ко мне от 7 декабря 1917 года […] Работа написана в ноябре 1917 как дальнейшее развитие идей, изложенных им в письме от 22 октября. Ее копию, переписанную Дорой, предполагалось передать мне на мое 20–летие [5 декабря 1917]. 7 декабря Дора написала мне: «На протяжении многих дней я днями и ночами сидела и переписывала работу Вальтера, чтобы порадовать Вас в этот день [5 декабря 1917] ; теперь тиран не дает мне ее отправить, потому что у нее должно быть продолжение. Поэтому шлю Вам лишь мои теплые поздравления». Продолжение было действительно написано, в марте 1918 года, и находится в виде «Дополнения» в той же рукописи, которая предназначалась мне в качестве подарка и которую я получил на празднике по случаю моего приезда [в Берн 4 мая 1918 года; см. Scholem, Walter Benjamin — Geschichte der Freundschaft. 1b., S. 69]» (Гершом Шолем к P. Тидерманну, 8 мая 1974). Шолем рассказал об этом случае годом позже в схожих словах в своей книге воспоминаний [см. Scholem, Walter Benjamin — Geschichte der Freundschaft. Ib., S. 67]. В том письме, от 22 октября 1917 года, основные идеи которого получили свое развитие в сочинении «О программе грядущей философии», Беньямин писал: «Я […] постоянно размышлял о том, что Вы [то есть Шолем] написали — за исключением Ваших мыслей по поводу Канта, о которых я так не могу сказать, потому что вот уже как два года, как они являются моими собственными. Никогда наше согласие не казалось мне таким удивительным, как в Ваших словах об этом, которые я буквально мог бы сделать своими собственными. Поэтому это то, о чем я, наверное, меньше всего Вам должен писать. Не имея до сих пор каких–то оснований для этого, я глубоко убежден в том, что в смысле философии и вместе с тем учения, к которому она относится, если оно ее, конечно, не исключает, вообще не может идти речи о потрясении, разрушении кантовской системы, а только лишь о ее прочном укреплении и универсальном развитии. Эта глубочайшая типология мышления (Typik des Denkens), учения до сих пор открывалась мне в его словах и мыслях, и пусть невероятно многому из кантовских слов суждено погибнуть, типология его системы, которая в рамках философии, насколько мне известно, может сравниться разве что с платоновской, должна быть сохранена. Только в смысле Канта и Платона и, как я считаю, на пути преобразования и развития Канта философия может стать учением или, по меньшей мере, присоединиться к нему.
По праву, Вы можете заметить, что «в смысле Канта» и «типология его мышления» являются совсем неясными выражениями. В действительности, я лишь ясно вижу перед собой задачу, как я ее только что описал, сохранить существенное в кантовском мышлении. В чем состоит это существенное и как нужно восстановить его систему, чтобы она проявила себя, я пока не знаю. Но я убежден: кто не ощущает в Канте борьбу за мышление об учении самом по себе (das Denken der Lehre selbst) и кто, поэтому, принимает его слова не с трепетным почтением как tradendum, предание (хотя позднее его еще нужно будет преобразовать), тот ничего не понимает в философии. Поэтому любое осуждение его философского стиля — это чистое мещанство и светская болтовня. Совершенно верно, что в великих научных творениях должно присутствовать искусство (как и наоборот), и здесь еще одно мое убеждение, что кантовская проза сама представляет собой предел высокой художественной прозы. Разве иначе смогла бы потрясти Клейста до глубины души «Критика чистого разума»? […] Этой зимой я начну работать над Кантом и историей» — план, из которого должен был получиться первый диссертационный проект Беньямина [см.: Bd. 1,799] «Я полагаю, что, помимо некоторых актуальности и интереса, последнее основание, указавшее мне на эту тему» — и которое не привело к его разработке, но стало мотивом программного сочинения — «состоит в том, что всегда последнее метафизическое достоинство философского созерцания, которое действительно хочет быть каноничным, станет очевидным при его столкновении с историей; другими словами, специфическое родство философии с истинным учением должно явным образом выступить на первый план в философии истории; однако совсем не исключено, что в этом отношении философия Канта еще совсем неразвита. […] Остальные мои мысли по этому поводу я Вам лучше сообщу устно» (Briefe, S. 149–152). Возможно, это были те мысли, которые вскоре были включены в текст программной работы. Она была скопирована Дорой Беньямин до 5 декабря 1917 года, дня рождения Шолема, и все же не переслана адресату; еще 13 января 1918 года Беньямин написал ему, что он «пока что не может поделиться спорными философскими заметками, переписанными моей женой. Прежде чем я отправлю эти записки в долгое путешествие, совершенно необходимо, чтобы они были основаны на соображениях, которыми я особенно занят в настоящее время» — которые были изложены в марте 1918 года в «Дополнении» к программному сочинению — «но при моей полной изолированности от единомышленников, от Вас, Герхард, единственного, которого я вообще могу назвать в этой связи, я не могу даже предположительно сказать о дате их хоть сколько–нибудь удовлетворительного завершения» (Briefe, S. 167). Можно с уверенностью сказать, что эта дата была намечена на начало мая 1918 года, потому что к этому моменту Шолем уже получил работу по случаю своего приезда в Берн. «С самого начала мы много говорили о его «Программе грядущей философии». Он говорил об объеме понятия опыта, которое имелось здесь в виду и которое, по его мнению, включает духовную и психологическую связь человека с миром, происходящую в областях, пока что непроницаемых для познания. Когда я завел речь о том, что, следовательно, мантические дисциплины законно входят в это понятие опыта, он ответил резкой формулировкой: «Философия, которая не включает возможность делать и объяснять предсказание на кофейной гуще, не может быть истинной […]» О Канте он говорил, что тот «обосновал неполноценный опыт» (Шолем, в указанном месте. S. 77).
T машинопись; организованная Шолемом перепечатка рукописной копии, выполненной Дорой Беньямин; Архив Беньямина отд. копий списков.
Для первого издания работы Шолем написал следующее «Предисловие»: «Публикуемая здесь работа была передана мне Вальтером Беньямином в виде переписанной рукой его жены копии рукописи, когда я приезжал к нему в начале 1918 года в Берн. Тогда он придавал этим страницам, о которых мы с ним беседовали, большое значение. В действительности они представляют собой подробнейшее изложение систематической философии, полученное от него в то время, когда он еще считал возможным построение системы философии. Он написал работу в начале 1918 года, в качестве продолжения и уточнения мыслей, изложенных им в письме ко мне от 22 октября 1917 года, которые я опубликовал в другом месте (Deutsche Briefe des 20. Jahrhunderts, Muenchen: Deutscher Taschenbuchverlag, 1962. S. 90). «Дополнение», вероятно, было написано в марте 1918 г. так как он ссылается на пометку: «Попытка доказательства того, что научное описание события предполагает наличие объяснения», датированную февралем 1918 года и которую я тогда переписал для себя из его рукописи.
Приведенные здесь соображения о системе Канта и его понятии опыта стояли тогда в центре его размышлений, на что указывает тот факт, что он предложил мне в качестве первого текста для совместного чтения вышедший тогда в третьем издании большой труд Германа Когена «Кантовская теория опыта», который мы действительно вместе читали в течение лета 1918 года.
Я не сравнивал пунктуацию этого сочинения с общепринятой. В. Б. стремился в эти годы в личных записях и письмах как можно реже употреблять запятые. В трех местах в тексте отсутствуют слова, которые я, следуя содержанию, заключил в угловые скобки» (Zeugnisse. Theodor W. Adorno zum ôO. Geburtstag. Im Auftrag des Instituts fuer Sozialforschung hg. Von Max Horkheimer, Frankfurt am Main, 1963. S. 33–44). Издатели не обнаружили рукописную копию текста Доры Беньямин, оригинал был утерян. Издатели воспроизвели машинописный текст, имевшийся у Шолема, с незначительными исправлениями, указанными в вариантах текста. Они заключены в тексте в квадратные скобки.
Перевод А. Рябовой[18]
Судьба и характер
Судьбу и характер принято считать связанными друг с другом каузально, и характер при этом определяют как причину судьбы. Основанием тому является следующая мысль: если, с одной стороны, досконально известен характер человека, иными словам — то, как он реагирует на мир, с другой же — известно все о ходе событий в тех сферах, в которых мир воздействует на характер, то можно с точностью сказать, что произойдет с таким характером и на какие поступки он сам окажется способен. Стало быть, судьба его заведомо известна. Нынешний умственный кругозор не позволяет установить непосредственную связь с понятием судьбы, поэтому современные люди довольствуются мыслью, будто характер можно прочитать по телесным чертам человека, ибо люди уверены — знание о характере в каждом из них каким–то образом изначально заложено, а вот похожее представление о том, что судьбу человека можно читать по линиям руки, покажется им неприемлемым. Это кажется им невозможным, как кажется невозможным «предсказание будущего»; в эту же категорию без оговорок зачисляют и предсказание судьбы, а характер предстает как нечто наличествующее в настоящем и прошлом, то есть то, что познаваемо. И как раз те, кто берется — на основе каких бы то ни было знаков — предсказывать людям судьбу, утверждают, что у того, кто способен обратить к ней взгляд (в ком каким–то образом изначально заложено непосредственное знание о судьбе), она обретает настоящее, или, осторожнее выражаясь, судьба являет ему себя. Предположение о том, что будущая суцьба как– то «являет себя», не противоречит ни понятию судьбы, ни человеческой способности ее распознавать и, как можно показать, не идет в разрез со здравым смыслом. Ведь и судьба, подобно характеру, обозрима не сама по себе, а явлена только в знаках, потому что — даже если та или иная черта характера, то или иное сплетенье судьбы непосредственно доступно взору — взаимосвязь двух этих понятий являет себя лишь в знаках, ибо она существует поверх того, что непосредственно зримо. Система характерологических признаков в целом ограничивается телесными чертами, если не считать характерологического истолкования подобных знаков в гороскопах, тогда как, согласно традиционному взгляду, знаком судьбы могут стать не только телесные, но и любые другие проявления внешней жизни. Взаимосвязь же знака и означаемого составляет в обеих сферах одинаково скрытую и весомую — хотя во всех остальных отношениях и несходную — проблему, потому что, вопреки поверхностному рассмотрению и ложному опредмечиванию знаков, они в обеих системах означивают характер или судьбу не на основе каузальных взаимосвязей. Взаимосвязь значений невозможно обосновать каузально, даже если в некотором конкретном случае эти самые знаки в своем наличии порождены причинно–следственной связью судьбы и характера. В дальнейшем не будет предприниматься попытка исследования того, как выглядит подобная система знаков для характера и судьбы, рассмотрению же подлежат лишь сами означаемые.
Обнаруживается, что традиционное понимание как сущности, так и соотношения судьбы и характера не только проблематично, поскольку оно не способно рационально объяснить возможность предсказания судьбы, но и вообще ложно, потому что различение, на котором оно основано, теоретически неосуществимо. Ибо невозможно сформировать непротиворечивое понятие, исходя из внешнего облика действующего человека, ведь его ядром является характер в подобном его рассмотрении. Нельзя определить понятие внешнего мира, противопоставив его понятию действующего человека. Скорее наоборот, между действующим человеком и внешним миром все находится во взаимодействии, сферы их действия пересекаются; и сколь бы ни разнились их представления, понятия их нераздельны. Не только ни в каком случае нельзя указать, что в человеческой жизни, в конечном счете, является функцией характера, а что — функцией судьбы (сказанное здесь ни о чем бы не говорило, если бы эти функции переходили одна в другую лишь в сфере опыта), но, сверх того, внешнее, которое заранее дано действующему человеку, можно в произвольно высокой степени принципиально соотнести с его внутренним началом, а его внутреннее — в такой же степени с внешним, и даже, в принципе, рассматривать как таковое. При подобном рассмотрении, далеко отстоящем от теоретического их разделения, характер и судьба совпадают друг с другом. Так оно у Ницше, когда он говорит: «Если у кого–то есть характер, то у него есть и пережитое событие, постоянно возвращающееся»[19]. Это значит: если у кого–то есть характер, его судьба весьма постоянна. Правда, одновременно значит и другое: у него нет судьбы — и к такому выводу в свое время пришли стоики.
Если задаться целью вывести понятие судьбы, то необходимо строго отделить его от понятия характера, что, со своей стороны, не удастся, пока характер не будет более точно определен. На основе такого определения оба понятия обнаружат существенное расхождение; судьба уже наверняка не заступит на место характера, а характер не встретишь в обстоятельствах судьбы. Кроме того, нужно обоснованно отнести оба понятия к тем сферам, в которых они не будут, как это имеет место в обыденном словоупотреблении, узурпировать положение высших сфер и понятий. Ведь обычно характер ставят в этический, а судьбу — в религиозный контекст. Их нужно изгнать из этих областей, разоблачив заблуждение, благодаря которому они туда попали. К подобному заблуждению относительно понятия судьбы привело то, что его связали с понятием вины. Приведем типичный пример: судьбоносное несчастье человека объясняют ответом Бога или богов на его религиозную провинность. Но тут–то как раз следует задуматься о том, что, в то время как понятие вины связывают с моралью, соответственная связь понятия судьбы с понятием невиновности отсутствует. Идея судьбы в классическом греческом обличье совершенно не увязывает счастье, выпадающее на долю человека, с безвинностью его жизненного пути; напротив, счастье искушает человека и приводит его к самой тяжкой провинности — к гордыне. Стало быть, судьба не связана с невиновностью. И — копнем еще глубже — есть ли у судьбы вообще какая–либо связь со счастьем? Является ли счастье, равно как и, вне всякого сомнения, несчастье, определяющей категорией судьбы? Ведь счастье, скорее, выпутывает счастливого человека из сплетения судеб и из сетей его собственной судьбы. Недаром Гёльдерлин называет блаженных богов «не имущими судьбы»[20]. Значит, счастье и блаженство выходят за пределы сферы судьбы, равно как и невиновность. Однако тот порядок, основополагающими понятиями которого являются лишь вина и несчастье и в пределах которого нет мыслимого пути к освобождению (ибо всякая судьба есть несчастье и вина) — такой порядок не может быть религиозным, несмотря на то, что превратно истолкованное понятие вины, казалось бы, на это указывает. Следовательно, предстоит отыскать другую область, в которой только и действуют несчастье и вина, найти такие весы, на которых блаженство и невиновность будут найдены слишком легкими и устремятся вверх. Весы эти — весы справедливости. Право делает законы судьбы, несчастье и вину мерой личности; было бы неверно полагать, что в правовом контексте следует искать только одну вину; скорее, всегда можно найти подтверждение тому, что каждая правовая провинность — не что иное, как несчастье. По недоразумению и по причине того, что он оказался перепутан с царством справедливости, правовой порядок — который не более чем пережиток демонической стадии в существовании человека, стадии, когда правовые формулировки определяли не только отношения между людьми, но и соотношения между людьми и богами — устоял и после того времени, которое провозгласило победу над демонами. Не в области права, а в трагедии голова гения впервые возвысилась из тумана вины, потому что в трагедии преодолевается демоническая судьба. Но не таким образом, что по–язычески непредсказуемое переплетение вины и искупления оказывается распутано благодаря чистоте искуплённого и примирившегося с непогрешимым богом человека. Напротив, в трагедии языческий человек осознаёт, что он лучше, чем его боги, но это осознание отнимает у него дар речи, речь немеет. Не заявляя о себе, речь втайне стремится исполниться мощи. Она не кладет вину и искупление взвешенно на чаши весов, а беспорядочно колеблет их. Нет и слова о том, чтобы восстановить «нравственный порядок мира», но моральный человек, еще немой, без права голоса — как таковой он зовется героем — силится подняться над сотрясающимся мучительным миром. Парадокс рождения гения в моральной бессловесности, моральной инфантильности — это и есть возвышенное в трагедии. Вероятно, это и есть основа возвышенного как такового, когда является скорее гений, чем бог. Судьба, таким образом, показывается в рассмотрении отдельной жизни человека как жизни осужденного, жизни по сути своей таковой, что сперва была осуждена, а потом уже обрела вину. Вот как Гёте облекает в слова обе эти фазы: «Вы возлагаете вину на бедняка»[21]. Право приговаривает человека не к наказанию, а к вине. Судьба для живущего неразрывно связана с виной. Состояние вины соответствует природной конституции живущего, той еще не совсем растворившейся кажимости, от которой человек настолько отдалился, что никогда не сможет погрузиться в нее целиком, а может только незримо оставаться под ее властью лучшей своей стороной. Поэтому по сути человек не есть тот, кто обладает судьбой, а субъект судьбы не поддается определению. Судья может углядеть судьбу в чем угодно; к любому наказанию он слепо подверстывает судьбу. Человека это никогда не затрагивает, зато касается жизненного начала в нем, в силу кажимости причастного к природной вине и несчастью. В отношении судьбы живую суть человека можно соединить с гадальными картами или с движением планет, и мудрая гадалка использует простую технику, когда она связывает его живое начало с виной при помощи более предсказуемых, более определенных вещей (вещей, которые порочно чреваты определенностью). Таким вот образом она распознаёт в знаках нечто о природной жизни в человеке и пытается подменить ей упомянутую выше голову гения; с другой же стороны, и человек, идущий к гадалке, отрекается в пользу виноватой жизни в себе. У связи с виной нет собственной темпоральности; эта темпоральность по своему виду и размеру совершенно отличается от темпоральности искупления, музыки или истины. От фиксации особенного вида темпоральное судьбы зависит исчерпывающее освещение этих вещей. Тот, кто гадает по картам или по руке, учит, по крайней мере, что это время в любое время (но не в настоящем) можно привести к одновременное™ с другим временем. Это несамостоятельное время вынужденно паразитирует на времени другой, более высокой и менее природной жизни. Оно лишено настоящего, потому что судьбоносные мгновения бывают только в плохих романах, да и прошлое с будущим даны ему только в своеобразных видоизменениях.
Итак, понятое судьбы существует — и оно истинно, и оно единственное, одинаковым образом затрагивающее как судьбу в трагедии, так и расчеты гадалки, раскладывающей карты, — и оно совершенно не зависит от понятия характера и ищет обоснования совсем в другой сфере. В соответственное положение нужно поставить и понятие характера. Вовсе не случайно, что оба этих порядка взаимосвязаны со способами их истолкования и что, собственно, в хиромантии характер и судьба сходятся друг с другом. Оба порядка затрагивают природного человека, точнее, природу в человеке, и именно она дает о себе знать в знаках природы — будь это знаки, данные сами по себе, либо заданные экспериментально. Обоснование понятия характера, таким образом, тоже должно быть соотнесено с природной сферой, и оно должно иметь так же мало общего с этикой или моралью, как и судьба — с религией. С другой стороны, понятие характера следует избавить и от тех черт, которые устанавливают его ошибочную связь с понятием судьбы. Эта связь вырисовывается в мысленном образе крупноячеистой сети, каковой поверхностному взору предстает характер, нити которой, благодаря познанию, произвольно уплотняются и образуют прочнейшую ткань. То есть, обостренный взгляд знатока человеческих характеров наряду с их крупными, основополагающими чертами якобы способен различить и более тонкие, плотнее связанные между собой черты, пока наконец вся эта видимая сеть не соткется в плотное полотно. И в конечном счете слабые умы уверовали, что нити этой ткани и есть моральная суть рассматриваемого характера и они–де способны различать в нем хорошие и дурные свойства. Но, как выводится из самой морали, свойства характера никогда не бывают морально значимыми, таковыми являются одни лишь действия. Правда, внешне все выглядит наоборот. Не только определения «вороватый», «расточительный», «смелый» предстают одновременно и как моральные оценки (в этих случаях еще можно отвлечься от внешне моралистической окраски этих понятий), но, главным образом, такие слова как «жертвенный», «лукавый», «мстительный», «завистливый», как представляется, указывают на черты характера, в случае которых невозможно абстрагироваться от моральной оценки. И все же в каждом из названных случаев подобное абстрагирование не только возможно, но и необходимо, чтобы ухватить смысл этих понятий. А именно: осуществить эту мыслительную операцию следует так, чтобы оценка (Wertung) сама по себе вполне оставалась в силе, но только лишилась бы морального акцента, уступив место соответственно обусловленному в положительном или отрицательном смысле оцениванию (Schätzung), как, например, при несомненно нейтральном в моральном плане обозначении свойств интеллекта («умный» или «глупый»).
Тому, к какой сфере действительно должны относиться эти псевдоморальные обозначения свойств, учит комедия. В центре комедии зачастую стоит, как главный герой комедии нравов, человек, которого мы, если бы мы сами столкнулись с его действиями в жизни, а не на сцене, назвали бы негодяем. Но на сцене комедии его действия приобретают только тот интерес, который высвечивает в них его характер, и в классических примерах такой характер — повод для большого веселья, а не для морального осуждения. Действия комического героя никогда не затрагивают публику напрямую, с точки зрения морали; его действия интересны лишь настолько, насколько они отражают свет его характера. При этом очевидно, что великие творцы комедий, например, Мольер, не стремятся детерминировать персонажа за счет многообразия черт его характера. Скорее, психологическому анализу закрыт доступ к его произведениям. Интерес к ним никак не связан с тем, что в «Скупом» скаредность, а в «Мнимом больном» — ипохондрия персонифицированы и положены в основу всех действий. Эти пьесы не учат о том, что такое ипохондрия и скаредность; нисколько не делая ипохондрию и скаредность понятнее, эти пьесы выводят их на сцену в преувеличенно резком виде, и поскольку предмет психологии — это внутренняя жизнь эмпирически истолковываемого человека, мольеровские персонажи не пригодны даже как демонстрационные образцы для психологии. Характер в них раскрывается в солнечном блеске единственной его черты, не давая проявиться никакой другой черте вокруг, затмевая ее. Возвышенность комедии характеров опирается на анонимность человека и его моральности при наивысшем раскрытии индивидуума в единственности определенной черты его характера. Судьба представляет чудовищно запутанную ситуацию виновной личности, запутанность и связанность ее вины, характер же дает ответ гения на мифическое порабощение личности в контексте вины. Запутанная ситуация становится простой, фатум оборачивается свободой. Ибо характер комического персонажа — не пугало детерминистов, а светильник, в лучах которого становится видна свобода его действий. Догмату природной вины человека, его первородного греха, на принципиальной невозможности искупления которого основано языческое учение, а на возможности при случае от него освободиться — его культовая практика, гений противопоставляет свое видение природной невинности человека. Это видение, в свою очередь, тоже остается в сфере природы, однако моральные воззрения настолько же близки его сути, насколько близка ей противоположная идея только в форме трагедии, хоть это и не единственная его форма. Видение же характера действует освобождающе во всех формах: со свободой оно связано — как здесь, однако, не будет показано — путем его сходства с логикой. Таким образом, черта характера не является узлом в сети. Она — солнце индивидуума на бесцветном (анонимном) небосклоне человека, творящее тень от комического действа. (К самому существу этой взаимосвязи подводит глубокое наблюдение Коэна, что всякое трагическое действие, как бы возвышенно оно ни вышагивало на котурнах, все же отбрасывает комическую тень.)
Как физиогномические, так и любые мантические знаки в древности использовали прежде всего для предсказания судьбы, в соответствии с языческим представлением о вине. Физиогномика, равно как и комедия, — это уже явления из новой эпохи (Weltalter) гения. Их связь с древним искусством предсказания в современной физиогномике проявляется в бесплодном, моралистически — оценочном акценте ее понятий, равно как и в стремлении к аналитической запутанности. Именно в этом отношении точка зрения древних и средневековых физиогномистов была более правильной, чем у нынешних, ведь они понимали, что характер можно охватить лишь немногими безучастными к морали понятиями, которые, например, пыталось определить учение о темпераментах.
Работа написана во второй половине сентября 1919 г. на отдыхе в Лугано, как следует из двух упоминаний в письмах. Пятнадцатого сентября 1919 г. Беньямин пишет Шолему: «Мы [Беньямин и его жена] собираемся пробыть еще несколько недель в Лугано, прежде чем уедем из Швейцарии»[22]. А из Брейтенштейна на Земме– ринге, где он находится «с Дорой примерно с девятого ноября 1919 по середину февраля 1920, в санатории Дориной тети», Беньямин сообщает Шолему двадцать третьего ноября 1919 г.: «В Лугано все было в целом хорошо. Я написал статью «Судьба и характер», которую теперь доделал до конца»[23]. Таким образом, написание статьи и ее окончательного варианта приходятся на период между, самое раннее, серединой сентября и, самое позднее, двадцать третьим ноября 1919 г. «Я собираюсь, — пишет Беньямин далее, — опубликовать [статью], как только представится такая возможность. Однако не в журнале, а в альманахе или чем–то подобном»[24]. Что именно Беньямин имел в виду, не совсем ясно. И возможность публикации представилась далеко не сразу: пятого декабря 1919 г. он все еще ждет такой возможности: «Эту статью, которую я причисляю к лучшим своим работам, я надеюсь вскоре опубликовать [вместе с подробной рецензией «Духа утопии» Эрнста Блоха]»[25]. И 13 января 1920 г. публикация не представляется возможной в обозримом будущем, поскольку Беньямин пишет Шолему по поводу «копии» (имеется в виду, вероятно, утерянная машинописная копия), и его слова не позволяют сделать вывода о близком выходе статьи в свет: «Прилагаю «Судьбу и характер». Должен настойчиво просить Вас никому ее не давать и не читать. Копию же (к сожалению, плохую) оставьте себе, если пожелаете»[26]. С другой стороны, просьба держать статью в секрете могла означать и то, что права на ее распространение приобрели третьи лица, взявшие публикацию на себя. Так или иначе, статья была опубликована только в 1921 г. в «Аргонавтах», номер 10–12 первого выпуска. В первый раз эта публикация упоминается в письме от конца 1920 г.: «В «Аргонавтах» опубликуют мою рецензию на «Идиота», а также «Судьбу и характер». Я получил правку»[27].
В письме от начала 1924 г. Гуго фон Гофмансталю в связи с тем, что тот согласился напечатать статью Беньямина об «Избирательном сродстве», он, среди прочего, сам интерпретирует свою статью. Речь идет о том, что философия позволяет испытать «благотворное действие порядка, благодаря которому философское прозрение в каждом отдельном случае устремляется к совершенно определенным словам, которые, став понятиями, покрылись заскорузлой коркой. Под его магнетическим прикосновением корка отделяется и приоткрывает формы скрытой жизни языка. Для писателя […] в этом отношении заключается счастье обладать пробным камнем силы своей мысли, когда он видит, как язык раскрывается перед его взором. Несколько лет назад я пытался высвободить старые слова «судьба» и «характер» из терминологического рабства и овладеть их первозданной жизнью в духе немецкого языка. Но именно из–за этой попытки мне открылось во всей ясности, с какими — непреодоленными — сложностями сталкивается такая попытка проникновения. Там, где прозрения оказывается недостаточно, чтобы действительно отделить очерствевший панцирь понятия, оно сталкивается с искушением — чтобы только не возвращаться к варварству формального языка — пробурить язык и мысль, раз уж не выходит слой за слоем проникнуть в глубину, в которую такие исследования как раз и направлены. Такое форсирование прозрения, хоть его неделикатная педантичность и предпочтительнее, чем сегодня почти повсеместно распространенный высокомерный маньеризм тех, кто ее фальсифицирует, тем не менее, неизбежно вредит упомянутой статье, и я прошу Вас верить в мою искренность, когда я именно этим объясняю наличие в ней темных мест. […] Если бы мне пришлось (что было бы целесообразно) вернуться к проблемам моей тогдашней статьи, я едва ли осмелился бы на лобовую атаку, а стремился бы приблизиться к предметам при помощи экскурсов, как я и сделал с «судьбой» в статье об «Избирательном сродстве»»[28].
Перевод А. Глазовой[29]
К критике насилия
Задача критики насилия может быть описана путем представления отношения последнего к праву и справедливости. Ибо насилием в точном смысле этого слова любая действенная причина становится только тогда, когда она затрагивает моральные установления. Сфера этих установлений обозначается понятиями права и справедливости. Что касается первого из них, то ясно, что элементарнейшим условием любого правопорядка является соотношение средства и цели. Далее, ясно также, что насилие в первую очередь обнаруживается лишь в сфере средств, а не целей. Эта констатация дает для критики насилия намного больше, чем может показаться на первый взгляд, и, пожалуй, дает еще и нечто другое. Ведь если насилие является средством, то критерий для его критики мог бы казаться самоочевидным. Этот критерий особо заметен в вопросе о том, является ли насилие в каждом определенном случае средством достижения справедливых или несправедливых целей. Сообразно этому критика насилия была бы имплицитно представлена в системе справедливых целей. Но дело обстоит иначе. Ибо такая система — предположим, что она вопреки всем сомнениям определена, — содержала бы не критерий самого насилия как принципа, а критерий для случаев его применения. И по–прежнему открытым оставался бы вопрос, является ли нравственным насилие как таковое, насилие как принцип, если его применяют как средство для достижения справедливых целей. Этот вопрос все же требует для своего решения еще одного, более точного критерия, — различения в сфере самих средств, без оглядки на цели, которым эти средства служат.
Отказом от более точной критической постановки данного вопроса характеризуется крупное направление в философии права — естественное право, и возможно — это его самый явный признак. В применении насильственных средств для достижения справедливых целей оно не видит никакой проблемы, подобно человеку, который уверен в «праве» направлять свое тело к желаемой цели. С позиций естественного права (послуживших идеологическим фундаментом террору во времена Французской революции) насилие является продуктом природы, сродни сырьевому материалу, применение которого не чревато никакими проблемами, разве что в случае, когда насилием злоупотребляют в несправедливых целях. Если (согласно государственной теории естественного права) люди отказываются от всякого насилия в пользу государства, то это происходит при условии (которое, к примеру, четко определил в своем «Теолого–политическом трактате» Спиноза), что каждый единичный человек сам за себя и что до заключения подобного рационального договора он de jure осуществляет любое насилие, которым обладает de facto. Возможно, эти воззрения были потом реанимированы Дарвиновой биологией, которая довольно догматически наряду с естественным отбором видит только в насилии единственное, изначальное, всем жизненным целям природы соответствующее средство. Популярная дарвинистская философия уже не раз демонстрировала, как мал шаг от этой природно–исторической догмы к догме еще более грубой — философско–юридической, согласно которой насилие, которое почти единственно соответствует естественным целям, уже на одном этом основании является законным.
Тезису о насилии как естественной данности диаметрально противостоит позитивно–правовой тезис о насилии, сложившемся исторически. Если с позиций естественного права о любом действующем праве можно судить, только критикуя его цели, то с позиций положительного права можно судить о любом возникающем праве, только критикуя его средства. Если справедливость является критерием целей, то законность — критерием средств. Несмотря на это противоречие обе школы сходятся в общей базисной догме: справедливые цели могут быть достигнуты с помощью оправданных средств, а оправданные средства могут быть обращены к достижению справедливых целей. Естественное право стремится «оправдать» средства справедливостью целей, в то время как позитивное право — «гарантировать» справедливость целей оправданностью средств. Антиномия могла бы оказаться неразрешимой, если общая догматическая предпосылка неверна, если оправданные средства с одной стороны и справедливые цели с другой находятся в непримиримом конфликте. Понимание проблемы, однако, невозможно, если оставаться в этом круге и не выделять независимые друг от друга критерии как для справедливых целей, так и для оправданных средств.
Для начала вынесем за рамки данного исследования область целей, а вместе с ней и вопрос о критериях законности. Зато в самый его центр помещается вопрос о правомерности некоторых средств, которые составляют насилие. Принципы естественного права этот вопрос разрешить неспособны и приводят лишь к бездонной казуистике. Ибо если позитивное право слепо в отношении безусловности целей, то естественное право — в отношении условности средств. Напротив, теория позитивного права является приемлемой как гипотетическая основа при выборе исходного пункта исследования, поскольку она осуществляет принципиальное различение видов насилия независимо от случаев его применения. Она различает между исторически признанным, так называемым санкционированным, и несанкционированным насилием. Если дальнейшие размышления и исходят из этого разграничения, то это, естественно, никоим образом не означает, что данные виды насилия классифицируются сообразно тому, являются ли они санкционированными или нет. Ибо в критике насилия ее позитивно–правовой критерий не применяется, ему лишь дается оценка. Вопрос состоит в том, какие последствия в отношении сущности насилия имеет то обстоятельство, что такой критерий или такое различие вообще возможны, или, другими словами, речь идет о смысле подобного различения. Ибо то, что позитивно–юридическое различение имеет смысл, полностью покоится в себе самом и не заменяемо ничем другим, обнаружится довольно скоро, но одновременно тем самым будет высвечена и та сфера, в которой только и возможно провести это различение. Одним словом, если критерий, устанавливаемый позитивным правом для правомерности насилия, можно анализировать только в отношении его смысла, то сферу его применения следует подвергнуть критике с точки зрения его ценности. И тогда такого рода критика должна занять прочную позицию не только вне философии позитивного права, но и вне естественного права. В какой мере такую позицию может предоставить рассмотрение права с одной лишь философско–исторической точки зрения, будет показано в ходе дальнейшего рассмотрения.
Не столь очевидно, зачем определять различие между правомерным и неправомерным насилием. Следует решительно оспорить ложный тезис естественного права, будто смысл заключается в различении насилия по отношению к справедливым и несправедливым целям. Как уже было отмечено, позитивное право требует от любого рода насилия предъявить некое удостоверение о его историческом происхождении, при определенных условиях подтверждающее законность насилия, его санкционированность. Поскольку признание правовых форм насилия ощутимее всего обнаруживается в принципиально пассивной подчиненности его целям, то в качестве гипотетического основания для классификации видов насилия следует выбрать наличие или отсутствие всеобщего исторического признания его целей. Цели, лишенные такового признания, называются естественными целями, в то время как остальные— правовыми целями. Разнообразные функции насилия в зависимости от того, служит ли оно естественным или правовым целям, нагляднее всего можно показать, приняв за основу определенные юридические отношения. Для упрощения дела последующие рассуждения будут относиться к нынешнему европейскому праву.
Для этих правовых отношений в том, что касается отдельной личности как субъекта права, характерна тенденция не допускать естественных целей, преследуемых этими отдельными лицами, во всех тех случаях, когда такие цели могли бы быть достигнуты насильственным путем. Следовательно, такой правопорядок требует, чтобы во всех областях, в которых цели, преследуемые отдельными лицами, могут быть достигнуты ими при помощи насилия, были установлены юридические цели, которые таким образом осуществимы только и исключительно правовым насилием. Более того, такой правопорядок стремится ограничивать юридическими целями и те области, для которых естественные цели принципиально не ограничены в широких пределах, например, область воспитания, — коль скоро естественные цели достигаются в таковых областях насильственным путем в слишком большой мере, что правопорядок и делает, принимая законы об ограничении педагогического нрава наказывать. Можно сформулировать всеобщую максиму современного европейского законодательства: все естественные цели отдельных лиц входят в противоречие с правовыми целями, если достигаются при помощи в той или иной степени значительного насилия. (Противоречие, которое представляет собой право на самооборону, прояснится само собой в ходе дальнейшего рассмотрения.) Из этой максимы следует, что право рассматривает насилие со стороны отдельного лица как опасность, подрывающую правопорядок. Как некую опасность, ведущую к разрушению юридических целей и правовой исполнительной власти? Да нет же; ибо тогда осудили бы не само насилие как таковое, а лишь насилие, направленное на достижение противоправных целей. Здесь можно было бы возразить, что система юридических целей не могла бы удержаться, если бы где–нибудь естественные цели позволялось достигать насильственным путем. Однако это всего лишь пустая догма. Против этого возражения, пожалуй, просто необходимо принять во внимание неожиданную возможность, что заинтересованность права в монополизации насилия по отношению к отдельному лицу объясняется не намерением сохранить юридические цели, а скорее с их помощью сохранить само право; что насилие в тех случаях, когда оно не находится в руках соответствующего права, является для этого права опасным не из–за целей, которые с его помощью преследуются, а просто потому, что оно существует вне права. Отчетливее подобное предположение можно объяснить, задумавшись над тем, сколь часто личность «великого» преступника, какими бы отталкивающими ни были его цели, вызывала тайное восхищение у народа. Такое возможно не из–за его преступления, но только из–за насилия, о котором оно свидетельствует. Таким образом, в этом случае насилие, право на которое сегодня юриспруденция пытается отобрать у отдельного человека во всех сферах его деятельности, действительно приобретает угрожающие формы и, преследуемое законом, вызывает противоправные симпатии у толпы. Благодаря какой функции насилие не без оснований кажется праву столь угрожающим, чрезвычайно опасным, следует показать как раз на тех ситуациях, в которых согласно современному правопорядку его осуществление является еще допустимым.
Одним их таких случаев, прежде всего, является классовая борьба в форме гарантированного рабочим права на забастовку. На сегодняшний день единственным субъектом права, наряду с государствами, Является, пожалуй, организованный рабочий класс, у которого есть право на насилие. Относительно такого взгляда, однако, имеется возражение, заключающееся в том, что отказ от выполнения действии, не–деяние, чем в сущности и является забастовка, вообще не может быть названо насилием. Именно этот ход мысли, вероятно, облегчил государственной власти решение допустить право на забастовку, когда этого уже невозможно было избежать. Но право это не является неограниченным, потому что оно не безусловно. Конечно, неисполнение действия, а также служебной обязанности там, где таковое просто приравнено к «разрыву договорных отношений», может быть совершенно ненасильственным, чистым средством. И если с точки зрения государства (или права) в случае права рабочих на забастовку речь идет не о праве на насилие, а скорее об ограничении опосредованного насилия со стороны работодателя, то, действительно, возможно такое событие забастовки, которое соответствует этому понятию и демонстрирует только «отказ» и «отчуждение» от работодателя. Однако момент насилия, а именно, в форме шантажа, непременно привносится в акт отказа от выполнения действий в тех случаях, когда оно сопровождается принципиальной готовностью возобновить деятельность, от исполнения которой воздерживаются, при определенных условиях, не имеющих с нею вообще ничего общего или же только внешне модифицирующих ее. И в этом смысле с точки зрения рабочего класса, прямо противоположной точке зрения государства, право на забастовку представляет собой право применять насилие для достижения определенных целей. Противоположность обеих точек зрения проявляется со всей остротой перед лицом всеобщей революционной забастовки. В случае таковой рабочий класс всякий раз будет ссылаться на свое право на проведение забастовок, однако государство назовет эту ссылку злоупотреблением, так как право на забастовку якобы не имелось в виду «таким образом», и отдаст специальные распоряжения. Ибо ему никто не запрещает заявить, что одновременное проведение забастовки на всех предприятиях противозаконно, так как оно не вызвано в каждом случае конкретным поводом, который был бы предусмотрен законодательством. В этом различии интерпретаций выражается объективное противоречие правового положения, по которому государство признает такое насилие, к целям которого оно по временам безразлично, как к целям естественным, но в крайнем случае (при всеобщей революционной забастовке) занимает по отношению к ним враждебную позицию. Тем не менее, хотя это и кажется на первый взгляд парадоксальным, при определенных условиях насилием является и поведение, сопровождающее осуществление любого права. А именно: любое поведение, когда оно активно, следует называть насилием, если оно осуществляет предоставленное ему право, чтобы свергнуть правопорядок, дающий ему же это право, когда же оно пассивно, его также следует называть насилием, если оно — в смысле представленного выше соображения— является шантажом. Поэтому свидетельством реального противоречия в правовом положении, а не логического противоречия в праве, будет то, что, в определенных условиях государство считает действия бастующих насилием и противостоит им насильственным путем. Ибо в забастовке государство сильнее всего прочего опасается той самой функции насилия, к определению которой данное исследование стремится как к единственно надежному фундаменту критики насилия. Если бы насилие, чем оно на первый взгляд и кажется, было просто средством непосредственного овладения чем–то, чего в данный момент домогаются, то оно достигало бы своей цели как грабительское насилие. Оно было бы совершенно непригодно для установления или модификации относительно устойчивых правовых отношений. Забастовка, однако, демонстрирует, что насилие на это способно, что оно в состоянии устанавливать и модифицировать правовые отношения, в каком бы оскорбленном положении ни оказалось при этом чувство справедливости. Можно сразу же возразить, что таковая функция насилия является случайной и единичной. Рассмотрение военного насилия поможет отвергнуть это возражение.
Возможность военного права покоится как раз на тех же реальных противоречиях в правовом положении, что и в случае права на забастовку, а именно, на том, что правовые субъекты санкционируют случаи применения силы, цели которых остаются в глазах санкционирующих естественными целями и которые поэтому в крайнем случае могут вступать в конфликт с их же собственными правовыми или естественными целями. Разумеется, военное насилие обращено в первую очередь совершенно непосредственно на их цели в форме грабительского насилия. Однако все же очень бросается в глаза тот факт, что даже — или скорее как раз — в примитивных условиях, когда государственно–правовые отношения в иных случаях почти еще не начали развиваться, и даже в тех случаях, при которых завоевания победителя невозможно оспорить, необходима церемония заключения мира. Да, слово «мир» в своем значении, в котором оно является коррелятом к значению «война» (существует еще одно совершенно другое значение, такое же неметафоричное и политическое, то самое, в рамках которого Кант говорит о «Вечном мире»), указывает на прямо–таки такое априорное, независящее от всех других правовых отношений, необходимое санкционирование любой победы. Оно заключается как раз в том, что новые отношения признаются как новое «право», независимо от того, требуют ли они de facto какой–либо гарантии, чтобы существовать в дальнейшем, или нет. Таким образом, если исходить из военного насилия как первоначального, прототипического насилия и на этом основании делать вывод в отношении любого другого насилия, применяемого в естественных целях, то любому подобному насилию свойственен правоустанавливающий характер. Позже мы еще остановимся на том огромном значении, какое имеет это умозаключение. Оно объясняет тенденцию в современном праве, о которой говорилось выше, связанную с тем, что отдельное лицо как правового субъекта лишают любого насилия, даже того, которое направлено на достижение его естественных целей. В лице великого преступника современному праву противостоит именно это насилие с угрозой установить новое право, перед которой и в наши дни, как и в первобытные времена, народ испытывает ужас, несмотря на ее бессилие в ключевых случаях. Государство же испытывает страх перед этим насилием как перед правоустанавливающим, каковым оно его и должно признать в условиях, в которых силы извне принуждают государство к тому, чтобы оно признало за ними право на ведение войны, за классами — право на забастовку.
Во время последней войны критика военного насилия стала исходным пунктом страстной критики насилия в целом, которое учит, по крайней мере, одному: насилие больше не осуществляется наивно, потому что этого уже не стали бы терпеть. Оно стало объектом критики не только в смысле правоустанавливающем, но было подвергнуто уничтожающей оценке в отношении еще одной из своих функций. Ведь двойственность в функции насилия является характерной чертой милитаризма, который смог сформироваться только в результате всеобщей воинской повинности. Милитаризм — это принуждение к всеобщему применению насилия как средства достижения государственных целей. В последнее время это принуждение к применению насилия было отчетливо расценено как само применение насилия. В принуждении насилие показывает себя в совершенно другой своей функции, чем в случае простого применения насилия для достижения естественных целей. Принуждение состоит в применении насилия как средства для достижения правовых целей. Ведь подчинение граждан закону — в нашем случае это подчинение граждан закону о всеобщей воинской повинности — есть правовая цель. Если первая из нами названных функций насилия является правоустанавливающей, то вторую мы можем назвать правоподдерживающей. Поскольку же воинская повинность является случаем применения правоподдерживающего насилия, который ничем принципиально не отличается от других случаев применения такого насилия, то ее сокрушительная критика дается не так .легко, как то внушают декламации пацифистов и активистов. Подобная критика скорее совпадает с критикой всего правового насилия, то есть с критикой законной или исполнительной власти, и разбор этого вопроса невозможен в сжатых рамках. Само собой разумеется, этот вопрос нельзя решить в духе детского анархизма, просто заявив, что отныне любые формы принуждения людей не признаются, и просто объявив, что «позволено все, что угодно». Данная максима лишь исключает рефлексию в отношении нравственно–исторической сферы и тем самым любого смысла действия; в более широком контексте она исключает рефлексию и любого смысла действительности вообще, так как смысл действительности нельзя конституировать, исключив из него собственно «действие». Более важно то, что для такой критики недостаточна и довольно часто встречаемая отсылка к категорическому императиву с его, пожалуй, несомненной минимальной программой[30]».[31]Ибо позитивное право будет непременно (там, где оно осознало свои корни) претендовать на признание и поддержку интересов человечества в лице каждого отдельного человека. Оно усматривает этот интерес в представлении и сохранении определенного судьбоносного порядка. Сколь мало критика может обходить стороной этот порядок, на страже которого стоит право, столь же бессилен всякий выпад, направленный против этого порядка, если этот выпад осуществляете я только во имя какой–то аморфной «свободы», будучи не в состоянии определить более высокий порядок свободы. Совершенно бессильным такой выпад является тогда, когда он опротестовывает сам правовой порядок не сверху до низу, а направлен только на отдельные законы или правовые обычаи, которые право в целом берет под свою защиту, в силу своей власти, состоящей в том, что есть лишь одна единственная судьба и что именно все существующее и в особенности все угрожающее являются незыблемой частью ее порядка. Ибо правоподдерживающее насилие связано с угрозой. Причем угроза со стороны насилия имеет не смысл устрашения, как то интерпретируют необразованные либеральные теоретики. К устрашению в точном его смысле относилась бы некая определенность, которая противоречит сущности угрозы, — этой определенности не достигает ни один закон, поскольку в этом случае сохраняется надежда обойти его. И поэтому закон оказывается таким же угрожающим, как судьба, ведь от нее зависит, попадет ли преступник в сети ее власти. Глубочайший смысл неопределенности угрозы со стороны права откроется лишь при более позднем рассмотрении сферы судьбы, откуда она и исходит. Весьма ценное указание на нее обнаруживается в области наказаний. С тех пор как действенная сила позитивного права была поставлена под вопрос, среди всех наказаний наибольшую критику вызвала смертная казнь. Сколь мало обоснованными были в большинстве случаев аргументы в ее пользу, столь принципиальными были и остаются ее мотивы. Критики смертной казни чувствовали, не будучи в состоянии это обосновать, а вероятнее всего, не желая почувствовать, что нападки на смертную казнь являются выпадом не столько против меры наказания или законов, но в первую очередь против самого права с точки зрения его происхождении. Ведь если насилие (судьбой коронованное насилие) является его источником, то напрашивается предположение, что в тех случаях, когда высшее насилие, то есть насилие, при котором речь идет о жизни и смерти, проявляется в правопорядке, его истоки репрезентативно пронизывают существующее и их манифестация в нем ужасающа. С этим созвучно то обстоятельство, что в примитивных правоотношениях смертная казнь применяется к преступлениям против собственности, с которыми у нее, как кажется, нет никаких «отношений». Ведь смысл заключается не в том, чтобы наказывать за правонарушение, а в том, чтобы устанавливать новое право. Ибо в осуществлении насилия через власть над жизнью и смертью право утверждает само себя сильнее, чем в каком–либо другом правовом акте. Но именно в случаях осуществления насилия одновременно дает о себе знать — особенно тонкому чувству — нечто гнилое в праве, поскольку чувство это считает себя бесконечно далеким от отношений, в которых судьба являла бы себя во всем величии в насильственном акте. Однако разум должен тем решительнее искать сближения с этими отношениями, если он хочет довести до конца критику как правоустанавливающего, так и правоподдерживающего насилия.
В намного более противоестественном сочетании, чем в смертной казни, можно даже сказать, в жутком их переплетении оба вида насилия присутствуют в еще одном институте современного государства, а именно в полиции. Хотя полиция представляет собой насилие и правовых целях (с распорядительным правом), она одновременно наделена полномочием самой устанавливать правовые цели, причем в широких границах (с правом выносить административные постановления). Позорная сторона этого ведомства заключается в том, что в нем упразднено разделение на правоустанавливающее и правоподдерживающее насилие: это чувствуют лишь немногие, и только потому, что полномочия этого ведомства перерастают в грубейшие нарушения от которых государство не могут защищать законы лишь изредка, но тем безогляднее их применение в самых уязвимых областях и против просвещенных членов общества, от которых государство не могут защитить законы. Если в отношении правоустанавливающего насилия выдвигается требование победоносно утверждать себя, то правоподдерживающее насилие подлежит ограничению: оно не должно определять для себя новые цели. От этих обоих условий полицейское насилие освобождено. С одной стороны, полицейское насилие является правоустанавливающим, так как его характерной функцией является не обнародование законов, а издание инструкций, претендующих на правовой статус. С другой стороны, оно является правоподдерживающим, поскольку оно предоставляет себя в распоряжение для достижения правовых целей. Утверждение, что цели полицейского насилия всегда идентичны целям остального права или хоть как–нибудь связаны с ними, является абсолютно ложным. Скорее, «право» полиции обозначает в сущности то место, в котором государство, будь–то от бессилия, будь–то из–за имманентных связей внутри любого правового порядка, больше не может посредством права гарантировать свои собственные эмпирические цели, которых оно желает достичь любой ценой. Поэтому полиция «из соображений безопасности» действует в тех бесчисленных случаях, когда правовая ситуация характеризуется отсутствием какой–либо ясности, когда полиция не без некоторой связи с правовыми целями сопровождает гражданина по упорядоченной предписаниями жизни, грубо его оскорбляя, или просто–напросто надзирает за ним. В противоположность праву, которое своим «решением», привязанным к месту и времени, признает некую метафизическую категорию и посредством нее открывает себя для критики, рассмотрение института полиции не открывает ничего существенного. Насилие со стороны этого института является аморфным, как и его нигде не постижимое, повсеместно призрачное проявление в жизни цивилизованных государств. И хотя полиция видит себя везде одинаковой, то в конечном счете нельзя не заметить, что ее дух менее разрушителен в абсолютной монархии, где она репрезентирует насилие государя, соединяющего в своих руках законодательную и исполнительную власть, и более разрушителен в демократиях, где ее существование, не находящееся в какой–либо связи подобного рода, свидетельствует о максимальном вырождении насилия.
Любое насилие как средство является либо правоустанавливающим, либо правоподдерживающим. Если насилие не претендует ни на одно из этих определений, то оно тем самым отказывается от какой–либо действенности своей силы. Из этого, однако, следует, что даже в наиблагоприятнейшем случае любое насилие как средство приобщается к проблемам права. И даже если на настоящем этапе нашего исследования это значение еще нельзя с уверенностью установить до конца, все же сказанное выше показывает право в столь двусмысленном нравственном освещении, что сам собой напрашивается вопрос, нет ли в деле урегулирования противоречивых человеческих интересов каких–нибудь иных средств, кроме насильственных. Прежде всего, необходимо констатировать, что совершенно ненасильственное урегулирование конфликта пс может обеспечиваться правовым договором. Ведь и конце концов такой договор, как бы миролюбивы ни были договаривающиеся стороны, ведет к возможному насилию: он наделяет каждую сторону правом применять к другой насилие в какой–то его определенной форме, если другая сторона нарушает условия договора. Мало того: как исход, так и источник любого договора указывает на насилие. Хотя насилию как правоустанавливающему началу не обязательно непосредственно присутствовать в договоре, оно в нем всегда представлено, поскольку власть, которая гарантирует соблюдение правового договора, берет свое начало в насилии и даже применяется этим насилием в каждом конкретном случае заключения договора. Когда же сознание о латентном присутствии насилия в некоем институте права теряется, то последний распадается. В настоящее время парламенты являют тому хороший пример: они представляют собой до боли знакомое жалкое зрелище, поскольку они не сохранили сознание того, что обязаны своим существованием революционным силам. В особенности в Германии последнее проявление таких волн насилия прошло для парламентов без последствий. Они абсолютно не понимают смысла правоустанавливающего насилия, которое в них представлено; ничего удивительного, что они не принимают решений, созвучных этому насилию. Вместо этого они видят в компромиссе якобы ненасильственный способ решения политических вопросов. Но ведь компромисс всегда остается продуктом, который «хотя и презрительно отвергает любое открытое насилие, но который, тем не менее, заложен в менталитете насилия, ведь стремление, ведущее к компромиссу, исходит не из себя самого, а приходит извне, а именно, оно мотивировано противоположным стремлением, поскольку любому компромиссу, как бы он ни был воспринят сторонами, неустранимо присущ принудительный характер. «Лучше было бы по–другому» — вот глубинное чувством, лежащее в основе любого компромисса»[32]. Необходимо заметить, что деградация парламентов, связанная с отклонением от идеала ненасильственного улаживания политических конфликтов, вероятно отвратила от себя столько же умов, сколько их привлекла к ним война. Пацифистам противостоят большевики и синдикалисты. Они уничтожающе и в целом точно критиковали сегодняшние парламенты. Каким бы желательным и утешительным ни был полномочный парламент, в рассмотрении принципиально ненасильственных средств достижения политического соглашения парламентаризм фигурировать просто не может, так как то, чего с его помощью можно достичь в жизненно важных вопросах, это лишь те правовые порядки, которые как в своем истоке, так и в своем исходе имеют насильственный характер.
Возможно ли вообще ненасильственное урегулирование конфликтов? Без сомнения. Отношения между отдельными лицами богаты такими примерами. Ненасильственное достижение согласия имеет место везде, где культура сердца уже дала людям в руки чистые средства его достижения. Правомерным и противоправным средствам любого вида, которые, однако, все без исключения являются случаями насилия, могут быть противопоставлены упомянутые ненасильственные средства как чистые средства. Сердечная вежливость, симпатия, миролюбие, доверие и все, что здесь еще можно было бы привести помимо этого, являются их субъективной предпосылкой. Их объективное проявление определяет, однако, закон (чье огромнейшее значение здесь рассматриваться не будет), в соответствии с которым чистые средства никогда не являются средствами непосредственных решений, но всегда опосредованы. Они поэтому никогда не относятся непосредственно к урегулированию конфликтов между человеком и человеком, а только опосредованно, через вещи. Область чистых средств открывается в существеннейшем соотношении человеческих конфликтов с вещными благами (Güter). Поэтому техника в широком смысле слова является их типичнейшей областью. Одним из наиболее впечатляющих примеров является, пожалуй, беседа, рассматриваемая как техника цивилизованного соглашения. В беседе ненасильственное достижение согласия является не только возможным, принципиальная нейтрализация, исключение в ней насилия совершенно четко прослеживается в одном важном отношении: в ненаказуемости лжи. Возможно, на земле не существует ни одного законодательства, которое изначально карало бы ее. В этом обнаруживается то, что существует одна настолько ненасильственная сфера достижения человеческого соглашения, что она совершенно недоступна насилию: подлинная сфера «взаимопонимания», язык. Достаточно поздно, в процессе собственного упадка, правовое насилие все–таки проникло в нее, объявив обман наказуемым. Правопорядок в своем истоке, веря в свое победоносное насилие, удовлетворяется тем, что оборяет противозаконный порядок там, где тот себя как раз проявляет, а обман, который не имеет в себе ничего от насилия, остается ненаказуемым, — как, например, согласно принципу ius civile vigilantibus scriptum est[33], или же при лжесвидетельстве (Augen für Geld) в римском и древнегерманском праве. Право же более позднего времени, которому уже не хватало веры в свое собственное насилие, не чувствовало себя, как ранее, выше всякого чужого. Скорее страх перед насилием и недоверие к самому себе указывают на его колебимость. Оно начинает ставить себе такие цели, которые бы позволили ему избежать более сильных манифестаций правоподдерживающего насилия. Таким образом, право выступает против обмана не из моральных соображений, а из страха перед насильственными действиями, которые обман мог бы вызвать у обманутых. Поскольку этот страх находится в противоречии с собственной насильственной природой права, подобные цели не соответствуют законным средствам права. В них обнаруживает себя не только упадок в его собственной сфере, но и, наряду с этим, умаление роли чистых средств. Ибо в запрете на обман право ограничивает употребление абсолютно ненасильственных средств, поскольку они в ответ могут вызывать насилие. Упомянутая тенденция права содействовала также разрешению права на забастовку, которое противоречит интересам государства. Право допускает возможность забастовки, потому что она сдерживает насильственные действия, с которыми оно опасается столкнуться. Ведь и раньше было так, что рабочие сразу же прибегали к саботажу и поджигали фабрики.
В целях побуждения людей к мирному урегулированию интересов по эту сторону любого правового порядка существует в конечном счете, помимо всех добродетельных побуждений, еще один действенный мотив, который, достаточно часто дает в руки даже самой хрупкой воле чистые средства вместо насильственных. Он заключается в страхе перед общим ущербом, возникающим в результате любого насильственного столкновения, чем бы это столкновение ни закончилось. Примеры такого ущерба можно наблюдать в бесчисленных случаях, в которых наблюдается конфликт интересов между частными лицами. Другое дело, когда сталкиваются классы и нации. В этом случае высшие закономерности, которые грозят подмять под себя в равной мере и победителей, и побежденных, недоступны чувству многих и разуму почти всех людей. В рамках данной работы поиски таких высших закономерностей и соответствующих им совместных интересов, представляющих собой основополагающий мотив для политики чистых средств, завели бы нас слишком далеко[34]. Поэтому укажем только на чистые средства самой политики в качестве аналога тех чистых средств, которые управляют мирным обхождением частных лиц между собой.
Что касается классовой борьбы, то забастовка при определенных условиях должна рассматриваться как чистое средство. Здесь следует более обстоятельно рассмотреть две существенно отличающиеся друг от друга разновидности забастовки, возможности которых уже обсуждались выше. Впервые эти два вида забастовки выделил Сорель — скорее на основании политических, чем теоретических соображений. Он противопоставляет друг другу политическую и всеобщую пролетарскую забастовку. Между ними существует противоречие и в отношении к насилию. Для сторонников политической забастовки имеет силу следующее: «Укрепление государственной власти является основой их концепций; в своих современных организациях политики (умерено социалистические) подготавливают фундамент для сильной централизованной и дисциплинированной власти, которую никак не смутит критика со стороны оппозиции, которая сумеет наложить запрет молчания и будет издавать свои лживые декреты»[35]. «Всеобщая политическая забастовка… демонстрирует, что государство ничего не потеряет от своей силы, что власть всегда переходит от привилегированных к привилегированным, что масса производителей сменит своих господ»[36].
Такой всеобщей политической забастовке (примером которой, по всей видимости, может, между прочим, служить прошедшая немецкая революция) пролетарская забастовка противопоставляет одну единственную задачу, а именно, уничтожение государственной власти. Она «исключает все идеологические последствия любой возможной социальной политики; ее сторонники рассматривают самые популярные реформы как в равной степени буржуазные»[37]. «Эта всеобщая забастовка совершенно определенно демонстрирует свое безразличие к материальной стороне завоеваний, заявляя, что она хочет уничтожить государство; государство действительно было… причиной существования господствующих групп, которые извлекают для себя выгоду из всех предприятий, в то время как тяготы несет все общество»[38]. В то время как первая форма прекращения работы является насилием, так как она влечет за собой только поверхностное изменение условий труда, вторая, являясь чистым средством, ненасильственна. Ибо она состоит не в готовности снова приступить к работе после поверхностных уступок и незначительных изменений условий труда, а в твердом намерении возобновить работу только в форме полностью измененного труда, без государственного принуждения, — переворот, к которому этот вид забастовки не только побуждает, но и реализует. Поэтому первый вид забастовки является правоустанавливающим, второй же, напротив, анархическим. Присоединяясь к отдельным высказываниям Маркса, Сорель отклоняет все виды программ, утопий, одним словом, он отклоняет правовые установления для революционного движения: «Со всеобщей забастовкой все эти прекрасные вещи исчезают; революция предстает как ясный, простой бунт, и здесь нет места ни для социологов, ни для элегантных дилетантов от социального реформаторства, ни для интеллектуалов, которые сделали себе профессией думать за пролетариат»[39]. Этой глубокой, нравственной и по–настоящему революционной концепции не может также быть противопоставлено никакое соображение, которое бы имело своей целью заклеймить подобную всеобщую забастовку вследствие ее возможных катастрофических последствий как насилие. Хотя можно по праву сказать, что сегодняшняя экономика в целом скорее похожа на дикого зверя, который буйствует всякий раз, когда его укротитель поворачивается к нему спиной, чем на машину, которая останавливается, когда кочегар ее покидает, о насильственные действия все же нельзя судить ни по его последствиям, но и не по его целям, а только согласно закону его средств. Конечно, государственная власть, которая видит только последствия, выступает против как раз такой забастовки, — в отличие от большинства действительно вымогательских частных забастовок, — считая ее насилием. Сорель, очень остроумно аргументируя, показал, что столь суровая концепция всеобщей забастовки склонна уменьшать развертывание непосредственного насилия в революциях. Напротив, выдающимся примером насильственного бездействия, которая сродни блокаде, еще более безнравственного и жестокого, чем всеобщая политическая забастовка, является забастовка врачей, которую пережил целый ряд немецких городов. В ней отвратительнейшим образом проявляет себя бессовестное применение силы, совершенно аморальное, со стороны той профессиональной группы, которая годами, даже без попытки малейшего сопротавления, «обеспечивала смерти ее добычу», чтобы потом при первом же случае по доброй воле поступиться жизнью.
Отчетливее чем в первых классовых протавостояниях в тысячелетней истории государств, сформировались средства ненасильственного достажения согласия. Редки случаи, когда задачей дипломатов при обоюдном общении является модификация правовых порядков. В основном их задача состоит в том, чтобы, совершенно по аналогии с процессом достижения согласия между частными лицами, от имени государства мирно и без договоров улаживать возникающие конфликты. Это деликатная задача, которую третейские суды решают энергичнее, однако метод решения располагается принципиально выше третейского, так как находится по ту сторону всего правового порядка, а также насилия. Таким вот образом, как и в случае общения между собой частных лиц, общение дипломатов привело к образованию присущих им способов общения и добродетелей, хотя и ставших чисто внешними, но не всегда бывших таковыми..
Во всей сфере насилия, которой касается естественное и позитивное право, нет такой, которой бы не касалась затронутая здесь сложная проблематика правового насилия. Но поскольку никакое представление о хоть сколько–то мыслимом решении человеческих задач, не говоря уже о спасительном выходе из порочного круга всех прежних всемирно–исторических состояний существования, невозможно при полном или принципиальном исключении насилия, то напрашивается вопрос о других видах насилия в полном их охвате, как то делает любая теория права. Сразу возникает вопрос об истинности базисной догмы, являющейся общей для упомянутых теорий: справедливые цели могут достигаться с помощью оправданных средств, а оправданные средства могут применяться для достижения справедливых целей. А что если любой вид соразмерного судьбе насилия в тех случаях, когда оно использует оправданные средства, сам по себе находится в непримиримом противоречии со справедливыми целями, и если бы было предвидимо насилие другого вида, которое не могло бы быть ни оправданным, ни неоправданным средством для достижения упомянутых целей, а вообще относилось бы к ним не как средство, а скорее как что–то еще? Свет пал бы в этом случае на странный и на первый взгляд обескураживающий опыт, состоящий в конечной не– решаемости всех правовых проблем (которые из–за их бесперспективности можно, пожалуй, сравнить только с невозможностью убедительного решения о «правильном» и «неправильном» в становящихся языках). Ведь об оправданности средств и справедливости целей решает не разум, а роковое насилие, над роковым насилием же решает бог. Эта мысль только потому редко встречается, что господствует устойчивая привычка мыслить упомянутые справедливые цели как цели возможного права, что означает, что упомянутые цели обычно мыслятся не только как универсальные (что аналитически следует из признака справедливости), но и как поддающиеся обобщению на другие ситуации, что, как выясняется, противоречит данному признаку. Ибо цели, которые являются справедливыми, всеобще признанными и общепринятыми для одной ситуации, не являются таковыми для любой другой, даже если в других взаимосвязях ситуации очень похожи. Здесь мы имеем дело с неопосредованной функцией насилия, которую обнаруживает даже повседневный жизненный опыт. Что касается человека, то ярость, например, побуждает его к очевиднейшим взрывам насилия, которое относится к поставленной цели не как средство. Такое насилие является не средством, а манифестацией. А именно—это насилие имеет вполне объективные манифестации, то есть формы, в которых это насилие может быть подвергнуто критике. В первую очередь такие манифестации можно значимо наблюдать в мифах.
Мифическое насилие в его прообразной форме является чистой манифестацией богов. Не как средство для осуществления их целей, едва ли как манифестация их воли, а в первую очередь как манифестация их бытия. Миф о Ниобее является сам по себе замечательным примером мифического насилия. На первый взгляд может показаться, что поступок Аполлона и Артемиды — это только наказание. Однако примененное ими насилие скорее устанавливает право, чем наказывает за нарушение существующего закона. Высокомерие Ниобеи накликает на себя рок не потому, что она нарушила право, а потому, что она бросила судьбе вызов — вызвала ее на бой, в котором судьба должна одержать победу и тем самым извлечь право на свет. Сколь в малой степени божественное насилие в античном смысле было правоподдерживающим насилием наказания, показывают мифы о героях, в которых герой, как например, Прометей, с благородной храбростью бросает вызов судьбе, борется с ней с переменчивым успехом, и в мифе остается надежда, что он когда–нибудь принесет людям новое право. Именно этот полубог и правовое насилие посвященного ему мифа — это то, что народ сегодня, когда он восхищается великими преступниками, пытается себе представить. Следовательно, насилие, обрушивающееся на Ниобею, проистекает из неопределенной, двусмысленной сферы судьбы. Оно само по себе не является разрушительным. Хотя оно и приносит детям Ниобеи кровавую гибель, оно не покушается на жизнь матери, оставляя ее после смерти детей лишь более виновной, вечной безмолвной виновницей, межевым камнем на границе между людьми и богами. Если это непосредственное насилие является в мифических манифестациях близким правоустанавливающему и даже могло бы оказаться ему идентичным, то отсюда проблематика перемещается в сторону правоустанавливающего насилия в том смысле, в котором последнее было охарактеризовано выше, где военное насилие было представлено как лишь опосредующее. Одновременно такая взаимосвязь позволяет более ясно раскрыть значение судьбы, составляющей основу любого правового насилия, и дает возможность в общих чертах довести критику правового насилия до конца. Функция насилия в правоустановлении является двоякой в том смысле, в котором правоустановление является тем, что применяется как право, — при этом цель преследуется путем использования насилия как средства, — однако в момент реализации право не отказывается от насилия, а модифицирует его теперь уже в строгом смысле, то есть непосредственно, в правоустанавливающее: от имени власти правоустановление утверждает в качестве права не цель, свободную и не зависимую от насилия, а цель, которая от этого насилия по необходимости и глубинно зависит.
Правоустановление является установлением власти, и в этом отношении оно есть акт непосредственной манифестации насилия. Справедливость суть принцип любого божественного целеполагания, власть же — принцип любого мифического правоустановления.
Оно чревато чудовищными последствиями при его применении в государственном праве. Здесь установление границ, которое предполагалось «миром» всех войн мифологической эпохи, является прообразом правоустанавливающего насилия. В нем наиотчетливейшим образом проявляется то обстоятельство, что любое правоустанавливающее насилие в первую очередь должно гарантировать власть, а не чрезмерное расширение владений. Там, где устанавливаются границы, противника не уничтожают, но за ним признают права даже там, где победитель обладает превосходящим насилием. И при этом демонически–двусмысленным образом признают за ним «равные» права: обе заключающие договор стороны не имеют права переступить одну и ту же черту. Так проявляется в своей ужасающей изначальности мифическая двусмысленность законов, которые нельзя «преступать», о чем сатирически отзывается Анатоль Франс, когда говорит: они равным образом запрещают и беднякам и богачам ночевать под мостом. По всей вероятности, Сорель затрагивает не только культурно–историческую, но и метафизическую истину, когда он предполагает, что в основе любого права лежит «первичное» право королей или больших людей, короче говоря, властей предержащих. Так все mutatis mutandis и останется, пока оно существует. Ибо с точки зрения насилия, которое только и может гарантировать право, равенства нет. В лучшем случае есть равное по величине насилие. Однако в деле познания права акт установления границ важен еще и в другом отношении. Законы и прописанные границы остаются — по крайней мере в доисторические времена — неписаными законами. Ничего не подозревающий человек может их преступить, и таким образом он обречен на возмездие. Ибо любое применение права, вызываемое нарушением неписаного и неизвестного закона, называется — в отличие от наказания — возмездием. Однако каким бы несчастьем ни обернулось оно для ничего не подозревающего человека, свершение возмездия с позиций права не есть случай, а есть судьба, которая здесь снова обнаруживает себя в своей закономерной двусмысленности. Еще Герман Коген, бегло рассматривая античные представления о судьбе, назвал ее «неизбежным осознанием»: таковы «сами [ее] силы, которые подвигают к нарушению границы и приводят к отпадению»[40]. Об этом духе права свидетельствует и современное правило, согласно которому незнание закона не освобождает от ответственности, равно как и борьба за писаное право в ранний период античных обществ интерпретируется как мятеж против духа мифических установлений.
Будучи далекой от того, чтобы открыть более чистую сферу, мифическая манифестация непосредственного насилия в глубинном смысле являет себя идентичной любому правовому насилию и превращает представление о его проблематике в уверенность в губительности его исторической функции, уничтожение которой тем самым становится необходимой задачей. Именно эта задача выдвигает в конечном счете еще раз вопрос о чистом непосредственном насилии, которое могло бы положить конец мифическому насилию. Как во всех областях мифу противостоит бог, так мифическому насилию противостоит насилие божественное. А именно — оно во всем составляет ему противоположность. Если мифическое насилие правоустанавливающее, то божественное — правоуничтожающее; если первое устанавливает пределы, то второе их беспредельно разрушает; если мифическое насилие вызывает вину и грех, то божественное действует искупляюще; если первое угрожает, то второе разит; если первое кроваво, то второе смертельно без пролития крови. Миф о Ниобее можно в качестве примера такого насилия, противопоставить божественному суду над сыновьями Коревыми (der Rotte Korah)[41]. Суд поражает привилегированных, левитов, внезапно, без угроз, он поражает их метко и не останавливается перед уничтожением. Но при этом сам суд являет себя как раз в насилии искупительным, и невозможно не проследить тесную связь между бескровным и искупительным характером этого насилия. Ибо кровь является символом голой жизни (des bloßen Lebens). Итак, распад правового насилия (что в рамках этой работы во всех деталях представлено быть не может) восходит к виновности голой естественной жизни, и виновность эта вверяет живущего — в его невиновности и несчастье — возмездию, которое «искупает» его вину — и способствует искуплению виновного, однако освобождает его не от вины, а от права. Ибо в сфере голой жизни господство права над живым прекращается. Мифическое насилие является кровавым насилием над голой жизнью во имя самой жизни, божественное же чистое насилие над всей жизнью является насилием ради живущего. Первое требует жертв, второе их принимает.
Это божественное насилие обнаруживает себя не только в религиозных преданиях, оно скорее являет себя — ив современной жизни — по меньшей мере в одной священной манифестации. Одна из форм его проявления — это воспитательное насилие, которое в своей законченной форме находится вне права. Итак, формы проявления божественного насилия определяются не тем, что сам бог осуществляет насилие непосредственно в чудесах, а моментами бескровного, разящего, искупительного исполнения его. И наконец, путем отсутствия какого бы то ни было правоустановле– ния. В этой связи божественное насилие можно было бы назвать уничтожающим; однако оно является таковым лишь относительно, например, в отношении благ, права, жизни и т. п., но никогда в отношении души живого человека. Подобное широкое толкование чистого или божественного насилия, конечно же, вызовет, особенно в наши дни, ожесточеннейшие нападки; против предложенного толкования выступят с аргументом, что, если продолжить логику размышлений, приведших к толкованию божественного насилия, то оно с определенными оговорками позволяет людям смертельное насилие друг против друга. Это право им не дается. Ибо на вопрос «позволительно ли мне убить?» следует незыблемый ответ в форме заповеди «не убий». Эта заповедь стоит перед поступком, как бог «есть до него», прежде чем поступок будет свершен. Правда, заповедь остается — и верно то, что не страх перед наказанием побуждает человека следовать ей — неприменимой и несоразмерной по отношению к совершенному поступку. Из заповеди не следует никакого осуждения поступка. Таким образом, изначально невозможно предвидеть ни Божий приговор ему, ни его основание. Поэтому ошибаются те, кто ссылкой на заповедь обосновывает свое осуждение любого случая насильственного убийства человека человеком. Заповедь выступает не как мера приговора, а как руководство к действию, предназначенное для отдельно действующего человека или сообщества, которые должны наедине с собой осмыслить ее, а в чрезвычайных случаях даже взять ответственность на себя, отвернувшись от нее. Так эту заповедь понимали и в иудаизме, где осуждение убийства в случае необходимой самообороны категорически отвергалось. Однако упомянутые выше мыслители исходили из более отдаленной теоремы, на основании которой они, вероятно, со своей стороны пытались обосновать саму заповедь. Это положение касалось святости жизни, либо распространявшейся на всю животную или даже растительную жизнь, либо ограничивавшееся человеческой жизнью. Их аргументация выглядит следующим образом, если взять крайний случай, в данном случае это революционное убийство угнетателей: «Если я не убью, то я уж никогда не построю мировое царство справедливости… так думает духовный террорист… Однако мы признаем, что выше счастья и справедливости бытия… стоит бытие как таковое (Dasein an sich)»[42]. Безусловно, последнее положение ошибочно и является даже недостойным, однако столь же безусловно оно указывает на необходимость не искать более основу заповеди в том, что именно сам поступок причиняет убитому (как делалось ранее), а узреть ее в том, что он причиняет богу и самому убийце. Лживым и низким является положение, будто бытие стоит выше справедливого бытия, если под бытием понимать ничего кроме голой жизни, — а в упомянутом выше рассуждении данное положение имеет как раз это значение. Однако приведенное положение содержит некую страшную истину, если принять, что бытие (или точнее жизнь) — слова, двоякий смысл которых вполне по аналогии с двояким смыслом слова «мир» исчезает из–за их соответственной связанности с обеими сферами, — означает незыблемое агрегатное состояние «человека». То есть если это положение гласит, что небытие человека есть нечто более ужасное, чем (безусловно: простое) еще — небытие справедливого человека. Именно этой двойственности приведенное положение обязано своей мнимостью. Ведь человек ни в коем случае не совпадает с одной только голой жизнью человека, он также мало совпадает с одной только голой жизнью, как и с какими–либо другими своими состояниями и качествами, он даже не совпадает с неповторимостью своего тела. Насколько человек (или даже та жизнь в нем, которая тождественно пролегает в земной жизни, смерти и загробной жизни) священен, настолько далекими от святости являются его состояния, его телесная жизнь, легко уязвимая со стороны окружающих его людей. Что отличает ее существенным образом от жизни животных и растений? И даже если бы они были священными, они не смогли бы бытийствовать ради своей голой жизни, не смогли бы быть в ней. Стоило бы исследовать происхождение догмы о священности жизни. Может быть эта догма сформировалась сравнительно недавно как последнее заблуждение ослабленной западноевропейской традиции, ищущей священное, которое она потеряла, в космологической непроницаемости. (Древность всех религиозных запретов на убийство не является контраргументом, поскольку они опирались на иные идеи, отличные от тех, что лежат в основе современной теоремы.) И напоследок следует вспомнить о том, что голая жизнь, объявляемая здесь священной, согласно древнему мифическому мышлению является носителем вины.
Критика насилия — это философия его истории, «философия» этой истории постольку, поскольку только идея ее исхода дает возможность сформировать критическую, разделяющую и решающую точку зрения на ее временные данные. Взгляд, направленный только на ближайшее, в состоянии различить пожалуй лишь диалектические движения туда–сюда в придании насилию форм правоустанавливающего и правоподдерживающего насилия. Закон колебания заключается в том, что в своей диахронии любое правоподдерживающее насилие косвенно, посредством подавления враждебного контрнасилия, само же и подрывает насилие правоустанавливающее, которое в нем представлено. (В ходе данной работы на некоторые симптомы уже указывалось.) Это продолжается до тех пор, пока либо новое насилие, либо ранее подавленное не одержит победу над дотоле правоустанавливающим насилием и тем самым не установит новое право, с момента своего установления обреченное на упадок. На нарушении этого цикла в путах мифических правовых форм, на отмене права вместе с формами насилия, от которых оно так же зависимо, как последние от него самого, и, в конечном счете, на [отмене] государственного насилия основывается новая историческая эпоха. Если господство мифа в современном мире повсеместно уже сломлено, то упомянутое новое располагается не столь уж невообразимо далеко, чтобы слово само осуществило себя против права. Если же насилию гарантировано его существование и по ту сторону права в чистой и непосредственной форме, то тем самым доказано, что революционное насилие является возможным, и показано, как оно возможно и какое имя человек должен дать высшей манифестации чистого насилия. Людям не представляется сразу возможным и настоятельным принятие решения относительно того, когда чистое насилие в каждом конкретном случае имело место. Ибо с уверенностью можно говорить только о мифическом насилии, а не о божественном, поскольку мифическое проявляет себя отчетливее, кроме случаев беспримерных воздействий, так как искупительная сила насилия людям не очевидна. Все вечные формы, которые когда–то миф скрестил с правом, открыты для божественного насилия. В праведных войнах оно может являть себя так же, как и в Божьем суде толпы над преступником. Предосудительным, однако, является любое правоустанавливающее мифическое насилие, которое можно назвать распорядительным (schaltende). Предосудительно также правоподдерживающее, управляемое насилие, которое служит первому. Божественное же насилие, которое является знаком и печатью, но никогда средством священной кары, можно назвать властвующим (waltende).
В 1919 и 1920 гг. Беньямин вынашивал замысел работы о политике, которая насколько о ней известно, проблематизировала бы между прочим феномен насилия. Из этих планов были реализованы по меньшей мере три, а из этих трех, что подтверждается в письмах, одна вылилась в статью «К критике насилия».
Две другие — короткая, но очень важная заметка о «Жизни и насилии», написанная в апреле 1920 г. в Берлине, о которой Беньямин говорил, что она была написана им «из сердца» (Briefe, S. 237), и большое эссе из двух частей о «Политике», чья первая часть «Настоящий политик» была завершена точно (Briefe, S. 227, 228), а вторая «Настоящая политика» с двумя подразделами «Уменьшение насилия» и «Телеология без конечной цели» — с некоторой долей вероятности (Briefe, S. 247).
«Жизнь и насилие», как и «Политика» (то есть ее первая часть, написанная о надежности) были потеряны — заметка, копию которой Беньямин направил в мае 1920 года Шолему, «недошла» (см.: Briefe, S. 241); «Эссе» и рукопись той заметки так же отсутствуют в наследии Беньямина. Приходится оставить нерешенным, в каком отношении стоят записанные (или запланированные) размышления о насилии к тем, которые находятся в доступной версии «К критике насилия»; возможно, что они соприкасаются с ними, возможно даже, по меньше мере в общих чертах, они вошли в эту стать.
Возникновение статьи датируется более или менее точно, она написана в период примерно трех недель между 1920 и 1921 гт., вероятно скорее в январе нового года. Письмо, которое это подтверждает, само правда не имеет даты, однако издатели «Писем» смогли датировать его январем 1921 года (см.: Briefe, S. 251). Если статья была написана до середины января, то работа над ней началась еще в декабре 1920 г. Если же она была закончена в конце января, то работа над ней началась в этом же месяце. Во всяком случае это следует 11.ч той части письма — его второго постскриптума (см.: Briefe, S. 254), — которая говорит о завершении работы. Первая часть статьи была «начата, пожалуй, недели за три до этого», однако затем попала «в недельный карантин» (Briefe, S. 253 f.), после чего предполагалось ее закончить, учитывая замечание Беньямина: «Я очень много работал, сочиняя статью «К критике насилия» для [Эмиля] Ледерера, которая должна появиться в «Weißen Blättern». В данный момент я, наконец, добрался до сдачи чистовика» (Briefe, S. 253 f.), но завершение статьи снова было отложено, на что специально указывает этот второй постскриптум: «С моей работой «К критике насилия» [вероятно чистовик рукописи] я теперь закончил» (Briefe, S. 254).
Когда Беньямин принялся за письмо — перед его «недельным карантином», то есть, «пожалуй, недели за три до этого», — статья еще не была написана; время между черновиком и чистовиком приходится таким образом точно на эти недели между отложенным и завершенным письмом. До этого ему, по–видимому, пришлось спешно закончить неотложные заказные работы, к которым относилась и статья «К критике насилия». Были отложены и подготовительные работы к первому варианту докторской диссертации, до тех пор «пока я не закончу свою статью о политике [то есть вторую часть — о «Настоящей политике»; первая — о «Настоящем политике» была написана еще в 1919 в Лугано (cp.: Briefe, S. 227)], равно как и заказанную Ледерером статью, для которой я все еще жду необходимую литературу. Я надеюсь, что в ближайшие дни получу «Réflexions sur la violence» Сореля [его теорию всеобщей забастовки Беньямин использует как основную в статье «К критике насилия»]. Я только что узнал об одной книге, которая, насколько я могу судить по лекции, прочитанной в два вечера ее автором и мною прослушанной, является самой значительной из нынешних, посвященных политике. […] Эрих Унгер: Политика и метафизика [в своей статье Беньямин обращается и к ней]. Автор ее из того же круга неопатетиков, […] с которым — и с самыми вредными и пользующимися дурной славой сторонами его — я познакомился в пору молодежного движения и который самым разительным образом предстал передо мной и Дорой в облике господина Симона Гуттмана […] Унгер, как мне представляется, — человек совершенно другого сорта, и я думаю, что, основываясь на моем чрезвычайно живом интересе к его мыслям, которые, например, в том, что касается психофизической проблемы, представляются поразительно схожими с моими, могу ответственно позволить себе обратить Ваше [то есть Шолема] внимание на эту книгу» (Briefe, S. 252).
К «необходимой» для написания этой статьи «литературе», которую дожидался Беньмин, вероятно, относилась и «Этика чистой воли» Когена, о которой Беньямин во второй части своего письма, после того как он добрался до чистовика статьи, говорит, что «был вынужден совсем коротко заняться» ею в связи с «этой вещью». «Однако то, что я прочел в ней, меня огорчило. По–видимому, Коген настолько уверовал в свое постижение истины, что постарался прибегнуть к самым невероятным кульбитам, чтобы повернуться к ней спиной» (Briefe, S. 254).
Во втором постскриптуме письма, после: «с моей работой «К критике насилия» я теперь закончил и надеюсь что Ледерер утроит ее в Weißen Blättern» [чего не произошло], Беньямин дает ее краткое резюме: «Что касается насилия, имеются еще вопросы, которые в ней не затронуты, но я надеюсь, все же, что она говорит существенное» (Briefe, S. 254 f.). Однако возможность отклонения статьи Беньямин все же допускал: «В любом случае, — как значится во второй части письма, — даже если не появится, Вы [то есть Шолем] получите ее для чтения» (Briefe, S. 254). А именно «я попрошу [Блоха] (мою «Критику насилия», которая у него в руках, и о которой я от него еще ничего не слышал), выслать Вам» (Briefe, S. 261); это Беньямин пишет в конце марта 1921 г. Действительно статья в «Weißen Blättern» не появилась. Еще 14 дней спустя в письме к Шолему уже сообщается как об идущих друг за другом в Берлине аттракционах: «маленькой выставке Клее на Курфюрстердамм и «К критике насилия» в корректурных оттисках». Вместо «Weißen Blättern», «для которой она (статья) была написана», и которая «не [захотела] ее иметь», она появилась «в одном социологическом журнале, чьи материалы были очень чужды статье Беньмина.» (Шолем — Беньямин, история одной дружбы, 119). Это был «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», который опубликовал работу в своем августовском выпуске 1921 г. [Эмиль] Ледерер посчитал статью для «Weißen Blättern» «слишком длинной и сложной, однако он ее принял к публикации для «Archiv für Sozialwissenschaft»». Так Беньямин сам пишет в письме уже в середине февраля 1921 (см.: Briefe, S. 258).
Перевод И. Чубарова[43]
Капитализм как религия
В капитализме можно увидеть некую религию, что означает — капитализм в своей сущности служит для освобождения от забот, мучений, беспокойств, на которые прежде давали ответ так называемые религии. Доказательство наличия религиозной структуры капитализма — не только того, что подразумевалось Максом Вебером, когда он говорил о нем как о религиозно обусловленной формации, но и того, что он есть, в своей сущности, религиозное явление, — увлекло бы нас сегодня на окольные пути всеобъемлющей полемики, несоразмерной предмету. Мы не способны затянуть сеть, внутри которой находимся сами. Придет время, и проблему эту удастся рассмотреть.
Однако в настоящем уже стали заметными три черты[44] религиозной структуры капитализма. Во–первых, капитализм — это чистая религия культа, возможно, самая радикальная из всех, что существовали доныне. Все, что в нем есть, имеет смысл только в непосредственном отношении к этому культу, он не имеет особой догматики, особой теологии. Утилитаризм с этой точки зрения приобретает свою религиозную окраску. Со сращиванием с культом связана вторая черта капитализма — перманентная длительность культа. Капитализм — это отправление некоего культа sans (t)rêve et sans merci[45]. Нет ни одного «буднего» дня, нет дня, который не был бы праздничным — в пугающем смысле развертывания всех помпезных священнодействий, крайнего напряжения радений. В–третьих, этот культ наделяет виной.
Капитализм, возможно, первый случай не искупающего, но наделяющего виной культа. Именно здесь начинается обвальное и чудовищное [ungeheuren] движение, в которое вовлекается эта религиозная система. Безмерное [ungeheures] сознание вины, которое не знает искупления, устремляется к этому культу не для того, чтобы искупить вину, а для того, чтобы сделать ее универсальной, вбить в голову это сознание и, в конце концов, и в первую очередь, ввергнуть самого Бога в эту вину, чтобы и итоге пробудить в нем самом интерес к искуплению. Это искупление не ожидается от самого культа, и не от реформирования религии, — которая могла бы удержаться за что–то несомненное в себе, — нет искупления и в отказе от нее. В сущности религиозного движения, которым является капитализм, заключается стремление держаться до конца, до полного и окончательного обвинения самого Бога, до того последнего мирового состояния отчаяния, на которое как раз еще надеются. В том и состоит историческая неслыханность капитализма, что религия больше не является преобразованием < мятая, но есть его превращение в руины[46]. Разрастание отчаяния до уровня религиозного состояния мира, от которого–де ожидается исцеление. Трансцендентность Бога пала. Но он не умер, он ввергнут в человеческий удел. Этот переход человеческой планиды через дом отчаяния[47] в абсолютном одиночестве своего пути и есть тот этос, который определил Ницше. Этот человек — сверхчеловек, который первым начинает осознанно исполнять завет капиталистической религии. Ее четвертая особенность состоит в том, что ее Бог должен стать сокрытым, и лишь в зените его виновности[48] позволено обращаться к нему. Этот культ справляется перед неким незрелым божеством; всякое представление, всякая мысль о нем сама по себе оскорбляет тайну его зрелости.
Теория Фрейда также относится к господству жрецов этого культа. Она продумана вполне капиталистически. По глубочайшей и еще слабо выявленной аналогии, вытесненное, греховное представление и есть сам капитал, выплачивающий проценты преисподней бессознательного.
Этот тип капиталистического религиозного мышления находит себе великолепное выражение в философии Ницше. Мысль о сверхчеловеке основывает апокалипсический «прыжок» не на обращении [Umkehr], искуплении, очищении, покаянии, а на мнимо устойчивом, находящемся в предельном напряжении, взрывном, дискретном усилении [Steigerung]. И потому это усиление несовместимо с развитием в смысле «non facit saltum»[49]. Сверхчеловек есть исторический человек, пронзающий главою небеса и грядущий без всякого обращения. Ницше предвосхитил это разрушение небес через усиление мощи человеческого, которое есть и остается религиозным (и для Ницше тоже) вменением вины[50]. И, сходным образом, Маркс[51]: капитализм, который отказывается менять свой курс, станет социализмом — посредством процентов и процентов от процентов как производных [Funktion] от вины, долга (стоит вдуматься в демоническую двусмысленность этого понятия)[52].
Капитализм есть религия чистого культа, без догматики.
На Западе капитализм (он должен обнаруживаться не в одном только кальвинизме, но и в остальных правоверных христианских течениях) развивался по отношению к христианству паразитически — таким образом, что в конце концов по сути история христианства есть история его паразита — капитализма.
Сравнение иконографии святых различных религий, с одной стороны, и денежных купюр различных государств, с другой. Дух, который говорит через орнаментику банкнот.
Капитализм и право. Языческий характер права. Sorel. Réflexion sur la violence. P. 262 [Сорель. Размышления о насилии][53].
Преодоление капитализма через миграцию. Unger Politik und Metaphysik. S. 44. [Унгер. Политика и метафизика][54].
Fuchs. Struktur der kapitalistichen Gesellschaft o.ä. |Фукс. Структура капиталистического общества][55].
Weber, M. Ges. Aufsätze zur Religionssoziologie 2 Bd. 1919/20 [Вебер M. Статьи по социологии религии][56].
Troeltsch, E. Die Soziallehren der ehr. Kirchen und Gruppen (Ges. W. 1912) [Трёльч Э. Социальные учения христианских церквей и групп][57].
См. также шенберговскую библиографическую сноску под II.
Landauer. Aufruf zum Sozialismus. P. 144 [Ландауэр. Призыв к социализму][58].
Заботы: болезни духа, которые свойственны капиталистической эпохе. Духовная (не материальная) безысходность в бедности, бродяжничестве, нищенствовании, монашестве. Положение, которое так безысходно, вселяет вину. «Заботы» — указание на эти формы сознания вины, вызванные безысходностью. «Заботы» возникают от ужаса безысходности, который имеет не индивидуальный и материальный, но общественный масштаб.
Христианство во времена Реформации не способствовало приходу капитализма, а само обратилось в капитализм.
Методологически нужно было бы сначала исследовать, в какие отношения с мифом когда–либо в ходе истории вступали деньги до тех пор, пока они смогли притянуть к себе многочисленные мистические элементы из христианства, чтобы учредить свой собственный миф.
Вергельд[59] / Подборка хороших работ [на эту тему] /Жалованье, которое одалживается священнику <.> Плутос как бог богатства<.>
Müller, А. Reden über die Beredsamkeit. 1816. S. 56 ff. [Мюллер А. Речи о словоохотливости][60].
Связь догмата об освобождающей, одновременно искупающей и умерщвляющей нас природе познания с капитализмом: [подведение] баланса как искупительное и истребительное [erledigende] познание.
К признанию капитализма как религии приводит понимание того, что изначальное язычество, несомненно, воспринимало религию прежде всего не как выражение некоего «высокого», «морального» интереса, а как нечто непосредственное, практическое, что, другими словами, язычество столь же мало, как и сегодняшний капитализм, осознавало свою «идеальную» или «трансцендентную» природу, а, скорее, видело в нерелигиозном индивиде или индивиде–иноверце несомненного члена своего сообщества, подобно тому, как сегодняшняя буржуазия считает таковыми тех, кто не зарабатывает на жизнь трудом [nicht erwerbenden Angehörigen].
Фрагмент написан в 1921 г. Впервые был опубликован в 1985 г. Как указывают комментаторы, название фрагмента заимствовано из книги Эрнста Блоха «Томас Мюнцер, теолог революции» (1921). В конце главы о Кальвине Блох замечает, что доктрина женевского реформатора «полностью разрушает» христианство, возводит капитализм в ранг религии [Kapitalismus als Religion] и делает его «церковью Маммоны» (в более позднем издании — «церковью Сатаны»). Этот фрагмент важен и для позднего Беньямина–мыслителя. Так, в рукописях 30–х гг. он сравнивает парижские пассажи с «храмами торгового капитала». Фрагмент Беньямина представляет собой, скорее, рабочую запись. Примерно первые две трети фрагмента состоят из связного литературного текста, затем идут короткие назывные предложения, наброски будущего (так и не реализованного) исследования, библиография, а затем опять следуют отдельные замечания и комментарии.
Далее Беньямин говорит о четырех особенностях «капитализма как религии», что связано с эскизным характером фрагмента.
Перевод и примечания А, Пензина[62]
Краткая история фотографии
Туман, окутывающий истоки фотографии, все же не такой густой, как тот, что скрывает начало книгопечатания; более ясно проявляется в этом случае, что в момент, когда пробил час открытия, это почувствовало сразу несколько человек; независимо друг от друга они стремились к одной цели: сохранить изображения, получаемые в camera obscura, известные по крайней мере со времени Леонардо. Когда после примерно пятилетних поисков это одновременно удалось сделать Ньепсу и Дагерру[63], государство, воспользовавшись патентными сложностями, с которыми столкнулись изобретатели, вмешалось в это дело и произвело его, выплатив им компенсацию, в ранг общественной деятельности. Таким образом были созданы предпосылки для длительного ускоренного развития, что не давало возможности оглянуться назад. Вот и получилось, что исторические или, если угодно, философские вопросы, поднятые взлетом и падением фотографии, десятилетиями оставались без внимания. И если сегодня они начинают осознаваться, тому есть ясная причина. Новейшая литература указывает на то обстоятельство, что расцвет фотографии связан с деятельностью Хилла и Камерон, Гюго и Надара[64] —то есть приходится на ее первое десятилетие. Но это и десятилетие, которое предшествовало ее индустриализации. Это не значит, будто в это раннее время рыночные торговцы и шарлатаны не старались использовать новую технику как источник наживы; это делалось, и даже часто. Но это было гораздо ближе к ярмарочным искусствам — на ярмарке же фотография до наших дней была как дома — чем к индустрии. Наступление индустрии в этой области началось с использования фотографии для изготовления визитных карточек; характерно, что человек, впервые воспользовавшийся фотографией в этих целях, стал миллионером. Было бы неудивительно, если бы особенности фотографической практики, сегодня впервые обращающие наше внимание на этот доиндустриальный расцвет фотографии, скрытым образом были бы связаны с кризисом капиталистической индустрии. Это, однако, никак не облегчает задачу использовать прелесть снимков, содержащихся в недавно появившихся замечательных публикациях по старой фотографии[65], для действительного проникновения в ее сущность. Попытки теоретического осмысления проблемы совершенно рудиментарны. И сколь продолжительны ни были дебаты по этому поводу в прошлом веке, они по сути не отошли от той комичной схемы, с помощью которой в свое время шовинистский листок, «Лейпцигер анцайгер», намеревался остановить распространение французской заразы. «Стремление сохранить мимолетные отражения, — писала газета, — дело не только невозможное, как выяснилось после проведения основательного немецкого расследования, но и одно только желание сделать это есть богохульство. Человек создан по подобию Божию, а образ Божий не может быть запечатлен никакой человеческой машиной. Разве что божественный художник может дерзнуть, вдохновленный небесами, воспроизвести богочеловеческие черты безо всякой машинной помощи в минуты наивысшего вдохновения и повинуясь высшему приказу своего гения». Это проявление обывательского понятия «искусства» во всей его тяжеловесной неуклюжести, понятия, которому чуждо какое бы то ни было участие техники и которое чувствует с вызывающим появлением новой техники приближение своего конца. Тем не менее именно на этом фетишистском, изначально антитехническом понятии искусства теоретики фотографии почти столетие пробовали строить дискуссию, разумеется без малейшего результата. Ведь они пытались получить признание фотографа именно от той инстанции, которую он отменял.
Совсем другим духом веет от речи, с которой физик Aparo выступил 3 июля 1839 г. в палате депутатов как защитник изобретения Дагерра. Замечательно в этой речи то, как она находит связь изобретения со всеми сторонами человеческой деятельности. Развернутая в ней панорама достаточно широка, чтобы сомнительное благословение фотографии живописью — без которого и здесь не обошлось — оказалось несущественным, зато предвидение действительной значимости открытия раскрылось вполне. «Когда изобретатели нового инструмента, — говорит Aparo, — используют его для изучения природы, то всегда оказывается, что ожидаемое ими всего лишь малая часть в сравнении с рядом последующих открытий, начало которым положил этот инструмент». Широким взглядом охватывает эта речь область применения новой техники от астрофизики до филологии: рядом с перспективой звездной фотографии оказывается идея создания корпуса египетских иероглифов. Снимки Дагерра представляли собой йодированные серебряные пластинки, экспонированные в camera obscura; их приходилось поворачивать, пока под определенным утлом не удавалось увидеть нежносерую картинку. Они были уникатами; в среднем одна пластинка стоила в 1839 году 25 золотых франков. Нередко их хранили, как драгоценность, в роскошных футлярах. Однако в руках некоторых художников они превращались в техническое вспомогательное средство. Подобно тому как семьдесят лет спустя Утрилло[66] будет рисовать свои обворожительные изображения домов в парижских пригородах не с натуры, а с открыток, так и признанный английский портретист Дэвид Октавиус Хилл использовал для своего настенного изображения первого генерального синода шотландской церкви 1843 года целую серию портретных фотоснимков. Однако эти снимки он делал сам. И именно эти простые технические вспомогательные средства, не предназначенные для чужих глаз, обеспечили его имени место в истории, в то время как его живописные работы преданы забвению. И все же глубже, чем эти серии фотопортретов, вводят в новую технику некоторые документальные снимки: это изображения безымянных людей, а не портреты. Такие изображения уже давно существовали в живописной форме. Если картины сохранялись в доме, то время от времени кто–нибудь еще спрашивал о том, кто на них изображен. Два, три поколения спустя этот интерес исчезал: картины, если они сохраняют значение, сохраняют его лишь как свидетельство искусства того, кто их нарисовал. Однако с появлением фотографии возникает нечто новое и необычайное: в фотографии рыбачки из Нью–Хейвена, опускающей взор с такой неспешной и соблазнительной стыдливостью, остается еще кое–что помимо того, что могло бы исчерпываться искусством фотографа Хилла, кое–что, не умолкающее, упрямо вопрошающее об имени той, которая жила тогда и продолжает присутствовать здесь и никогда не согласится полностью раствориться в «искусстве». Спрошу я: каким был глаз этих блеск, как эти локоны вились, лицо оттеняя, как целовали уста, сладострастия всплеск, словно без пламени дым, возгоняя[67].
Или если посмотреть на снимок фотографа Даутендея, отца поэта[68], изображающий его в то время, когда он был женихом женщины, которую он годы спустя, после рождения шестого ребенка, нашел в их московской квартире с перерезанными венами. На фото они стоят рядом, он словно держит ее, однако взгляд ее направлен мимо него, впившись в роковую даль. Если достаточно долго быть погруженным в созерцание такого снимка, становится понятным, насколько тесно и здесь соприкасаются противоположности: точнейшая техника в состоянии придать ее произведениям магическую силу, какой для нас уже никогда больше не будет обладать нарисованная картина. Вопреки всякому искусству фотографа и послушности его модели зритель ощущает неудержимое влечение, принуждающее его искать в таком изображении мельчайшую искорку случая, здесь и сейчас, которым действительность словно прожгла характер изображения, найти то неприметное место, в котором, в так — бытии той давно прошедшей минуты, будущее продолжает таиться и сейчас, и притом так красноречиво, что мы, оглядываясь назад, можем его обнаружить. Ведь природа, обращенная к камере — это не та природа, что обращена к глазу; различие прежде всего в том, что место пространства, освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное бессознательным. Например, достаточно привычно, что мы, пусть в самом грубом виде, представляем себе, как ходят люди, однако наверняка ничего не знаем о том, каково их положение в ту долю секунды, когда они начинают шаг. Фотография своими вспомогательными средствами: короткой выдержкой, увеличением — открывает ему это положение. Об этом оптически–бессознательном он узнает только с ее помощью, так же как о бессознательном в сфере своих побуждений он узнает с помощью психоанализа. Организованные структуры, ячейки и клетки, с которыми обычно имеют дело техника и медицина, — все это изначально гораздо ближе фотокамере, чем пейзаж с настроением или проникновенный портрет. В то же время фотография открывает в этом материале физиогномические аспекты, изобразительные миры, обитающие в мельчайших уголках, понятно и укромно в той степени, чтобы находить прибежище в видениях, однако теперь, став большими и явно формулируемыми, они оказываются способными открыть различие техники и магии как исторические переменные. Так, например, Блосфельдт[69] своими удивительными фотографиями растений смог обнаружить в полых стебельках формы древнейших колонн, в папоротнике — епископский жезл, в десятикратно увеличенном ростке каштана и клена — тотемные столбы, в листьях ворсянки — ажурный готический орнамент[70]. Потому вполне можно сказать, что модели фотографов вроде Хилла были не так далеки от правды, когда «феномен фотографии» представлялся им еще «большим таинственным приключением»; даже если для них это было не больше чем сознание того, что ты «стоишь перед аппаратом, который в кратчайшее время способен создать изображение видимого мира, изображение, кажущееся таким же живым и подлинным, как и сама природа». О камере Хилла говорили, что она проявляет тактичную сдержанность. Его модели, в свою очередь, не менее сдержанны; они сохраняют некоторую робость перед аппаратом, и принцип одного из более поздних фотографов периода расцвета: «никогда не смотри в камеру», — мог бы быть выведен из их поведения. Однако при этом не имелось в виду то самое «посмотреть на тебя» у зверей, людей и маленьких детей, в которое таким нечестивым образом примешивается покупатель, и которому нет лучшего противопоставления, чем манера описания, в которой старик Даутендей повествует о первых дагерротипах: «Поначалу… люди не отваживались, — сообщает он, — долго рассматривать первые изготовленные им снимки. Они робели перед четкостью изображенных и были готовы поверить, что крошечные лица на снимках способны сами смотреть на зрителя, таково было ошеломляющее воздействие непривычной четкости и жизненности первых дагерротипов на каждого».
Эти первые репродуцированные люди вступали в поле зрения фотографии незапятнанными, или, сказать вернее, без подписи. Газеты еще были большой роскошью, их редко покупали и чаще всего просматривали в кафе, фотография еще не стала частью газетного дела, еще очень немногие могли прочесть свое имя на газетных страницах. Человеческое лицо было обрамлено молчанием, в котором покоился взгляд. Короче говоря, все возможности этого искусства портрета основывались на том, что фотография еще не вступила в контакт с актуальностью. Многие фотографии Хилла были сделаны на эдинбургском кладбище францисканцев — это чрезвычайно характерно для начала фотографии, еще более примечательно разве то, что модели чувствуют себя там как дома. Это кладбище и в самом деле выглядит на одном из снимков Хилла как интерьер, как уединенное, отгороженное пространство, где, прислоняясь к брандмауэрам, из травы вырастают надгробия, полые, словно камины, открывающие в своем чреве вместо языков пламени строки надписей. Однако это место никогда не оказывало бы такого воздействия, если бы его выбор не был обоснован технически. Слабая светочувствительность ранних пластинок требовала длительной выдержки при натурных съемках. По той же причине казалось предпочтительным помещать снимаемых людей по возможности в уединении, в месте, где ничто не мешало бы их сосредоточению. «Синтез выражения, вынужденно возникающий оттого, что модель должна долгое время быть неподвижной, — говорит Орлик о ранней фотографии, — является основной причиной того, что эти изображения при всей их простоте подобно хорошим рисункам и живописным портретам оказывают на зрителя более глубокое и долгое воздействие, чем более поздние фотографии». Сама техника побуждала модели жить не от мгновения к мгновению, а вживаться в каждый миг; во время длинной выдержки этих снимков модели словно врастали в изображение и тем самым вступали в самый решительный контраст с явлениями на моментальном снимке, отвечающем тому изменившемуся окружению, в котором, как точно заметил Кракауэр, от той же самой доли секунды, которую продолжается фотосъемка, зависит, «станет ли спортсмен таким знаменитым, что фотографы будут снимать его по заданию иллюстрированных еженедельников». Все в этих ранних снимках было ориентировано на длительное время; не только несравненные группы, которые собирались для съемки — а их исчезновение было одним из вернейших симптомов того, что произошло в обществе во второй половине столетия — даже складки, в которые собирается на этих изображениях одежда, держатся дольше. Достаточно лишь взглянуть на сюртук Шеллинга[71]; он совершенно определенно готов отправиться в вечность вместе с его хозяином, его складки не менее значимы, чем морщины на лице философа. Короче говоря, все подтверждает правоту Бернарда фон Брентано, предположившего, «что в 1850 году фотограф находился на той же высоте, что и его инструмент» — в первый и на долгое время в последний раз.
Впрочем, чтобы полностью ощутить мощное воздействие дагерротипии в эпоху ее открытия, следует учитывать, что пленэрная живопись начала в то время открывать наиболее продвинутым из художников совершенно новые перспективы. Сознавая, что именно в этом отношении фотография должна подхватить эстафету у живописи, Aparo со всей определенностью и говорит в историческом очерке, посвященном ранним опытам Джованни Баттиста Порта: «Что касается эффекта, возникающего от не полной прозрачности нашей атмосферы (и который обозначают не совсем точным выражением «воздушная перспектива»), то даже мастера живописи не надеются, что camera obscura» — речь идет о копировании получаемых в ней изображений — «могла бы помочь в воспроизведении этого эффекта». В тот момент, когда Дагерру удалось запечатлеть изображения, получаемые в camera obscura, художник был смещен с этого поста техником. Все же истинной жертвой фотографии стала не пейзажная живопись, а портретная миниатюра. События развивались так быстро, что уже около 1840 года большинство бесчисленных портретистов–миниатюристов стало фотографами, сначала наряду с живописной работой, а скоро исключительно. Опыт их первоначальной профессии оказался полезен, причем не художественная, а именно ремесленная выучка обеспечила высокий уровень их фоторабот. Лишь постепенно сошло со сцены это поколение переходного периода; кажется, будто эти первые фотографы — Надар, Штельцнер, Пирсон, Баяр — получили благословение библейских патриархов: все они приблизились к девяноста или ста годам. Но в конце концов в сословие профессиональных фотографов хлынули со всех сторон деловые люди, а когда затем получила повсеместное распространение ретушь негативов — месть плохих художников фотографии — начался быстрый упадок вкуса. Это было время, когда начали наполняться фотоальбомы. Располагались они чаще всего в самых неуютных местах квартиры, на консоли или маленьком столике в гостиной: кожаные фолианты с отвратительной металлической окантовкой и толстенными листами с золотым обрезом, на которых размещались фигуры в дурацких драпировках и затянутых одеяниях — дядя Алекс и тетя Рикхен, Трудхен, когда она еще была маленькой, папочка на первом курсе, и, наконец, в довершение позора, мы сами: в образе салонного тирольца, распевающего тирольские песни и размахивающего шляпой на фоне намалеванных горных вершин, или в образе бравого матроса, ноги, как полагается морскому волку, враскорячку, прислонившись к полированному поручню. Аксессуары таких портретов — постаменты, балюстрады и овальные столики— еще напоминают о том времени, когда из–за длительной выдержки приходилось создавать для моделей точки опоры, чтобы они могли оставаться долгое время неподвижными. Если поначалу было достаточно приспособлений для фиксации головы и коленей, то вскоре «последовали прочие приспособления, подобные тем, что использовались в знаменитых живописных изображениях и потому представлялись «художественными». Прежде всего это были — колонна и занавес». Против этого безобразия более способные мастера были вынуждены выступить уже в шестидесятые годы. Вот что тогда писали в одном специальном английском издании: «Если на живописных картинах колонна выглядит правдоподобной, то способ ее применения в фотографии абсурден, ибо ее обычно устанавливают на ковре. Между тем каждому ясно, что ковер не может служить фундаментом для мраморной или гранитной колонны». Тогда–то и появились эти фотостудии с драпировками и пальмами, гобеленами и мольбертами, про которые трудно сказать — то ли они были для мучения, то ли для возвеличивания; то ли это была камера пыток, то ли тронный зал — потрясающим свидетельством их деятельности служит ранняя фотография Кафки. На ней мальчик лет шести, одетый в узкий, словно смирительный костюм со множеством позументов, изображен в обстановке, напоминающей зимний сад. В глубине торчат пальмовые ветви. И словно для того, чтобы сделать эти плюшевые тропики еще более душными и тяжелыми, в левой руке он держит невероятно большую шляпу с широкими полями, на испанский манер. Конечно, мальчик бы исчез в этом антураже, если бы непомерно печальные глаза не одолели навязанную им обстановку.
Своей безбрежной печалью этот снимок контрастирует с ранними фотографиями, на которых люди еще не получили такого выражения потерянности и отрешенности, как этот мальчик. Их окружала аура, среда, которая придавала их взгляду, проходящему сквозь нее, полноту и уверенность. И снова очевиден технический эквивалент этой особенности; он заключается в абсолютной непрерывности перехода от самого яркого света до самой темной тени. Между прочим, закон предвосхищения новых достижений силами старой техники проявляется и в этом случае, а именно в том, что прежняя портретная живопись накануне своего падения породила уникальный расцвет гуммиарабиковой печати. Речь шла о репродукционной технике, которая соединилась с фотографической репродукцией лишь позднее. Как на графических листах, выполненных этой печатью, на снимках такого фотографа, как Хилл, свет с усилием прорывается сквозь темноту: Орлик говорит о вызванной долгой выдержкой «обобщающей свето–композиции», придающей «этим ранним фотоснимкам свойственное им величие». А среди современников открытия уже Деларош отметил ранее «недостижимое, великолепное, ничем не нарушающее спокойствие масс» общее впечатление. Это о технической основе, порождающей ауру. В особенности некоторые групповые снимки фиксируют мимолетное единение, на короткое время появляющееся на пластинке, перед тем как оно будет разрушено «оригинальным снимком». Именно эта атмосфера изящно и символично очерчивается ставшей уже старомодной овальной формой паспарту для фотографий. Поэтому о полном непонимании этих фотографических инкунабул говорит стремление подчеркнуть в них «художественное совершенство» или «вкус». Эти снимки возникали в помещениях, в которых каждый клиент встречался в лице фотографа прежде всего с техником нового поколения, а каждый фотограф в лице клиента — с представителем восходящего социального класса со свойственной ему аурой, которая проглядывала даже в складках сюртука и шейном платке. Ведь эта аура не была прямым продуктом примитивной камеры. Дело в том, что в этот ранний период объект и техника его воспроизведения так точно совпадали друг с другом, в то время как в последующий период декаданса они разошлись. Вскоре развитие оптики создало возможность преодоления тени и создания зеркальных изображений. Однако фотографы в период после 1880 года видели свою задачу в основном в том, чтобы симулировать ауру, исчезнувшую со снимков вместе с вытеснением тени светосильными объективами, точно так же, как аура исчезла из жизни с вырождением империалистической буржуазии, — симулировать всеми ухищрениями ретуши, в особенности же так называемой гуммиарабиковой печатью. Так стал модным, особенно в стиле модерн, сумеречный тон, перебиваемый искусственными отражениями; однако вопреки сумеречному освещению все яснее обозначалась поза, неподвижность которой выдает бессилие этого поколения перед лицом технического прогресса.
И все же решающим в фотографии оказывается отношение фотографа к своей технике. Камиль Рехт выразил это в изящном сравнении. «Скрипач, — говорит он, — должен сначала создать звук, мгновенно поймать ноту; пианист же нажимает на клавишу — нота звучит. И у художника, и у фотографа есть свои инструменты. Рисунок и колорит художника сродни извлечению звука скрипачом, у фотографа общее с пианистом состоит в том, что его действия в значительной степени — не сравнимой с условиями скрипача — предопределены техникой, налагающей свои ограничения. Ни один пианист– виртуоз, будь то сам Падеревский, не достигнет той славы, не добьется того почти сказочного очарования публики, каких достигал и добивался Паганини». Однако у фотографии, если уж продолжать это сравнение, есть свой Бузони, это Атже[72]. Оба были виртуозами, в то же время и предтечами. Их объединяет беспримерная способность растворяться в своем ремесле, соединенная с величайшей точностью. Даже в их чертах есть нечто родственное. Атже был актером, которому опротивело его ремесло, который снял грим, а затем принялся делать то же самое с действительностью, показывая ее неприкрашенное лицо. Он жил в Париже бедным и безвестным, свои фотографии сбывал за бесценок любителям, которые едва ли были менее эксцентричными, чем он сам, а не так давно он распрощался с жизнью, оставив после себя гигантский опус в более чем четыре тысячи снимков. Береник Эббот из Нью–Йорка собрала эти карточки, избранные работы только что вышли в необычайно красивой книге[73], подготовленной Камилем Рехтом. Современная ему пресса «ничего не знала об этом человеке, который ходил со своими снимками по художественным мастерским, отдавая их почти даром, за несколько монет, часто по цене тех открыток, которые в начале века изображали такие красивенькие сцены ночного города с нарисованной луной. Он достиг полюса высочайшего мастерства; но из упрямой скромности великого мастера, который всегда держится в тени, он не захотел установить там свой флаг. Так что кое–кто может считать себя открывателем полюса, на котором Атже уже побывал». В самом деле: парижские фото Атже — предвосхищение сюрреалистической фотографии, авангард одной единственной действительно мощной колонны, которую смог двинуть вперед сюрреализм. Он первым продезинфицировал удушающую атмосферу, которую распространил вокруг себя фотопортрет эпохи упадка. Он очищал эту атмосферу, он очистил ее: он начал освобождение объекта от ауры, которая составляла несомненное достоинство наиболее ранней фотографической школы. Когда журналы авангардистов «Bifur» или «Variété» публикуют с подписями «Вестминстер», «Лилль», «Антверпен» или «Вроцлав» лишь снимки деталей: то кусок балюстрады, то голую верхушку дерева, сквозь ветви которой просвечивает уличный фонарь, то брандмауэр или крюк с висящим на нем спасательным кругом, на котором написано название города, — то это не более чем литературное обыгрывание мотивов, открытых Атже. Его интересовало забытое и заброшенное, и потому эти снимки также обращаются против экзотического, помпезного, романтического звучания названий городов; они высасывают ауру из действительности, словно вода из тонущего корабля.
Что такое, собственно говоря, аура? Странное сплетение места и времени: уникальное ощущение дали, как бы близок при этом рассматриваемый предмет ни был. Скользить взглядом во время летнего полуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте или ветви, в тени которой расположился отдыхающий, пока мгновение или час со–причастны их явлению — значит вдыхать ауру Этих гор, этой ветви. Стремление же «приблизить» вещи к себе, точнее — массам — это такое же страстное желание современных людей, как и преодоление уникального в любой ситуации через его репродуцирование. Изо дня в день все более неодолимо проявляется потребность владеть предметом в непосредственной близости в его изображении, скорее в репродукции. А репродукция, как показывают иллюстрированный еженедельник или кинохроника, несомненно отличается от изображения. В изображении уникальность и длительность так же тесно соединены, как мимолетность и повторяемость в репродукции. Очищение предмета от его оболочки, разрушение ауры представляют собой характерный признак того восприятия, у которого чувство однотипного относительно ко всему в этом мире настолько выросло, что оно с помощью репродукции добивается однотипности даже от уникальных явлений. Атже почти всегда проходил мимо «величественных видов и так называемых символов», но не пропускал длинный рад сапожных колодок, не проходил мимо парижских дворов, где с вечера до утра стоят рядами ручные тележки, мимо не убранных после еды столов или скопившейся в огромном количестве грязной посуды, мимо борделя на незнамо какой улице в доме № 5, о чем свидетельствует огромная пятерка, которая красуется на четырех разных местах фасада. Как ни странно, на этих снимках почти нет людей. Пусты ворота Порт д’Аркей у бастионов, пусты роскошные лестницы, пусты дворы, пусты террасы кафе, пуста, как обычно, площадь Плас дю Тертр. Они не пустынны, а лишены настроения; город на этих снимках очищен, словно квартира, в которую еще не въехали новые жильцы. Таковы результаты, которые позволили сюрреалистической фотографии подготовить целительное отчуждение между человеком и его окружением. Она освобождает поле для политически наметанного глаза, который опускает все интимные связи ради точности отражения деталей.
Совершенно ясно, что этот новый взгляд менее всего мог развиться там, где раньше фотография чувствовала себя наиболее уверенно: в платных, репрезентативных портретных съемках. С другой стороны, отказ от человека оказывается для фотографии делом почти невозможным. Кто этого еще не знал, того научили этому лучшие русские фильмы, показавшие, что и окружающая человека среда и пейзаж открываются только тому из фотографов, кто может постигнуть их в безымянном отражении, возникающем в человеческом лице. Однако возможность этого опять–таки в значительной степени зависит от того, кого снимают. Поколение, которое не было одержимо идеей запечатлеть себя на фотографиях для потомков и, сталкиваясь с такой необходимостью, скорее было склонно несколько робко вжиматься в свою привычную, обжитую обстановку — как Шопенгауэр на своей франкфуртской фотографии 1850 года в глубь кресла — именно поэтому, однако, запечатлевало вместе с собой на пластинке и этот мир: этому поколению его достоинства достались не по наследству. Русское игровое кино впервые за несколько десятилетий дало возможность показаться перед камерой людям, у которых нет надобности в своих фотографиях. И сразу же человеческое лицо приобрело в съемке новое, огромное значение. Но это был уже не портрет. Что это было? Выдающейся заслугой одного немецкого фотографа было то, что он дал ответ на этот вопрос. Август Зандер[74][75] собрал серию портретов, которые ни в чем не уступают мощной физиономической галерее, открытой такими мастерами, как Эйзенштейн или Пудовкин, и сделал он это в научном аспекте. «Созданная им коллекция складывается из семи групп, соответствующих существующему общественному укладу, и должна быть опубликована в 45 папках по 12 снимков в каждой». До сих пор опубликована лишь книга с избранными 60 фотографиями, дающими неисчерпаемый материал для наблюдений. «Зандер начинает с крестьянина, человека, привязанного к земле, ведет зрителя через все слои и профессиональные группы, поднимаясь до представителей высшей цивилизации и опускаясь до идиота». Автор приступил к этой колоссальной задаче не как ученый, не как человек, следующий советам антропологов или социологов, а, как говорится в предисловии, «опираясь на непосредственные наблюдения». Наблюдения эти были несомненно чрезвычайно непредвзятыми, более того, смелыми, в то же время, однако, и деликатными, а именно в духе сказанного Гёте: «Есть деликатная эмпирия, которая самым интимным образом отождествляет себя с предметом и тем самым становится настоящей теорией». В соответствии с этим вполне законно, что такой наблюдатель как Дёблин[76] обратил внимание как раз на научные моменты этого труда и замечает: «Подобно сравнительной анатомии, благодаря которой только и можно познать природу и историю органов, этот фотограф занялся сравнительной фотографией и тем самым занял научную позицию, поднимающую его над теми, кто занимается частными видами фотографии». Будет чрезвычайно жаль, если экономические условия не позволят продолжить публикацию этого корпуса. Издательству же можно было бы помимо этого общего указать еще на один более конкретный мотив публикации. Произведения, подобные созданному Зандером, могут мгновенно приобрести неожиданную актуальность. Изменения во властных структурах, ставшие у нас привычными, делают жизненной необходимостью развитие, обострение физиогномических способностей. Представляет человек правых или левых — он должен привыкнуть к тому, что его будут распознавать с этой точки зрения. В свою очередь, он сам будет распознавать таким образом других. Творение Зандера не просто иллюстрированное издание: это учебный атлас.
«В нашу эпоху нет произведения искусства, которое созерцали бы так внимательно, как свою собственную фотографию, фотографии ближайших родственников и друзей, возлюбленной», — писал уже в 1907 году Лихтварк, переводя тем самым исследование из области эстетических признаков в область социальных функций. Только с этой позиции оно может продвигаться дальше.
Показательно в этом отношении, что дискуссия менее всего продвигалась в тех случаях, когда разговор шел об эстетике «фотографии как искусства», в то время как, например, гораздо менее спорный социальный факт «искусство как фотография» не удостаивают даже беглого рассмотрения. И все же воздействие фотографических репродукций произведений искусства на функции искусства гораздо важнее, чем более или менее художественная композиция фотографии, «схватывающей» какой–либо жизненный момент. В самом деле, возвращающийся домой фотолюбитель со множеством сделанных художественных снимков представляет собой не более отрадное явление, чем охотник, возвращающийся из засады с таким количеством дичи, которое имело бы смысл, только если бы он нес ее на продажу. Похоже, что и в самом деле иллюстрированных изданий скоро станет больше, чем лавок, торгующих дичью и птицей. Это о том, как «щелкают», снимая все подряд. Однако акценты полностью меняются, когда от фотографии как искусства переходят к искусству как фотографии. Каждый имел возможность убедиться, насколько легче взять в объектив картину, а еще более того скульптуру или тем более архитектурное сооружение, чем явления действительности. Тут же возникает искушение списать это на упадок художественного чутья, на неумелость современников. Однако ему противоречит понимание того, насколько примерно в то же время с развитием репродукционной техники изменилось восприятие великих произведений искусства. На них уже нельзя смотреть как на произведения отдельных людей; они стали коллективными творениями, настолько мощными, что для того, чтобы их усвоить, их необходимо уменьшить. В конечном итоге репродукционная техника представляет собой уменьшающую технику и делает человеку доступной ту степень господства над произведениями искусства, без которой они не могут найти применения.
Если что и определяет сегодняшние отношения между искусством и фотографией, то это не снятое напряжение, возникшее между ними из–за фотографирования произведений искусства. Многие из тех, кто как фотограф определяет сегодняшнее лицо этой техники, пришли из изобразительного искусства. Они отвернулись от него после попыток установить живую, ясную связь его выразительных средств с современной жизнью. Чем острее было их ощущение духа времени, тем все более сомнительной становилась для них их исходная точка. Так же, как и восемьдесят лет назад, фотография приняла эстафету у живописи. «Творческие возможности нового, — говорит Мохой–Надь[77], — по большей части медленно открываются такими старыми формами, инструментами и областями искусства, которые в принципе уничтожаются с появлением нового, однако под давлением готовящегося нового они оказываются вовлеченными в эйфорическую активизацию. Так, например, футуристическая (статическая) живопись ввела в искусство позднее уничтожившую ее, четко очерченную проблематику синхронности движения, изображения мгновенного состояния; и это в то время, когда кино было известно, но еще далеко не понято… Точно так же можно — с известной осторожностью — рассматривать некоторых из работающих сегодня с изобразительнопредметными средствами художников (неоклассицистов и веристов) как предтеч новой изобразительной оптической техники, которая скоро будет пользоваться только механическими техническими средствами». А Тристан Цара[78] писал в 1922 году: «Когда все, что называлось искусством, стало страдать подагрой, фотограф зажег свою тысячесвечовую лампу и светочувствительная бумага постепенно впитала в себя черный цвет некоторых предметов обихода. Он открыл значимость нежного, девственного быстрого взгляда, который был важнее, чем все композиции, которые нам представляют для восхищенного созерцания». Фотографы, которые пришли из изобразительного искусства в фотографию не из оппортунистических соображений, не случайно, не ради удобств, образуют сегодня авангард среди своих коллег, поскольку они своей творческой биографией в определенной степени застрахованы от самой серьезной опасности современной фотографии, ремесленно–художественного привкуса. «Фотография как искусство, — говорит Саша Стоун, — это очень опасная область».
Покинув те отношения, в которых ею занимались такие люди как Зандер, Жермена Круль, Блосфельдт, эмансипируясь от физиогномических, политических, научных интересов, фотография становится «творческой». Делом объектива становится «обзор событий», появляется бульварный фоторепортер. «Дух, одолевая механику, преобразует ее точные результаты в жизненные притчи». Чем дальше развивается кризис современного социального устройства, чем крепче его отдельные моменты застывают, образуя мертвые противоречия, тем больше творческое — по своей глубинной сути вариант, контраст его отец, а имитация его мать — становится фетишем, черты которого обязаны своей жизнью лишь смене модного освещения. Творческое в фотографии — следование моде. «Мир прекрасен» — именно таков ее девиз. В нем разоблачает себя та фотография, которая готова вмонтировать во вселенную любую консервную банку, но не способна понять ни одного из тех человеческих отношений, в которые она вступает, и которая в своих сомнамбулических сюжетах оказывается скорее предтечей ее продажности, чем познания. Поскольку же истинным лицом этого фотографического творчества является реклама и ассоциация, то ее законной противоположностью выступают разоблачение и конструкция. Ведь положение, отмечает Брехт, «столь сложно потому, что менее чем когда–либо простое «воспроизведение реальности» что–либо говорит о реальности. Фотография заводов Круппа или концерна АЕG почти ничего не сообщает об этих организациях. Истинная реальность ускользнула в сферу функционального. Опредмеченность человеческих отношений, например на фабрике, больше не выдает этих отношений. Потому действительно необходимо «нечто строить», нечто «искусственное», нечто «заданное»»[79]. Подготовка первопроходцев этого фотографического конструирования — заслуга сюрреалистов. Следующий этап в этом диспуте отмечен появлением русского кино. Это не преувеличение: великие достижения его режиссеров были возможны только в стране, где фотография ориентирована не на очарование и внушение, а на эксперимент и обучение.
В этом, и только в этом смысле в импозантном приветствии, которое неуклюжий создатель многозначительных полотен, художник Антуан Вирц[80] адресовал фотографии в 1855 году, еще может быть обнаружен какой–то смысл. «Несколько лет назад была рождена — во славу нашего столетия — машина, изо дня в день изумляющая нашу мысль и устрашающая наш взгляд. Прежде чем пройдет век, эта машина заменит для– художника кисть, палитру, краски, мастерство, опыт, терпение, беглость, точность воспроизведения, колорит, лессировку, образец, и совершенство, станет экстрактом живописи… Неправда, будто дагерротипия убивает искусство… Когда дагерротипия, этот огромный ребенок, подрастет, когда все ее искусство и сила разовьются, тогда гении схватит ее за шкирку и громко воскликнет: Сюда! Теперь ты моя! Мы будем работать вместе». Насколько по сравнению с этим трезво, даже пессимистично звучат слова, которыми четыре года спустя, в «Салоне 1859 года», представил новую технику своим читателям Бодлер. Сегодня их уже вряд ли можно, как и только что процитированные, читать без легкого смещения акцента. Однако хотя они контрастируют с последней цитатой, они вполне сохранили смысл как наиболее резкая отповедь всем попыткам узурпации художественной фотографии. «В это жалкое время возникла новая индустрия, которая в немалой степени способствовала укреплению пошлой глупости в своей вере… будто искусство — не что иное как точное воспроизведение природы, и не может быть ничем иным… Мстительный бог услышал голос этой толпы. Дагерр был его мессией». И дальше: «Если фотографии будет позволено дополнить искусство в одной из его функций, то оно вскоре будет полностью вытеснено и разрушено ею благодаря естественной союзнической помощи, которая будет исходить из толпы. Поэтому она должна вернуться к своей прямой обязанности, заключающейся в том, чтобы быть служанкой наук и искусств».
Одно только тогда оба, Вирц и Бодлер, не уловили — указаний, идущих от аутентичности фотографии. Не всегда будет удаваться обойти их с помощью репортажа, клише которого нужны только для того, чтобы вызывать у зрителя словесные ассоциации. Все меньше становится камера, возрастает ее способность создавать изображения мимолетного и тайного, шок от этих снимков застопоривает ассоциативный механизм зрителя. В этот момент включается подпись, втягивающая фотографию и процесс олитературивания всех областей жизни, без ее помощи любая фотографическая конструкция останется незавершенной. Недаром снимки Атже сравнивали с фотографией места происшествия. Но разве каждый уголок наших городов — не место происшествия?
А каждый из прохожих — не участник происшествия? Разве фотограф — потомок авгура и гаруспика[81] — не должен определить вину и найти виновных? Говорят, что «неграмотным в будущем будет не тот, кто не владеет алфавитом, а тот, кто не владеет фотографией». Но разве не следует считать неграмотным фотографа, который не может прочесть свои собственные фотографии? Не станет ли подпись существенным моментом создания фотографии? Это вопросы, в которых находит разрядку историческое напряжение, дистанция в девяносто лет, отделяющая живущих сейчас от дагерротипии. В свете возникающих при этом искр первые фотографии проступают из тьмы прадедовых времен, такие прекрасные и недоступные.
Статья написана в 1931 г. и опубликована в том же году в еженедельнике «Die literarische Welt». В ней предвосхищен ряд положений, получивших полное развитие в статье «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Перевод по тексту: GS 2.1, S. 368–385.
Перевод и примечания С. Ромашко[82]
Автор как производитель
Речь идет о том, чтобы привлечь интеллектуалов на сторону рабочего класса, заставив их осознать тождественность их духовных поступков с их уделом производителей.
Рамон Фернандес
Вы помните, как Платон в проекте своего идеального государства[83] поступает с поэтами. Во имя интересов сообщества он отказывает им в пребывании внутри него. Он высоко ставил власть поэзии. Однако он считал поэзию вредной, излишней — разумеется, в некоем совершенном сообществе. С тех пор вопрос о праве поэтов на существование нечасто ставился столь остро; однако сегодня он снова встает. В такой форме он, пожалуй, ставится очень редко. Всем вам он более или менее знаком как вопрос об автономии поэта: о свободе сочинять то, что ему угодно. Вы не склонны позволять ему эту автономию. Вы полагаете, что современное общественное положение вынуждает его решать, на службу кому он хочет направить свою деятельность. Буржуазный писатель, создающий развлекательную литературу, не признает эту альтернативу. Вы доказываете ему, что он, не сознаваясь в этом, обслуживает определенные классовые интересы. Более прогрессивный писатель эту альтернативу признаёт. Он принимает решение на основе классовой борьбы, встав на сторону пролетариата. Вот здесь–то и кончается его автономия. Он направляет свою деятельность на то, что является полезным для пролетариата в классовой борьбе. Обычно говорят, он–де следует некоей тенденции.
Вот произнесено то ключевое слово, вокруг которого давно ведется спор, хорошо вам известный. Он вам известен, а поэтому вы также знаете, насколько неплодотворно он протекал. То есть он не свободен от скучного противопоставления «с одной стороны — с другой стороны»: с одной стороны, от работы поэта необходимо требовать верной тенденции, с другой стороны, от этой работы мы вправе ожидать качества. Эта формулировка, конечно, будет неудовлетворительной до тех пор, пока не осознают, в чем собственно состоит связь двух факторов: тенденции и качества. Естественно, эту связь можно декларировать. Можно заявить: произведению, которое обнаруживает правильную тенденцию, не нужно более никакое иное качество. Можно декларировать и другое: произведение, которое обнаруживает правильную тенденцию, обязательно должно иметь все остальные качества.
Вторая формулировка небезынтересна, более того: она верна. Я с ней согласен. Но, будучи согласным, я отказываюсь ее декларировать. Это утверждение следует доказать. И я прошу вашего внимания, чтобы попытаться доказать его.
— Это довольно специальная, весьма далекая тема, — пожалуй, возразите вы. И таким–то вот доказательством вы хотите способствовать изучению фашизма?
У меня и в самом деле есть это намерение. Ибо, как я надеюсь, я сумею показать вам, что понятие тенденции в обобщенной форме, в которой оно большей частью обнаруживается в только что упомянутом споре, является совершенно непригодным инструментом политической и литературной критики. Я хочу вам показать, что тенденция в поэтическом, литературном произведении может быть верна политически только тогда, когда она также верна литературно. То есть, что политически верная тенденция включает в себя литературную тенденцию. И сразу же добавлю: эта литературная тенденция, которая имплицитно или эксплицитно содержится в каждой верной политической тенденции, — она, и ничто иное, составляет качество произведения. Поэтому, следовательно, верная политическая тенденция произведения включает в себя его литературное качество, поскольку она включает его литературную тенденцию.
Это утверждение — надеюсь, что я могу позволить себе подобное обещание, — вскоре приобретет более отчетливые очертания. Пока же я добавлю, что для своего рассмотрения я мог бы выбрать и другой исходный пункт. Я исходил из неплодотворного спора о том, в каком отношении находятся тенденция и качество поэзии. Я мог бы, однако, исходить из еще более старого, но не менее неплодотворного спора: в каком отношении находятся форма и содержание, а именно, особенно в политической поэзии. Эта постановка вопроса по праву пользуется дурной славой. Она считается хрестоматийным образцом попытки недиалектически, шаблонно подходить к литературным связям. Пусть так. Но как выглядит тогда диалектическая трактовка того же вопроса?
Диалектическое рассмотрение этого вопроса, и тем самым я подхожу к сути дела, вообще не направлено на неподвижный, изолированный предмет, будь то произведение, роман, книга. Оно помещает его в контекст живых общественных взаимосвязей. Вы правомерно заявляете, что в кругу наших друзей все так всегда и поступали. Разумеется. Только вот при этом они зачастую сразу же устремлялись к вершинам и со всей неизбежностью оказывались в тумане. Общественные отношения, как нам известно, обусловлены производственными отношениями. И если материалистическая критика обращалась к произведению, то обычно она задавалась вопросом, как это произведение относится к общественным производственным отношениям эпохи. Вопрос важный. И одновременно очень сложный. Отвечая на него, не всегда удастся обойтись без недоразумений. И тут я предложу вам более конкретный вопрос. Вопрос более скромный, не столь выигрышный, но, как мне кажется, дающий больше шансов на ответ. Итак, вместо того, чтобы спрашивать, как некое произведение относится к производственным отношениям эпохи, соответствует ли оно им и является реакционным или стремится их изменить и является революционным, — вместо этого вопроса или, во всяком случае, до того, как его задать, я хотел бы предложить Вам другой вопрос. Итак, прежде чем я спрошу, как некое литературное произведение относится к производственным отношениям эпохи, я хотел бы спросить, как оно соотносится с ними. Этот вопрос непосредственно затрагивает функцию произведения в рамках литературных производственных отношений эпохи. Другими словами, он непосредственно затрагивает литературную технику произведений.
Используемое мною понятие техники открывает доступ к прямому социальному, а стало быть, к материалистическому анализу литературной продукции. Одновременно понятие техники являет собой диалектическую отправную точку, отталкиваясь от которой, можно отказаться от неплодотворного противоречия формы и содержания. Кроме того, данное понятие техники позволяет правильно определить упомянутое выше соотношение тенденции и качества. Итак, если выше мы пришли к определению, что верная политическая тенденция произведения включает в себя его литературное качество, потому что она включает в себя литературную тенденцию этого произведения, то теперь мы уточняем, что литературная тенденция может заключаться в некотором прогрессе или регрессе литературной техники.
Вы наверняка отнесетесь с одобрением к тому, если я сейчас, лишь на первый взгляд неожиданно, перейду к совершенно конкретной литературной ситуации. К русской литературе. Обратим наш взгляд на Сергея Третьякова[84] и на определенный и воплощенный им тип оперирующего» писателя. Этот оперирующий писатель дает нам нагляднейший пример функциональной зависимости, в которой всегда и при любых обстоятельствах находятся верная политическая тенденция и прогрессивная литературная техника. Приведу всего лишь один пример: от дальнейшего воздерживаюсь. Третьяков отличает оперирующего писателя от писателя информирующего. Его миссия — не сообщать, а сражаться; не выступать в роли зрителя, а активно вступать в бой. Он определяет ее на основе фактов, которые берет из своего опыта. Когда в 1928 г., в эпоху тотальной коллективизации сельского хозяйства, был выдвинут лозунг: «Писателей на колхозы!», Третьяков отправился в коммуну «Коммунистический маяк» и во время двух своих продолжительных командировок туда занимался следующими делами: созывом массовых митингов, сбором денег на покупку тракторов, агитацией единоличников на вступление в колхоз, инспекцией читален, созданием стенгазет и руководством колхозной газетой, написанием репортажей в московские газеты, внедрением радио и кинопередвижек и т. д. Неудивительно, что книга «Командиры полей»[85], которую Третьяков написал сразу после этой поездки, оказала значительное влияние на дальнейшее усовершенствование колхозов.
Вы можете ценить Третьякова и все–таки придерживаться мнения, что его пример в этой связи не слишком много значит. Вы станете, вероятно, возражать, говоря, что задачи, которые он себе ставил, являются задачами журналиста или пропагандиста; с литературой все это имеет мало общего. Ну что ж, я намеренно привел первый попавшийся пример из Третьякова, чтобы обратить ваше внимание на то, из какой всеохватной перспективы необходимо переосмыслять представления о формах или жанрах литературы с учетом современных технических данностей, чтобы прийти к тем формам выражения, которые представляют собой отправной пункт для литературных энергий современности. Не во все прошлые эпохи существовал роман, и вовсе не обязательно, что он сохранится в будущем; это же касается трагедии, касается и больших эпических форм. Не всегда формы комментария, перевода и даже так называемых подделок были маргинальными на поле литературы; они обрели свое место не только в философской, но и в изящной словесности арабского Востока и Китая. Риторика не всегда была непритязательной формой, она наложила свой отпечаток на большие области литературы в античности. Говорю обо всем этом, чтобы довести до вашего сведения: мы находимся в самой сердцевине мощного процесса переплавки литературных форм, процесса, в котором многие противоречия, определявшие наше мышление, утрачивают свою действенность. Позвольте мне привести пример, свидетельствующий о непродуктивности таких противоречий и о процессе их диалектического преодоления. И мы снова обратимся к Третьякову. Таким примером является газета.
«В нашей словесности, — — пишет один автор из левых[86], — — противоречия, которые в более счастливые эпохи взаимно оплодотворяли друг друга, превратились в неразрешимые антиномии. Наука и беллетристика, критика и производство, образование и политика изолированно и беспорядочно отпадают друг от друга. Ареной этой литературной сумятицы является газета. Ее содержанием является «материал», который ускользает от любой иной организационной формы кроме той, что навязывает ему нетерпение читателя. И это не только нетерпение политика, ожидающего информации, или биржевого спекулянта, ждущего подсказки, — за этим таится и нетерпение непричастного к газетной работе человека, верящего, что он имеет право сам выразить в словах свои интересы. Редакции издавна пользовались знанием о том, что ничто так не привязывает читателя к газете, как это нетерпение, ежедневно требующее новой пищи, и постоянно открывали новые разделы, посвященные вопросам, мнениям, протестам читателей. Итак, рука об руку с неразборчивой ассимиляцией фактов идет неразборчивая ассимиляция читателей, которые моментально воображают себя возведенными на уровень сотрудников газеты. В этом, однако, кроется диалектический момент: упадок словесности в буржуазной прессе оборачивается формулой ее возрождения в прессе Советской России.
Благодаря тому, что словесность выигрывает в смысле широты то, что она утрачивает в плане своей глубины, граница между автором и публикой, которую буржуазная пресса традиционным образом сохраняет, в советской прессе начинает исчезать. Человек читающий готов там в любое время стать пишущим человеком, то есть описывающим или даже предписывающим. Он получает доступ к авторству как эксперт — пусть даже не по специальности, а скорее, только по должности, которую исполняет. Сам труд обретает дар слова. И выражение его в слове составляет часть навыков, которые требуются для занятия трудом. Как общественное достояние, литературная компетенция основывается уже не на специализированном, но на политехническом образовании. Словом, именно литературизация жизненных условий начинает господствовать над иначе не разрешимыми антиномиями. И арена безудержного унижения слова — стало быть, газета — является ареной, на которой готовится его спасение».
Надеюсь, мне удалось показать, что изображение автора как производителя должно включать в себя и прессу. Ведь именно по прессе, во всяком случае, по прессе Советской России мы видим, что мощный процесс переплавки, о котором я говорил выше, не только идет поверх конвенционального разделения на жанры, на литератора и художника слова, на ученого и популяризатора, но что он даже пересматривает разделение на автора и читателя. Для этого процесса пресса является решающей инстанцией, и поэтому любые размышления об авторе как производителе должны ее учитывать.
Однако они не должны на этом останавливаться. Ведь в Западной Европе газета, конечно, пока не представляет собой действенное орудие производства в руках писателя. Она еще принадлежит капиталу. Так как нынче, с одной стороны, газета, в техническом отношении, представляет для писателя важнейшую позицию, но, с другой стороны, эта позиция находится в руках противника, то не стоит удивляться, что осознание писателем своей общественной обусловленности, своих технических средств и политических задач вынужденно сталкивается с огромнейшими трудностями. К решающим процессам последних десяти лет в Германии относится то, что значительная часть ее производительных умов под давлением экономических условий проделала революционное развитие в плане своих убеждений, не будучи одновременно в состоянии действительно революционно переосмыслить свой собственный труд, свое отношение к средствам производства, свою технику. Я говорю, как вы видите, о так называемой левой интеллигенции, ограничиваясь при этом интеллигенцией левобуржуазной. В Германии именно левая интеллигенция порождала важнейшие литературно–политические движения последнего десятилетия. Обращусь к двум из них — к активизму[87] и новой веществености[88], чтобы на их примере показать, что политическая тенденция, сколь бы революционной она ни казалась, действует в то же время контрреволюционно, когда писатель следует только своим убеждениям, но как производитель не испытывает солидарности с пролетариатом.
Лозунг, к которому сводится программа активизма, — «логократия», что по–немецки значит «господство духа». Его любят трактовать как «господство людей духа». Фактически же понятие «людей духа» распространилось в лагере левой интеллигенции, и оно господствует в ее политических манифестах от Генриха Манна[89] до Дёблина[90]. Относительно этого понятия можно легко заметить, что оно используется без всякого учета положения интеллигенции в процессе производства. Сам Хиллер, теоретик активизма, под «людьми духа» понимает не людей, «принадлежащих к определенным профессиям», а «представителей известного характерологического типа»[91]. Этот характерологический тип как таковой, разумеется, располагается между классами. Он включает в себя произвольное число индивидуумов, не предлагая пи малейших критериев для их организации в единое целое. Формулируя свою отповедь партийным вождям, Хиллер кое в чем даже отдает им должное: они по сравнению с ним «лучше осведомлены в важных вещах…, говорят более понятным народу языком…, более храбры в сражении», однако в одном он уверен: они «мыслят слабее». Вероятно, это так, но какой из этого толк? Ведь в политическом смысле, как однажды выразился Брехт, решающим является не мышление индивида, а искусство думать головами других людей. Активизм предпринял замену материалистической диалектики не поддающимся классовому определению величием здравого человеческого рассудка[92]. «Духовные люди» активизма в лучшем случае являются представителями некоего сословия. Иными словами: принцип образования этого коллектива сам по себе реакционен; неудивительно, что воздействие этого коллектива никогда не было революционным.
Однако пагубный принцип такого образования коллектива продолжает оказывать влияние. В этом можно было убедиться, когда три года назад вышла работа Дёблина «Знать и изменять!». Эта статья, как известно, была опубликована как ответ некоему молодому человеку — Дёблин называет его господином Хокке, — который обратился к знаменитому писателю с вопросом «что делать?» Дёблин приглашает его примкнуть к делу социализма, но при сомнительных обстоятельствах. Социализм — это, по мнению Дёблина, «свобода, спонтанная сплоченность людей, отказ от любого принуждения, возмущение против несправедливости и угнетения, человечность, толерантность, мирный настрой». Как бы там ни обстояло дело, в любом случае Дёблин с таким вот социализмом встает навытяжку перед теорией и практикой радикального рабочего движения. «Ни из какой вещи — считает Дёблин — не явится на свет что–либо иное, кроме того, что уже в ней заранее заложено: из убийственно острой классовой борьбы может явиться справедливость, но ни в коем случае не явится социализм». «Вы, уважаемый господин, — формулирует Дёблин рекомендацию, которую он по этой и другим причинам дает господину Хокке, — можете и не заявлять о своем принципиальном «да» борьбе (пролетариата), встав в ряды пролетарского фронта. Довольствуйтесь взволнованным и горестным одобрением этой борьбы, но при этом знайте: если вы сделаете больше, то останется незанятой чрезвычайно важная позиция… пракоммунистическая позиция индивидуальной свободы человека, позиция спонтанной солидарности и связи между людьми… Эта позиция, уважаемый господин — единственная, которая вам приличествует». Здесь можно осязательно почувствовать, куда ведет концепция «духовного человека» как типа, определяемого по его мнениям, настрою или установкам, но не по его положению в производственном процессе. Как написано у Дёблина, «духовный человек» должен найти свое место рядом с пролетариатом. Но что это за место? Место покровителя, идеологического мецената. Невозможное место. И тем самым мы возвращаемся к тезису, сформулированному вначале: место интеллектуала в классовой борьбе следует определять или лучше выбирать лишь в связи с его положением в процессе производства.
В связи с изменением производственных форм и орудий производства в духе прогрессивной — и потому заинтересованной в освобождении средств производства, и потому становящейся на службу классовой борьбе — интеллигенции Брехт ввел понятие «изменение функции» (Umfunktionierung). Он первым предъявил интеллектуалам требование, имеющее важные последствия: нельзя обслуживать производственный аппарат, не стараясь одновременно — по мере возможности — изменить его в духе социализма. «Публикация «Опытов» — пишет автор во введении к одноименному циклу статей — происходит в то время, когда определенные виды труда уже являются не столько индивидуальными переживаниями (имея характер произведения), сколько ориентируются на использование (преобразование) определенных институтов и институций»[93]. Надо стремиться не к духовному обновлению, каковым его провозглашают фашисты, но предлагать технические инновации. К этим инновациям я еще вернусь. Здесь же я ограничусь указанием на решающее различие, имеющееся между одним лишь обслуживанием производственного аппарата и его изменением. И в начале рассуждений о «Новой вещественности» я хотел бы выдвинуть тезис о том, что обслуживание производственного аппарата без того, чтобы его — по мере возможности — изменять, представляет собой в высшей степени спорный метод даже тогда, когда материалы, которыми снабжают этот аппарат, вроде бы имеют революционную природу. Ведь мы стоим перед фактом, — о котором обильно свидетельствовало прошедшее десятилетие в Германии, — что буржуазный производственный и издательский аппарат может ассимилировать и даже пропагандировать поразительное количество революционных тем, не ставя всерьез под сомнение свое собственное существование и существование владеющего этим аппаратом класса. Во всяком случае, это остается верным до тех пор, пока аппарат обслуживают рутинеры, пусть даже рутинеры революционные. Рутинером (Routinier) я называю человека, который, по существу, отказывается от того, чтобы за счет совершенствования производственного аппарата принципиально отчуждать его у господствующего класса на пользу социализму. И, кроме того, я утверждаю, что значительная часть так называемой левой литературы не обладала иной общественной функцией, кроме той, чтобы все время извлекать из политической ситуации новые импульсы для развлечения публики. И тут я перехожу к «Новой вещественности». Она ввела в широкий оборот репортаж. И давайте спросим себя, кому принесла пользу эта техника?
Ради наглядности я выдвигаю на передний план ее фотографическую форму. То, что характеризует ее, может быть перенесено на форму литературную. Необыкновенный расцвет обеих форм репортажа относят на счет публикационной техники — речь идет о радио и иллюстрированной печати. Вспомним о дадаизме. Революционная сила дадаизма заключалась в том, что он подвергнул искусство испытанию на подлинность. Дадаисты составляли натюрморты из билетов, мотков пряжи, окурков сигарет, которые сочетались с изобразительными элементами. Целое вставляли в рамку. И тем самым демонстрировали публике: смотрите, ваша рамка картины взрывает время; крошечный подлинный кусок повседневной жизни говорит больше, чем живопись. Подобно тому как кровавый отпечаток пальца, оставленный убийцей на странице книги, говорит больше, нежели сам текст… Многое из этих революционных элементов содержания было перенято фотомонтажом. Вспомните хотя бы работы Джона Хартфильда[94], чья техника оформления книжных переплетов превратилась в политический инструмент. А теперь посмотрим, как развивалась фотография. Что мы видим? Она становится все более оттеночной, все более современной, а результатом является то, что уже невозможно сфотографировать никакой доходный дом, никакую свалку, не преобразив их вида. Не говоря уже о том, что она не в состоянии, показав плотину или кабельную фабрику, выразить что–либо иное, а лишь утверждает: «мир прекрасен». «Мир прекрасен» — так называется знаменитая книга фотографий Ренгер–Пацша[95], в которой фотография «Новой вещественности» представлена в ее расцвете. Дело в том, что фотографии здесь удалось сделать предметом наслаждения даже нищету, показав ее изысканно–модным образом. Ибо если экономическая функция фотографии состоит в том, чтобы посредством модной обработки поставлять массам предметы, которые прежде были недоступны их потреблению, — такие, как весна, знаменитости, зарубежные страны, — то одна из политических функций фотографии — обновлять мир как он есть, изнутри, иными словами — с помощью моды.
Мы имеем здесь разительный пример того, что значит обслуживать производственный аппарат, не изменяя его. Изменять его означало бы заново сносить один из тех барьеров, преодолевать одно из тех противоречий, которые сковывают производство, каковым занимается интеллигенция. В данном случае речь идет о барьере между словом и образом. Чего мы должны требовать от фотографии, так это способности снабжать создаваемые ею снимки такими подписями, которые уберегают их от износа моды и наделяют их революционной потребительной стоимостью. Это требование мы поставим выразительнее всего, если мы — писатели — перейдем к фотографированию. Следовательно, и здесь для автора как производителя технический прогресс представляет собой основу его политической прогрессивности. Иными словами, только преодоление тех компетенций в процессе духовного производства, которые — по мнению буржуазии — образуют его порядок, делает это производство политически значимым; а именно, следует обоюдно разрушить барьеры компетенции, воздвигнутые с обеих сторон производительными силами. Автор как производитель, когда он испытывает солидарность с пролетариатом, в то же время непосредственно ощущает солидарность с некоторыми другими производителями, которые прежде мало о чем ему говорили. Я говорил о фотографе; теперь я хочу совсем кратко вставить сюда несколько слов о музыканте, цитируя Эйслера[96]: «Даже в развитии музыки, как в ее производстве, так и в воспроизведении, мы должны научиться распознавать все усиливающийся процесс рационализации… Грампластинка, звуковой фильм, музыкальные автоматы могут поставлять высшие достижения музыки как товар… в консервированной форме. Этот процесс рационализации имеет последствием то, что воспроизведение музыки ограничивается группами специалистов, становящимися все меньше, но и обладающими все более высокой квалификацией. Кризис концертной деятельности представляет собой кризис устаревшей, обгоняемой новыми техническими изобретениями формы производства». Стало быть, задача состояла в изменении функции концертной формы, которой следовало удовлетворять двум условиям: во–первых, устранять противоречие между исполнителем и слушателем, а, во–вторых, противоречие между музыкальной техникой и музыкальным содержанием. Здесь Эйслер делает следующий плодотворный вывод: «Необходимо остерегаться завышенной оценки оркестровой музыки, считая ее единственно высоким искусством. Музыка без слов обрела большое значение и полностью развилась лишь при капитализме». Это означает, что задача изменения концерта неосуществима без содействия слова. Как пишет Эйслер, лишь при помощи слова можно превратить концерт в политический митинг. А то, что такое изменение фактически представляет собой наивысший уровень музыкальной и литературной техники, показали Брехт и Эйслер в учебной пьесе «Мероприятие»[97].
Если вы посмотрите с этой точки зрения на процесс переплавки литературных форм, о котором шла речь, то вы увидите, как соединяется литература с фотографией и музыкой, и, таким образом, оцените то, что пока еще находится в состоянии раскаленной жидкой массы, из которой отливаются новые формы. Вы увидите подтверждение тому, что речь идет о литературизации всех жизненных отношений, которая только и дает правильное представление об объеме рассматриваемого процесса слияния, подобно тому, как уровень классовой борьбы определяет температуру, при которой этот процесс — более или менее успешно — происходит.
Я упоминал о способе некоей модной фотографии делать из нищеты предмет потребления. Обращаясь к «Новой вещественности» как к литературному движению, я делаю следующий шаг и говорю, что она превратила в предмет потребления борьбу с нищетой. По существу, ее политическое значение во многих случаях исчерпывалось превращением революционных импульсов, возникавших у буржуазии, в предметы развлечения и забавы, без проблем интегрировавшиеся в программы кабаре в больших городах. Превращение политической борьбы из неотложной проблемы в предмет созерцательного уюта, из средства производства в предмет потребления является характерным для подобной литературы. Проницательный критик пояснил это на примере Эриха Кестнера[98] следующим образом: «С рабочим движением эта леворадикальная интеллигенция не имеет ничего общего. Скорее она, как явление разложения буржуазии, соотносится с феодальной мимикрией, которой кайзеровская империя восхищалась в лейтенантах запаса. Леворадикальные публицисты вроде Кестнера, Меринга[99]или Тухольского[100]—представители буржуазных слоев, подвергшиеся мимикрии под пролетариев. Их функция с политической точки зрения — создавать не партии, а клики, с литературной точки зрения — не школы, а моды, с экономической точки зрения — не производителей, а представителей. Создавать представителей или рутинеров, которые поднимают большой шум по поводу собственной нищеты, а зияющую пустоту превращают в праздник. Невозможно было уютнее устроиться в такой неуютной ситуации».
Эта школа, как я говорил, поднимала большой шум по поводу своей нищеты. Тем самым она уклонилась от исполнения неотложной задачи писателя сегодняшнего дня: знать, насколько он беден и насколько бедным он должен быть, чтобы быть в состоянии начать сначала. Ибо речь идет именно об этом. Советское государство, в отличие от платоновского, не изгоняет поэта, но оно — и поэтому я в начале статьи вспомнил о платоновском государстве — ставит перед ним задачи, которые не позволяют ему выставлять на обозрение поддельное богатство творческой личности в новых шедеврах. Ожидать обновления в духе подобных личностей, в духе подобных произведений — это привилегия фашизма, который при этом выдумывает нелепые формулировки, подобные тем, какими Гюнтер Грюндель в «Послании к молодому поколению» завершает свою литературную колонку: «Мы не можем завершить этот… обзор и прогноз удачнее, нежели указанием на то, что ни «Вильгельм Мейстер»[101], ни «Зеленый Генрих»[102] нашего поколения еще не написаны»[103]. Для автора, который осмыслил условия современного производства, нет ничего более чуждого, чем ожидать появления таких произведений или хотя бы желать, чтобы они появились. Его работа никогда не будет работой над одной лишь продукцией, но всегда одновременно — работой над средствами производства. Иными словами: его продукция наряду с деятельностным характером и даже прежде него должна обладать еще и организующей функцией. И их организационная применимость ни в коем случае не должна ограничиваться пропагандистским применением. Одной тенденции здесь недостаточно. Великолепный Лихтенберг[104] сказал: дело не в том, какие у человека мнения, но в том, какого человека делают из него эти мнения. И хотя многое зависит от мнений, но и наилучшее мнение ни на что не годно, если оно не делает на что–то годными тех, кто этими мнениями обладает. Наилучшая тенденция ложна, если не содеяна позиция, из которой ей надо следовать. А эту позицию писатель может содеять лишь тогда, когда он вообще что–либо делает, а именно — пишет. Тенденция является необходимым, но недостаточным условием организующей функции произведений. Последняя сплошь и рядом требует указующего, наставительного поведения пишущего. И сегодня это требуется больше, чем когда–либо прежде. Автор, который ничему не учит писателей, не учит никого. Таким образом, критерием служит образцовый характер производства, который, во–первых, в состоянии привлечь к производству других производителей, а, во–вторых, предоставить в их распоряжение некий усовершенствованный аппарат. И аппарат этот будет тем лучше, чем больше потребителей он привлечет к производству, словом, чем лучше он в состоянии сделать сотрудниками читателей или зрителей. Мы уже обладаем подобной моделью, которую я здесь, однако, могу лишь обозначить. Таков эпический театр Брехта.
Постоянно пишутся трагедии и оперы, в распоряжении которых, как кажется, находится давно зарекомендовавший себя сценический аппарат, тогда как сами они, по существу, ничего не делают, а только обслуживают эту одряхлевшую конструкцию. «Господствующая среди музыкантов, писателей и критиков неясность относительно их положения, — говорит Брехт, — имеет чудовищные последствия, на которые обращают слишком мало внимания. Ибо считая, будто они обладают таким аппаратом, который на самом деле обладает ими, они защищают аппарат, над которым они уже не имеют контроля, который — в отличие от того, что они полагают, — уже стал средством не для производителей, но средством против производителей»[105]. В средство против производителей этот театр усложненной машинерии, грандиозного количества статистов, утонченных эффектов превратился не в последнюю очередь потому, что он стремится привлечь производителей для бесперспективной конкурентной борьбы, в каковую его вовлекли кино и радио. Этот театр — можно вспомнить о морализаторском или о развлекательном театре, они взаимно дополняют друг друга, — представляет собой театр для сытого общественного слоя, для которого все, к чему прикасается его рука, становится развлечением. Его дело безнадежно. Не так обстоят дела с театром, который вместо того, чтобы вступать в конкуренцию с упомянутыми новыми средствами публикации, стремится использовать их и учиться у них, словом, ведет с ними спор. Этот спор и сделал своим предметом эпический театр. И он — принимая во внимание сегодняшний уровень развития кино и радио, — является своевременным.
В интересах этого спора Брехт обратился к изначальным элементам театра. В известной мере он довольствовался подиумом. Он отказался от широкоохватного действия. Поэтому ему удалось изменить функциональную взаимосвязь между сценой и публикой, текстом и постановкой, режиссером и актерами. «Эпический театр, — заявил Брехт, — не должен ни развивать действие, ни представлять обстоятельства.» Как мы сейчас увидим, он обретает такие обстоятельства, прерывая действие. Напомню вам о зонгах, основная функция которых — прерывание действия. Итак, здесь эпический театр, используя принцип прерывания действия, как видите, обращается к приему, хорошо известному вам в последние годы по кино и радио, по прессе и фотографии. Я говорю о приеме монтажа, ведь то, что смонтировано, разрывает контекст, в который оно помещается. Позвольте кратко указать на то, что этот прием имеет особое и, вероятно, полное право на существование здесь, в эпическом театре.
Прерывание действия, феномен, из–за которого Брехт назвал свой театр эпическим, постоянно препятствует возникновению у публики иллюзии. Такая иллюзия не нужна театру, который намерен рассматривать элементы действительности в духе проведения эксперимента. Обстоятельства всегда располагаются в конце, а не в начале этого эксперимента. Обстоятельства эти в том или ином обличье всегда являются нашими обстоятельствами. Они не приближаются к зрителю, а удаляются от него. Он узнает в них реальные обстоятельства, но не с чувством самодовольства, как в театре натурализма, а с удивлением. Следовательно, эпический театр не отражает обстоятельства, он, скорее, открывает их.
Обстоятельства открываются вследствие прерывания хода действия. Вот только прерывание действия не раздражает, а организует зрителя. Оно останавливает продолжающееся действие и тем самым вынуждает слушателя занять позицию по отношению к процессу, а актера — по отношению к своей роли. На одном примере я покажу вам, как брехтовское изобретение и оформление жеста означают не что иное, как обратное преобразование, играющих решающую роль в радио и кино методов монтажа, из зачастую всего лишь модное приема в человеческое событие. Представьте себе семейную сцену: женщина собирается схватить бронзовую статуэтку, чтобы швырнуть ее в дочь; отец собирается распахнуть окно и позвать на помощь. В этот момент входит некто посторонний. Процесс прерван; его место заступают обстоятельства, которые предстают перед спокойным взглядом постороннего: растерянные лица, открытое окно, сломанная мебель. Однако существует взгляд, под которым даже привычные сцены сегодняшнего бытия воздействуют похожим образом. Это взгляд эпического драматурга.
Он противопоставляет цельному драматическому действу свою драматическую лабораторию. Он по–новому обращается к великой древней возможности театра— к показу сущего. В центре его эксперимента располагается человек. Сегодняшний человек, человек урезанный, лишенный сил, выставленный на холод. Поскольку мы располагаем только таким человеком, нам интересно познать его. Он подвергается испытаниям, экспертным оценкам. И получается следующее: изменчивым процесс является не в его кульминационных пунктах, не благодаря добродетели и решительности, но исключительно в его строго привычном протекании, благодаря разуму и упражнениям. Сконструировать из мельчайших элементов поведения человека то, что в аристотелевской драматургии называлось «действием» — вот смысл эпического театра. Стало быть, его средства скромнее, чем у традиционного театра, его цели тоже скромнее. Он намеревается не столько заражать публику чувствами, пусть даже бунтарским настроением, сколько упорно, посредством мышления, отчуждать ее от обстоятельств, в которых она живет. Мимоходом, правда, заметим, что для мышления не существует лучшего импульса, нежели смех. И сотрясание диафрагмы, как правило, намного сильнее воздействует на мысль, нежели душевное потрясение. Эпический театр обилен только в сфере смеха.
Вероятно, вы обратили внимание на то, что путь нашей мысли, к концу которого мы подходим, касается лишь одного требования к писателю, требования размышлять, задумываться о его положении в процессе производства. Мы можем положиться на то, что эта мысль рано или поздно приведет писателей, о которых здесь идет речь, т. е. наилучших технических специалистов в своей профессии, к выводам, весьма трезво обосновывающим их солидарность с пролетариатом. В заключение я хотел бы в качестве доказательства привести актуальное свидетельство из здешнего журнала «Commune», совсем небольшую цитату Журнал провел опрос: «Для кого вы пишете?» Я процитирую ответ Рене Моблана[106], а также замечания Арагона к нему. «Несомненно, — говорит Моблан, — я пишу почти исключительно для буржуазной публики. Во–первых, потому что я вынужден делать это, — здесь Моблан имеет в виду свои профессиональные обязанности учителя гимназии, — во–вторых, потому что я буржуазного происхождения, получил буржуазное воспитание и вырос в буржуазной среде, — тем самым я, естественно, склонен обращаться к классу, к которому я принадлежу, который я знаю лучше других и лучше всего могу понять. Это, однако, не означает, что я пишу, чтобы понравиться буржуазии или поддержать ее. С одной стороны, я убежден, что пролетарская революция необходима и желательна, с другой стороны, убежден, что чем быстрее, легче, успешнее и с меньшим кровопролитием она пройдет, тем слабее будет сопротивление буржуазии… Пролетариат сегодня нуждается в союзниках из лагеря буржуазии точно так же, как в восемнадцатом веке буржуазии нужны были союзники из феодального лагеря. Среди таких союзников я и хочу быть».
На это Арагон замечает: «Наш товарищ обращается здесь к такой ситуации, которая касается очень многих современных писателей. Не у всех хватает мужества посмотреть этой ситуации в глаза… Редки те, кто имеет о собственном положении столь ясное мнение, как Рене Моблан. Но как раз от них надо требовать еще большего… Недостаточно ослаблять буржуазию изнутри, необходимо бороться с ней вместе с пролетариатом… Перед Рене Мобланом и многими из наших друзей– писателей, которые еще колеблются, стоит пример писателей из Советской России, которые происходят из русской буржуазии и все–таки стали пионерами социалистического строительства».
Таково мнение Арагона. Но как же они стали таковы– ми пионерами? Пожалуй, все–таки не без чрезвычайно ожесточенной борьбы, не без в высшей степени трудных дискуссий. Соображения, которые я вам представил, влекут за собой попытку подведения итогов такой борьбы. Они опираются на понятие, которое решающим образом проясняется в дебатах о положении русских интеллектуалов — на понятие специалиста. Солидарность специалистов с пролетариатом — здесь начало этого объяснения — может всегда быть лишь опосредованной. Пусть активисты и представители «Новой вещественности» ведут себя, как им угодно: они не смогут отменить тот факт, что даже пролетаризация интеллектуала почти никогда не превращает его в пролетария. Почему? Потому что буржуазный класс дал интеллектуалу средство производства в виде образования, которое — в связи с привилегией образования — делает интеллектуала солидарным с буржуазным классом и еще в больше степени делает солидарным с ним буржуазный класс. Поэтому совершенно правильно, когда Арагон в другой связи заявляет: «Революционный интеллектуал предстает в первую очередь и прежде всего предателем своего класса». Это предательство для писателя состоит в поведении, которое превращает его из обслуживающего производственный аппарат в инженера, усматривающего свою задачу в том, чтобы приспособить этот аппарат к целям пролетарской революции. Это посредническая деятельность, но она все–таки освобождает интеллектуала от той чисто деструктивной задачи, которой стремится ограничить его Моблан и многие другие товарищи. Удается ли интеллектуалу способствовать обобществлению духовных средств производства? Видит ли он способы организации духовных работников в самих процессах производства? Есть ли у него предложения для изменения функции романа, драмы, стихотворения? Чем полнее он в состоянии ориентировать свою деятельность согласно этой задаче, тем вернее будет его тенденция, тем выше будет и техническое качество его труда. И с другой стороны: чем точнее он отдает себе отчет о своем положении в процессе производства, тем меньше он будет склоняться к мысли о том, что он — «человек духа». Дух, заявляющий о себе от имени фашизма, должен исчезнуть. Дух, препятствующий интеллектуалу в вере в собственную чудодейственную силу, исчезнет. Ибо революционная борьба разыгрывается не между капитализмом и духом, но между капитализмом и пролетариатом.
Указанная в подзаголовке речи дата — 27 апреля 1934 г. — несомненно, ошибочна, так как из отправленного на следующий день к Адорно письма явствует, что эта речь еще не была произнесена: «Я пользуюсь душевным подъемом, вызванным во мне только что завершенной диктовкой большого доклада, чтобы привести свой механизм в движение для Вас. […] Если бы Вы были теперь здесь, то я полагаю, что доклад, о котором я говорил вначале, дал бы нам мощный импульс для споров. Он называется «Автор как производитель», будет прочитан здесь в «Институте по исследованию фашизма» перед совсем небольшой, но едва ли столь же квалифицированной аудиторией, и представляет собой попытку дополнить анализ, предпринятый мною для драматических произведений в работе «Эпический театр». (28.04.1934 г., письмо к Т. В. Адорно). Близость речи «Автор как производитель» к статье «Что такое эпический театр?» — конечно, имеется в виду ее первый вариант (S. 519–531) —была для Беньямина важна; так, он писал и Брехту: «Под заглавием «Автор как производитель» я попытался — по предмету и объему— написать работу в дополнение к моей старой работе об эпическом театре. Я Вам ее передам». (Briefe, 609).
6 мая 1934 г. в письме к Шолему Беньямин пишет: «С другой стороны, я избавлю нас от того, чтобы описывать тебе многочисленные, отчасти, конечно, тщетные — попытки обеспечить мне здесь основу для существования. Они не помешали мне написать более объемистое эссе «Автор как производитель», в котором высказана позиция по актуальным вопросам литературной политики».
Беньямин попытался пристроить текст в издававшийся Клаусом Манном журнал «Sammlung»: »Писал ли я вам уже о своей последней работе — не помню. Она называется «Автор как производитель» и представляет собой своего рода дополнение к более ранней работе об эпическом театре. Сейчас я веду переговоры с журналом «Sammlung», от него, правда, требуется некоторая решимость» (24. 05. 1934 г., письмо к Т. В. Адорно). Публикация не состоялась ни в «Sammlung» (об отношениях Беньямина с этим журналом см. Bd. 3, 671), ни где бы то ни было еще; лишь спустя 26 лет после смерти Беньямина этот важный текст был впервые опубликован Рольфом Тидеманом.
В своих воспоминаниях о Беньямине Шолем характеризует эту речь как появление одного из ликов «двуликого Януса», с которым он сравнивает своего друга: «Работая над большим эссе о Кафке […] и ведя со мной оживленную переписку на эту тему, он написал доклад «Автор как производитель», прочитанный им […] в «Институте по изучению фашизма», организации коммунистического фронта. Этот доклад в заметном tour de force [фр. фокусе, трюке — примеч. пер.] представлял собой кульминацию его материалистических устремлений. Мне так и не удалось прочесть текст, фигурировавший в его письмах и рассказах. Когда я в 1938 г. в Париже пристал к нему с просьбой, он сказал: «По–моему, будет лучше, если я его тебе не дам». Когда я наконец познакомился с содержанием статьи, я понял, почему он тогда так сказал. Кстати, к этому времени относится его знакомство с Артуром Кёстлером, который тогда был почетным казначеем ИНФА, а впоследствии жил в том же доме [рю Домбаль, 10], населенном почти исключительно эмигрантами». (Scholem, G. Walter Benjamin: Die Geschichte einer Freundschaft, Suhrkamp. Frankfurt a. M., 1975. S. 250) Кёстлер сообщает о «Международном институте по изучению фашизма» (ИНФА) следующее: «Целый год я бесплатно работал исполнительным директором парижского «Института по изучению фашизма». Это был архив и научно–исследовательский институт, в котором работали члены компартии, и его контролировал, но не финансировал Коминтерн. Целью этого учреждения было создание института по серьезному изучению фашистского режима, независимого от методов массовой пропаганды предприятия [Вилли] Мюнценберга. Мы жили за счет пожертвований, поступавших от французских профсоюзов, а также из французских интеллектуальных и академических кругов. Все мы, не получая жалованья, работали по 10–12 часов в день; к счастью, в наших помещениях на рю Буффон была кухня, где каждый день к обеду варили большую кастрюлю густого горохового супа для сотрудников» (Ein Gott, der keiner war. Arthur Koestler [u. a.] schildern ihre Weg zum Kommunismus und ihre Abkehr, Köln 1952 [Rote Weißbücher, 6], 63).
Еще одно, гораздо более подробное сообщение об истории института Кёстлер приводит в своих мемуарах (см. Koestler А. Die Geheimschrift. Bericht eines Lebens 1932 bis 1940, übertr. von Franziska Becker. Wien; München; Basel, 1955, S. 253–272); ни здесь, ни в процитированном выше пассаже имя Беньямина в связи с институтом даже не упоминается; ничего не сказано и о том, что в институте вообще читались доклады. Не исключено, что подзаголовок к речи «Автор как производитель» либо является мистификацией, либо связан с каким–то неосуществленным замыслом.
В начале июля 1934 г. Беньямин в Свендборге — где он находился до октября включительно — обсуждал свой доклад с Брехтом, о чем он писал в своем дневнике: «Долгий разговор в комнате больного Брехта, вчера, все время возвращались к моей статье «Автор как производитель». Изложенную в ней теорию о том, что решающий критерий революционной функции литературы заключается в степени технических успехов, которые направлены на функциональное изменение форм искусства, а тем самым — и духовных средств производства, Брехт соглашался считать применимой лишь для одного–единственного типа писателя — для представителя крупной буржуазии, к каковому он причислял и самого себя. «Этот тип — говорил он — фактически солидарен с интересами пролетариата в одном пункте: в отношении к развитию его средств производства. Поскольку же он солидарен с ними лишь в одном этом пункте, то именно в этом пункте он — как производитель — пролетаризовался, и притом без остатка. И эта полная пролетаризация лишь в одном пункте делает его солидарным с пролетариатом по всей линии». Мою критику пролетарских писателей бехеровского «ордена» Брехт посчитал слишком абстрактной. Он попытался откорректировать ее, проанализировав стихотворение Бехера, которое было напечатано в одном из последних номеров одного из официальных пролетарских литературных журналов под заглавием «Я скажу совершенно открыто…». Брехт сравнивал его, с одной стороны, со своим учебным стихотворением об актерском искусстве, посвященном Кароле Неер, с другой стороны — с Bateau ivre [«Пьяный корабль» Артюра Рембо — прим, пер.] «Каролу Неер я ведь научил многому, — говорил он. — Она не только научилась играть; она у меня, например, научилась мыться. Мылась она для того, чтобы не ходить грязнулей. Но дело–то совсем в другом. Я научил ее, как надо умываться. Она потом довела этот процесс до такого совершенства, что я хотел заснять ее на пленку. Но этого не случилось, так как тогда я не собирался сам снимать фильм, а перед кем–то другим она не хотела умываться. Это учебное стихотворение—модель. Всякий обучающийся должен ставить себя на место этого «я». Когда Бехер говорит «я», то он — как президент Объединения пролетарско–революционных писателей Германии — считает себя образорм. Вот только ни у кого нет охоты ему подражать. Люди просто считают, что он доволен собой». По этому поводу Брехт говорит, что у него есть давнее намерение написать некоторое количество таких образцовых стихотворений для разных профессий — для писателя, для инженера. С другой стороны, Брехт сравнивает стихотворение Бехера со стихотворением Рембо. В стихотворении Рембо, — считает он, — даже Маркс и Ленин, если бы они его прочли, ощутили бы великое историческое движение, выражением которого оно является. Вполне вероятно, они поняли бы, что там описывается не эксцентричная прогулка некоего мужчины, а бегство, бродяжничество человека, которому нестерпимо оставаться в рамках своего класса, который — после Крымской войны и мексиканской авантюры — в своих меркантильных интересах начинает открывать для себя и экзотические страны. Использовать жест ни с чем не связанного, предающегося на волю случая, отвернувшегося от общества бродяги в образцовом описании пролетарского борца — вещь совершенно невозможная (см.: Bd. 6).
Т Машинопись с рукописными добавлениями и корректурами, 22 листа, исписанные с одной стороны; Беньямин — Архив, Ts 551–5–72.
Необходимо дополнительно упомянуть листок с заметками, который имеется в архиве Беньямина (архив Теодора В. Адорно): частично — это не слишком дословные выписки из доклада, частично — тезисные резюме его определенных рассуждений.
Напрашивается предположение, что Беньямин составил эти заметки для подготовки к дискуссии, которую он ожидал в связи с докладом, согласно подзаголовку состоявшимся 27 апреля 1934 г. в Институте по изучению фашизма в Париже (см., однако, выше примечания издателя). В последующем ссылки Беньямина относятся к его машинописи; в прямоугольных скобках издатели добавили соответствующую нумерацию страниц 2–го тома «Собрания сочинений» (Benjamin W. Gesammelte Schriften. Frankfurt а. M., 1991.2 Band. 3 Teil. Anmerkungen der Herausgeber. S. 1460–1464):
Солидарность специалиста с пролетариатом может быть только опосредованной. Она состоит в способе, который превращает его из обслуживающего производственные аппараты в инженера, усматривающего свою задачу в том, чтобы приспособить их к целям пролетарской революции, р.20 [700 Б].
Тенденция является необходимым, но недостаточным условием организующей функции произведений, р. 15 [696].
Автор, ничему не обучающий писателей, не обучает никого, р. 15 [696].
Литературная тенденция, которая, имплицитно или эксплицитно, содержится во всякой верной политической тенденции… обеспечивает качество произведения, р. 2 [685].
Усилие тех полномочий в процессе производства, которые, согласно буржуазному взгляду, образуют порядок, делает это производство политически пригодным … Автор как производитель, вследствие того, что он испытывает солидарность с пролетариатом, одновременно испытывает ее с членами других областей производства, с которыми ранее у него не было ничего общего, р. 13 [693 f].
Вопрос главенства / вопрос посредничества через рынок / вопрос деструктивного или саботирующего метода / вопрос революционного искусства / пояснение на примерах: Хиндемит, гильдии музыкантов[109].
Деструктивные моменты романа Оттвальда: сокращение иллюзионистского момента / О «Городе Махагони»: изображение вкусового момента оперы / «Трехгрошовая опера»: изображение дидактических элементов / Последние, прежде всего, в пьесах с моралью. Эти модели, прилагаюсь к буржуазному содержанию, больше не приводят к решающим результатам.
Последовательное развитие средств производства приводит производителя на сторону пролетариата, так как, во–первых, оно имеет тенденцию сносить барьеры между различными областями производства, во–вторых, устранять барьеры между производителем и потребителем.
Последовательное развитие политических тенденций у пролетариата приводит его к тому, чтобы в растущем объеме претендовать на средства производства для собственных целей, то есть средства производства должны быть для этих целей преобразованы. Преобразование имеет двойной характер: старые средства производства отчасти саботируются, отчасти переводятся в новые. Саботаж совершается посредством изобличения вкусового характера их традиционных продуктов, а также перевода в новые вследствие ликвидации этого характера.
Рукопись: Беньямин — Архив, М5 977.
Перевод Б. Скуратова и И. Чубарова[110]
Учение о подобии
Постижение сфер «подобного» имеет основополагающее значение для освещения обширных областей оккультного знания. Однако достичь такого постижения можно, скорее, воспроизведением процессов, такое подобие производящих, нежели показом наличных сходств. Природа создает подобия, вспомним хотя бы о мимикрии. Но наивысшая способность создавать подобия свойственна человеку. Пожалуй, человек не обладает ни одной значительной функцией, на которую не оказала бы решающее воздействие миметическая способность. У этой способности есть своя история, притом как в филогенетическом, так и в онтогенетическом смысле. Онтогенетически ей научаются в игре. Детская игра сплошь пронизана миметическими способами поведения, и ее сфера отнюдь не ограничивается тем, что один человек подражает другому. Ребенок играет не только в купца или учителя, но и в ветряную мельницу, и в железную дорогу. И в связи с этим возникает вопрос: какую, в сущности, пользу приносит ему такая тренировка миметической способности?
Ответ на него предполагает отчетливое понимание филогенетического значения миметической способности. Чтобы определить его, недостаточно иметь в виду лишь, например, то, что мы подразумеваем под понятием подобия сегодня. Как известно, жизненный круг, который, вероятно, управлялся по закону подобия в прежние времена, был гораздо обширнее, чем теперь. Это были микрои макрокосм — назовем только одну из множества формулировок, в которых, таким образом, обнаруживается опыт подобия в ходе истории. Даже в случае современного человека можно утверждать: ситуации, когда он в повседневной жизни воспринимает подобия сознательно, представляют собой крохотную часть из тех бесчисленных моментов, когда подобие определяется бессознательно. Подобия, воспринимаемые осознанно — например, в лицах — по сравнению с бесчисленным множеством воспринимаемых бессознательно или же вообще не воспринимаемых, можно сравнить с маленькой, торчащей из воды верхушкой айсберга, тогда как под водой скрывается огромная ледяная глыба.
Однако эти естественные соответствия приобретают решающее значение только в свете осознания того, что все они, основополагающим образом, служат стимуляторами и возбудителями той миметической способности, которая находит отклик на них у человека. При этом не следует забывать, что ни миметические силы, ни миметические объекты, на которые эти силы направлены, с течением времени не остаются неизменными; на протяжении столетий миметическая сила, а вместе с тем впоследствии — и миметическое восприятие, исчезали из определенных областей, вероятно, с тем, чтобы проявиться в других. Возможно, не будет слишком смелой догадка, что, в общем и целом, можно обнаружить единый вектор исторического развития миметической способности.
Этот вектор, на первый взгляд, фиксирует одно лишь постепенное угасание миметической способности. Ибо очевидно, что современный человек, конечно же, примечает гораздо меньшее число тех магических соответствий, которые были в ходу у древних народов или у первобытных людей. Вопрос состоит лишь в следующем: идет ли при этом речь об отмирании данной способности или, возможно, о происшедшем с ней превращении. В каком направлении осуществлялось подобное превращение, об этом можно, пусть и косвенно, судить по кое–каким сведениям из астрологии. Ведь мы как исследователи древних традиций обязаны учитывать то, что понятные формы и миметический характер объекта обнаруживались там, где мы сегодня даже не можем их предположить. Например, в положении звезд.
Чтобы постичь это, нужно прежде всего воспринимать гороскоп как некоторую изначальную целостность, анализ которой возможен лишь в астрологическом истолковании. (Положение звезд представляет характерное единство, а свойства отдельных планет распознаются только по роли этих планет в положении звезд.) Следует принципиально считаться с тем, что небесные процессы были доступны подражанию людей, живших в далеком прошлом, притом как коллективному, так и индивидуальному подражанию, и возможность подражания содержала указания на то, как, собственно, обходиться с имеющимся сходством. В этой способности к подражанию, или, соответственно, в миметической способности человека, следует, пожалуй, пока что усматривать единственную инстанцию, которая придала астрологии экспериментальный характер. Если же миметический гений действительно представлял собой жизнеопределяющую силу предков, то это едва ли было возможным иначе, нежели наделяя новорожденного полнотой этого дара, в особенности — дара сопряжения личности с образом космического бытия.
Но ведь мгновение рождения, которое должно здесь разрешиться, почти невозможно уловить. Это направляет взгляд на несколько иную особенность области подобия. Его восприятие в любом случае связано с некоей вспышкой. Подобие уносится прочь, вероятно, поддается восстановлению, но его, по существу, невозможно зафиксировать так, как другие формы восприятия. Подобие предстает взгляду мимолетно, словно положение звезд в созвездии. Следовательно, восприятие подобий как будто бы привязано к некоему моменту времени. Это напоминает подход третьего лица, астролога, к положению двух небесных светил, которое необходимо определить в одно мгновение. В противном случае — несмотря на остроту своих инструментов для наблюдения — астроном здесь проигрывает.
Может быть, ссылки на астрологию уже достаточно для того, чтобы дать пример понятия нечувственного подобия. Понятие это, само собой разумеется, является относительным: это значит, что в нашем восприятии мы уже не обладаем тем, что однажды позволяло нам говорить о подобии, существующим между созвездиями и человеком. Однако и мы все же обладаем неким каноном, который позволяет несколько отчетливее прояснить, что же означает понятие нечувственного подобия. И таковым каноном является язык.
Уже с незапамятных времен за миметической способностью признавалось некоторое влияние на язык. Однако никто не думал об основаниях этого и всерьез не задумывался о значении миметической способности, не говоря уже о ее истории. И, прежде всего, подобные рассуждения оставались теснейшим образом привязанными к привычной чувственной области подобия. В любом случае определенную роль при возникновении языка отводили подражанию, именуя его ономатопоэтическим началом. Если же язык — что бросается в глаза проницательному исследователю — не является конвенциональной системой знаков, то необходимо снова вернуться к мысли: каким образом они в своей наиболее примитивной форме предстают как основание для ономатопоэтического истолкования? Вопрос вот в чем: можно ли его развить и приспособить к более удачному пониманию проблемы?
Иными словами: остается интерпретировать смысл тезиса, который выдвигает Леонгард в своей любопытной работе «Слово»: «Каждое слово — и весь язык — являются ономатопоэтическими». Ключ, который собственно только и делает этот тезис полностью прозрачным, кроется в понятии нечувственного подобия. Ведь если мы расположим означающие одно и то же слова из различных языков вокруг некоего означаемого как их средоточия, то необходимо исследовать, каким образом все они — зачастую не имеющие между собой ни малейшего подобия — подобны означаемому, являющемуся их центром. Такое понимание, конечно, теснейшим образом сродни мистическим и теологическим теориям языка, хотя при этом не чуждо и эмпирической филологии. Сегодня, однако, известно, что мистические учения не удовлетворяются вовлечением устного слова в свое мыслительное пространство. Они должны совершенно в том же смысле вовлекать туда и письмо. И здесь следует обратить внимание на то, что мистические учения о языке, вероятно, еще лучше, чем определенные звукосочетания языка, проясняют сущность нечувственного подобия как отношение письменного образа слов или букв к означаемому или именующему элементу. Так, буква «бет» имеет имя некоего дома. Поэтому именно нечувственное подобие создает натяжение не только между произнесенным и подразумеваемым, но и между написанным и подразумеваемым, и точно так же между произнесенным и написанным. И всякий раз — совершенно новым, оригинальным и не из чего не выводимым образом.
Важнейшим из этих натяжений следует считать последний случай — натяжение между написанным и произнесенным. Ведь как раз властвующее здесь подобие является наиболее нечувственным. И это подобие было достигнуто позже остальных. А попытку представить себе подлинную сущность подобия едва ли можно предпринять без взгляда на историю его становления, сколь бы непроницаемой ни казалась завеса, которая распростерта над этой историей по сей день. Новейшая графология научила нас распознавать в почерках образы или, в сущности, картинки–загадки, которые скрыты глубоко в бессознательном пишущего. Необходимо предположить, что миметическая способность, которая находит выражение в деятельности пишущего, возникнув в весьма отдаленные времена в качестве почерка, имела громадное значение для письма. Итак, почерк, наряду с языком, стал архивом нечувственных подобий, нечувственных соответствий между микрокосмом и макрокосмом.
Эта, если угодно, магическая сторона языка, проявляющаяся в виде почерка, развивается, однако, не безотносительно к его другой, семиотической стороне. Все миметическое в языке, скорее, представляет собой некую обоснованную интенцию, которая может проявляться лишь в чем–то чуждом этой стороне, а именно — в семиотическом, в сообщающем элементе языка, как в его основе. Стало быть, состоящий из букв письменный текст служит основой, на которой только и может формироваться картинка–загадка. Итак, смысловая связь, «проглядывающая» сквозь звуки предложения, представляет собой основание, из которого только и может мгновенно быть услышано молниеносное подобие звучания. Однако так как это нечувственное подобие воздействует на чтение, то в этом глубинном слое открывается доступ к примечательному двойному смыслу слова «чтение» — как в профанном, так и в магическом значении. Школьник читает букварь, а астролог — будущее по звездам. В первой фразе чтение не отделяет друг от друга два своих компонента. А вот во второй фазе, где процесс становится отчетливым в обоих слоях, астролог считывает созвездие по положению звезд на небе; в то же время он вычитывает из него будущее или судьбу.
Если такое считывание по звездам, внутренностям животных, приметам в доисторические времена человечества было чтением как таковым, если оно в значительной степени образовало посредствующие звенья к новому чтению, чтению рунических знаков, то напрашивается предположение, что тот миметический талант, который прежде служил основой ясновидения, весьма постепенно, в тысячелетнем ходе развития, переместился в язык и письмо и создал себе в них наиболее полный архив нечувственных подобий. Таким образом, язык можно было бы считать наивысшим применением миметической способности: медиумом, куда без остатка влились прежние способности запоминания подобного, так что в результате язык представляет собой медиум, где предметы уже не соприкасаются друг с другом напрямую, как было прежде в сознании провидца или жреца, но где встречаются и взаимодействуют их сущности, их мимолетнейшие и тончайшие субстанции, даже ароматы. Иными словами: с течением истории ясновидение передало свои древние силы письму и языку.
Но темп, скорость чтения или письма, едва ли отделимую от этого процесса, можно было бы в таком случае уподобить усилию, дару делать дух сопричастным такой единице времени, в подобиях которой он будет мимолетно проблескивать из потока вещей, чтобы тотчас же погружаться в него вновь. Итак, профанное чтение—речь здесь будет идти отнюдь не о понимании — разделяет с этим магическим чтением еще и следующую черту: оно подчиняется необходимому темпу или, скорее, одному из критических моментов, которые читатель во что бы то ни стало не вправе забывать, если он не хочет остаться ни с чем.
Дар видеть подобия, каким обладаем мы, является не чем иным, как только слабым рудиментом прежнего огромного внутреннего устремления к тому, чтобы становиться подобным и соответственно вести себя. И бесследно исчезнувшая способность уподобляться выходила далеко за рамки узкого мира знаков, в котором мы пока еще в состоянии видеть подобие. То в человеческом наличном бытии, на что тысячелетия назад воздействовало положение звезд в момент рождения человека, вплеталось [в это бытие] на основе подобия.
Перевод И. Чубарова[111]
О миметической способности
Природа создает подобия. Вспомним хотя бы о мимикрии. Но высочайшая способность создавать подобия присуща человеку. Дар различать подобия, которым он наделен, является нечем иным, как рудиментом некогда мощного импульса: обрести подобие и в соответствии с этим вести себя. Возможно, человек не обладает ни одной значительной функцией, на которую не оказала бы решающее воздействие миметическая способность.
У этой способности есть своя история, притом как в филогенетическом, так и в онтогенетическом смысле. Онтогенетически ей научаются в игре. Детская игра сплошь пронизана миметическими способами поведения, и ее сфера отнюдь не ограничивается тем, что один человек подражает другому. Ребенок играет не только в продавца или учителя, но и в ветряную мельницу, и в железную дорогу. Какую, в сущности, пользу приносит ему такая тренировка миметической способности?
Ответ предполагает проникновение в филогенетический смысл миметической способности. Однако при этом недостаточно иметь в виду только то, что мы вкладываем в понятие подобия сейчас. Как известно, круг жизни, в котором в давние времена господствовал закон подобия, был всеобъемлющим; подобие царило как в микрокосме, так и в макрокосме. Подобные соответствия в природе приобретают же подлинную весомость только благодаря познанию того, что все они без исключения служат стимуляторами и возбудителями миметической способности, которая реагирует на них в человеке. При этом следует помнить, что ни миметические силы, ни миметические объекты или предметы на протяжении тысячелетий не остаются одними и теми же. Более того, надо признать, что дар создавать подобия, — например, в танце, что является его древнейшей функцией, — а, следовательно, и дар их различать, изменялись в ходе истории.
Вектор этого изменения очевидно задан нарастающим ослаблением миметической способности. Ибо, по–видимому, перцептивный мир современного человека от магических соответствий между микрокосмом и макрокосмом и от аналогий, которые были в ходу у древних народов, сохранил лишь незначительные остатки. Вопрос в том, идет ли при этом речь о распаде этой способности или о ее трансформации. В каком бы направлении это преобразование ни проходило, о нем можно — хотя бы косвенно — почерпнуть кое–какие сведения из астрологии.
Необходимо принципиально считаться с тем, что в более или менее отдаленном прошлом к процессам, подражание которым считалось возможным, причислялись и те, что происходили на небесах. В танце и в других культовых действах осуществлялось такое подражание, создавалось подобие. Если же миметический гений действительно был жизнеопределяющей силой древних людей, то нетрудно представить себе, что именно новорожденный считался обладающим этим даром во всей его полноте, особенно в полном своем сопряжении с образом космического бытия.
Ссылка на область астрологии может дать нам первую опорную точку для того, что следует разуметь под понятием нечувственного подобия. Правда, в нашем наличном бытии больше не обнаруживается того, что когда–то привело к возможности говорить о таком подобии и, прежде всего, пробуждать его. Однако и мы все же обладаем неким каноном, который позволяет несколько отчетливее прояснить, что же означает понятие нечувственного подобия. И таковым каноном является язык.
За миметической способностью с незапамятных времен признавалось некоторое влияние на язык. Однако это происходило не на принципиальных основаниях: при этом не думали о каком–то более глубоком смысле, не говоря уже об истории миметической способности. Прежде же всего подобные рассуждения были теснейшим образом привязаны к привычной, чувственной области подобия. В любом случае определенную роль при возникновении языка отводили подражанию, именуя его ономатопоэтическим началом. Если же язык, что совершенно очевидно, не является конвенциональной системой знаков, то необходимо снова вернуться к мысли: каким образом они в свой наиболее примитивной форме предстают как основание для ономатопоэтического истолкования? Вопрос вот в чем: можно ли его развить и приспособить к более удачному пониманию проблемы?
Как утверждали: «Каждое слово — и весь язык — являются ономатопоэтическими». Трудно уточнить хотя бы общий ход мыслей, который мог бы содержаться в этом положении. Между тем понятие нечувственного подобия позволяет нащупать определенный подход. Ведь если мы расположим означающие одно и то же слова из различных языков вокруг некоего означаемого как их средоточия, то необходимо исследовать, каким образом все они — зачастую не имеющие между собой ни малейшего подобия — подобны означаемому, являющемуся их центром. Однако этот вид подобия необходимо прояснить не только на примере слов, означающих в различных языках одно и то же. Да и рассуждения наши вообще нельзя ограничивать устным словом. Они должны в такой же степени касаться слова письменного. И здесь следует обратить внимание на то, что письменное слово — в большинстве случаев, вероятно, выразительнее, чем разговорное — проясняет сущность нечувственного подобия посредством отношения его шрифтового рисунка к означаемому. Коротко говоря, именно нечувственное подобие создает перекосы в отношениях не только между высказанным и подразумеваемым, но и между написанным и подразумеваемым, а также между высказанным и написанным.
Графология научила нас распознавать в почерках образы, скрытые в бессознательном пишущего. Следует предположить, что миметический процесс, который таким образом проявляется в деятельности пишущего, возникнув в более отдаленные времена в качестве почерка, имел чрезвычайно большое значение для письма. Итак, почерк, наряду с языком, стал архивом нечувственных подобий, нечувственных соответствий между микрокосмом и макрокосмом.
| Wie wundervoll sind diese Wesen, | Как чудесны эти существа, |
| Die, was nicht deutbar, dennoch | Которые все–таки толкуют |
| deuten, | непонятное, |
| Was nie geschrieben wurde, lesen, | Читают то, что не было |
| Verworrenes beherrschend binden | написано, |
| Und Wege noch im Ewig–Dunkeln | Властно связывают |
| finden. | запутанное, |
| «Der Tor und der Tod» | И находят пути сквозь вечную |
| von Hugo von Hofmannsthal | тьму. |
| «Глупец и смерть», | |
| Г. фон Гофмансталь. |
Эта сторона языка — почерк — не существует изолированно от другой — от семиотической стороны. Скорее, все миметическое в языке может проявляться, подобно пламени, только при наличии некоего носителя. Этот носитель и есть семиотическое начало. Поэтому смысловая связь слов или предложений представляет собой тот носитель, в котором только и — молниеносно — проявляется подобие. Ибо и порождение подобия, и его восприятие человеком во многих и притом важнейших случаях связывались со вспышкой. Промелькнув, она бесследно исчезает. Нет ничего невероятного в том, что быстрота письма и чтения увеличивает слияние семиотического и миметического в сфере языка.
«Что не написано, читают». Это чтение — древнейшее из всех: чтение прежде всех языков, чтение по внутренностям животных, расположению звезд и фигурам танца. Позднее, как опосредствующее звено нового чтения, вошли в употребление руны и иероглифы. Напрашивается предположение, что таковы были этапы, пройдя которые, миметический дар, каковой некогда послужил основой оккультной практики, вошел в письмо и язык. Таким образом, язык можно считать высшей ступенью миметического поведения и наиболее полным архивом нечувственных подобий: это медиум, в который вошли без остатка все прежние силы миметического порождения и восприятия, проникнув настолько глубоко, что ликвидировали наконец силы магии.
Benjamin, W. Über das mimetische Vermögen // Gesammelte Schriften, Hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a. M. 1991. Bd. II/1. S. 210–213.
Учение о подобии; О миметической способности
Обе работы представляют собой сильно отличающиеся друг от друга варианты одного и того же — в тематическом смысле — произведения; то есть они не соотносятся между собой как более ранний и более поздний, исправленный вариант одного текста (или, в любом случае, их соотношение не только таково). Более поздний вариант является переработкой более раннего не только в стилистических, но и в определенных содержательных аспектах: имеется в виду не только отход на задний план оккультных мотивов и мотивов языковой мистики, до известной степени неприкрыто определяющих лейтмотив первого варианта, — по сравнению с аспектами миметическо–натуралистической языковой теории во втором варианте. Насколько опасения, касающиеся адресатов этой работы, «главным образом» послужили причиной для ее переработки, — как предполагает Шолем, написавший в письме к ответственным редакторам издания, будто Беньямин «хотел слегка затемнить содержание работы, отправив ее конспект друзьям» (примечание, S. 1; рукопись в архиве Беньямина), — остается непроясненным. Гораздо более верным представляется более позднее суждение Шолема, когда он говорит о «лике Януса», проявляющемся в теоретических усилиях Беньямина, то есть как раз в том, что относится к его рассуждениям в области языковой теории, ни с какой стороны не ограничивающим с позиций редукционизма сложность вопроса: «Очевидно, он разрывался между симпатией к мистической языковой теории и столь же сильно ощущавшейся необходимостью побороть эту симпатию в связи с его марксистским мировоззрением» (Scholem, G. Walter Benjamin — die Geschichte einer Freundschaft, a. a. О., S. 260). И такая двуликость Януса возникла у Беньямина отнюдь не из–за какой–то симпатии или антипатии, но в силу объективного давления. «То, о чем я […] не знал в годы [написания книги о барокко], вскоре для меня стало обретать все большую ясность: моя чрезвычайно особенная точка зрения с позиций философии языка представляет собой (пусть даже чрезвычайно напряженное и проблематичное) опосредование, ведущее к рассмотрению с позиций диалектического материализма» (Briefe, S. 523).
Время возникновения обоих вариантов работы установлено с некоторой степенью точности. «Учение о подобии» написано в Берлине в начале установления гитлеровской диктатуры, скорее всего, позднее января 1933 г. В конце февраля Беньямин писал из Берлина Шолему: «Когда меня не приковывает к себе увлекательный мир Лихтенберга, я обращаюсь к проблеме, связанной со следующими месяцами, не зная, как мне их пережить, будь то в Германии, будь то за ее пределами. Существуют места обитания, где я могу обойтись минимальными заработками, и другие, где я могу обойтись минимальными потребностями, но нет ни одного, где совпадали бы оба этих условия. Если же я тебе еще сообщаю, что при таких обстоятельствах все–таки возникла новая — занимающая четыре рукописных страницы — теория, то ты не откажешь в том, чтобы засвидетельствовать мне почтение. Я не собираюсь отдавать упомянутые страницы в печать и даже напечатать их на машинке, пока не представляется мне столь уж необходимым. Замечу лишь, что эта теория фигурирует в эскизах к первым наброскам «Берлинского детства» [«Рождественский ангел»? «Тиргартен»? см.: Bd. 4. S. 965,971] (Briefe, S. 563). В середине марта Беньямин покинул Германию — «Чрезвычайную спешку рекомендовал здесь […] именно чистый разум», — а спустя неделю, находясь в Париже и «располагая свободой», он написал Шолему; письмо заканчивается вопросом: «Не писал ли я тебе, что в Берлине я завершил совсем небольшую и, вероятно, странную работу о языке — вполне пригодную для того, чтобы украсить твой архив? [абзац] Отвечай по возможности скорее […]» (Briefe, S. 566,567). На Ибице, где Беньямин провел лето, он вроде бы уверился в необходимости «напечатать работу на машинке»; уже 19 апреля он писал оттуда Шолему: «Работу о языке я перепишу для тебя. Сколь бы краткой она ни получилась, я крепко пришпорю сложнейшие раздумья и мысли, записывая их, и пройдет несколько недель, как ты будешь обладать этими двумя–тремя листочками». (Briefe, S. 572 f.) Однако впоследствии Беньямин стал не просто переписывать, но перерабатывать статью, что растянулось на много недель. Поэтому можно предположить, что этот момент стал началом — по крайней мере, запланированным — работы над эссе «О миметической способности», — хотя едва ли уже тогда был записан его второй вариант (хотя бы в виде первого наброска), как можно было бы предположить из указания на два–три листочка; эти листочки как будто бы, скорее, представляют собой те четыре странички машинописи, о которых речь идет в берлинском письме и которые фактически составляют рукопись, озаглавленную «Учение о подобии» (см. «Сведения о тексте»). Итак, четыре недели спустя Беньямин писал следующее: «Теперь одно слово, из–за которого твой лоб избороздят морщины. Но сказать его все–таки следует. При более пристальном раздумье о предприятии, состоящем в том, чтобы послать тебе мои новые заметки о языке, я понял, что этот и без того отчаянный замысел окажется для меня выполнимым лишь в случае, если я предварительно смогу провести сравнение этих заметок с заметками «О языке вообще и о языке человека» [S. 140–157]. Однако сейчас они, как и остальные мои берлинские бумаги, конечно, для меня недосягаемы. С другой стороны, я знаю, что у тебя есть список с них. Поэтому я настоятельно прошу тебя по возможности скорее выслать их заказным письмом на мой здешний адрес. Не теряй времени; тем скорее ты получишь мои новые заметки» (Briefe, S. 575). Поскольку Шолем, видимо, не торопился с присылкой, в середине июня Беньямин обратился к нему с просьбой еще раз: «[Возвращаюсь] к моему последнему письму, чтобы сообщить тебе, как сильно я надеюсь на то, что уже очень скоро смогу располагать твоим экземпляром работы о языке, чтобы, просмотрев ее, записать мое новое эссе и передать его тебе» (Briefe, S. 577). Спустя немного времени этот экземпляр, должно быть, дошел до Бенья– мина, что явствует из недатированного им письма, представляющего собой ответ на письмо Гретель Адорно от 17 июня: «Ближайшие дни […] посвящены сравнительному редактированию двух работ, отстоящих друг от друга на двадцать лет [о временном интервале см. S. 933]. Я раздобыл экземпляр своей первой работы о языке «О языке вообще и о языке человека» и хочу посмотреть, как она соотносится с рассуждениями, которые я записал в начале этого года [то есть «Учение о подобии»]. Эту работу [а именно в новой форме озаглавленную «О миметической способности»] с большим нетерпением ждут в Иерусалиме, и поэтому у меня немного щемит сердце (без даты [приблизительно в конце июня/начале июля 1933 г.], адресовано Гретель Адорно). Однако теперь Беньямин вроде бы запаздывает, так как в конце июня он просит извинения «за то, что причитающиеся тебе заметки о языке по–прежнему находятся у меня». Дело в том, что «что–то не в порядке […]. Я болен […] примерно уже две недели. А поскольку приступ (самого по себе незначительного) недуга [как выяснилось по возвращении осенью в Париж, приступ малярии; см. Briefe, S. 593] совпал с июльской жарой и в столь тяжелых обстоятельствах мне пришлось бы приложить колоссальные усилия для того, чтобы одолеть работу хотя бы наполовину […]. Тебе придется […] подождать еще немного […], чтобы получить заметки о языке […]» (Briefe, S. 588 ff.). За несколько недель до начала сентября Беньямин, продолжая болеть, справился с работой «О миметической способности». Это явствует из письма, написанного им Шолему по возвращении из Парижа в середине октября. «С некоторым неудобным чувством я все еще ожидаю подтверждения о получении заметок о языке, которые я направил тебе в машинописном варианте. Ты, вероятно, должен был получить их вскоре после 19 сентября, даты твоего последнего письма» (Briefe, S. 593 f.). Молчание Шолема продлится свыше четырех лет. О том, сколь значительным было удивление Беньямина по поводу отсутствия реакции, свидетельствует написанное двумя годами позже и неотправленное письмо к Гретель Адорно: «[Я] сердечно благодарю тебя за присылку психоаналитического альманаха [Almanach der Psychoanalyse, Wien 1934] […] Я очень надеюсь, что ты прочла статью Фрейда о телепатии и психоанализе [Psychoanalyse und Telepathie, а. а. О.] Она чудесна, хотя бы потому, что в ней вновь предстает недостаточно почитаемый старомодный стиль автора — один из прекраснейших примеров подлинной общепонятности. Но я имею в виду нечто особенное. А именно в ходе своих рассуждений Фрейд — мимоходом, как он частенько высказывает величайшие мысли, — конструирует взаимосвязь между телепатией и языком, когда он объявляет первую, являющуюся средством взаимопонимания, — для объяснения он ссылается на государство насекомых, — предшественницей последнего в филогенетическом плане [см. а. а. О., 32 f.]. Здесь я вновь натолкнулся на мысль, которая была решительным образом рассмотрена в небольшом наброске с Ибицы: «О миметической способности». Я не могу описывать ее тебе подробнее, и, вероятно, при нашей последней встрече я ничего не рассказал тебе об этом важном фрагменте — правда, я в этом не уверен. Я послал эти наброски Шолему, который питает давний, «исконный» интерес к моим заметкам по теории языка, однако он, к моему удивлению, не проявил ни малейшего понимания их. Поэтому статья Фрейда в твоем альманахе стала для меня настоящим подарком. Спасибо!» (9. 10. 1935, к Гретель Адорно). Спустя две недели, в связи с «получением главы из книги «Зогар» [то есть шолемовского перевода «Тайн творения, главы из книги «Зогар», Berlin 1935, который Беньямин хвалит как «образцовое достижение, выходящее за пределы данной материи»], он писал из Парижа: «Тебя [то есть Шолема], как я надеюсь, не поразит, если ты услышишь от меня, что эта материя до сих пор мне очень близка, даже если ты, пожалуй, не в том смысле понял небольшую программу, в которой эти мысли оказались запечатлены на Ибице — заметки «О миметической способности». Как бы там ни было, разработанное там понятие нечувственного подобия находит многочисленные иллюстрации в том способе, каким автор «Зогара» воспринимает звукосочетания и, пожалуй, еще больше — письменные знаки как седиментацию мировых взаимосвязей. Правда, он вроде бы думает о соответствии, не восходящем ни к какому миметическому истоку. Это зависит от связи его теории с учением об эманации, по отношению к которому моя теория мимесиса находится фактически в состоянии сильнейшего антагонизма» (Briefe, S. 693 f.). Кажется, будто недоразумения вызвала и вторая работа Беньямина о языке, сводный реферат «Проблемы социологии языка» (см.: Bd. 3,452–480); они дали ему повод указать на связь этой работы с его «собственной теорией языка», нашедшей недавнее выражение в работе «О миметической способности». Так, в письме к Вернеру Крафту, написанном в начале 1936 г., читаем: «К Вашей заметке о моем реферате по теории языка (этому реферату границы предписаны его формой): в нем нет предубеждений относительно «метафизики» языка. И он — хотя это и не лежит на поверхности — устроен мною так, что приводит как раз к тому месту, где начинается моя языковая теория, которую я несколько лет назад записал на Ибице. Я был весьма поражен, когда обнаружил значительные переклички между этой теорией и эссе Фрейда […]» (Briefe, S. 705). Первое свидание после долгих лет разлуки — состоявшееся в феврале 1938 г. в Париже — наконец–то предоставило возможность объясниться с Шолемом по поводу упомянутой работы. Последний пишет в сообщении о парижской встрече: «Мы провели интенсивные беседы о его работе и при этом, конечно, о предметах, которые в наших письмах не затрагивались. Так, его заметка по философии языка «[О] миметической способности», которой он очень дорожил и в связи с которой он неоднократно жаловался об отсутствии моей реакции, прояснилась для меня и была мною осмыслена только в этой беседе» (Scholem, а. а. О., 255 f.). В продолжение этих разговоров «я полностью осознал поляризацию в его воззрениях на язык. Ибо ликвидация языковой магии, соответствующая материалистическим воззрениям на язык, несомненно, находилась в напряженных отношениях ко всем его более ранним, находящимся под знаком мистических инспираций размышлениям о языке, которые он все еще сохранял или, соответственно, продолжал развивать в других прочитанных мною тогда заметках, а также в заметке о языковой способности. То, что я ни разу не слышал из его уст ни одного атеистического тезиса, было для меня […], конечно, не причиной для удивления, однако меня, пожалуй, ошеломило, что он все еще мог говорить о «Слове Божьем», отличая его от человеческого слова и совершенно не метафорически называя его основой всякой теории языка. Различие между словом и именем, которое он двадцатью годами раньше положил в основу работы о языке 1916 г. [см. Б. 140–157] и продолжал развивать в предисловии к книге о немецкой народной драме [см.: В<1.1. Б. 406–409], было для него еще живо, и в заметках о миметической способности все еще не было ни малейшего намека о материалистическом воззрении на язык. Наоборот, материя выступала здесь лишь в сугубо магической связи». Затем следует процитированный выше абзац о противоречиях, которые Беньямин здесь пытался примирить и которые заметили ответственные редакторы данного издания в обоих вариантах заметок по теории мимесиса. «Я обратился к нему, — продолжает Шолем по поводу этих противоречий, — и он признал их без обиняков. Речь–де идет о задаче, с которой он не справился, но от которой можно ожидать великих откровений» (Scobplet, а. а. О., 2591.).
Относительно предыстории «Учения о подобии» Шолем сообщает: «Особенно часто между серединой июня и серединой августа [1918 г., во время пребывания Шолема в Берне] мы часто говорили о мире мифа и […] предавались умозрительным рассуждениям о космогонии и древности человечества». «Тогда мы, пожалуй, оказали особенно сильное влияние друг на друга. Он прочитал мне довольно длинную работу о сновидениях и ясновидении, в которой он также пытался сформулировать законы, господствовавшие в призрачном мире домифического. Он различал две исторические эпохи, эпоху призрачного и эпоху демонического, предшествовавшие эпохе откровения —я предложил называть последнюю, скорее, мессианской. Подлинным содержанием мифа является грандиозная революция, которой завершилась борьба с закончившейся эпохой призрачного. Уже тогда его занимали мысли о восприятии как о чтении конфигураций плоскости, в виде которой первобытный человек воспринимал окружавший его мир и, в особенности, небо. Здесь располагалось ядро рассмотрений, предпринятых им четырьмя годами позже в заметке «Учение о подобии».
Возникновение созвездий как конфигураций на небесной поверхности, как утверждал он, и стало началом чтения и письма, причем начало последнего совпадает с формированием мифической эпохи. Созвездия, согласно Беньямину, являются по отношению к мифическому миру тем же, чем впоследствии стало откровение Священного Писания (а. а. О., 79 £). Поводом для написания заметки могло тогда стать прочтение в конце октября 1932 г. брошюры, которую он настоятельно рекомендовал Шолему и характеризовал так: Это «небольшое исследование по философии языка — в котором, к сожалению, полностью отсутствует теоретическая фундированность — все– таки предоставляет необыкновенно много материала к размышлению. Оно написано пока еще совершенно неизвестным литератором Рудолъфом Леонгардом и называется «Слово»[112]. Речь здесь идет об ономатопоэтической теории слова, проясненной на примерах (25.10. 1932, письмо к Гершому Шолему; а. а. О., 239). Первое — посмертное —опубликование «Учения о подобии» состоялось в сборнике: Zur Aktualität Walter Benjamins. Aus Anlaß des 80. Geburtstags, hg. von Siegfried Unseld, Frankfurt a. M. 1971. S. 17–21 (факсимиле); S. 23–30; опубликование работы «О миметической способности»: Schriften. Frankfurt а. M., 1955, Bd. 1. S. 507–510.
В добавление к тематическому комплексу обоих вариантов работы в архиве автора обнаружились пять более или менее обширных заметок, из которых три можно датировать 1935 г., а две остальные могли быть написаны в 1933 г. 1. «Момент рождения […]», пожалуй, наиболее ранняя заметка; 2. Ссылка на Валери и примечание к Хайнцу Вернеру датируются 1933 годом; 3. «К миметической способности» Шолем датирует 1935 г.; 4. «По поводу языка и мимесиса», отрывок из статьи Фрейда, может датироваться октябрем 1935 г.; 5. «Орнамент […]» Шолем датирует примерно 1935 г. Эти заметки приводятся ниже:
Момент рождения — решающий с астрологической точки зрения — представляет собой мгновение. Это направляет взгляд на другую особенность в области подобия. Как бы там ни было, восприятие такого подобия напоминает вспышку. Оно проносится мимо, вероятно, его можно восстановить, но едва ли его можно включить в память неподвижно и зафиксировать. Оно предстает взгляду столь же мимолетно, как созвездие. Однако родиной его существования является язык, который в стремительно затухающем звучании его слов заклинает это наиболее стремительное и мимолетное творение: подобие.
Подражание может быть волшебным действием; однако в то же время подражающий расколдовывает природу, когда приближает ее к языку. Однако приближение ее к языку— существенная функция комизма. Смех — это хаос артикуляции.
Итак, восприятие подобий представляет собой поздний и производный способ поведения. Ведь изначально дано такое схватывание подобий, которое свершается в акте становления подобным. Подобия между двумя объектами всегда передаются с помощью сходства, которое человек обнаруживает в себе между ними обоими или которое он предполагает как сходство с обоими. Совершенно ясно: это не исключает того, что объективно наличествуют какие–то указания к такому поведению. Объективное наличие таких указаний даже определяет подлинный смысл подобия.
Астрология — это поздняя теория, которая, к тому же, занимает искаженное положение по отношению к той ранней практике, чьи данные она интерпретирует произвольно и зачастую ошибочно. Речь идет не о влиянии звезд и не о каких–то силах, но об архаической способности человека уподоблять себя положению звезд в определенный час. Это час рождения; к нему может добавиться и первый, имеющий несравненно более значительные последствия акт приспособления, приспособления к космосу в целом посредством приравнивания к нему. Миметическая способность человека все более переносилась на язык и приобретала все более утонченные формы.
Линия развития языка: разделение между магической и профанной функцией языка ликвидируется в пользу последней. Священное располагается ближе к профанному, чем к магическому. Ориентация на язык, очищенный от всех магических элементов: Шеербарт, Брехт.
Оригинал: Архив Бенъямина, Ms 926.
Вклад в учение о миметической способности в эссе Валери «Душа и танец» [L’Ame et la Danse. Paris, 1923].
В работе [Хайнца] Вернера «Языковая физиогномика» [Grundfragen der Sprachphysiognomik. Leipzig, 1932] отсутствуют сведения о подопытных лицах. Из какой среды они происходят? Разумеется, интеллектуально неподготовленные люди мало что дают для таких экспериментов, так как последние требуют высокой техники самонаблюдения. С другой стороны, предмет таков, что от этих людей трудно отказаться. Следует узнавать как раз реакцию простых людей из народа, а также детей.
То, что сова Минервы вылетает только в сумерки подтверждается и в книге Вернера. Эта книга подводит ближе, чем прежние, к истокам лирической поэзии в сфере языка — и происходит это как раз в то время, когда сама лирическая поэзия начинает умолкать.
Вернер описывает феномен в его разветвлениях, но объяснения не дает. И, прежде всего, согласно его описанию, вполне возможно понимать это исследование в целом как психологическое. И амбивалентное акцентирование «субъективности», «творческого характера» толкований даже наводит на мысль о такой интерпретации. В противовес этому историческая проблема не получает здесь того, что причитается ей по праву. И все–таки само замечание о том, что относящиеся сюда явления особенно ярко проявляются в примитивных языках, должно привести к исследованию изначальных взаимосвязей, наложивших отпечаток на физиогномический характер языка. Кроме того, напрашивается мысль о сродстве между поведением языкового физиономиста с весьма архаическими способами поведения или формирования представлений. Глава о парадоксальной в предметнологическом смысле природе истолкований содержит много примеров этого.
Оригинал: Архив Бенъямина, Ms 930.
Орнамент близок к танцу. Его можно сравнить с учебным курсом по производству подобий. (Здесь следовало бы упомянуть работу [Вильгельма] Воррингера «Абстракция и вчувствование» [«Abstraktion und Einfühlung», 1911].) С другой стороны, при истолковании танца не следует упускать из виду его динамическую сторону— перенос энергии на оружие, на орудия труда, на духов. Вероятно, это истолкование поведения должно вступать в диалектические отношения с миметическим способом поведения танцора.
Другой канон подобия — тотем. В частности запрет на создание изображений у евреев, вероятно, связан с тотемизмом.
Оригинал: Архив Бенъямина, Мб 927
«Если только привыкнуть к представлению о телепатии, то с ее помощью можно многое передать, хотя пока только в фантазии. Как известно, мы не знаем, как действует общая воля в гигантских государствах насекомых. Возможно, это происходит с помощью такого непосредственного психического переноса. Мы подходим к догадке, что таким был изначальный, архаический способ достижения взаимопонимания между индивидами, который в ходе филогенетического развития оказался вытесненным знаками, воспринимаемыми органами чувств. Но и прежний метод может сохраняться на заднем плане и при определенных условиях еще действовать, например, в массах, возбужденных страстью. Все это пока еще неопределенно, однако это не причина для страха». Sigm. Freud: Zum Problem der Telepathie (Almanach der Psychoanalyse 1934. Wien. P. 32–33).
Оригинал: Архив Бенъямина, Ms 928
Орнамент — образец миметической способности. Эта абстракция представляет собой высшую школу вчувствования.
Существуют ли взаимосвязи между ощущениями ауры и опытом астрологии [?] Есть ли земные живые существа, а также вещи, которые оглядываются на нас со звезд? И которые в полном смысле открывают глаза только на небе? Являются ли звезды с их взглядом издали прафеноменом ауры?
Можем ли мы предположить, что взгляд был первым наставником миметической способности? Что первое уподобление происходит со взглядом? Можем ли мы, наконец, замкнуть круг предположением, что созвездия причастны возникновению орнамента? Что орнамент удерживает взгляды звезд?
В этой связи можно предположить существование некоей полярности центров миметического поведения у человека. Они сдвигаются от глаз к губам, окольным путем проходя через все тело. Этот процесс мог бы включать в себя преодоление мифа.
Оригинал: Архив Беньямина, Ms 931
Перевод И. Чубарова под ред. Б. Скуратова
Дерево и речь
ich stieg eine Böschung hinan und legte mich unter einen Baum. Der Baum war eine Pappel oder eine Erle. Warum ich seine Gattung nicht behalten habe? Weil, während ich ins Laubwerk sah und seiner Bewegung folgte, mit einmal in mir die Sprache dergestalt von ihm ergriffen wurde, daß sie augenblicklich die uralte Vermählung mit dem Baum in meinem Beisein noch einmal vollzog. Die Äste und mit ihnen auch der Wipfel wogen sich erwägend oder bogen sich ablehnend; die Zweige zeigten sich zuneigend oder hochfahrend; das Laub sträubte sich gegen einen rauhen Luftzug, erschauerte vor ihm oder kam ihm entgegen; der Stamm verfügte über seinen guten Grund, auf dem er fußte; und ein Blatt warf seinen Schatten auf das andre. Ein leiser Wind spielte zur Hochzeit auf und trug alsbald die schnell entsprossenen Kinder dieses Betts als Bilderrede unter alle Welt.
Я поднялся по откосу и прилег под деревом. Это была ольха, а может быть и тополь. Почему я не запомнил, какого рода оно было, это дерево? Потому что, всматриваясь в крону и следя взглядом за ее движениями, я почувствовал: слова мои сразу оказались в плену, они в одно мгновение в моем присутствии снова вступили в древний брачный союз с деревом. Большие ветви дерева и его верхушка вздымались, словно размышляя над чем–то, или клонились долу, словно говоря кому–то «нет»; веточки благосклонно склонялись вниз или заносчиво торчали вверх; листва трепетала под сильным движением воздуха, пугалась его или устремлялась ему навстречу; ствол имел хорошее основание, на котором покоился; и каждый листок бросал тень на своего соседа. Тихое дуновение ветерка возвестило о свадебном торжестве и вскоре разнесло по всему миру мгновенно народившихся детей этого ложа — плоды брачного союза образа и речи.
Из цикла «Короткие тени» (1933)
Перевод Л. Белобратова[113
Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости
Становление искусств и практическая фиксация их видов происходили в эпоху, существенно отличавшуюся от нашей, и осуществлялись людьми, чья власть над вещами была незначительна в сравнении с той, которой обладаем мы.
Однако удивительный рост наших технических возможностей, приобретенные ими гибкость и точность позволяют утверждать, что в скором будущем в древней индустрии прекрасного произойдут глубочайшие изменения.
Во всех искусствах есть физическая часть, которую уже нельзя больше рассматривать и которой нельзя больше пользоваться так, как раньше; она больше не может находиться вне влияния современной теоретической и практической деятельности. Ни вещество, ни пространство, ни время в последние двадцать лет не остались тем, чем они были всегда. Нужно быть готовым к тому, что столь значительные новшества преобразят всю технику искусств, оказывая тем самым влияние на сам процесс творчества и, возможно, даже изменят чудесным образом само понятие искусства.
Paul Valéry: Pièces sur Part. P 103–104 («La conquête de P ubiquité»)
Когда Маркс принялся за анализ капиталистического способа производства, этот способ производства переживал свою начальную стадию. Маркс организовал свою работу так, что она приобрела прогностическое значение. Он обратился к основным условиям капиталистического производства и представил их таким образом, что по ним можно было увидеть, на что будет способен капитализм в дальнейшем. Оказалось, что он не только породит все более жесткую эксплуатацию пролетариев, но и в конце концов создаст условия, благодаря которым окажется возможной ликвидация его самого.
Преобразование надстройки происходит гораздо медленнее, чем преобразование базиса, поэтому потребовалось более полувека, чтобы изменения в структуре производства нашли отражение во всех областях культуры. О том, каким образом это происходило, можно судить только сейчас. Этот анализ должен отвечать определенным прогностическим требованиям. Но этим требованиям соответствуют не столько тезисы о том, каким будет пролетарское искусство после того, как пролетариат придет к власти, не говоря уже о бесклассовом обществе, сколько положения, касающиеся тенденций развития искусства в условиях существующих производственных отношений. Их диалектика проявляется в надстройке не менее ясно, чем в экономике. Поэтому было бы ошибкой недооценивать значение этих тезисов для политической борьбы. Они отбрасывают ряд устаревших понятий—таких как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, — неконтролируемое использование которых (а в настоящее время контроль осуществим с трудом) ведет к интерпретации фактов в фашистском духе. Вводимые далее в теорию искусства новые понятия отличаются от более привычных тем, что использовать их для фашистских целей совершенно невозможно. Однако они пригодны для формулирования революционных требований в культурной политике.
Произведение искусства в принципе всегда поддавалось воспроизведению. То, что было создано людьми, всегда могло быть повторено другими. Подобным копированием занимались ученики для совершенствования мастерства, мастера — для более широкого распространения своих произведений, наконец третьи лица с целью наживы. По сравнению с этой деятельностью техническое репродуцирование произведения искусства представляет собой новое явление, которое, пусть и не непрерывно, а разделенными большими временными интервалами рывками, приобретает все большее историческое значение. Греки знали лишь два способа технического воспроизведения произведений искусства: литье и штамповка. Бронзовые статуи, терракотовые фигурки и монеты были единственными произведениями искусства, которые они могли тиражировать. Все прочие были уникальны и не поддавались техническому репродуцированию. С появлением гравюры на дереве впервые стала технически репродуцируема графика; прошло еще достаточно долгое время, прежде чем благодаря появлению книгопечатания то же самое стало возможно и для текстов. Те огромные изменения, которые вызвало в литературе книгопечатание, т. е. техническая возможность воспроизведения текста, известны. Однако они составляют лишь один частный, хотя и особенно важный случай того явления, которое рассматривается здесь во всемирно–историческом масштабе. К гравюре на дереве в течение Средних веков добавляются гравюра резцом на меди и офорт, а в начале XIX века — литография. С появлением литографии репродукционная техника поднимается на принципиально новую ступень. Гораздо более простой способ перевода рисунка на камень, отличающий литографию от вырезания изображения на дереве или его травления на металлической пластинке, впервые дал графике возможность выходить на рынок не только достаточно большими тиражами (как до того), но и ежедневно варьируя изображение. Благодаря литографии графика смогла стать иллюстративной спутницей повседневных событий. Она начала идти в ногу с типографской техникой. В этом отношении литографию уже несколько десятилетий спустя обошла фотография. Фотография впервые освободила руку в процессе художественной репродукции от важнейших творческих обязанностей, которые отныне перешли к устремленному в объектив глазу. Поскольку глаз схватывает быстрее, чем рисует рука, процесс репродукции получил такое мощное ускорение, что уже мог поспевать за устной речью. Кинооператор фиксирует во время съемок в студии события с той же скоростью, с которой говорит актер. Если литография несла в себе потенциальную возможность иллюстрированной газеты, то появление фотографии означало возможность звукового кино. К решению задачи технического звуковоспроизведения приступили в конце прошлого века. Эти сходящиеся усилия позволили прогнозировать ситуацию, которую Валери охарактеризовал фразой: «Подобно тому как вода, газ и электричество, повинуясь почти незаметному движению руки, приходят издалека в наш дом, чтобы служить нам, так и зрительные и звуковые образы будут доставляться нам, появляясь и исчезая по велению незначительного движения, почти что знака»[114]. На рубеже ХIX и ХХ веков средства технической репродукции достигли уровня, находясь на котором они не только начали превращать в свой объект всю совокупность имеющихся произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их воздействие на публику, но и заняли самостоятельное место среди видов художественной деятельности. Для изучения достигнутого уровня нет ничего плодотворнее анализа того, каким образом два характерных для него явления — художественная репродукция и киноискусство — оказывают обратное воздействие на искусство в его традиционной форме.
Даже в самой совершенной репродукции отсутствует один момент: здесь и сейчас произведения искусства — его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникальности и ни на чем ином держалась история, в которую произведение было вовлечено в своем бытовании. Сюда включаются как изменения, которые с течением времени претерпевала его физическая структура, так и смена имущественных отношений, в которые оно оказывалось вовлеченным[115]. Следы физических изменений можно обнаружить только с помощью химического или физического анализа, который не может быть применен к репродукции; что же касается следов второго рода, то они являются предметом традиции, в изучении которой за исходную точку следует принимать место нахождения оригинала.
Здесь и сейчас оригинала определяют понятие его подлинности. Химический анализ патины бронзовой скульптуры может быть полезен для определения ее подлинности; соответственно свидетельство, что определенная средневековая рукопись происходит из собрания XV века, может быть полезно для определения ее подлинности. Все, что связано с подлинностью, недоступно технической — и, разумеется, не только технической — репродукции[116]. Но если по отношению к ручной репродукции — которая квалифицируется в этом случае как подделка — подлинность сохраняет свой авторитет, то по отношению к технической репродукции этого не происходит. Причина тому двоякая. Во–первых, техническая репродукция оказывается более самостоятельной по отношению к оригиналу, чем ручная. Если речь идет, например, о фотографии, то она в состоянии высветить такие оптические аспекты оригинала, которые доступны только произвольно меняющему свое положение в пространстве объективу, но не человеческому глазу, или может с помощью определенных методов, таких как увеличение или ускоренная съемка, зафиксировать изображения, просто недоступные обычному взгляду. Это первое. И к тому же — и это во–вторых — она может перенести подобие оригинала в ситуацию, для самого оригинала недоступную. Прежде всего она позволяет оригиналу сделать движение навстречу публике, будь то в виде фотографии, будь то в виде граммофонной пластинки. Собор покидает площадь, на которой он находится, чтобы попасть в кабинет ценителя искусства; хоровое произведение, прозвучавшее в зале или под открытым небом, можно прослушать в комнате.
Обстоятельства, в которые может быть помещена техническая репродукция произведения искусства, даже если и не затрагивают во всем остальном качеств произведения — в любом случае они обесценивают его здесь и сейчас. Хотя это касается не только произведений искусства, но и, например, пейзажа, проплывающего в кино перед глазами зрителя, однако в предмете искусства этот процесс поражает его наиболее чувствительную сердцевину, ничего похожего по уязвимости у природных предметов нет. Это его подлинность. Подлинность какой–либо вещи — это совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения, от своего материального возраста до исторической ценности. Поскольку первое составляет основу второго, то в репродукции, где материальный возраст становится неуловимым, поколебленной оказывается и историческая ценность. И хотя затронута только она, поколебленным оказывается и авторитет вещи[117][118].
То, что при этом исчезает, может быть суммировано с помощью понятия ауры: в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение выходит за пределы области искусства. Репродукционная техника, так можно было бы выразить это в общем виде, выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым. А позволяя репродукции приближаться к воспринимающему ее человеку, где бы он ни находился, она актуализирует репродуцируемый предмет. Оба эти процесса вызывают глубокое потрясение традиционных ценностей — потрясение самой традиции, представляющее обратную сторону переживаемого человечеством в настоящее время кризиса и обновления. Они находятся в теснейшей связи с массовыми движениями наших дней. Их наиболее могущественным представителем является кино. Его общественное значение даже и в его наиболее позитивном проявлении, и именно в нем, не мыслимо без этой деструктивной, вызывающей катарсис составляющей: ликвидации традиционной ценности в составе культурного наследия. Это явление наиболее очевидно в больших исторических фильмах. Оно все больше расширяет свою сферу. И когда Абель Ганс[119] в 1927 году с энтузиазмом восклицал: «Шекспир, Рембрандт, Бетховен будут снимать кино… Все легенды, все мифологии, все религиозные деятели да и все религии… ждут экранного воскрешения, и герои нетерпеливо толпятся у дверей»[120], он — очевидно, сам того не сознавая, — приглашал к массовой ликвидации.
В течение значительных исторических временных периодов вместе с общим образом жизни человеческой общности меняется также и чувственное восприятие человека. Способ и образ организации чувственного восприятия человека — средства, которыми оно обеспечивается — обусловлены не только природными, но и историческими факторами. Эпоха великого переселения народов, в которую возникла позднеримская художественная индустрия и миниатюры венской книги Бытия, породила не только иное, нежели в античности, искусство, но и иное восприятие. Ученым венской школы Риглю и Викхофу[121], сдвинувшим махину классической традиции, под которой было погребено это искусство, впервые пришла в голову мысль воссоздать по нему структуру восприятия человека того времени. Как ни велико было значение их исследований, ограниченность их заключалась в том, что ученые посчитали достаточным выявить формальные черты, характерные для восприятия в позднеримскую эпоху. Они не пытались — и, возможно, не могли считать это возможным — показать общественные преобразования, которые нашли выражение в этом изменении восприятия. Что же касается современности, то здесь условия для подобного открытия более благоприятны. И если изменения в способах восприятия, свидетелями которых мы являемся, могут быть поняты как распад ауры, то существует возможность выявления общественных условий этого процесса.
Было бы полезно проиллюстрировать предложенное выше для исторических объектов понятие ауры с помощью понятия ауры природных объектов. Эту ауру можно определить как уникальное ощущение дали, как бы близок при этом предмет ни был. Скользить взглядом во время летнего послеполуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте или ветви, под сенью которой проходит отдых, — это значит вдыхать ауру этих гор, этой ветви. С помощью этой картины нетрудно увидеть социальную обусловленность проходящего в наше время распада ауры. В основе его два обстоятельства, оба связанные со все возрастающим значением масс в современной жизни. А именно: страстное стремление «приблизить» к себе вещи как в пространственном,, так и человеческом отношении так же характерно для современных масс[122], как и тенденция преодоления уникальности любой данности через принятие ее репродукции. Изо дня в день проявляется неодолимая потребность овладения предметом в непосредственной близости через его образ, точнее — отображение, репродукцию. При этом репродукция в том виде, в каком ее можно встретить в иллюстрированном журнале или кинохронике, совершенно очевидно отличается от картины. Уникальность и постоянство спаяны в картине также тесно, как мимолетность и повторимость в репродукции. Освобождение предмета от его оболочки, разрушение ауры — характерная черта восприятия, чей «вкус к однотипному в мире» усилился настолько, что оно с помощью репродукции выжимает эту однотипность даже из уникальных явлений. Так в области наглядного восприятия находит отражение то, что в области теории проявляется как усиливающееся значение статистики. Ориентация реальности на массы и масс на реальность — процесс, влияние которого и на мышление, и на восприятие безгранично.
Единственность произведения искусства тождественна его впаянности в непрерывность традиции. В то же время сама эта традиция — явление вполне живое и чрезвычайно подвижное. Например, античная статуя Венеры существовала для греков, для которых она была предметом поклонения, в ином традиционном контексте, чем для средневековых клерикалов, которые видели в ней ужасного идола. Что было в равной степени значимо и для тех, и для других, так это ее единственность, иначе говоря: ее аура. Первоначальный способ помещения произведения искусства в традиционный контекст нашел выражение в культе. Древнейшие произведения искусства возникли, как известно, чтобы служить ритуалу, сначала магическому, а затем религиозному. Решающим значением обладает то обстоятельство, что этот вызывающий ауру образ существования произведения искусства никогда полностью не освобождается от ритуальной функции произведения[123]. Иными словами: уникальная ценность «подлинного» произведения искусства основывается на ритуале, в котором оно находило свое изначальное и первое применение. Эта основа может быть многократно опосредована, однако и в самых профанных формах служения красоте она проглядывает как секуляризованный ритуал[124]. Профанный культ служения прекрасному, возникший в эпоху Возрождения и просуществовавший три столетия, со всей очевидностью открыл, испытав по истечении этого срока первые серьезные потрясения, свои ритуальные основания. А именно, когда с появлением первого действительно революционного репродуцирующего средства, фотографии (одновременно с возникновением социализма) искусство начинает ощущать приближение кризиса, который столетие спустя становится совершенно очевидным, оно в качестве ответной реакции выдвигает учение о l’art pour L’art, представляющее собой теологию искусства. Из него затем вышла прямо–таки негативная теология в образе идеи «чистого» искусства, отвергающей не только всякую социальную функцию, но и всякую зависимость от какой бы то ни было материальной основы. (В поэзии этой позиции первым достиг Малларме.)
Выявить эти связи для рассмотрения произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости совершенно необходимо. Поскольку они подготавливают к пониманию положения, имеющего решающий характер: техническая репродуцируемость произведения искусства впервые в мировой истории освобождает его от паразитарного существования на ритуале. Репродуцированное произведение искусства во все большей мере становится репродукцией произведения, рассчитанного на репродуцируемость[125]. Например, с фотонегатива можно сделать множество отпечатков; вопрос о подлинном отпечатке не имеет смысла. Но в тот момент, когда мерило подлинности перестает работать в процессе создания произведений искусства, преображается вся социальная функция искусства. Место ритуального основания занимает другая практическая деятельность: политическая.
В восприятии произведений искусства возможны различные акценты, среди которых выделяются два полюса. Один из этих акцентов приходится на произведение искусства, другой — на его экспозиционную ценность[126] [127][128]. Деятельность художника начинается с произведений, состоящих на службе культа. Для этих произведений, как можно предположить, важнее, чтобы они имелись в наличии, чем то, чтобы их видели. Лось, которого человек каменного века изображал на стенах своей пещеры, был магическим инструментом. Хотя он и доступен для взора его соплеменников, однако в первую очередь он предназначен для духов. Культовая ценность как таковая прямо–таки принуждает, как это представляется сегодня, скрывать произведение искусства: некоторые статуи античных божеств находились в святилище и были доступны только жрецу, некоторые изображения богоматери остаются почти весь год занавешенными, некоторые скульптурные изображения средневековых соборов не видны наблюдателю, находящемуся на земле. С высвобождением отдельных видов художественной практики из лона ритуала растут возможности выставлять ее результаты на публике. Экспозиционные возможности портретного бюста, который можно располагать в разных местах, гораздо больше, чем у статуи божества, которая должна находиться внутри храма. Экспозиционные возможности станковой живописи больше, чем у мозаики и фрески, которые ей предшествовали. И если экспозиционные возможности мессы в принципе не ниже, чем у симфонии, то все же симфония возникла в тот момент, когда ее экспозиционные возможности представлялись более перспективными, чем у мессы.
С появлением различных методов технической репродукции произведения искусства его экспозиционные возможности выросли в таком огромном объеме, что количественный сдвиг в балансе его полюсов переходит, как в первобытную эпоху, в качественное изменение его природы. Подобно тому как в первобытную эпоху произведение искусства из–за абсолютного преобладания его культовой функции было в первую очередь инструментом магии, который лишь позднее был, так сказать, опознан как произведение искусства, так и сегодня произведение искусства становится, из–за абсолютного преобладания его экспозиционной ценности, новым явлением с совершенно новыми функциями, из которых воспринимаемая нашим сознанием, эстетическая, выделяется как та, что впоследствии может быть признана сопутствующей[129]. Во всяком случае ясно, что в настоящее время фотография, а затем кино дают наиболее значимые сведения для понимания ситуации.
С появлением фотографии экспозиционное значение начинает теснить культовое значение по всей линии. Однако культовое значение не сдается без боя. Оно закрепляется на последнем рубеже, которым оказывается человеческое лицо. Совершенно не случайно портрет занимает центральное место в ранней фотографии. Культовая функция изображения находит свое последнее прибежище в культе памяти об отсутствующих или умерших близких. В схваченном на лету выражении лица на ранних фотографиях аура в последний раз напоминает о себе. Именно в этом заключается их меланхоличная и ни с чем не сравнимая прелесть. Там же, где человек уходит с фотографии, экспозиционная функция впервые пересиливает культовую. Этот процесс зафиксировал Атже[130], в чем и заключается уникальное значение этого фотографа, запечатлевшего на своих снимках безлюдные парижские улицы рубежа веков. С полным правом о нем говорили, что он снимал их, словно место преступления. Ведь и место преступления безлюдно. Его снимают ради улик. У Атже фотографические снимки начинают превращаться в доказательства, представляемые на процессе истории. В этом заключается их скрытое политическое значение. Они уже требуют восприятия в определенном смысле. Свободно скользящий созерцающий взгляд здесь неуместен. Они выводят зрителя из равновесия; он чувствует: к ним нужно найти определенный подход. Указатели — как его найти — тут же выставляют ему иллюстрированные газеты. Верные или ошибочные — все равно. В них впервые стали обязательными тексты к фотографиям. И ясно, что характер их совершенно иной, чем у названий картин. Директивы, которые получает от надписей к фотографиям в иллюстрированном издании тот, кто их рассматривает, принимают вскоре еще более точный и императивный характер в кино, где восприятие каждого кадра предопределяется последовательностью всех предыдущих.
Спор, который вели на протяжении девятнадцатого века живопись и фотография об эстетической ценности своих произведений, производит сегодня впечатление путанного и уводящего от сути дела. Это, однако, не отрицает его значения, скорее подчеркивает его. В действительности этот спор был выражением всемирноисторического переворота, что, однако, не осознавала ни одна из сторон. В то время как эпоха технической воспроизводимости лишила искусство его культового основания, навсегда развеялась иллюзия его автономии. Однако изменение функции искусства, которое тем самым было задано, выпало из поля зрения столетия. Да и двадцатому столетию, пережившему развитие кино, оно долго не давалось.
Если до того впустую потратили немало умственных сил, пытаясь решить вопрос, является ли фотография искусством — не спросив себя прежде: не изменился ли с изобретением фотографии и весь характер искусства, — то вскоре теоретики кино подхватили ту же поспешно вызванную дилемму. Однако трудности, которые создала для традиционной эстетики фотография, были детской забавой по сравнению с теми, что приготовило ей кино. Отсюда слепая насильственность, характерная для зарождающейся теории кино. Так, Абель Ганс сравнивает кино с иероглифами: «И вот мы снова оказались, в результате чрезвычайно странного возвращения к тому, что уже однажды было, на уровне самовыражения древних египтян… Язык изображений еще не достиг своей зрелости, потому что наши глаза еще не привыкли к нему. Нет еще достаточного уважения, достаточного культового почтения к тому, что он высказывает»[131]. Или слова Северин–Марса: «Какому из искусств была уготована мечта… которая могла бы быть так поэтична и реальна одновременно! С этой точки зрения кино является ни с чем не сравнимым средством выражения, находиться в атмосфере которого достойны лишь лица самого благородного образа мыслей в наиболее таинственные моменты их наивысшего совершенства»[132]. А Александр Арну[133] прямо завершает свою фантазию о немом кино вопросом: «Не сводятся ли все смелые описания, которыми мы воспользовались, к дефиниции молитвы?»[134]. Чрезвычайно поучительно наблюдать, как стремление записать кино в «искусство» вынуждает этих теоретиков с несравненной бесцеремонностью приписывать ему культовые элементы. И это при том, что в то время, когда публиковались эти рассуждения, уже существовали такие фильмы, как «Парижанка» и «Золотая лихорадка»[135]. Это не мешает Абелю Гансу пользоваться сравнением с иероглифами, а Северин–Марс говорит о кино так, как можно было бы говорить о картинах Фра Анжелико. Характерно, что еще и сегодня особенно реакционные авторы ведут поиски значения кино в том же направлении, и если не прямо в сакральном, то по крайней мере в сверхъестественном. Верфель констатирует по поводу экранизации «Сна в летнюю ночь» Рейнхардтом[136], что до сих пор стерильное копирование внешнего мира с улицами, помещениями, вокзалами, ресторанами, автомобилями и пляжами как раз и было несомненным препятствием на пути кино в царство искусства. «Кино еще не уловило своего истинного смысла, своих возможностей… Они заключаются в его уникальной способности выражать волшебное, чудесное, сверхъестественное естественными средствами и с несравненной убедительностью»[137].
Художественное мастерство сценического актера доносит до публики сам актер собственной персоной; в то же время художественное мастерство киноактера доносит до публики соответствующая аппаратура. Следствие этого двоякое. Аппаратура, представляющая публике игру киноактера, не обязана фиксировать эту игру во всей ее полноте. Под руководством оператора она постоянно оценивает игру актера. Последовательность оценочных взглядов, созданная монтажером из полученного материала, образует готовый смонтированный фильм. Он включает определенное количество движений, которые должны быть опознаны как движения камеры — не говоря уже об особых ее положениях, как, например, крупный план. Таким образом, действия киноактера проходя через ряд оптических тестов. Это первое следствие того обстоятельства, что работа актера в кино опосредуется аппаратурой. Второе следствие обусловлено тем, что киноактер, поскольку он не сам осуществляет контакт с публикой, теряет имеющуюся у театрального актера возможность изменять игру в зависимости от реакции публики. Публика же из–за этого оказывается в положении эксперта, которому никак не мешает личный контакт с актером. Публика вживается в актера, лишь вживаясь в кинокамеру. То есть она встает на позиции камеры: она оценивает, тестирует[138]. Это не та позиция, для которой значимы культовые ценности.
Для кино важно не столько то, чтобы актер представлял публике другого, сколько то, чтобы он представлял камере самого себя. Одним из первых, кто почувствовал это изменение актера под воздействием технического тестирования, был Пиранделло. Замечания, которые он делает по этому поводу в романе «Снимается кино», очень мало теряют от того, что ограничиваются негативной стороной дела. И еще меньше от того, что касаются немого кино. Поскольку звуковое кино не внесло в эту ситуацию никаких принципиальных изменений. Решающий момент то, что играют для аппарата — или, в случае звукового кино, для двух. «Киноактер, — пишет Пиранделло, — чувствует себя словно в изгнании. В изгнании, где он лишен не только сцены, но и своей собственной личности. Со смутной тревогой он ощущает необъяснимую пустоту, возникающую от того, что его тело исчезает, что, двигаясь, растворяется и теряет реальность, жизнь, голос и издаваемые звуки, чтобы превратиться в немое изображение, которое мгновение мерцает на экране, чтобы затем исчезнуть в тишине… Маленький аппарат будет играть перед публикой с его тенью, а он сам должен довольствоваться игрой перед аппаратом»[139]. Туже ситуацию можно охарактеризовать следующим образом: впервые — ив этом достижение кино — человек оказывается в положении, когда он должен воздействовать всей своей живой личностью, но без ее ауры. Ведь аура привязана к его здесь и сейчас. У нее нет изображения. Аура, окружающая на сцене фигуру Макбета, неотделима от ауры, которая для сопереживающей публики существует вокруг актера, его играющего. Особенность же съемки в кинопавильоне заключается в том, что на месте публики оказывается аппарат. Поэтому пропадает аура вокруг играющего — и одновременно с этим и вокруг того, кого он играет.
Не удивительно, что именно драматург, каким является Пиранделло, характеризуя кино, невольно затрагивает основание кризиса, поражающего на наших глазах театр. Для полностью охваченного репродукцией, более того, порожденного — как кино — ею произведения искусства, действительно, не может быть более резкой противоположности, чем сцена. Любой детальный анализ подтверждает это. Компетентные наблюдатели уже давно заметили, что в кино «наибольший эффект достигается тогда, когда как можно меньше «играют»… Новейшую тенденцию» Арнхейм видит в 1932 году в том, чтобы «обращаться с актером как с реквизитом, который подбирают по надобности… и используют в нужном месте»[140] [141]. С этим самым тесным образом сказано другое обстоятельство. Актер, играющий на сцене, погружается в роль. Для киноактера это очень часто оказывается невозможным. Его деятельность не является единым целым, она составлена из отдельных действий. Наряду со случайными обстоятельствами, такими как аренда павильона, занятость партнеров, декорации, сами элементарные потребности техники кино требуют, чтобы актерская игра распадалась на ряд монтируемых эпизодов. Речь идет в первую очередь об освещении, установка которого требует разбивки события, предстающего на экране единым быстрым процессом, на ряд отдельных съемочных эпизодов, которые иногда могут растягиваться на часы павильонной работы. Не говоря уже о весьма ощутимых возможностях монтажа. Так, прыжок из окна может быть снят в павильоне, при этом актер в действительности прыгает с помоста, а следующее за этим бегство снимается на натуре и недели спустя. Впрочем, ничуть не трудно представить себе и более парадоксальные ситуации. Например, актер должен вздрогнуть после того, как в дверь постучат. Допустим, у него это не очень получается. В этом случае режиссер может прибегнуть к такой уловке: в то время, как актер находится в павильоне, за его спиной неожиданно раздается выстрел. Испуганного актера снимают на пленку и монтируют кадры в фильм. Ничто не показывает с большей очевидностью, что искусство рассталось с царством «прекрасной видимости»[142], которое до сих пор считалось единственным местом процветания искусства.
Странное отчуждение актера перед кинокамерой, описанное Пиранделло, сродни странному чувству, испытываемому человеком при взгляде на свое отражение в зеркале. Только теперь это отражение может быть отделено от человека, оно стало переносным. И куда же его переносят? К публике[143]. Сознание этого не покидает актера ни на миг. Киноактер, стоящий перед камерой, знает, что в конечном счете он имеет дело с публикой: публикой потребителей, образующих рынок. Этот рынок, на который он выносит не только свою рабочую силу, но и всего себя, с головы до ног и со всеми потрохами, оказывается для него в момент осуществления его профессиональной деятельности столь же недостижимым, как и для какого–нибудь изделия, изготавливаемого на фабрике. Не является ли это одной из причин нового страха, сковывающего, по Пиранделло, актера перед кинокамерой? Кино отвечает на исчезновение ауры созданием искусственной «personality» за пределами съемочного павильона. Поддерживаемый кинопромышленным капиталом культ звезд консервирует это волшебство личности, уже давно заключающееся в одном только подпортившемся волшебстве ее товарного характера. До тех пор, пока тон в кино задает капитал, от современного кино в целом не стоит ожидать иных революционных заслуг, кроме содействия революционной критике традиционных представлений об искусстве. Мы не оспариваем того, что современное кино в особых случаях может быть средством революционной критики общественных отношений, и даже господствующих имущественных отношений. Но это не находится в центре внимания настоящего исследования, так же как не является основной тенденцией западноевропейского кинопроизводства.
С техникой кино — так же как и с техникой спорта — связано то, что каждый зритель ощущает себя полупрофессионалом в оценке их достижений. Чтобы открыть для себя это обстоятельство, достаточно послушать разок, как группа мальчишек, развозящих на велосипедах газеты, обсуждает в свободную минуту результаты велогонок. Недаром газетные издательства проводят гонки для таких мальчишек. Участники относятся к ним с большим интересом. Ведь у победителя есть шансы стать профессиональным гонщиком. Точно так же и еженедельная кинохроника дает каждому шанс превратиться из прохожего в актера массовки. В определенном случае он может увидеть себя и в произведении киноискусства — можно вспомнить «Три песни о Ленине» Вертова или «Боринаж» Ивенса[144]. Любой из живущих в наше время может претендовать на участие в киносъемке. Это притязание станет более ясным, если взглянуть на историческую ситуацию современной литературы.
В течение многих веков положение в литературе было таково, что небольшому числу авторов противостояло превосходящее его в тысячи раз число читателей. К концу прошлого века это соотношение начало меняться. Поступательное развитие прессы, которая начала предлагать читающей публике все новые политические, религиозные, научные, профессиональные, местные печатные издания, привело к тому, что все больше читателей — по началу от случая к случаю — стало переходить в разряд авторов. Началось с того, что ежедневные газеты открыли для них раздел «Письма читателей», а сейчас ситуация такова, что нет, пожалуй, ни одного вовлеченного в трудовой процесс европейца, у которого в принципе не было бы возможности опубликовать где–нибудь информацию о своем профессиональном опыте, жалобу или сообщение о каком–либо событии. Тем самым разделение на авторов и читателей начинает терять свое принципиальное значение. Оно оказывается функциональным, граница может пролегать в зависимости от ситуации так или иначе. Читатель в любой момент готов превратиться в автора. Как профессионал, которым ему в большей или меньшей мере пришлось стать в чрезвычайно специализированном трудовом процессе, — пусть даже это профессионализм, касающийся совсем маленькой технологической функции, — он получает доступ к авторскому сословию. В Советском Союзе сам труд получает слово. И его словесное воплощение составляет часть навыков, необходимых для работы. Возможность стать автором санкционируется не специальным, а политехническим образованием, становясь тем самым всеобщим достоянием[145] [146].
Все это может быть перенесено на кино, где сдвиги, на которые в литературе потребовались века, произошли в течение десятилетия. Поскольку в практике кино — в особенности русского — эти сдвиги частично уже совершились. Часть играющих в русских фильмах людей не актеры в нашем смысле, а люди, которые представляют самих себя, причем в первую очередь в трудовом процессе. В Западной Европе капиталистическая эксплуатация кино преграждает дорогу признанию законного права современного человека на тиражирование. В этих условиях кинопромышленность всецело заинтересована в том, чтобы дразнить желающие участия массы иллюзорными образами и сомнительными спекуляциями.
Кино, в особенности звуковое, открывает такой взгляд на мир, который прежде был просто немыслим. Оно изображает событие, для которого нельзя найти точки зрения, с которой не были бы видны не принадлежащие к разыгрываемому действию как таковому кинокамера, осветительная аппаратура, команда ассистентов и т. д. (Разве только положение его глаза точно совпадает с положением объектива кинокамеры.) Это обстоятельство — больше чем любое другое — превращает сходство между тем, что происходит на съемочной площадке, и действием на театральной сцене в поверхностное и не имеющее значения. В театре, в принципе, есть точка, с которой иллюзия сценического действия не нарушается. По отношению к съемочной площадке такой точки нет. Природа киноиллюзии — это природа второй степени; она возникает в результате монтажа. Это значит: на съемочной площадке кинотехника настолько глубоко вторгается в действительность, что ее чистый, освобожденный от чужеродного тела техники вид достижим как результат особой процедуры, а именно съемки с помощью специально установленной камеры и монтажа с другими съемками того же рода. Свободный от техники вид реальности становится здесь наиболее искусственным, а непосредственный взгляд на действительность — голубым цветком в стране техники.
То же положение дел, которое выявляется при сопоставлении с театром, может быть рассмотрено еще более продуктивно при сравнении с живописью. Вопрос при этом следует сформулировать так: каково отношение между оператором и живописцем? Для ответа на него позволительно воспользоваться вспомогательной конструкцией, которая опирается на то понятие операторской работы, которое идет от хирургической операции. Хирург представляет один полюс сложившейся системы, на другом полюсе которой находится знахарь. Позиция знахаря, врачующего наложением руки, отличается от позиции хирурга, вторгающегося в больного. Знахарь сохраняет естественную дистанцию между собой и больным; точнее сказать: он лишь незначительно сокращает ее — наложением руки — и сильно увеличивает ее — своим авторитетом. Хирург действует обратным образом: он сильно сокращает дистанцию до больного — вторгаясь в его нутро — и лишь незначительно ее увеличивает — с той осторожностью, с которой его рука движется среди его органов. Одним словом: в отличие от знахаря (который продолжает сидеть в терапевте) хирург в решающий момент отказывается от контакта с пациентом как личностью, вместо этого он осуществляет оперативное вмешательство. Знахарь и хирург относятся друг к другу как художник и оператор. Художник соблюдает в своей работе естественную дистанцию по отношению к реальности, оператор же, напротив, глубоко вторгается в ткань реальности[147]. Картины, получаемые ими, невероятно отличаются друг от друга. Картина художника целостна, картина оператора расчленена на множество фрагментов, которые затем объединяются по новому закону.
Таким образом, киноверсия реальности для современного человека несравненно более значима, потому что она предоставляет свободный от технического вмешательства аспект действительности, который он вправе требовать от произведения искусства, и предоставляет его именно потому, что она глубочайшим образом проникнута техникой.
Техническая воспроизводимость произведения искусства изменяет отношение масс к искусству. Из наиболее консервативного, например по отношению к Пикассо, оно превращается в самое прогрессивное, например по отношению к Чаплину. Для прогрессивного отношения характерно при этом тесное сплетение зрительского удовольствия, сопереживания с позицией экспертной оценки. Такое сплетение представляет собой важный социальный симптом. Чем сильнее утрата социального значения какого–либо искусства, тем больше — как это ясно на примере живописи — расходятся в публике критическая и гедонистическая установка. Привычное потребляется без всякой критики, действительно новое критикуется с отвращением. В кино критическая и гедонистическая установка совпадают. При этом решающим является следующее обстоятельство: в кино как нигде более реакция отдельного человека — сумма этих реакций составляет массовую реакцию публики — оказывается с самого начала обусловленной непосредственно предстоящим перерастанием в массовую реакцию. А проявление этой реакции оказывается одновременно ее самоконтролем. И в этом случае сравнение с живописью оказывается полезным. Картина всегда несла в себе подчеркнутое требование рассмотрения одним или только несколькими зрителями. Одновременное созерцание картин массовой публикой, появляющееся в девятнадцатом веке, — ранний симптом кризиса живописи, вызванный отнюдь не только одной фотографией, а относительно независимо от нее претензией произведения искусства на массовое признание.
Дело как раз в том, что живопись не в состоянии предложить предмет одновременного коллективного восприятия, как это было с древних времен с архитектурой, как это когда–то было с эпосом, а в наше время происходит с кино. И хотя это обстоятельство в принципе не дает особых оснований для выводов относительно социальной роли живописи, однако в настоящий момент оно оказывается серьезным отягчающим обстоятельством, так как живопись в силу особых обстоятельств и в определенном смысле вопреки своей природе вынуждена к прямому взаимодействию с массами. В средневековых церквах и монастырях и при дворе монархов до конца восемнадцатого века коллективное восприятие живописи происходило не одновременно, а постепенно, оно было опосредовано иерархическими структурами. Когда ситуация меняется, выявляется особый конфликт, в который живопись оказывается вовлеченной из–за технической репродуцируемости картины. И хотя через галереи и салоны была предпринята попытка представить ее массам, однако при этом отсутствовал путь, следуя которому массы могли бы организовать и контролировать себя для такого восприятия[148]. Следовательно, та же публика, которая прогрессивным образом реагирует на гротескный фильм, с необходимостью превращается в реакционную перед картинами сюрреалистов.
Характерные черты кино заключаются не только в том, каким человек предстает перед кинокамерой, но и в том, каким представляет он себе с ее помощью окружающий мир. Взгляд на психологию актерского творчества открыл тестирующие возможности киноаппаратуры. Взгляд на психоанализ показывает ее с другой стороны. Кино действительно обогатило наш мир сознательного восприятия методами, которые могут быть проиллюстрированы методами теории Фрейда. Полвека назад оговорка в беседе оставалась скорее всего незамеченной. Возможность открыть с ее помощью глубинную перспективу в беседе, которая до того казалась одноплановой, была скорее исключением. После появления «Психопатологии обыденной жизни» положение изменилось. Эта работа выделила и сделала предметом анализа вещи, которые до того оставались незамеченными в общем потоке впечатлений. Кино вызвало во всем спектре оптического восприятия, а теперь и акустического, сходное углубление апперцепции. Не более как обратной стороной этого обстоятельства оказывается тот факт, что создаваемое кино изображение поддается более точному и гораздо более многоаспектному анализу, чем изображение на картине и представление на сцене. По сравнению с живописью это несравненно более точная характеристика ситуации, благодаря чему киноизображение поддается более детальному анализу. В сравнении со сценическим представлением углубление анализа обусловлено большей возможностью вычленения отдельных элементов. Это обстоятельство способствует — ив этом его главное значение — взаимному проникновению искусства и науки. И в самом деле, трудно сказать о действии, которое может быть точно— подобно мускулу на теле — вычленено из определенной ситуации, чем оно больше завораживает: артистическим блеском или же возможностью научной интерпретации. Одна из наиболее революционных функций кино будет состоять в том, что оно позволит увидеть тождество художественного и научного использования фотографии, которые до того по большей части существовали раздельно[149].
С одной стороны кино своими крупными планами, акцентированием скрытых деталей привычных нам реквизитов, исследованием банальных ситуаций под гениальным руководством объектива умножает понимание неизбежностей, управляющих нашим бытием, с другой стороны оно приходит к тому, что обеспечивает нам огромное и неожиданное свободное поле деятельности! Наши пивные и городские улицы, наши конторы и меблированные комнаты, наши вокзалы и фабрики, казалось, безнадежно замкнули нас в своем пространстве. Но тут пришло кино и взорвало этот каземат динамитом десятых долей секунд, и вот мы спокойно отправляемся в увлекательное путешествие по грудам его обломков. Под воздействием крупного плана раздвигается пространство, ускоренной съемки — время. И подобий тому как фотоувеличение не просто делает более ясным то, что «и так» можно разглядеть, а, напротив, вскрывает совершенно новые структуры организации материи, точно так же и ускоренная съемка показывает не только известные мотивы движения, но и открывает в этих знакомых движениях совершенно незнакомые, «производящие впечатление не замедления быстрых движений, а движений, своеобразно скользящих, парящих, неземных»[150]. В результате становится очевидным, что природа, открывающаяся камере — другая, чем та, что открывается глазу. Другая прежде всего потому, что место пространства, проработанного человеческим сознанием, занимает бессознательно освоенное пространство. И если вполне обычно, что в нашем сознании, пусть в самых грубых чертах, есть представление о человеческой походке, то сознанию определенно ничего не известно о позе, занимаемой людьми в какую–либо долю секунды его шага. Пусть нам в общем знакомо движение, которым мы берем зажигалку или ложку, но мы едва ли что–нибудь знаем о том, что, собственно, происходит при этом между рукой и металлом, не говоря уже о том, что действие может варьироваться в зависимости от нашего состояния. Сюда–то и вторгается камера со своими вспомогательными средствами, спусками и подъемами, способностью прерывать и изолировать, растягивать и сжимать действие, увеличивать и уменьшать изображение. Она открыла нам область визуально–бессознательного, подобно тому как психоанализ — область инстинктивно–бессознательного.
С древнейших времен одной из важнейших задач искусства было порождение потребности, для полного удовлетворения которой время еще не пришло[151]. В истории каждой формы искусства есть критические моменты, когда она стремится к эффектам, которые без особых затруднений могут быть достигнуты лишь при изменении технического стандарта, т. е. в новой форме искусства. Возникающие подобным образом, в особенности в так называемые периоды декаданса, экстравагантные и неудобоваримые проявления искусства в действительности берут свое начало из его богатейшего исторического энергетического центра. Последним скопищем подобных варваризмов был дадаизм. Лишь сейчас становится ясным его движущее начало: дадаизм пытался достичь с помощью живописи (или литературы) эффекты? которые сегодня публика ищет в кино.
Каждое принципиально новое, пионерское действие, рождающее потребность, заходит слишком далеко. Дадаизм делает это в той степени, что жертвует рыночными ценностями, которые свойственны кино в столь высокой мере, ради более значимых целеполаганий — которые он, разумеется, не осознает так, как это описано здесь. Возможности меркантильного использования своих произведений дадаисты придавали гораздо меньшее значение, чем исключению возможности использовать их как предмет благоговейного созерцания. Не в последнюю очередь они пытались достичь этого исключения за счет принципиального лишения материала искусства возвышенности. Их стихотворения — это «словесный салат», содержащий непристойные выражения и всякий словесный мусор, какой только можно вообразить. Не лучше и их картины, в которые они вставляли пуговицы и проездные билеты. Чего они достигали этими средствами, так это беспощадного уничтожение ауры творения, выжигая с помощью творческих методов на произведениях клеймо репродукции. Картина Арпа или стихотворение Аугуста Штрамма не дают, подобно картине Дерена[152] или стихотворению Рильке, времени на то, чтобы собраться и прийти к какому–то мнению. В противоположность созерцательности, ставшей при вырождении буржуазии школой асоциального поведения, возникает развлечение как разновидность социального поведения[153]. Проявления дадаизма в искусстве и в самом деле были сильным развлечением, поскольку превращали произведение искусства в центр скандала. Оно должно было соответствовать прежде всего одному требованию: вызывать общественное раздражение.
Из манящей оптической иллюзии или убедительного звукового образа произведение искусства превратилось у дадаистов в снаряд. Оно поражает зрителя. Оно приобрело тактильные свойства. Тем самым оно способствовало возникновению потребности в кино, развлекательная стихия которого в первую очередь также носит тактильный характер, а именно основывается на смене места действия и точки съемки, которые рывка ми обрушиваются на зрителя. Можно сравнить полотно экрана, на котором демонстрируется фильм, с полотном живописного изображения. Живописное полотно приглашает зрителя к созерцанию; перед ним зритель может предаться сменяющим друг друга ассоциациям.
Перед кинокадром это невозможно. Едва он охватил его взглядом, как тот уже изменился. Он не поддается фиксации. Дюамель[154], ненавидящий кино и ничего не понявший в его значении, но кое–что в его структуре, характеризует это обстоятельство так: «Я больше не могу думать о том, о чем хочу. Место моих мыслей заняли движущиеся образы»[155]. Действительно, цепь ассоциаций зрителя этих образов тут же прерывается их изменением. На этом основывается шоковое воздействие кино, которое, как и всякое шоковое воздействие, требует для преодоления еще более высокой степени присутствия духа[156]. В силу своей технической структуры кино высвободило физическое шоковое воздействие, которое дадаизм еще словно упаковывал в моральное, из этой обертки[157].
Массы — это матрица, из которой в настоящий момент всякое привычное отношение к произведениям искусства выходит перерожденным. Количество перешло в качество: очень значительное приращение массы участников привело к изменению способа участия. Не следует смущаться тем, что первоначально это участие предстает в несколько дискредитированном образе. Однако было немало тех, кто страстно следовал именно этой внешней стороне предмета. Наиболее радикальным среди них был Дюамель. В чем он прежде всего упрекает кино, так это в форме участия, которое оно пробуждает в массах. Он называет кино «времяпрепровождением для идиотов, развлечением для необразованных, жалких, изнуренных трудом созданий, снедаемых заботами… зрелищем, не требующим никакой концентрации, не предполагающим никаких умственных способностей…, не зажигающим в сердцах никакого света и не пробуждающим никаких других надежд кроме смешной надежды однажды стать «звездой» в Лос–Анджелесе»[158]. Как видно, это в сущности старая жалоба, что массы ищут развлечения, в то время как искусство требует от зрителя концентрации. Это общее место. Следует однако проверить, можно ли на него опираться в изучении кино. — Тут требуется более пристальный взгляд. Развлечение и концентрация составляют противоположность, позволяющую сформулировать следующее положение: тот, кто концентрируется на произведении искусства, погружается в него; он входит в это произведение, подобно художнику–герою китайской легенды, созерцающему свое законченное произведение. В свою очередь развлекающиеся массы, напротив, погружают произведение искусства в себя. Наиболее очевидна в этом отношении архитектура. Она с давних времен представляла прототип произведения искусства, восприятие которого не требует концентрации и происходит в коллективных формах. Законы ее восприятия наиболее поучительны.
Архитектура сопровождает человечество с древнейших времен. Многие формы искусства возникли и ушли в небытие. Трагедия возникает у греков и исчезает вместе с ними, возрождаясь столетия спустя только в своих «правилах». Эпос, истоки которого находятся в юности народов, угасает в Европе с концом Ренессанса. Станковая живопись была порождением Средневековья, и ничто не гарантирует ей постоянного существования. Однако потребность человека в помещении непрестанна. Зодчество никогда не прерывалось. Его история продолжительнее любого другого искусства, и осознание его воздействия значимо для каждой попытки понять отношение масс к произведению искусства. Архитектура воспринимается двояким образом: через использование и восприятие. Или, точнее говоря: тактильно и оптически. Для такого восприятия не существует понятия, если представлять его себе по образцу концентрированного, собранного восприятия, которое характерно, например, для туристов, рассматривающих знаменитые сооружения. Дело в том, что в тактильной области отсутствует эквивалент того, чем в области оптической является созерцание. Тактильное восприятие проходит не столько через внимание, сколько через привычку. По отношению к архитектуре она в значительной степени определяет даже оптическое восприятие. Ведь и оно в своей основе осуществляется гораздо больше походя, а не как напряженное всматривание. Однако это выработанное архитектурой восприятие в определенных условиях приобретает каноническое значение. Ибо задачи, которые ставят перед человеческим восприятием переломные исторические эпохи, вообще не могут быть решены на пути чистой оптики, то есть созерцания. С ними можно справиться постепенно, опираясь на тактильное восприятие, через привыкание.
Привыкнуть может и несобранный. Более того: способность решения некоторых задач в расслабленном состоянии как раз и доказывает, что их решение стало привычкой. Развлекательное, расслабляющее искусство незаметно проверяет, какова способность решения новых задач восприятия. Поскольку единичный человек вообще–то испытывает искушение избегать подобных задач, искусство будет выхватывать сложнейшие и важнейшие из них там, где оно может мобилизовать массы. Сегодня оно делает это в кино. Прямым инструментом тренировки рассеянного восприятия, становящегося все более заметным во всех областях искусства и являющегося симптомом глубокого преобразования восприятия, является кино. Своим шоковым воздействием кино отвечает этой форме восприятия. Кино вытесняет культовое значение не только тем, что помещает публику в оценивающую позицию, но тем, что эта оценивающая позиция в кино не требует внимания. Публика оказывается экзаменатором, но рассеянным.
Все возрастающая пролетаризация современного человека и все возрастающая организация масс представляют собой две стороны одного и того же процесса. Фашизм пытается организовать возникающие пролетаризированные массы, не затрагивая имущественных отношений, к устранению которых они стремятся. Он видит свой шанс в том, чтобы дать массам возможность выразиться (но ни в коем случае не реализовать свои права)[159]. Массы обладают правом на изменение имущественных отношений; фашизм стремится дать им возможность самовыражения при сохранении этих отношений. Фашизм вполне последовательно приходит к эстетизации политической жизни. Насилию над массами, которые он в культе фюрера распластывает по земле, соответствует насилие над киноаппаратурой, которую он использует для создания культовых символов.
Все усилия по эстетизации политики достигают высшей степени в одной точке. И этой точкой является война. Война, и только война дает возможность направлять к единой цели массовые движения величайшего масштаба при сохранении существующих имущественных отношений. Так выглядит ситуация с точки зрения политики. С точки зрения техники ее можно охарактеризовать следующим образом: только война позволяет мобилизовать все технические средства современности при сохранении имущественных отношений. Само собой разумеется, что фашизм не пользуется в своем прославлении войны этими аргументами. Тем не менее стоит взглянуть на них. В манифесте Маринетти по поводу колониальной войны в Эфиопии говорится: «Двадцать семь лет противимся мы, футуристы, тому, что война признается антиэстетичной… Соответственно мы констатируем: …война прекрасна, потому что обосновывает, благодаря противогазам, возбуждающим ужас мегафонам, огнеметам и легким танкам господство человека над порабощенной машиной. Война прекрасна, потому что начинает превращать в реальность металлизацию человеческого тела, бывшую до того предметом мечты. Война прекрасна, потому что делает более пышной цветущий луг вокруг огненных орхидей митральез. Война прекрасна, потому что соединяет в одну симфонию ружейную стрельбу, канонаду, временное затишье, аромат духов и запах мертвечины. Война прекрасна, потому что создает новую архитектуру, такую как архитектура тяжелых танков, геометрических фигур авиационных эскадрилий, столбов дыма, поднимающихся над горящими деревнями, и многое другое… Поэты и художники футуризма, вспомните об этих принципах эстетики войны, чтобы они осветили… вашу борьбу за новую поэзию и новую пластику!»[160]
Преимущество этого манифеста — его ясность. Поставленные в нем вопросы вполне заслуживают диалектического рассмотрения. Тогда диалектика современной войны приобретает следующий вид: если естественное использование производительных сил сдерживается имущественными отношениями, то нарастание технических возможностей, темпа, энергетических мощностей вынуждает к их неестественному использованию. Они находят его в войне, которая своими разрушениями доказывает, что общество еще не созрело для того, чтобы превратить технику в свой инструмент, что техника еще недостаточно развита для того, чтобы справиться со стихийными силами общества. Империалистическая война в своих наиболее ужасающих чертах определяется несоответствием между огромными производительными силами и их неполным использованием в производственном процессе (иначе говоря, безработицей и недостатком рынков сбыта). Империалистическая война — это мятеж техники, предъявляющей к «человеческому материалу» те требования, для реализации которых общество не дает естественного материала. Вместо того, чтобы строить водные каналы, она направляет людской поток в русла траншей, вместо того, чтобы использовать аэропланы для посевных работ, она осыпает города зажигательными бомбами, а в газовой войне она нашла новое средство уничтожения ауры.
«Fiat ars — pereat mundus»[161], — провозглашает фашизм и ожидает художественного удовлетворения преобразованных техникой чувств восприятия, как это открывает Маринетти, от войны. Это очевидное доведение принципа l’art pour l’art до его логического завершения. Человечество, которое некогда у Гомера было предметом увеселения для наблюдавших за ним богов, стало таковым для самого себя. Его самоотчуждение достигло той степени, которая позволяет переживать свое собственное уничтожение как эстетическое наслаждение высшего ранга. Вот что означает эстетизация политики, которую проводит фашизм. Коммунизм отвечает на это политизацией искусства.
Вальтер Беньямин работал над этой статьей, являющейся наиболее известным из его сочинений, в последние годы жизни. В определенном смысле она была итогом его многолетних поисков в области истории культуры и эстетики. Писать статью он начал в 1935 году, к концу года был готов ее первый вариант. Руководство Института социальных исследований приняло решение опубликовать ее во французском переводе, так как Беньямин находился в это время во Франции, и эта публикация могла бы улучшить его положение в интеллектуальных кругах. Французский текст был напечатан в первом номере журнала «Zeitschrift für Sozialforschung» за 1936 год.
Беньямин продолжал работу над текстом: он создал по крайней мере еще две редакции статьи (вторая редакция была обнаружена недавно, см.: GS 7/1,350–384 [Здесь и далее этим сокращением обозначается издание: Benjamin W. Gesammelte Schriften. Frankfurt а. M., 1972–1989 с указанием тома (и части) и страниц], редакция, в течение долгого времени считавшаяся второй, была, таким образом, на самом деле третьей). Летом 1936 г. Беньямин предпринял попытку опубликовать немецкий текст в прокоммунистическом эмигрантском журнале «Das Wort», в редакцию которого входили Б. Брехт, Л. Фейхтвангер, В. Бредель (первый его номер вышел в июле 1936 года в Москве). Беньямин очень рассчитывал на поддержку Брехта, не подозревая, что тот крайне негативно отнесся к его сочинению, в особенности к столь дорогой для Беньямина концепции ауры; в рабочем дневнике Брехта сохранился краткий уничтожающий отзыв: «все это мистика… в таком виде подается материалистический взгляд на историю. Это достаточно ужасно» (Brecht, В. Werke. Berlin; Weimar; Frankfurt а. M., 1994. Bd. 26. S. 315). Формально работа Беньямина была отклонена из–за слишком большого объема. Надежды Беньямина на сочувствие русских теоретиков искусства (например, С. Третьякова, контакт с которым он попытался установить) также оказались тщетными. Несмотря на неудачи, Беньямин продолжал работу над текстом по крайней мере до 1938 года, и, возможно, позднее. На немецком языке работа впервые была опубликована лишь в 1955 году. Перевод сделан с последней редакции текста (GS I (2), S. 471–508).
Перевод и примечания С. Ромашко[162]
[Теолого–политический фрагмент]
Лишь сам мессия завершает всякую историческую событийность, в том смысле, что лишь он спасает, завершает, сотворяет ее отношение к мессианскому. Потому ничто историческое не может само по себе из себя относиться к мессианскому. Потому Царство Божие не есть конечная цель (Теlos) исторических сил (Dynаmis); его нельзя сделать целью. С исторической точки зрения оно не цель, а конец. Потому порядок мирского и нельзя воздвигнуть на идее Царства Божия, потому у теократии и нет политического смысла, а только религиозный. Категорический отказ признавать политическую значимость теократии — вот величайшая заслуга «Духа утопии» Блоха.
Порядок мирского должен выстроиться на идее счастья. Отношение этого порядка к мессианскому — один из самых поучительных моментов в философии истории: на нем основано мистическое понимание истории, проблему которого можно представить в образе. Если одна стрела указывает на цель, в направлении которой действует сила мирского, другая же — в направлении мессианского усилия, то свободное человечество в поисках счастья, конечно же, устремляется прочь от этого мессианского направления, но подобно тому как сила на своем пути может поспособствовать силе, чей путь направлен в противоположную сторону, так и мирской порядок мирского — пришествию мессианского царства. Следовательно, хотя мирское — это не категория царства, но категория, причем одна из наиболее подходящих, незаметнейшего его приближения. Ибо в счастье все земное чает свою гибель, лишь в счастье предначертано ему эту гибель обрести. Хотя, конечно, непосредственное мессианское усилие сердца, отдельного внутреннего человека, ведет сквозь несчастье, сквозь страдание. Духовному restitutio in integrum[163], которое приводит к бессмертию, соответствует мирское, ведущее к вечной гибели, и ритм этого вечно преходящего, в своей тотальности преходящего, в своей пространственной, да и временной тотальности преходящего мирского, ритм мессианской природы — и есть счастье. Ибо мессианской может быть природа только в вечной своей и тотальной преходящести.
Стремиться к ней, даже на тех стадиях человека, которые суть природа, — есть задача мировой политики, метод которой должен зваться нигилизмом.
Перевод И. Болдырева[164]
О понятии истории
Известна история про шахматный автомат, сконструированный таким образом, что он отвечал на ходы партнера по игре, неизменно выигрывая партию. Это была кукла в турецком одеянии, с кальяном во рту, сидевшая за доской, покоившейся на просторном столе. Система зеркал со всех сторон создавала иллюзию, будто под столом ничего нет. На самом деле там сидел горбатый карлик, бывший мастером шахматной игры и двигавший руку куклы с помощью шнуров. К этой аппаратуре можно подобрать философский аналог. Выигрыш всегда обеспечен кукле, называемой «исторический материализм»[165]. Она сможет запросто справиться с любым, если возьмет к себе на службу теологию, которая в наши дни, как известно, стала маленькой и отвратительной, да и вообще ей лучше никому на глаза не показываться.
«К наиболее примечательным свойствам человеческой души, — замечает Лотце[166], — принадлежит… наряду с таким множеством эгоизма в отдельном человеке всеобщая независтливость любой современности по отношению к будущему». Из этого положения следует, что образ счастья, нами лелеемый, насквозь пропитан временем, в которое нас определил ход нашего собственного пребывания в этом мире. Счастье, способное вызвать нашу зависть, существует только в атмосфере, которой нам довелось дышать, у людей, с которыми мы могли бы беседовать, у женщин, которые могли бы нам отдаться. Иными словами, в представлении о счастье непременно присутствует представление об избавлении. С представлением о прошлом, которое история выбрала своим делом, все обстоит точно так же. Прошлое несет в себе потайной указатель, отсылающий ее к избавлению. Разве не касается нас самих дуновение воздуха, который овевал наших предшественников? разве не отзывается в голосах, к которым мы склоняем наше ухо, эхо голосов ныне умолкших? разве у женщин, которых мы домогаемся, нет сестер, которых им не довелось узнать? А если это так, то между нашим поколением и поколениями прошлого существует тайный уговор. Значит, нашего появления на земле ожидали. Значит нам, так же как и всякому предшествующему роду, сообщена слабая мессианская сила, на которую притязает прошлое. Просто так от этого притязания не отмахнуться. Исторический материалист об этом знает.
Летописец, повествующий о событиях, не различая их на великие и малые, отдает тем самым дань истине, согласно которой ничто из единожды происшедшего не может считаться потерянным для истории. Правда, лишь достигшее избавления человечество получает прошлое в свое полное распоряжение. Это означает: лишь для спасенного человечества прошлое становится цитируемым, вызываемым в каждом из его моментов. Каждое из его пережитых мгновений становится citation a l'ordre du jour[167], а день–то этот — день страшного суда.
Помышляйте прежде всего о пище и одежде, тогда царство Божие само упадет вам в руки.
Гегель, 1807[168]
Классовая борьба, неотступно витающая перед взором историка, прошедшего школу Маркса, — это борьба за вещи грубые и материальные, без которых не бывает вещей утонченных и духовных. Тем не менее присутствие этих последних в классовой борьбе представляется иначе, нежели добыча, достающаяся победителю. Они живут в этой борьбе как убежденность, как мужество, юмор, хитрость, непреклонность, и они оказывают обратное воздействие на отдаленное время. Они не перестанут вновь и вновь подвергать сомнению каждую победу, когда–либо достававшуюся господствующему классу. Подобно тому как цветы поворачивают свое лицо вслед за солнцем, так и прошедшее, в силу потайного гелиотропизма, стремится обратиться к тому солнцу, что восходит на небе истории. В этом неприметнейшем из всех изменений исторический материалист должен разбираться.
Подлинный образ прошлого проскальзывает мимо. Прошлое только и можно запечатлеть как видение, вспыхивающее лишь на мгновение, когда оно оказывается познанным, и никогда больше не возвращающееся. «Правда от нас никуда не убежит», — эти слова Готфрида Келлера помечают на картине истории, созданной историзмом, как раз то место, где ее прорывает исторический материализм. Ведь именно невозвратимый образ прошлого оказывается под угрозой исчезновения с появлением любой современности, не сумевшей угадать себя подразумеваемой в этом образе[169].
Исторически артикулировать минувшее не значит познать его таким, «каким оно было на самом деле»[170]. Задача в том, чтобы овладеть воспоминанием, как оно вспыхивает в момент опасности. Исторический материализм стремится к тому, чтобы зафиксировать образ прошлого таким, каким он неожиданно предстает историческому субъекту в момент опасности. Опасность грозит и содержанию традиции, и тем, кто ее воспринимает. И для того, и для другого опасность заключается в одном и том же: в готовности стать инструментом господствующего класса. В каждую эпоху необходимо вновь пытаться вырвать традицию у конформизма, который стремится воцариться над нею. Мессия ведь приходит не только как избавитель; он приходит как победитель антихриста. Даром разжечь в прошлом искру надежды наделен лишь историк, проникнувшийся мыслью, что враг, если он одолеет, не пощадит и мертвых. А побеждать этот враг продолжает непрестанно.
Не забывайте о великой стуже В юдоли нашей, стонущей от бед.
Брехт. Трехгрошовая опера[171]
Фюстель де Куланж[172] рекомендует историку, желающему проникнуться какой–либо эпохой, выбросить из головы все, что ему известно о последующем ходе событий. Лучшей характеристики приема, с которым порвал исторический материализм, и не придумать. Речь идет о приеме вживания. Истоки его — в лености сердца, acedia, неспособной овладеть подлинным образом истории, вспыхивающим лишь на миг. У теологов Средневековья она слыла первопричиной меланхолии. Флобер, знававший ее, пишет: «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage»[173]. Природа этой печали станет яснее, если задаться вопросом, в кого же собственно вживается последователь историзма. Ответ неизбежно гласит: в победителя. А все господствующие в данный момент — наследники всех, кто когда–либо победил. Соответственно, вживание в победителя в любом случае идет на пользу господствующим в данный момент. Этого для исторического материалиста достаточно. Любой побеждавший до сего дня — среди марширующих в триумфальном шествии, в котором господствующие сегодня попирают лежащих сегодня на земле. Согласно давнему и ненарушаемому обычаю добычу тоже несут в триумфальном шествии. Добычу именуют культурными ценностями. Исторический материалист неизбежно относится к ним как сторонний наблюдатель. Потому что все доступные его взору культурные ценности неизменно оказываются такого происхождения, о котором он не может думать без содрогания. Это наследие обязано своим существованием не только усилиям великих гениев, создававших его, но и подневольному труду их безымянных современников. Не бывает документа культуры, который не был бы в то же время документом варварства. И подобно тому, как культурные ценности не свободны от варварства, не свободен от него и процесс традиции, благодаря которому они переходили из рук в руки. Потому исторический материалист по мере возможности отстраняется от нее. Он считает своей задачей чесать историю против шерсти.
Традиция угнетенных учит нас, что переживаемое нами «чрезвычайное положение» — не исключение, а правило. Нам необходимо выработать такое понятие истории, которое этому отвечает. Тогда нам станет достаточно ясно, что наша задача — создание действительно чрезвычайного положения; тем самым укрепится и наша позиция в борьбе с фашизмом. Его шанс не в последнюю очередь заключается в том, чтобы его противники отнеслись к нему во имя прогресса как к исторической норме. — Изумление по поводу того, что вещи, которые мы переживаем, «еще» возможны в двадцатом веке, н е является философским[174]. Оно не служит началом познания, разве что познания того, что представление об истории, от которого оно происходит, никуда не годится.
Мои крыла готовы взвиться, Люблю возврата миг.
Будь жизнь моя одна страница, Я б счастья не достиг.
Герхард Шолем. Привет от Аngelus’а[175]
У Клее есть картина под названием «Angelus Novus»[176]. На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем–то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, там о н видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал.
Предметы, которые монастырские правила предлагали монахам[177] для медитации, имели своей целью отвратить их от мира и его суеты. Ход мысли, которым мы здесь следуем, был рожден аналогичным предназначением. В тот момент, когда политики, бывшие надеждой противников фашизма, повержены и подтверждают это поражение предательством своего дела, необходимо освободить мировое дитя политики от тенет, которыми те его оплели. Рассуждение исходит из того, что тупая вера этих политиков в прогресс, их привычка полагаться на послушные им «массы», а также сервильная готовность вхождения в неконтролируемый аппарат[178] были тремя сторонами одного и того же. Оно пытается выработать понимание того, насколько дорого обходится нашему привычному мышлению представление об истории, избегающее всякой связи с представлением, с которым эти политики не желают расставаться.
Конформизм, с самого начала присущий социал–демократии, отличает не только ее политическую тактику, но и ее экономические представления. Он и был причиной позднейшего краха. Ничто не коррумпировало немецкий рабочий класс в такой степени, как мнение, что он плывет по течению. Техническое развитие представлялось ему направлением того потока, который, как он был уверен, его и нес. Отсюда был всего шаг до иллюзии, будто фабричный труд, осуществляемый в ходе технического прогресса, представляет собой политическую активность. Старая протестантская трудовая мораль обрела воскрешение в секуляризированной форме у немецких рабочих. Уже Готская программа[179] не свободна от следов этого недоразумения. Она определяет труд как «источник всякого богатства и всякой культуры».
Предчувствуя недоброе, Маркс возразил, что человек, не располагающий никакой собственностью, кроме своей рабочей силы, «принужден быть рабом других людей, сделавшихся… собственниками». Несмотря на это, путаница нарастает, и вскоре Йозеф Дицген[180] провозглашает: «Труд — это Спаситель Нового времени… В совершенствовании… труда заключено богатство, способное совершить сейчас то, на что прежде не был способен ни один Мессия». Это вульгарно–материалистическое понимание того, что представляет собой труд, не слишком задерживается на вопросе, как его продукт отражается на самих рабочих, пока они не могут располагать им. Оно восприимчиво лишь к прогрессу покорения природы, но не к регрессу общества. Оно уже обнаруживает технократические черты, позднее встречающиеся у фашизма. К этим чертам принадлежит понятие природы, роковым образом отличающееся от социалистических утопий, предшествовавших революции 1848 года. Труд, как он отныне понимается, сводится к эксплуатации природы, которая с наивным удовлетворением противопоставляется эксплуатации пролетариата. В сравнении с этой позитивистской концепцией фантазии, которые дали такую пищу для насмешек над людьми вроде Фурье, обнаруживают поразительно много здравого смысла. Согласно Фурье, результатом правильно организованного общественного труда должны были быть: четыре Луны, превращающие земную ночь в день, устранение льдов с полюсов, опреснение морской воды и переход хищников на службу человеку. Все эти видения служат иллюстрацией труда, который, не эксплуатируя природу, способен помочь ей разродиться творениями, дремлющими в зародыше у нее во чреве. В качестве дополнения коррумпированного понятия труда выступает такая природа, которая, как выражался Дицген, «дана нам даром».
Нам нужна история, но мы будем обходиться с ней иначе, чем изнеженный праздношатающийся в садах науки.
Ницше. О пользе и вреде истории для жизни
Субъект исторического познания — сам борющийся, угнетенный класс. У Маркса он выступает как последний из закабаленных, как отмститель, завершающий от имени поколений поверженных дело освобождения труда. Эта позиция, еще раз на короткое время ощущавшаяся в «Союзе Спартака»[181], с самого начала вызывала у социал–демократии чувство неудобства. За три десятилетия ей удалось почти вытравить из памяти имена вроде Бланки, одно звучание которых сотрясало прошедшее столетие. Она удовольствовалась тем, что предложила рабочему классу роль избавителя грядущих поколений. Тем самым она подрезала его становую жилу. В этой школе класс отучился и от ненависти, и от готовности к жертвам. Потому что и то, и другое питается образом порабощенных предков, а не идеалом освобожденных внуков[182].
Ведь наше дело становится день ото дня яснее, а народ— день ото дня умнее.
Йозеф Дицген. Социал–демократическая философия
Теория социал–демократии, а в еще большей мере практика определялась понятием прогресса, не следовавшим действительности, а имевшим догматические амбиции. Прогресс, каким он рисовался в умах социалдемократов, был, во–первых, прогрессом самого человечества (а не только его навыков и знаний). Во–вторых, он не имел завершения (в соответствии с бесконечной способностью человечества к совершенствованию). В–третьих, по сущности своей он был неостановим (как спонтанно осуществляющий движение по прямой или по спирали). Каждая из этих характеристик противоречива и каждая может быть подвергнута критике. Однако критика должна, если уж говорить всерьез, идти дальше этих характеристик и ориентироваться на нечто, присущее всем им. Представление о прогрессе человеческого рода в истории неотделимо от представления о его поступательном движении, осуществляющемся в пустом и гомогенном времени. Критика этого представления о поступательном движении должна служить основанием критики представления о прогрессе вообще.
В истоках скрыта цель.
Карл Краус. Сентенции в стихах
История — предмет конструкции, место которой не пустое и гомогенное время, а время, наполненное «актуальным настоящим» [Jetztzeit]. Так, для Робеспьера Древний Рим был прошлое, заряженное актуальным настоящим, прошлое, которое он вырывал из исторического континуума. Французская революция понимала себя как возвращение Рима. Она цитировала Древний Рим так же, как мода цитирует одеяния прошлого. У моды чутье на актуальность, где бы та ни пряталась в гуще былого. Мода — тигриный прыжок в прошлое. Только он происходит на арене, на которой распоряжается господствующий класс. Тот же прыжок под вольным небом истории — прыжок диалектический, как и понимал революцию Маркс.
Сознание подрыва континуума истории свойственно революционным классам в момент действия. Великая революция ввела новый календарь. День, которым начинается календарь, работает как историческая камера замедленной съемки. И, в сущности говоря, это все тот же день, постоянно возвращающийся в облике праздничных дней, которые представляют собой дни поминовения. То есть календари отсчитывают время не так, как часы. Они — монументы того исторического сознания, от которого в Европе за последние сто лет не осталось, как кажется, и малейшего следа. Еще во время июльской революции[183]случилось происшествие, в котором это сознание проявилось в полной мере. Когда наступил вечер первого дня боев, то выяснилось, что в нескольких местах Парижа независимо друг от друга и в одно время восставшие стреляли по башенным часам. Один из свидетелей, который обязан своим прозрением, возможно, рифме, писал:
Qui le croirait! on dit qu’irrités contre l’heure,
De nouveaux Josués, au pied de chaque tour,
Tiraient sur les cadrans pour arrêter le jour[184].
Историческому материалисту не обойтись без понятия современности, представляющей собой не переход, а остановку, замирание времени. Ведь это понятие определяет именно ту современность, в которой он пишет свою личную историю. Историзм устанавливает «вечный» образ прошлого, исторический материализм — опыт общения с ним, уникальный. Он предоставляет другим растрачиваться в борделе историзма на шлюху «Когда–то–в–былые–времена». Он не теряет самообладания: ему достанет мужской силы взорвать континуум истории.
Историзм закономерно обретает свой венец во всеобщей истории. С ней материалистическая историография контрастирует методологически, возможно, более четко, чем с какой–либо другой. У всеобщей истории нет теоретической арматуры. Ее принцип суммирующий: она предоставляет массу фактов, чтобы заполнить гомогенное и пустое время. Что же касается материалистической историографии, то в ее основе лежит конструктивный принцип. Для мышления необходимо не только движение мысли, но и ее остановка. Там, где мышление в один из напряженных моментов насыщенной ситуации неожиданно замирает, оно вызывает эффект шока, благодаря которому кристаллизуется в монаду. Исторический материалист подходит к историческому предмету исключительно там, где он предстает ему как монада. В этой структуре он узнает знак мессианского застывания хода событий, иначе говоря: революционного шанса в борьбе за угнетенное прошлое. Он ухватывается за него, чтобы вырвать определенную эпоху из гомогенного движения истории; точно так же он вырывает определенную биографию из эпохи, определенное произведение из творческого пути. Результат такого приема заключается в том, что удается сохранить и сублимировать[185] в одном этом произведении — всю творческую биографию, в одной этой творческой биографии — эпоху, а в одной эпохе — весь ход истории. Питательный плод исторического познания время прячет внутри как драгоценное, но лишенное вкуса семя.
«Жалкие пятьдесят тысяч лет homo sapiens, — заявляет один современный биолог, — в отношении к истории органической жизни на Земле не более чем две секунды в конце полных суток. История цивилизованного человечества была бы, при рассмотрении в этом масштабе, не более чем пятой частью последней секунды последнего часа». Актуальное настоящее (Jetztzeit), резюмирующее, как модель мессианского времени, чудовищной силы сокращением историю всего человечества, до точки совпадает с той фигурой, которую выписывает в универсуме история человечества.
Историзм удовлетворяется тем, что устанавливает каузальную связь между различными моментами истории. Но ни один факт не является, будучи причиной, тем самым уже историческим. Он становится таковым задним числом, благодаря событиям, которые могут быть отделены от него тысячелетиями. Исходящий из этого историк прекращает перебирать в руках череду событий, словно четки. Он улавливает отношения, в которые вступает его собственная эпоха с некоторой совершенно определенной эпохой прошлого. Так он закладывает основание понятия современности как «актуального настоящего», в которое вкраплены осколки мессианского времени.
Нет никаких сомнений, что прорицатели, вопрошавшие время о том, что оно таит в своем лоне, не воспринимали его ни как гомогенное, ни как пустое. Кто сможет живо представить себе это, получит, возможно, некоторое представление о том, как прошедшее время переживается в процессе воспоминания: точно так же. Как известно, иудеям было запрещено испытывать будущее. Зато Тора и Молитвенник наставляли их в воспоминании. Благодаря этому для них было расколдовано будущее, под чары которого попадают те, кто прибегает к помощи прорицателей. Однако поэтому будущее не было для иудеев гомогенным и пустым временем. Потому что в нем каждая секунда была маленькой калиткой, в которую мог войти Мессия.
Тезисы «О понятии истории» написаны Беньямином в начале 1940 года. Сохранилось несколько вариантов текста, а также предварительные заметки к нему. Французский перевод тезисов (по–видимому, выполненный самим Беньямином с помощью кого–то из французов) несколько отличается от немецкого, кроме то, в нем отсутствуют тезисы: VIII, XI, XIII–XIV, XVI, а также приложение. Перевод выполнен по тексту собрания сочинений Беньямина: Benjamin, W. Gesammelte Schriften. Bd. 1/3. S. 691–704. Обнаруженный Дж. Агамбеном Handexemplar отличается от основного текста «Собрания сочинений» одним дополнительным тезисом, следующим после XVII, таким образом, в этом варианте общее число тезисов — 19. «Приложение» в экземпляре Агамбена отсутствует, при этом тезис А отсутствует полностью, а тезис В присоединен к тезису XI. Вот текст дополнительного тезиса экземпляра Агамбена:
В представлении о бесклассовом обществе Маркс секуляризировал представление о мессианском времени. И правильно сделал. Беда началась тогда, когда социал–демократия возвела это представление в «идеал». Идеал определялся в неокантианском учении как «бесконечное задание». А это учение было школьной философией социал–демократической партии — от Шмидта и Штадлера до Наторпа и Форлендера. Как только бесклассовое общество было определено как бесконечное задание, пустое и гомогенное время тут же превратилось, так сказать, в приемную, где более или менее спокойно можно было ожидать наступления революционной ситуации. В действительности же нет ни одного мгновения, которое не обладало бы своим революционным шансом — надо только понять его как специфический, как шанс совершенно нового решения, предписанного совершенно новым заданием. Революционный мыслитель получает подтверждение своеобразного революционного шанса исходя изданной политической ситуации. Но не в меньшей степени подтверждением служит ключевой акт насилия мгновения над определенным, до того запертым покоем прошлого. Проникновение в этот покой строго совпадает с политической акцией, и именно этим проникновением акция, какой бы разрушительной она ни была, дает знать о себе как о мессианской.
Перевод и комментарии С. Ромашко[186]
Задача переводчика
Оглядка на получателя никогда не способствует пониманию произведения или формы искусства. Ошибочно считаться с определенной аудиторией или ее представителями; более того, даже понятие «идеального» получателя наносит вред любым теоретическим изысканиям об искусстве, потому как последние в конечном итоге основываются на постулате бытия и сущности человека как такового. Само искусство также предполагает телесное и духовное существование человека, однако ни в одном своем произведении оно не предполагает человеческого внимания. Ибо ни одно стихотворение не предназначено (gilt) читателю, ни одна картина зрителю, ни одна симфония слушателю.
Предназначен ли перевод читателям, не понимающим оригинала? Утвердительный ответ на этот вопрос, казалось бы, мог объяснить различное положение этих категорий в области искусства. Более того, такое объяснение кажется единственным основанием для того, чтобы повторно говорить «одно и то же». О чем же «говорит» литературное произведение (Dichtung)? Что оно сообщает? Тем, кто его понимает, очень мало.
Существенным в нем является не сообщение, не высказывание. Между тем, любой перевод, несущий сообщающую функцию, не может передавать ничего, кроме сообщения, — а тем самым ничего, кроме несущественного. Таков признак плохих переводов. Но разве литературное произведение не содержит в себе помимо сообщения нечто еще, признаваемое существенным и плохим переводчиком, а именно, то, что обычно слывет необъяснимым, таинственным, «поэтическим» — что переводчик сам может воспроизвести лишь поэтически? В этом, вообще говоря, заключается еще одна отличительная черта плохих переводов: ее можно определить как неточную передачу несущественного содержания. От нее не избавиться, покуда перевод выражает свою готовность служить читателю. Однако если бы перевод предназначался читателю, то же самое было бы справедливо и в отношении оригинала. Если же оригинал существует не ради читателя, то как в таком случае следует понимать перевод?
Перевод есть форма. Рассматривая его как таковую, мы необходимо возвращаемся к оригиналу. В нем заключен управляющий переводом закон: переводимость. Вопрос о переводимости оригинала имеет двоякий смысл. Он может означать: найдется ли во всей совокупности читателей произведения адекватный переводчик? Или же, более непосредственно, допускает ли оно по своей сути перевод, и тем самым — в соответствии со значимостью этой формы — требует ли оно его. В принципе, первый вопрос решается исключительно проблемным путем, второй же аподиктически. Лишь поверхностное мышление, лишая второй вопрос самостоятельного смысла, объявит оба равнозначными. В противовес такому подходу следует указать на то, что определенные реляционные понятия сохраняют свое основное, и быть может, наиболее важное значение, если они применяются не только по отношению к человеку. Так, можно говорить о незабываемой жизни или незабываемом моменте даже тогда, когда все люди о них забыли. А именно, если бы сущность жизни или момента не допускала забвения, этот предикат отнюдь не был бы ошибочным: он бы всего–навсего заключал в себе требование, невыполнимое человеком, и являлся бы тем самым ссылкой на сферу, где оно может быть исполнено — память Бога. Соответственно, переводимостъ языковых произведений по–прежнему должна оставаться предметом рассмотрения даже в том случае, когда они не под силу переводческим возможностям человека. Разве не будут они до определенной степени переводимыми, если к понятию переводимости подойти строго? Именно в таком смысле следует ставить вопрос о том, нуждаются ли в переводе те или иные языковые произведения. Ибо справедливо следующее: если перевод является формой, то переводимость должна относиться к сущности определенных произведений.
Положение о переводимости как существенном свойстве некоторых произведений не означает существенность перевода как такового; оно лишь говорит о том, что заключенный в оригинале глубинный смысл выражается в своей переводимости. Отсюда явствует, что ни один перевод, каким бы хорошим он ни был, не имеет никакого значения для оригинала. Однако в силу переводимости последнего, тот и другой находятся друг с другом в теснейшей связи; более того, прочность связи как раз и обусловлена тем, что перевод для оригинала совершенно неважен. Эту связь можно назвать природной, а точнее жизненной. Сродни тому, как проявления жизни неразрывно связаны с живущим, ничего при этом для него не знача, точно так же и перевод выходит из оригинала. Но не столько из его жизни, сколько из ее «пережитка» (Überleben) — ведь перевод рождается позже оригинала, и, ввиду того, что значительные произведения никогда не находят избранных переводчиков в эпоху своего появления на свет, знаменует собой стадию продолжения их жизни (Fortleben). Идею жизни и ее продолжения (Fortleben) у произведения искусства и нужно понимать именно во всей ее неметафорической вещественности. Даже во времена ограниченного предрассудками мышления догадывались, что жизнь не сводится к органической телесности. Но речь здесь не о передаче ее власти чахлому скипетру души, как это пытался сделать Фехнер, не говоря уже о возможности вывести определение жизни из еще менее веских животных факторов — таких, как чувственное восприятие, могущее характеризовать ее лишь случайно. Концепции жизни воздастся должное лишь в том случае, если мы признаем право жизни за всем, что имеет историю, а не является попросту ее подмостками. Ибо сфера жизни должна в конечном итоге определяться именно историей, а не природой и уж тем более не шаткими понятиями души и чувства. Отсюда следует, что задача философа — понимать всякую природную жизнь как часть более всеобъемлющей жизни истории. И не будет ли тогда несравненно легче осознать продолжающуюся жизнь (Fortleben) произведения, чем живых существ? История великих произведений искусства несет в себе знание источников, в которых они берут свое начало, формы их реализации в эпоху автора и, наконец, их потенциально вечной жизни в последующих поколениях. Там, где обнаруживает себя этот последний момент, он именуется славой. Переводы, являющие собой нечто большее, чем передачу содержания, возникают на свет именно тогда, когда пережившее свое время произведение достигает периода славы. Вопреки утверждениям плохих переводчиков, такие переводы не находятся в услужении у произведения, а скорее обязаны ему своим существованием. Жизнь оригинала каждый раз достигает в них еще более полного расцвета (Entfaltung).
Будучи особой, высокой формой жизни, этот расцвет определяется особой, высокой целесообразностью. Жизнь и целесообразность: их с виду очевидная, но в действительности почти неподдающаяся познанию взаимосвязь раскрывается лишь тогда, когда та цель, которой подчинено действие всех отдельных целесообразностей жизни, ищется не в ее собственной, но в более высокой сфере. Все целесообразные проявления жизни, равно как и сама их целесообразность, в конечном итоге подчинены не жизни, но выражению ее сути, представлению (Darstellung) ее значения. Перевод, исходя из этого, служит выражению теснейших отношений (Verhältnis) между языками. Сам по себе он не в состоянии обнажить это скрытое отношение, не в состоянии воссоздать (herstellen) его; однако представить его (darstellen), зачаточно или интенсивно реализуя его при этом, ему под силу. И это представление (Darstellung) означаемого в попытке, зачатке его воссоздания (Herstellung) принадлежит к уникальному типу представлений, который едва ли можно встретить в сфере неязыковой жизни. Ибо в аналогиях и знаках эта сфера знает иные типы отсылок (Hindeutung), нежели интенсивная т. е., опережающая, предвосхищающая актуализация. А то теснейшее соотношение языков, которое мы подразумеваем, есть, между тем, отношение особого рода схождения. Оно состоит в том, что языки не чужды (fremd) друг другу; они априори, вне зависимости от исторического контекста родственны в том, что они хотят выразить.
Разумеется, может показаться, что попытка представить дело таким образом снова приводит нас после напрасного хождения кружными путями, к традиционной теории перевода. Поскольку родство языков должно доказывать себя посредством переводов, то как это может осуществляться на практике, если не наиболее точной передачей формы и смысла оригинала? Однако подобная теория не сумеет определить природу этой точности, а потому не сможет пролить свет и на то, что в переводах является существенным. В действительности же, родство языков находит гораздо более глубокое и ясное подтверждение именно в переводах, нежели в поверхностной и не поддающейся определению схожести двух литературных произведений. Для того, чтобы понять подлинное соотношение между оригиналом и переводом, необходимо провести рассуждение, аналогичное тому, посредством которого критика познания доказывает невозможность теории отображения (Abbildstheorie). Такое рассуждение демонстрирует, что, если познание состоит в отображении реальности, то в нем нет никакой объективности — даже намека на таковую. Так и в нашем случае доказывается, что перевод был бы невозможен, если бы его глубинной сущностью было стремление к схожести с оригиналом. Ибо в продолжении своей жизни (Fortleben) — а она не могла бы так называться, не будь она преображением и обновлением чего–то живущего, — оригинал претерпевает изменения. Дозревать (nachreifen) могут даже слова с фиксированным значением. То, что в эпоху автора могло являться особенностью его поэтического языка, способно впоследствии породить имманентные тенденции его творения. То, что однажды звучало свежо, может позже превратиться в штамп; то, что ранее было употребительно, с течением времени устаревает. Искать сущность этих превращений, равно как и не менее постоянных изменений смысла в субъективности последующих поколений было бы, прибегая к грубейшему психологизму, принимать причину (Grund) явления за его суть (Wesen). А строго говоря, это было бы отказом бессильной мысли признать один из самых мощных и плодотворных исторических процессов. И даже попытка выдать завершающий штрих автора за последний удар его произведения не спасет подобного рода мертвую теорию перевода. Ибо наряду с тем, как за столетия полностью преображаются звучание и смысл великих литературных трудов, меняется и родной язык переводчика. Ведь в то время, как поэтическое слово продолжает жить в языке автора, даже величайшим переводам суждено вливаться в рост их родного языка (eingehen) и, в конечном итоге, быть поглощенными (untergehen) этим ростом. Перевод настолько далек от того, чтобы быть бесплодным отождествлением двух мертвых языков, что именно ему среди всех прочих литературных форм выпадает следить за дозреванием чужого слова и за муками (Wehen) своего.
Если родство языков действительно проявляется в переводе, то происходит это иначе, нежели по типу смутного сходства копии и оригинала. Во–первых, очевидно, что сходство вовсе необязательно должно сопутствовать родству. Кроме того, понятие родства в данной связи выступает в своем более узком значении: его нельзя исчерпывающе определить общим происхождением оригинала и перевода, хотя для определения этого более узкого значения без концепции происхождения все же не обойтись.
В чем же следует искать родство двух языков, если рассматривать его не как родство историческое? Разумеется не в сходстве литературных произведений или их слов. Скорее любое надисторическое родство языков заключается в том, что в основе каждого в целом лежит одно и то же означаемое, которое, однако, недоступно ни одному из них по отдельности, но может быть реализовано лишь всей совокупностью их взаимно дополняющих интенций. Это означаемое есть чистый язык (die reine Sprache). В то время, как все отдельно взятые элементы иностранных языков — слова, предложения, контексты — являются взаимоисключающими, сами языки дополняют друг друга в своих интенциях. Для четкого уяснения этого одного из основополагающих законов философии языка при рассмотрении языковой интенции необходимо различать между означаемым (das Gemeinte) и способом производства значения (die Art des Meinens). Слова «Brot» и «pain» имеют одинаковое означаемое, способ же производства значения у них разный. Именно благодаря последнему «Brot» для немца и «pain» для француза значат не одно и то же, не являются взаимозаменяемыми и фактически стремятся к взаимоисключению. Однако взятые в абсолютном смысле, оба слова означают одно и то же, идентичное. Таким образом, в то время, как по способу производства значения эти слова противостоят друг другу, сам способ дополняет себя в языках, из которых эти слова происходят. Он дополняет себя в них до означаемого.
В отдельных, недополненных языках означаемое никогда не найти в самостоятельной форме — к примеру, в отдельных словах и предложениях; его можно помыслить лишь как находящееся в состоянии постоянного изменения — до тех пор, пока оно не будет способно выступить из гармонии всех этих способов и предстать чистым языком. А пока этого не произойдет, оно попрежнему будет скрыто в языках. Но если они продолжают подобным образом расти вплоть до мессианского завершения своей истории, именно перевод возгорается от вечного продолжения жизни произведения (das ewige Fortleben) и от бесконечного пробуждения к жизни (das Aufleben) языков, дабы снова и снова подвергнуть испытанию их священный рост: как далеко скрытое в них от откровения? насколько его можно приблизить знанием этой дистанции?
Говоря это, мы тем самым, разумеется, признаем, что всякий перевод — всего лишь некое предварительное средство преодоления чуждости (Fremdheit) языков друг другу. Иное разрешение этой чуждости — не временное и предварительное, но мгновенное и окончательное — остается вне досягаемости человека; по крайней мере, оно недоступно непосредственно. Опосредованно, однако, оно есть рост религий, который обеспечивает вызревание в глубине языков скрытого семени языка высшего. Таким образом, несмотря на то, что перевод, в отличие от искусства, не может требовать длительной жизни для своих продуктов (Gebilde), он безусловно стремится к последней, окончательной, решающей стадии всякого языкового творения. Вырастая в переводе, оригинал как бы поднимается в более высокую, более чистую языковую атмосферу. Разумеется, он не может находиться в ней долго, да и попадает туда далеко не полностью. Но в то же время он, по меньшей мере, удивительно настойчиво указывает на нее как на предопределенное, недоступное царство примирения и исполненное языков. Он не весь (mit Stumpf und Stiel) входит в это пространство, однако его достигает то, что присутствует в переводе помимо передачи содержания. Более точно это существенное ядро можно определить как нечто, само по себе непереводимое. И даже если при передаче содержания выделить из ядра все возможное, а затем перевести, то и тогда предмет устремлений настоящего переводчика останется нетронутым. В отличие от поэтического слова оригинала, его нельзя передать, потому что отношение содержания к языку в оригинале совершенно иное, нежели в переводе. В то время, как в оригинале содержание и язык образуют некое единство сродни фрукту и кожуре, язык перевода объемлет свое содержание, как королевская мантия с широкими складками. Ибо он выражает язык, более высокий, чем он сам, а потому остается несоразмерным, насильственным и чуждым своему собственному содержанию. Эта оторванность (Gebrochenheit) препятствует переводу и одновременно делает его излишним, поскольку каждый перевод произведения на одной и той же ступени развития языка представляет собой в отношении определенного аспекта своего содержания перевод на все другие языки. Перевод, таким образом, пересаживает оригинал в некую сферу, которую с определенной долей иронии можно считать окончательной — в том смысле, что вторично его оттуда уже никуда не перенести, а можно лишь с разных сторон снова и снова возвысить до нее. И не случайно при слове «ирония» здесь вспоминаются рассуждения романтиков. Последние больше, чем кто бы то ни было обладали глубоким пониманием жизни произведений искусства, высочайшим свидетельством которой является перевод. Они, конечно, едва ли рассматривали последний в таком свете; вместо этого их внимание было целиком отдано критике — еще одному, хотя и менее важному моменту продолжения жизни (Fortleben) произведения. Однако, несмотря на то, что теоретические труды романтиков почти не затрагивают перевод, их собственные великие переводы проникнуты ощущением сути и достоинства этой формы. Многое указывает на то, что это чувство вовсе необязательно наиболее сильно развито у поэта; быть может, как раз поэтам оно свойственно менее остальных. Во всей истории не найти ни одного подтверждения бытующему мнению, согласно которому выдающиеся переводчики непременно являются поэтами, а незначительные поэты посредственными переводчиками. Целый ряд таких крупных фигур, как Лютер, Фосс и Шлегель несравненно значительнее как переводчики, нежели авторы литературных произведений, а некоторые из крупнейших — такие, как Гельдерлин и Георге в контексте всего, ими созданного, — вообще выходят за рамки того, что мы вкладываем в понятие просто поэта. И уж тем более просто переводчика. Поскольку перевод является самостоятельной формой, задачу переводчика также можно рассматривать самостоятельно, четко отграничивая ее от задачи поэта.
Задача переводчика состоит в нахождении той интенции в отношении языка перевода, которая будит в нем эхо оригинала. В этом заключен основной признак, по которому перевод радикально отличается от поэтического творчества, поскольку интенция последнего никогда не направлена на язык как таковой в его целокупности, но лишь на отдельные структуры языкового содержания. В отличие от литературного произведения, перевод пребывает не в чаще самого языка, но снаружи, на опушке. Не входя в лес, он шлет туда клик оригиналу, стараясь докричаться до того единственного места, где эхо родного переводу языка рождает отзвук чужого. Интенция перевода отличается от интенции поэтического творчества не только в том, что, беря начало в отдельном иноязычном произведении, она устремлена на весь язык в целом. Помимо своей направленности, она иная и по существу: интенция поэта наивна, изначальна и наглядна, в то время как переводческая — производна, окончательна и умозрительна. Ибо работа переводчика исполнена великим мотивом интеграции множества языков в единый, истинный. Природа последнего такова, что в нем невозможна коммуникация между индивидуальными высказываниями, произведениями и суждениями — ведь они по–прежнему зависят от перевода. Но при этом сами языки гармонируют в нем друг с другом, взаимно дополняя и примиряя свои способы производства значения. Иначе говоря, если существует язык истины, который в тишине и спокойствии хранит все высшие тайны, над раскрытием которых бьется мысль, то этот язык истины — истинный язык. И именно он — язык, в предсказании и описании которого заключено то единственное совершенство, на которое может надеяться философ — именно он в концентрированной форме (intensiv) сокрыт в переводе. Не существует музы философии, как нет и музы перевода. Но вопреки претензиям сентиментальных художников, ни философия, ни перевод не являются чем–то утилитарным (banausisch). Ибо есть философский гений, характеризуемый в первую очередь тоской по тому языку, который проявляется в переводе. «Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême: penser étant écrire sans accessoires, ni chuchotement mais tacite encore l’immortelle parole, la diversité, sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon se trouveraient, par une frappe unique, elle–même matériellement la vérité». Если то, к чему взывают эти слова Маллармэ, полностью соизмеримо (помыслам) философа, то перевод с его зачатками такого языка стоит на полпути между поэзией и учением (Lehre). По сравнению с той и другим, работа перевода менее рельефна, однако его отпечаток в истории не менее глубок.
При подобном подходе к задаче переводчика пути ее осуществления грозят стать все более непроницаемыми. В самом деле, эта задача — заставить вызреть в переводе семя чистого языка — кажется никогда не разрешимой и неопределимой ни одним решением. Разве не потеряет всякое решение твердую почву (Boden), если воспроизведение смысла перестанет быть его мерилом? А ведь именно к этому сводится негативное содержание всего вышеизложенного. Старинные понятия, которыми оперирует любая дискуссия о переводах, суть верность (Treue) и свобода — свобода воспроизведения смысла и подчиненная ей верность слову. Теории же, ищущей в переводе нечто помимо передачи смысла, они служить уже не могут. Разумеется, с точки зрения их традиционного применения эти термины находятся друг с другом в постоянном конфликте. Действительно, что может верность дать воспроизведению смысла? Верность в переводе отдельных слов оригинала почти никогда не передает всю полноту их смысла. Ибо поэтическая значимость смысла для оригинала не исчерпывается одним лишь означаемым, но приобретается в соответствии с тем, как означаемое в определенном слове связано со способом производства значения. Выражаясь языком формулы, словам сопутствует некая чувственная окраска. Дословная передача синтаксиса оригинала полностью опрокидывает то, на чем зиждется всякое воспроизведение смысла, и представляет прямую угрозу для понимания. В глазах девятнадцатого века чудовищными примерами такой дословности были гельдерлиновы переводы Софокла. Итак, совершенно ясно, насколько верное воспроизведение формы затрудняет точность передачи смысла. Поэтому требование дословности не может быть продиктовано интересами его сохранения. Гораздо более значительную услугу этим интересам оказывает необузданная фривольность плохих переводчиков — и она же наносит не менее значительный ущерб литературе и языку. Таким образом, это требование, справедливость которого очевидна, а основание (Grund) скрыто, по необходимости должно рассматриваться частью более прочной (triftig) взаимосвязи. Подобно тому, как для сочленения черепков сосуда нужно, чтобы их последовательность была соблюдена до мельчайшей детали, притом что сами они необязательно должны быть похожи друг на друга, так и перевод вместо того, чтобы добиваться смысловой схожести с оригиналом, должен любовно и скрупулезно создавать свою форму на родном языке в соответствии со способом производства значения оригинала, дабы оба они были узнаваемы обломками некоего большего языка, точно так же, как в черепках узнаются обломки сосуда. Именно поэтому переводу следует практически отказаться от стремления что–то сообщить, передать смысл, и оригинал в этом плане важен ему лишь до той степени, до какой он уже избавил переводчика и его труд от мук оформления и передачи сообщения. И к сфере перевода применимо: «έν άρχη ην ό λόγος», в начале было Слово. В отношении смысла язык перевода, напротив, может — и должен — дать себе волю, чтобы позволить intentio оригинала звучать не как воспроизведение, но гармония, дополнение этого языка — того самого, в котором перевод выражает себя, свой собственный вид intentio. Поэтому, если о переводе говорят, что он на своем языке читается, будто подлинник, для него это отнюдь не высшая похвала, особенно в эпоху его создания. Суть той верности (Treue), которую обеспечивает дословность, как раз и состоит в том, что в ней проявляется страстное стремление произведения к языковой дополненности. Настоящий перевод прозрачен, он не заслоняет собой оригинал, не закрывает ему свет, а наоборот, позволяет чистому языку, как бы усиленному его собственной средой, лишь все более ярко освещать оригинал (urn so voller aufs Original fallen). Это достигается прежде всего благодаря дословности в передаче синтаксиса: она доказывает что именно слово, а не предложение есть первичный элемент переводчика. Ибо если предложение — стена перед языком оригинала, то дословность — аркада.
Верность и свобода в переводе традиционно рассматривались как взаимно противоположные тенденции. Наша более глубокая интерпретация первой из них, на первый взгляд, также не служит примирению той и другой, а наоборот, полностью отрицает оправданность последней. Ведь что понимается под свободой, как не воспроизведение смысла, которое теперь уже не обладает законодательной властью? Только когда смысл языкового произведения может быть объявлен идентичным смыслу своего сообщения, за пределами всякой передачи информации — достаточно близко и, в то же время, бесконечно далеко, скрытое под ней или более различимое, расколотое ею или более могущественное —останется нечто окончательное, решающее. В любом языке и его произведениях в дополнение к тому, что может передаваться, остается что–то непередаваемое. В зависимости от того контекста, в котором оно себя обнаруживает, это непередаваемое может быть либо символизирующим, либо символизируемым: в конечных языковых формах — лишь символизирующим, но в становлении самих языков символизируемым. А то, что стремится представить (darstellen) и даже воссоздать (hersteilen) себя в становлении языков, есть ядро чистого языка. Пусть скрыто или фрагментарно, оно тем не менее активно присутствует в жизни как само символизируемое, но в языковых произведениях живет лишь как нечто символизирующее. В то время, как эта конечная суть — чистый язык — связана в языках только с собственно языковыми элементами (das Sprachliche) и их изменением, в произведениях она обременена тяжелым и чуждым смыслом. Разрешить ее от этого бремени, превратить символизирующее в само символизируемое, вновь обрести чистый язык, сформированный в языковом потоке — такова насильственная (gewaltig) и единственная способность перевода. В этом чистом языке, который больше ничего не означает и не выражает, но является тем не имеющим выражения (ausdruckslose) созидательным словом, что служит означаемым всех языков, — в этом языке всякое сообщение, всякий смысл, всякая интенция в конечном итоге наталкиваются на пласт, в котором им суждено угаснуть. И именно в нем утверждается новое, более высокое право свободы перевода. Она заключена не в смысле передаваемого сообщения — ведь задача верности состоит как раз в избавлении от смысла. Во имя чистого языка свобода перевода скорее проявляет себя в его собственном. Снять на родном языке чары чужого с чистого языка, вызволить его из оков произведения путем воспроизведения (Umdichtung) последнего — такова задача переводчика. Во имя чистого языка он ломает прогнившие барьеры своего — Лютер, Фосс, Гельдерлин, Георге расширили границы немецкого.
А что до роли смысла в отношении между переводом и оригиналом, то понять ее нам поможет следующее сравнение. Подобно тому, как тангента касается окружности мимолетно и лишь в одной точке при том, что не точка, а само касание устанавливает закон, согласно которому прямая продолжает свой путь в бесконечность, так и перевод касается смысла оригинала мимолетно и лишь в одной бесконечно малой точке, чтобы следовать своему собственному пути в соответствии с законом верности в свободе языкового потока. На истинное значение этой свободы — правда, не называя и не обосновывая ее — указал Рудольф Паннвиц в своей работе «Кризис европейской культуры». Его наблюдения, вполне возможно, являются, наряду с афоризмами Гете из примечаний к «Дивану», лучшим из всего опубликованного в Германии о теории перевода. Паннвиц пишет: «наши переводы, включая самые лучшие, исходят из неправильной посылки. Они хотят превратить хинди, греческий, английский в немецкий, вместо того, чтобы превращать немецкий в хинди, греческий, английский. Они гораздо больше благоговеют перед употреблением родного языка, чем перед духом иноязычных произведений… Принципиальная ошибка переводчика в том, что он фиксирует случайное состояние своего языка вместо того, чтобы позволить ему прийти в движение под мощным воздействием иностранного. В особенности, при переводе с языка, очень далекого его собственному, он должен возвращаться к самым первичным языковым элементам и проникать туда, где слово, образ и звук сливаются воедино. Он обязан расширять и углублять свой язык посредством чужого. Мы совершенно не представляем, насколько это возможно, до какой степени язык способен преображаться. Языки отличаются друг от друга почти также, как диалекты — но это справедливо лишь в том случае, если к языку относиться не легко, но достаточно серьезно».
То, насколько перевод способен соответствовать сути этой формы, объективно определяется переводимостью оригинала. Чем ниже качество и достоинство его языка, чем сильнее в нем элемент сообщения, тем меньше перевод получает от него, покуда тяжеловесное преобладание смысла, которое далеко не служит рычагом совершенствования перевода, не сводит последний на нет. Чем выше уровень произведения, тем более оно переводимо даже при самом мимолетном прикосновении к его смыслу. Само собой, это относится лишь к оригиналам. Переводы, со своей стороны, оказываются непереводимыми не из–за присущей им сложности, а из–за той неуловимости, с которой смысл пристает к ним. Подтверждением этому, равно как и всем прочим существенным соображениям, служат переводы Гельдерлина, особенно оба его перевода трагедий Софокла. Гармония языков в них настолько глубока, что язык касается смысла лишь как ветер струн эоловой арфы. Переводы Гельдерлина — прообразы их формы; даже к самым совершенным переводам своих источников они относятся как прообраз (Urbild) к образцу (Vorbild) — в этом можно убедиться, сравнив его перевод третьей Пифической оды Пиндара с версией Борхардта. Именно поэтому они в большей мере, чем остальные таят в себе страшную, первородную (ursprüngliche) опасность любого перевода: врата языка, столь расширенного и форсированного, могут захлопнуться и запереть переводчика в молчании. Переводы Софокла были последней работой Гельдерлина. Смысл в них бросается из пропасти в пропасть и наконец угрожает полностью потеряться в бездонных языковых глубинах. Но есть остановка (Aber es gibt ein Halten). Из всех текстов она дана лишь Священному Писанию, в котором смысл перестает быть водоразделом потоков языка и откровения. Там, где текст напрямую, без смыслового опосредования, во всей своей дословности принадлежит истинному языку, истине или учению (Lehre), он переводим как таковой (schlechthin) — уже не ради себя самого, но исключительно ради языков. От перевода требуется настолько безграничное доверие к этому тексту, что совершенно также, как язык сливается с откровением в оригинале, дословность и свобода перевода должны безо всяких усилий соединиться в форме подстрочника. Ибо в какойто степени все великие тексты — а превыше всех священные — содержат между строк свой потенциальный (virtuele) перевод. Подстрочник Священного Писания есть прообраз или идеал всякого перевода.
Перевод с немецкого Евгения Павлова[187]
Путем Буцефала
Вальтер Беньямин (1892–1940) вдохновлялся одновременно мессианско–марксистскими и архео–эсхатологическими мотивами своего столь богатого на достижения и катастрофы времени, оставаясь, правда, на равном от них удалении. Он искал не сводимые к механицизму, диалектике или мистике способы связи политики и метафизики, так чтобы не жертвовать и не подменять одно другим. В учении о подобии и уподоблении смыкаются различные стороны его мысли. Следуя на уровне выражения сложной эллиптической логике, яркой образности и загадочной метафорике, Беньямин обращался на уровне опыта к частично утраченной бессознательной миметической способности, сохранившейся в языке в режиме нечувственного уподобления. В обращении к соответствующим слоям опыта современного ему искусства, философской мысли и политической практики он видел возможность исправления искажений, которым подверглись в истории человеческие отношения, да и сам образ человека.
В отборе текстов для этого сборника мы исходили из существенной близости его работ по теории языка раннего периода («О языке вообще и языке человека», «Письмо М. Буберу», «Задача переводчика»), знаменитых медиаэстетических исследований условно среднего периода («Краткая история фотографии», «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости») с более поздними текстами о метаморфозах миметической способности в истории («Учение о подобии», «О миметической способности») и мессианском понимания самой истории («О понятии истории», «Теолого–политический фрагмент»).
Все эти тексты связаны и стилистически, и содержательно, находясь друг с другом в постоянной перекличке — одни и те же мотивы, появляющиеся в разных фрагментах, видоизмененные в зависимости от тематики, проясняют друг друга. Продумывание отмеченной выше причудливой связи метаполитических левых убеждений и квазитеологических иудео–христианских мотивов привело Беньямина к парадоксальному учению о моментальном спасении угнетенных в истории, не содержащая, однако, предположений о ее конечной цели и навязываемых мифологическими дискурсами идей судьбы и вины. Мессианский горизонт мысли Беньямина не предполагал веры в персонофицированное «божество», «высший замысел» и божественное происхождение человека. Он скорее ориентировался на открытие возможностей избавления человечества от истязаний и страданий, практикуемых юридическими и полицейскими институтами, культурными и религиозными аппаратами государства, и оправдываемых соображениями контроля за «злой» и «эгоистичной» природой человека для его же «безопасности» («Капитализм как религия», «Судьба и характер»).
Именно в языке, в перешедших в него способностях к нечувственному уподоблению и отвергаемом в нем современностью исконном праве на ложь и абсурд, он усматривал ресурс ненасильственного урегулирования социальных кризисов, установления справедливых способов общественного взаимодействия и свободных культурных практик («К критике насилия», «Автор как производитель»).
Проблемная связь двух упомянутых полюсов мысли Беньямина, опосредованная его теориями языка и перевода, критикой насилия и насилием критики, учением о мимесисе и медиатеорией, может послужить отправной точкой для понимания его творчества в целом.
Потребность в такой книге на русском давно назрела, ибо традиция мысли, учрежденная Беньямином, до сих пор наталкивается в нашей стране на глухое неведение — тем более досадное в свете впечатляющих достижений российского авангарда, редких, но исключительных по своей значимости поисков отечественной философии и бесконечных, наперебой, цитаций Беньямина по поводу и без — со стыдливой оглядкой на английские переводы.
Мысли Беньямина если и похожи на что–то бывшее и известное, при внимательном рассмотрении не вписываются в рамки коллективного институционального разума. Так его часто называют пионером медиатеории XX в. Это наверное справедливо — задолго до Инниса и Маклюэна, немецкий мыслитель обратил внимание на самореферентность средств передачи, хранения и переработки информации, причем в их исторической изменчивости. Однако в отличие от канадских коллег этот берлинский аутсайдер писал о медиальности языка как непосредственности выражаемых в нем духовных содержаний.
Т.е. Беньямин не ограничивался пониманием медиа как средств передачи информации, влияющей на значение самой этой информации. Свою задачу как медиатеоретика он видел не в том, чтобы бесконечно «брачевать» различные виды медий с изменяющимися способами коммуникации, во что на сегодня по преимуществу выродилась медианаука (Medienwissenschaft) и коммуникативная теория (Kommunikationstheorie), а в поиске утраченных в современности способов закрепления знания в опыте, переводящем его в навык как полноценную художественную или трудовую практику.
Открытие соответствующих возможностей в настоящем Беньямин описывал с помощью критического концепта «среда рефлексии» (Reflexionsmedium)[188], уникального для каждого исследуемого им материала — от немецкой барочной драмы до русской игрушки. Речь шла о понимании искусства как перевода немого языка вещей на чистый («божественный») язык в пространстве художественного произведения, минуя связку «средство сообщения — слово, объект сообщения — вещь, адресат сообщения — человек».[189] Ибо слово, по Б., не находится с предметом в произвольной связи означаемое–означающее, и не просто указывает или сообщает о чем–то себе внешнем, а непосредственно выражает его «духовную сущность» в языковой.[190]
Уже в 1916 г. Беньямин много размышляет о сущности языка, и от этих размышлений осталось два важнейших текста, которые впервые публикуются в русском переводе. Первый из них — это письмо, адресованное выдающемуся и уже тогда хорошо известному немецко–еврейскому философу Мартину Буберу, предложившему Беньямину сотрудничать в его журнале «Иудей». Сотрудничество это было для Беньямина неприемлемо прежде всего из политических соображений (Бубер был одним из многих немецких интеллектуалов, кто с энтузиазмом воспринял Первую мировую войну). Это письмо, написанное в разгар войны, было для него настолько важно, что он даже хотел опубликовать его как открытое, но потом передумал. Суть дела была не только в политических разногласиях. Беньямин в этом письме показывает, как он понимает суть языка и его роль в политике.
Главное в теории языка Беньямина — отказ мыслить язык как средство коммуникации. Язык — это медиум — не столько в обычном, сколько в магическом смысле, отсюда идея магии языка. Язык непосредствен в том, что не сводится к выражению извне данного знания, мотивов, мыслей, чувств, он выражает сам себя. Беньямин против инструментализации языка, и в области политической видит ужасающие последствия такой инструментализации — язык становится внешним, техническим средством «нанизывания» слов друг на друга, слугой мотивов, позабывшим о своем предназначении. Инструментализации языка сопутствует его бесконечное расширение, говорливость, называемая Беньямином вслед за Кьеркегором «болтовней». Беньямин противопоставляет ей внутреннее онемение, способность добраться до того, с чем язык не справляется, устранение невыразимого. Используя язык как инструмент политической риторики, мы никак не проблематизируем невыразимое, оно смешивается с тем, о чем можно сказать, и поэтому между словом и делом не остается необходимого зазора, в котором может пробежать магическая искра непосредственности. Новая «непосредственность» должна отвоевываться, это плод невероятных усилий по очищению языка от внешних наслоений и одновременно проникновение через язык в то пространство, где язык спотыкается, «оговаривается», отказывает, дает сбой. Путь в это пространство немоты у Беньямина только намечен. Он пишет, что для него самого такое проникновение остается пока непостижимым. Дальнейшие размышления о проблеме языка Беньямин попытался систематизировать в статье «О языке вообще и о языке человека», законченной в ноябре–декабре 1916 г. Текст не предназначался для печати, а был для автора лишь средством в неокончательном виде уяснить для себя отношение к философии языка. Инструментальной концепции языка Б. противопоставляет идею его магии и новые понятия — имени и откровения, фиксирующие главное в языке — выражение (сообщение) духовной сущности, которая и есть сам язык, его содержательная форма. Постичь магическое существо языка — в этом бесконечная задача философии.
Эта же задача, но уже в мессианском контексте, возникает и в «Теолого–политическом фрагменте», который Адорно датировал 1937–1938 гг., а Шолем и Тидеманн — 1921 г. (вторая датировка считается общепринятой). Жест, который предпринимает Беньямин во «Фрагменте», родствен тому, о чем говорится в письме Буберу: в наш секулярный век остается лишь уступить место мессии, следуя ритму разложения и упадка. Беньямин называет это нигилизмом, но подобно тому, как из немоты, внутри немоты, может родиться магическая мощь имени, и в истории движение в сторону от вечности может стать путем к мессианскому царству.
Тема «мистического понимания истории» как противонаправленного, но укрепляющего одно другое движения двух начал — инстинктивного стремления человечества к счастью и неизбежности мессианского суда, заслуживает более пространного обсуждения. Беньямин представлял его в образе двух противоположно направленных стрел. В этом образе у Беньямина угадываются отзвуки самых различных традиций — от кантовской аналитики возвышенного до гегелевской «хитрости разума». В работе о Кафке Беньямин также цитирует Плутарха: «Чрезвычайно древним является мнение… повсеместно преподаваемое во время мистерий и жертвоприношений, как у варваров, так и у эллинов, согласно которому вселенная не предоставлена воле случая, без ума, разума и управления, но в то же время и не управляется… единым разумом… а что существует два противоборствующих начала и две сталкивающиеся силы, одна из которых придерживается правой руки и ведет напрямую, в то время как вторая поворачивает вспять и отклоняет в сторону; посему жизнь столь разнородна… и подвержена различным перипетиям»[191].
Беньямин указывает здесь на альтернативный философской классике режим сочетания теоретического и практического, который не смешивая соответствующие сферы опыта, не оставлял бы их и совершенно автономными, взаимно непереходимыми. В образном строе произведений великих художников, — Гете, Достоевского, Бодлера, Верлена, Пруста, Кафки и др., — он усматривает способы преодоления дилеммы между священной тайной жизни и профанным страданием живого. Подвергая принципиальной критике привычку консервативных мыслителей объяснять непостижимостью первой неодолимость второго, Беньямин объявляет лживыми и низкими все попытки оправдывать реальные пытки и убийства ссылками на издержки социального развития и принципиальную конечность индивидуального бытия.
Но в его собственной философии истории нет места ни оптимистическим надеждам на гуманитарный прогресс, ни обещаниям райской потусторонности. При этом Беньямин никогда не отказывался от утверждения своеобразного плана трансценденции, оставляя его… пустым. Поэтому его Angelus Novus, подталкиваемый в спину несущимся из рая шквалистым ветром к необеспеченному будущему, пребывает в бездействии, меланхолично созерцая разрушительные последствия прогресса[192]. Отчасти следуя здесь мотивам иудейской мистики, Беньямин понимает образ Клее как предупреждение от заклинаний грядущего и мессианскую обращенность к пребывающему в забвении прошедшему.
Избавление человечества от страданий и глупости дело не ангелов, но нас самих. Каждое новое поколение обладает, по словам Б., «слабой мессианской силой», на которую у поколений ушедших есть свои виды. Ведь именно они отягощают нашу память, именно их несвобода выступает главной причиной наших несчастий. В виду объяснения этой внешней на первой взгляд обязанности или даже долга перед прошлым Беньямин обращает внимание на отсутствие у современников зависти к успехам и счастью будущих поколений, и на странное, обусловленное природой самого времени сообщничество в этом плане с умершими.[193]
Притязания последних на спасение — это наш собственный опыт исторической памяти, из проникающих в сознание элементов которого мы и конструируем историю. Ибо память — это не хранилище нейтральных сведений, а беспокойный подвижный медиум, связывающий нас с коллективным бессознательным прошедших эпох.
Представление об истории как совокупности каузально обусловленных фактов, для понимания которых якобы достаточно чувственно или мысленно переместиться в прошлое, Беньямин квалифицирует как иллюзию. Без учета процессов и инструментов, доставляющих сведения о прошлом в настоящее, мы можем реконструировать только господскую историю, «вживаясь» в победителей. Идея Беньямина не только в том, чтобы обратить внимание и на проигравших, а в том, чтобы критически проанализировать весь актуальный опыт современности, выявляя в нем связи с неразрешенными в прошлом конфликтами и забытыми проблемами. Ведь именно они будоражат память, позволяя вообще говорить об истории в отличие от холостого хода традиции. Неразрешенное в истории, вытесненное в коллективное бессознательное рано или поздно дает о себе знать, не смотря на любые попытки сохранять status quo существующих общественных отношений. Сама история приводится в движение этим настоятельным, но непроизвольным усилием памяти, — молниеносно, словно пробуждаясь от тяжелого сна, — и тем самым избавиться от груза насилия и угнетения, искажающего образ человека.
В книге о Кафке Беньямин анализирует образы, сводящие в коротком замыкании понятия угнетения, ноши и забвения. Но ведут ли они к пробуждению?
Вопрос в том, с какими именно элементами пребывающего в забвении опыта мы хотим установить спасительную корреспонденцию? Для Беньямина в отличие от итальянских футуристов и французских сюрреалистов, немецких фашистов и русских сталинистов, это было не безразлично. Но анализ подобного исторического опыта может привести к неожиданным последствиям.
В XIV тезисе «О понятии истории» Беньямин пишет о диалектическом, революционном прыжке в прошлое, только и способном кое–что подправить в истории, не оспаривая неизбежности ее заката[194]. «Чесать историю против шерсти» — еще один образ, обязывающий остановиться и найти силы для противодвижения, навстречу несущейся из рая буре прогрессирующего забвения.
Для противостояния ей нужно поймать другой, менее ощутимый ветер, веющий из прамира, из «низших пределов смерти». Для странного скакуна, лишившегося ездока, но обретшего память, он может стать попутным.[195]
«Поворот вспять» и «отклонение» о которых шла речь в вышеприведенной цитате из Плутарха, истолковывается Беньямином как «направление пытливой мысли, превращающей наличное бытие в писание», того «пуанта» к которому стремились притчи Кафки. Но если даже Кафка претерпел на этом пути неудачу, то что можно сказать о попытке самого Б. «претворить [его] искусство в учение»?[196]
Крах такой попытки сродни жертвоприношению, ибо верные идеи не обязательно приводят к победе. В исторической реализации они склонны отрицать самих себя. Поэтому Беньямин чаще воздерживается от их утверждения. Скорее он стремился лишить некоторые «истины» их непреложного статуса вечности. В виду подобной «сократической» задачи Беньямин оценивал в некоторых своих текстах претензии на статус идеи таких понятий как миф, трагедия, драма, закон, судьба, характер, насилие, счастье, справедливость и т. д. Это объясняет и смысл его обращения к хоронящемуся за ними экстремальному опыту крайностей.
Было бы довольно дерзко рассчитывать на разрешение за Беньямина его собственных противоречий, в которых он подозрительно охотно признавался своим друзьям (Шолем). Но задача, которую он перед собой ставил, позволяет нам рассчитывать сегодня если не на откровение, то на «отчаяние» и «абсурдную надежду».[197]
Неразрешимая задача, о которой далее пойдет речь, состоит в попытке сделать на уровне языка что–то противоречащее, противостоящее его коммуникативной функции, не отказываясь от нее даже в выборе жанра — научной статьи. Дяя этого видимо придется отказаться от «истины» в пользу науки, подобно тому, как Кафка отказался от нее в пользу талмудической традиции.[198]
Но что могло бы называться здесь наукой? Мы снова возвращаемся к историческому материализму, который, по остроумному замечанию Сл. Жижека, должен сегодня поменяться местами с карликом теологии в знаменитом шахматном аппарате из тезиса «О понятии истории»[199].
Речь, соответственно, пойдет о насилии. Вопрос: удалось ли Беньямину (не говоря уже о Жижеке) решить проблему насилия, довести ее, так сказать, до уровня идеи и тем самым «спасти«? Не придется ли тогда признать этим решением «окончательное решение», которое вольно было Жижеку облекать в безвкусные языковые парадоксы[200], а Деррида чуть ли не уличать самого Беньямина в причастности к нему[201] Чего стоит сегодня различение божественного и мифического насилия, которое Беньямин предложил в 1921 г. в статье «Zur Kritik der Gewalt»? Идет ли речь о принятии божественной необходимости, за которую никто не отвечает, но которая способна остановить круговорот насилия в природе и истории? Бог одновременно договорился с роком, справедливостью, законом и полицией? Едва ли.
Беньямину удалось только поставить проблему насилия критически, в трансцендентальном плане, на уровне условий его возможности (и невозможности):«…является ли нравственным насилие как таковое, насилие как принцип, если его применяют как средство для достижения справедливых целей. Этот вопрос все же требует для своего решения еще одного, более точного критерия — различения в сфере самих средств, без оглядки на цели, которым эти средства служат… если критерий, устанавливаемый позитивным правом для правомерности насилия, можно анализировать только в отношении его смысла, то сферу его применения следует подвергнуть критике с точки зрения его ценности. И тогда такого рода критика должна занять прочную позицию не только вне философии позитивного права, но и вне естественного права»[202].
Он рассматривает насилие одновременно в двух планах: его профанной, исторической действительности и мессианской возможности его преодоления, избегая тем самым ложного выбора между пацифизмом и апологетикой, его либеральными и консервативными объяснениями. Беньямин равно критикует понимание насилия в позитивном и естественном праве: «Ибо если позитивное право слепо в отношении безусловности целей, то естественное право — в отношении условности средств»[203]. Он прежде всего отвергает разделяемую ими обоими догму: «Справедливые цели могут быть достигнуты с помощью оправданных средств, а оправданные средства могут быть обращены к достижению справедливых целей»[204], предлагая рассматривать область средств и целей независимо друг от друга. Это позволяет ему увидеть, что право запрещает насилие со стороны отдельных лиц не из–за нарушения ими законов, не ввиду угрозы собственно юридическим целям («…ибо тогда осудили бы не само насилие как таковое, а лишь насилие, направленное на достижение противоправных целей»[205]), а в целях сохранения самого права.
Здесь, как и в ситуации с войной, смертной казнью, действиями полиции и отношением права к всеобщей забастовке обнаруживаются не столько логические, сколько реальные противоречия правового положения. Они обусловлены насильственными истоками самого права, традиции которых оно активно культивирует. Насилие не проблематизируется, а легитимируется тогда, когда право, пресекая применение насилия частными лицами, монополизирует его на государственном уровне. Ибо ни исполнение закона, ни требование справедливости целями права не являются, выступая только маскировкой естественных целей субъектов этого права, точнее даже самого их бытия. Древнее, выраженное еще в мифах насилие богов и героев выживает, таким образом, и в современном мире. Но никакого благоговения перед мифологическими истоками права у Беньямина нет. Напротив, он доказывает, что именно связь современного права с мифическим насилием свидетельствует о чем–то подгнившем в праве, и приводящем его в конечном счете к саморазрушению.
Так, обращаясь к феномену полиции, Б. демонстрирует, как диалектика правоустанавливающего и правоподдерживающего насилия в правовом государстве дает сбои. В полиции различение установления и сохранения власти по факту устранено. Ибо она не только поддерживает и исполняет требования закона, но и постоянно вводит собственные инструкции, претендующие на статус законов, подрывая тем самым авторитет государства и свидетельствуя о вырождении его собственного насилия.
Цитируя еврейского философа Эриха Унгера, Беньямин подвергает нелицеприятной критике и институт парламентаризма, на словах провозглашающего борьбу с насилием и идущего на компромиссы с борющимися за власть группами общества, но, оставаясь в неведении о революционном насилии (которое привело к жизни сам этот институт) неизбежно деградирующего и открывающего путь голому варварству.
Кстати, когда Б. пишет, что современный ему немецкий парламент не принимает решений, созвучных насилию, которое в них представлено, не стоит торопиться относить его к сторонникам децизионизма и «чрезвычайных мер». Лучше вспомнить, какой институт Веймарской республики в итоге привел Гитлера к власти. Под решениями, созвучными учреждению парламентов, Беньямин, напротив, понимал утраченные в них идеалы ненасильственного урегулирования социальных конфликтов.
Субъективная возможность подобного урегулирования (выраженная в таких качествах, как вежливость, симпатия, миролюбие и доверие) опосредована, по словам Б., конфликтными отношениями людей с вещными благами, т. е. установившимися в обществе экономическими, политическими и культурными отношениями, которые регулируются законодательно. Это означает, что осуществление в межчеловеческих отношениях «чистых средств» на уровне «решений», без предварительного изменения отношений с вещами, невозможно. И хотя Беньямин воздерживается в этой статье от рассмотрения «огромнейшего значения» вопроса о силе закона и тех «высших закономерностей», которые могли бы определять подобное осуществление в перспективе классовых войн, кое–что на тему политики «чистых средств» и возможности «революционного насилия» ему сказать удается.
В качестве техники, с помощью которой можно достигать цивилизованного соглашения без применения насилия, Беньямин предлагает рассмотреть беседу. Он указывает на такое неожиданное свидетельство ненасильственное языковой сферы, как допустимость и ненаказуемость в ней лжи. Проникновение в эту сферу права, выражающееся в наказании за обман и лжесвидетельство, связано, по его тонкому наблюдению, с теми же обстоятельствами, что привели его к разрешению рабочих забастовок, противоречащих интересам государства. Наказание лжи было обусловлено страхом права перед насильственными действиями, которые может вызвать ложь у обманутых, а не моральным осуждением ее самой. А так как страх перед проявлениями предполагаемого насилия противоречит собственной насильственной природе права, то оно, отрицая самое себя, неизбежно приходит к упадку. В запрете на обман право, по наблюдению Б., умаляет роль чистых, ненасильственных средств, так же, как разрешая забастовку, опасается насильственных действий, которым боится противостоять.[206]
Однако оценка языка как принципиально свободной от насилия сферы становится понятна только в контексте учения Беньямина о чистом языке «божественных» имен. Ибо связанный с «истинами» права — вины и наказания, дознания и признания, и, в конечном счете, пониманием человека как насильника и убийцы, преступника и зверя, удерживаемого только цепью законов, — язык, напротив, представляет собой одно из самых изощренных орудий насилия. Беньямин об этом знает.
Отсюда и догадка: тема лжи, которая столь неожиданно всплывает у Беньямина в этой статье при анализе техники ненасильственных отношений, является не только симптомом разложения права, но и принципиальной характеристикой чистого языка в его столкновении с правовым дискурсом. Мы намекаем на возможность понимания языка именно в модусе лжи, как не соответствующей действительности фикции, как абсурда, которые воспринимаются юридическим сознанием в качестве прямой угрозы своему существованию (как только (литературные) призраки языка выбираются из резерваций литературоведения). Ибо только право оценивает такое употребление языка буквально, характеризуя и преследуя его как ложь.
Беньямин продумывает способы ненасильственного использования языка, учитывая непреодолимость самого насилия в истории. Он уподобляет эту двусмысленную ситуацию неразрешимому вопросу о «правильном» и «неправильном» в становлении языков. Ведь неразрешимость последнего не мешает людям общаться. Но именно по аналогии с идеей «чистого, божественного языка», исключающего язык общения и сообщения в статье о языке 1916 г., Беньямин в финале своей Критики насилия предлагает альтернативу этим роковым обстоятельствам в концепции «чистого, божественного насилия».
Он пытается обосновать позицию, которая на фоне пафосных деклараций националистов, мифологов и этатистов всех мастей выглядит довольно беззащитно. Он пишет о тонком чувстве (ein feineres Gefühl), которое «считает себя бесконечно далеким от отношений, в которых судьба являла бы себя во всем величии в насильственном акте».[207] Но это чувство может выступать только субъективной основой для продумывания возможностей принципиальной критики правового насилия. Разум, или даже кантовский рассудок (Verstand), должен, напротив, предельно сблизиться с упомянутыми отношениями.
Ближайшим основанием критики насилия выступает, по Беньямину, некая метафизическая категория, на которую опирается право в своих ситуативных решениях. Речь идет о некоей функции насилия, которая не сводится к средству для достижения некоторой цели (т. е. грабежу), но способна устанавливать относительно устойчивые правовые отношения. Именно этой правоустанавливающей функции насилия, которая подспудно присутствует и в пролетарской всеобщей забастовке, боится государство, противостоя ему насильственным путем.[208]
Здесь у Беньямина просматривается некоторая двойственность, обусловленная сложностью отношений между понятием «божественного насилия» и «правоустанавливающего насилия», функцию которого пролетарская забастовка неким образом задействует, если и не применяет непосредственно. Ибо, с другой стороны, Беньямин настаивает на том, что пролетарская забастовка (в смысле Ж. Сореля, отличавшего ее от «грабительской» политической революции) применяет только чистые средства, и поэтому в высшей степени нравственна.[209]
Столь тревожащий современных критиков Беньямина (Деррида, Жижек, Агамбен) вопрос, находит ли он оправдание революционному насилию, или, точнее, оправдывает ли он его, однозначного ответа в этом тексте не получает. С одной стороны, Беньямин осуждает правоустанавливающее насилие мифа и государства, с другой — одобрительно взирает на «оскорбление чувства справедливости» в результате установления нового права, на которое способна пролетарская забастовка.[210]
Дело в том, что оценивать насильственное действие, по его мнению, следует только на уровне применяемых им средств, а не возможных последствий. Средства пролетарской забастовки ненасильственны — это просто саботаж, воздержание от работы, скорее не деяние, чем акт. Это своего рода «ложь», которая может вызвать насилие со стороны «обманутых», но сама за это не отвечает.
Однако задача Беньямина состояла совсем не в том, чтобы обосновать право угнетенных классов на применение насилия или оправдать его. Тем более что они не нуждаются в подобном обосновании и оправдании, выходя на улицы всякий раз, когда условия труда не позволяют жить дальше. Мы просто встречаемся здесь с различными уровнями анализа. Беньямину принадлежит парадоксальная идея, охотно цитируемая Адорно, что даже смертная казнь может быть и нравственной, и моральной, но ее легитимация — никогда.[211]
Ситуацию с оправданием насилия в революции Б. иллюстрирует на примере заповеди «не убий». Индульгенцию на убийство, «право» убивать всеобщая пролетарская забастовка не выдает. Но сама библейская заповедь не носит однозначно запретного характера: «Заповедь выступает не как мера приговора, а как руководство к действию, предназначенное для отдельно действующего человека или сообщества, которые должны наедине с собой осмыслить ее, а в чрезвычайных случаях даже взять ответственность на себя, отвернувшись от нее»[212]. Поэтому самооборона (напр., в иудейском праве) представляется допустимым насилием, хотя также свидетельствует о противоречивости и неразрешимости правовых основоположений.
С другой стороны, в рамках введенного эксклюзивного различия божественного и мифического, Беньямин действительно преследовал цель обоснования возможности «чистого», революционного насилия. Чистота его остается, однако, сомнительной, хотя и не в отношении к другим видам насилия — правовому, системному, мифическому, а по отношению к себе самому.
Беньямин это понимал, когда оговаривался, что в каждом конкретном случае решать, насколько насилие является чистым, «менее возможно». Однако решение этого вопроса, по Беньямину, может и подождать, ибо проблема не в этом.
Революция для Беньямина — это своеобразное цитирование редких просветлений или вопиющих событий прошлого, только и позволяющее разрывать континуум пустого настоящего, катящегося по инерции забвения к абстрактному будущему из якобы мертвого прошедшего. В этом смысле она не столько «локомотив истории» (Маркс), сколько «стоп–кран, за который хватается его пассажир—человечество»[213]. Беньямин относится здесь к идеям Маркса по–марксистски, избегая превращения справедливо секуляризованного в историческом материализме стремления человечества к счастью в достижимый, но бесконечно откладываемый идеал, ресакрализованный его эпигонами в идее «законов истории».[214]
Но дело здесь не только в диалектике личности и коллектива, произвола и закона, свободной воли людей и величественной поступи истории. Массы не являются, согласно Беньямину, субъектами божественного насилия, они только могут быть его протагонистами. Впрочем и «сам» бог, по Беньямину, таким субъектом не является.
Именно бессубъектностью божественное насилие принципиально отличается от мифического. Беньямин описывает последнее как инстинктивное стремление достигать целей выживания и господства. Но он показывает, что насилие такого рода никогда не является простым средством к достижению такого рода «естественных» целей. Вслед за Ницше он намекает, что даже если человек достигает с его помощью каких–то своих целей, он получает от его применения и нечто дополнительное — избыточное удовольствие. А оно в экономику средствацели никак не вписывается, подтачивая базирующееся на ней право изнутри.
Неопосредованную функцию насилия, представленную в мифах в фигурах гнева богов и героев («Гнев, о богиня, воспой…», и т. д.), Беньямин понимает как чистую манифестацию их бытия (т. е. даже не воли). За этой мифической суппозицией скрывается насилие, которое совершает человек, ссылаясь на свой «праведный гнев». Человек не следует здесь праву, не использует насилие как средство для достижения оправданных целей. Он учреждает новое право. Задача Беньяминовой критики насилия в этом смысле состояла в обнаружении соответствующих «сильных мест» в современном праве, непосредственно происходящих из мифического насилия. Замешанное на несколько иных, нежели «сердечная вежливость и симпатия», чувствах — аффектах гнева и удовольствия от страдания другого человека[215] — оно способно подвести человечество только к порогу самоуничтожения.
Но остается вопрос: кто или что может гарантировать справедливость в человеческом обществе в ситуации непреодолимого в истории насилия? Только «бог». Однако божья справедливость, как иронично замечает Беньямин, разуму большинства людей недоступна. В виду божественного отсутствия его место охотно занимает рок, демоны и мифы. Поэтому Беньямину и понадобилась эта метафора плана трансценденции, разрывающего имманентность жизни во внезапных и необъяснимых вторжениях смерти.
Но божественное насилие отнюдь не сводится к смерти, неизбежности конца, небытию, ибо тогда оно не соответствовало бы приводимым Беньямином демонстративным примерам (как, например, поражение сыновей Коревых из Апокрифа Иисуса, сына Сирахова). Скорее это его изнанка — пустота и абсурд. Поэтому божественное насилие, согласно заключительным строкам «Zur Kritik der Gewalt», — это не средство божьей кары, а только ее печать, столь же бессмысленная на первый взгляд, как и подпись. Она властвует (waltet), но не распоряжается. Мы просто несем ее на себе, как собственное имя (Walter).[216]
Различения, символы, образы, метафоры, к которым прибегает Беньямин в большинстве своих работ, ведут нас, часто ощупью, «сквозь пустоту навстречу своему прошлому». Это и есть путь Буцефала, избавившегося от своего беспокойного наездника и повернувшего вспять, чтобы осмыслить путь, пройденный под седлом великого завоевателя[217]. Д–р Буцефал, этот «новый адвокат» Кафки, занялся на пенсии не то чтобы юриспруденцией, сколько критическим чтением «наших юридических фолиантов». Здесь надо только учитывать, что во времена Александра Македонского Буцефал был еще и животным, медиумом забвения. Соответственно его ретурнель — это еще и «путь к зверинцу».[218]
В анализе этого образа Кафки Беньямин существенно уточняет интересующее его на протяжении всего творчества отношение между мифом, правом и справедливостью: «Право, которое более не применяется, а только изучается — вот это и есть врата справедливости».[219]
Кстати, Ницше, занимавшийся близкой Беньямину проблематикой, за границы своей метафорики также не вышел.[220] Но вот в отношении диалектики забвения и памяти он высказался вполне определенно: человек — это «животное, смеющее обещать».[221]
Ясно, что в теме насилия забыто нечто существенное. Но является ли это забытое оправданием для человека или его вечной, неискупимой виной? Сама природа этого забытого такова, что не позволяет ничего вспомнить, даже будучи названной. Это и означает, что здесь забыто само забвение. Но, как заметил Беньямин, именно благодаря забвению забытое присутствует в нашей современности[222]. Сам язык, в котором мы только и можем что–то вспомнить о насилии, сам дискурс насилия есть знак этого забвения. Печать «божьей кары», о которой писал Беньямин в конце своей «Критики насилия», ничем другим и не является.
II.II.II
И. Болдырев, И. Чубаров