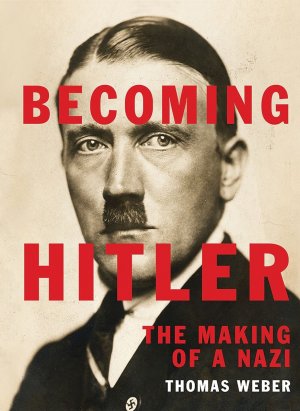
Оксфорд
University Press
Great Clarendon Street, Oxford, 0x2 6dp, United Kingdom
Oxford University Press является департаментом Университета Оксфорда. Его публикации во всём мире содействуют стремлению университета к совершенству в исследованиях, гуманитарных науках и образовании. «Oxford» является зарегистрированной торговой маркой Oxford University Press в Соединённом Королевстве и в некоторых других странах.
Copyright © 2017 by Thomas Weber
Внутренний дизайн книги — Джефф Вильямс
British Library Cataloguing in Publication Data
Data available
ISBN 978-0-19-966462-7
Отпечатано в Великобритании издательством Claus Ltd, St Ives. Plc
© Перевод с английского языка Кузьмин Б. Л., 2020–2021
Редактор перевода Гончарова Т. Н.
Посвящается Саре.
Вступление
14 декабря 1918 года было всё же величайшим днём для национал-социализма. В этот ясный день первый кандидат от национал-социалистической партии был избран в национальный парламент. После подсчёта всех голосов выяснилось, что 51,6 процента электората в Сильвертауне, избирательном округе рабочего класса на границе между Лондоном и Эссексом, со стороны Эссекса, проголосовали за Джона Джозефа «Джека» Джонса от национал-социалистической партии, чтобы тот представлял их в британской палате общин.
Национал-социализм был порождением двух великих политических идей девятнадцатого века. Его отец, национализм, был освободительным движением, нацеленным на превращение династических государств в национальные государства, рождённым в эпоху Просвещения и сметавшим династические империи и королевства в течение полутора столетий после Французской революции. Его мать, социализм, был рожден, когда в Европе распространилась индустриализация, и в этом процессе был создан неимущий рабочий класс. Социализм достиг зрелости после грандиозного кризиса либерализма, который был вызван крахом Венской Биржи в 1873 году.
В своём младенчестве национал-социализм был наиболее успешен там, где экономическая неустойчивость конца девятнадцатого и начала двадцатого веков встречалась с кризисом многонациональных династических империй. Так что неудивительно то, что первые национал-социалистические партии были образованы в Австро-Венгерской империи. Чешская Национальная Социалистическая партия была образована в 1898 году. Затем, в 1903 году, в Богемии была основана Немецкая Рабочая партия. Она переименовала себя в мае 1918 года в Немецкую Национальную Рабочую партию, когда она разделилась на две ветви, одну, базировавшуюся в Австрии, и другую в Судетах — немецкоговорящей территории Богемии. Некоторые сионисты также говорили о своих еврейских «национал-социалистических» мечтах.
Таким образом, национал-социализм не был дитём Первой мировой войны. Тем не менее, во время войны он прошёл пору взросления. Своего политического успеха он достиг, когда социалисты по всей Европе вели битвы во время войны по вопросу — поддерживать ли военные усилия своих наций, и когда политики, равным образом выступавшие против капитализма и интернационализма, порвали со своими прежними партиями. Это была та битва, что дала возможность национал-социализму достичь своего прорывного успеха в Британии, в Вестминстерском дворце.
По контрасту с этим Германия в истории национал-социализма была запоздавшей нацией. После избрания Джека Джонса в нижнюю палату британского парламента прошло шесть лет до избрания первых национал-социалистических политиков в Германии в рейхстаг (тогда под знаменем национал-социалистической партии свободы). А кандидаты от партии, возглавляемой Адольфом Гитлером, были избраны в национальный парламент лишь в 1928 году, через десять лет после появления первого национал-социалистического члена парламента Британии.
Когда Национальная Социалистическая партия была основана в Британии в 1916 году, Адольф Гитлер, потенциальный лидер Национал-социалистической партии Германии, всё ещё был неуклюжим нелюдимом с переменчивыми политическими воззрениями. Эта книга рассказывает историю его метаморфоза в харизматического лидера и коварного политика с твёрдыми национал-социалистическими идеями и экстремистскими политическими и антисемитскими убеждениями. Его трансформация не начиналась до 1919 года и завершилась лишь в середине двадцатых годов 20 столетия. Она произошла в Мюнхене, в который Гитлер переселился в 1913 году: в городе, который, по сравнению с Сильвертауном и многими городами в империи Габсбургов, оставался политически стабильным до конца Первой мировой войны.
В то время как эта книга сосредотачивается на времени между 1918 и серединой двадцатых годов, ключевых годах в жизни Гитлера, она, кроме того, повествует об истории запоздалого успеха национал-социализма в Германии. Это также история политической трансформации Мюнхена, столицы Баварии, в котором Гитлер поднялся к известности — города, который только лишь несколькими годами ранее считался бы одним из наименее вероятных мест для неожиданного возникновения и триумфа демагогии и политического хаоса.
Когда я стал историком, то никогда бы не вообразил того, что стану писать сколько-нибудь обстоятельно об Адольфе Гитлере. Будучи аспирантом, я ощущал как большую честь и ощущаю до сих пор то, что играл очень малую роль — составляя библиографию книги — в работе над первым томом авторитетной биографии Гитлера, написанной Яном Кершоу. К тому же после множества значительных научных трудов о Гитлере, которые были опубликованы между тридцатыми годами 20 века и публикацией в конце девяностых биографии, написанной Кершоу, мне было трудно представить, что осталось ещё сказать что-либо ценное и новое о вожде Третьего Рейха. Как немца, воспитанного в семидесятых и восьмидесятых годах, меня также несомненно, по меньшей мере подсознательно, волновало то, что писать о Гитлере могло показаться защитительным действием. Другими словами, это стало бы возвратом в начало пятидесятых, когда множество немцев пытались возложить вину за множество преступлений Третьего Рейха исключительно на Гитлера и небольшое число окружавших его людей.
Однако, когда я окончил писать свою вторую книгу в середине первого десятилетия 21 века, я начал видеть недостатки в нашем понимании Гитлера. Например, я не был более столь уверен в том, что мы действительно знаем, как он стал нацистом и, следовательно, что мы делаем верные выводы для нашего времени из истории его метаморфоза. Это не означает, что у предшествующих историков не доставало таланта. Совсем напротив; некоторые из самых лучших и наиболее острых книг о Гитлере были написаны между тридцатыми и семидесятыми годами. Но все эти книги могут быть хороши лишь как свидетельство и научное исследование, доступное во время их написания, поскольку все мы неизбежно стоим на плечах других.
К девяностым годам долгое время доминировавшая точка зрения, что Гитлер стал радикалом уже во время взросления в Австрии, была разоблачена как один из его собственных своекорыстных обманов. Отсюда исследователи заключали, что если Гитлер не был радикализирован ни ребёнком и подростком в приграничных к Германии землях Австрии, ни в Вене молодым человеком, то его политическая трансформация должна была произойти позже. Новый взгляд состоял в том, что Гитлер стал нацистом вследствие своих впечатлений во время Первой мировой войны или их комбинации с послевоенной революцией, превратившей имперскую Германию в республику. К середине первого десятилетия 21 века эта точка зрения более не была для меня убедительной, поскольку я начал видеть множество её недостатков.
Таким образом, я вознамерился написать книгу о годах, пережитых Адольфом Гитлером в Первой мировой войне, и о том влиянии, которое они оказали на остальную его жизнь. Продвигаясь через архивы и частные собрания на чердаках и в подвалах на трёх континентах, я осознал, что история, которую рассказали нам Гитлер и его пропагандисты о его участии в войне, не была только лишь преувеличением подлинной сущности. В действительности, сама её суть была недостоверной. Гитлером не восхищались его армейские сверстники за его исключительную смелость, и не был он типичным продуктом пережитого в войне солдатами полка, в котором он служил. Он не был олицетворением неизвестного солдата Германии, который вследствие своего опыта в качестве связного на Западном фронте превратился в национал-социалиста, и который отличается от своих товарищей только исключительными лидерскими качествами.
Книга, которую я написал, Первая война Гитлера (Hitler's First War), показала кого-то весьма отличавшегося от человека, с которым мы были знакомы. После вступления добровольцем в качестве иностранца в армию Баварии на протяжении всей войны Гитлер использовался на Западном фронте. И, как и большинство людей из его воинской части — Шестнадцатого Баварского Резервного пехотного полка, обыкновенно называвшегося «полк Листа[1]» — он не стал радикалом вследствие своего опыта в Бельгии и северной Франции. Он вернулся с войны со всё ещё переменчивыми политическими воззрениями. Какие бы убеждения у него не были тогда относительно евреев, они не были достаточно важными для него, чтобы их озвучивать. Нет свидетельств того, что во время войны существовали трения между Гитлером и еврейскими солдатами его полка.
Его мысли были мыслями австрийца, ненавидевшего монархию Габсбургов всем сердцем и мечтавшего об объединённой Германии. Однако за пределами этого он, похоже, колебался между различными коллективистскими левыми и правыми идеями. Вопреки его заявлениям в Mein Kampf, нет свидетельств того, что Гитлер уже был противником социал-демократии и других умеренных идеологий левого крыла. В письме, написанном в 1915 году своему довоенному знакомому из Мюнхена, Гитлер отразил некоторые из своих политических убеждений военного времени, выражая свою надежду на то, «что те из нас, кому достаточно посчастливится вернуться в отечество, найдут его более чистым местом, менее пронизанным иностранным влиянием, так что ежедневные жертвования и страдания сотен тысяч из нас и потоки крови, что продолжают литься здесь день за днём против интернационального мира врагов, не только помогут сокрушить врагов Германии извне, но и что наш внутренний интернационализм также рухнет». Он добавляет: «Это было бы более ценно, чем любые территориальные приобретения».
Из контекста этого письма ясно, что его неприятие «внутреннего интернационализма» Германии не следует расценивать как направленное во-первых и прежде всего на социал-демократов. У Гитлера в мыслях было нечто иное и нечто менее определённое: неприятие любых идей, которые ставили под сомнение убеждение, что нация должна быть изначальной точкой всех человеческих взаимодействий. Это включало противодействие международному капитализму, международному социализму (т. е. тем социалистам, которые в отличие от социал-демократов не поддерживали нацию во время войны и которые мечтали о будущем без государства и наций), международному католицизму и династическим многонациональным империям. Его неопределённые мысли периода войны об объединённой, не интернационалистской Германии всё ещё оставляли широкий простор для его политического будущего. Его ум определённо не был пустой грифельной доской. И всё же его возможные варианты будущего ещё включали широкий спектр левых и правых политических идей от определённых течений социал-демократии. Вкратце, к концу войны его политическое будущее всё ещё было неопределённым.
Даже если Гитлер, как и большинство солдат «полка Листа», не был политически радикализован между 1914 и 1918 годами, он тем не менее был ничем иным, как типичным продуктом опыта войны людей своей воинской части. Вопреки нацистской пропаганде множество фронтовых солдат его полка вовсе не прославляли его за храбрость. Вместо этого, поскольку он служил при штабе полка, они оказывали ему и его штабным товарищам холодный приём из-за их предположительно комфортной жизни Etappenschweine (в буквальном переводе «свиней из тылового эшелона») в нескольких милях за линией фронта. Они также были убеждены, что такие люди, как Гитлер, получали свои медали за храбрость, поскольку лебезили перед начальством в штабе полка.
Говоря объективно, Гитлер был добросовестным и хорошим солдатом. Но всё же история человека, презираемого фронтовыми солдатами его части и со всё еще неопределённым политическим будущим, не способствовала бы его политическим интересам, когда Гитлер пытался использовать свою службу во время войны для создания себе места в политике в 1920-е годы. То же было верно в отношении факта, что его начальники, высоко оценивая его за надежность, не видели в нём каких-либо лидерских качеств; они видели Гитлера как некий образец того, кто скорее следует приказам, чем отдаёт их. Действительно, Гитлер никогда не командовал ни одним другим солдатом в течение всей войны. Более того, в глазах большинства его товарищей среди вспомогательного персонала — которые, в отличие от фронтовых солдат, ценили его общество — он был немного больше, чем всеми любимый одиночка, кто-то такой, кто не совсем вписывался в их круг и не присоединялся к ним в пивных и борделях северной Франции.
В двадцатые годы Гитлер создаст версию своего жизненного опыта во время Первой мировой войны, которая была в основном вымышленной относительно действующего лица, но которая позволила ему основать политически полезный базовый миф о себе, о нацистской партии и о Третьем Рейхе. В последующие годы он продолжил переписывать это повествование каждый раз, когда это было политически целесообразно. И он охранял свою историю о своём заявленном военном жизненном опыте столь нещадно и столь хорошо, что в течение десятилетий после его смерти верили, что в ней есть истинная сущность.
Если война не «сделала» Гитлера, то возникает очевидный вопрос: каким образом было возможно, что в течение года после его возвращения в Мюнхен, этот непримечательный солдат — неуклюжий одиночка с неустойчивыми политическими взглядами — стал глубоко антисемитским национал-социалистическим демагогом? Равным образом возбуждает любопытство то, что через пять лет он напишет книгу, которая претендовала на решение всех мировых политических и социальных проблем. Со времени публикации книги «Первая война Гитлера» (Hitler's First War) было издано множество книг, пытавшихся ответить на эти вопросы. Принимая в различной степени то, что война не радикализовала Гитлера, они предполагают, что Гитлер стал Гитлером в постреволюционном Мюнхене, когда он впитал идеи, что уже были всеобщими в послевоенной Баварии. Они представляют образ побуждаемого местью Гитлера с талантом политического оратора, который он использовал для поношения тех, кого он считал ответственными за проигрыш Германией войны и за революцию. Кроме того, они рассматривали его как человека, который был чем угодно, но не серьёзным мыслителем, и как человека, выказывавшего мало талантов в роли политического ловкача, по крайней мере до середины 1920-х годов. Вкратце, они изображали его как имевшего более или менее неизменные взгляды и мало собственных амбиций, поскольку он был влеком другими лицами и обстоятельствами.
Читая в последние годы новые книги о Гитлере, я инстинктивно нашёл противоречащей здравому смыслу мысль о том, что он неожиданно воспринял полный набор политических идей вследствие Первой мировой войны и придерживался их всю свою остальную жизнь. Но только во время написания этой книги я понял, насколько далеко от истины эти авторы были. Гитлер не был движимым местью человеком с неизменными политическими идеями, которого вели другие и у кого были ограниченные личные амбиции. Это также было время, когда я пришёл к пониманию важности лет перерождения Гитлера — от конца войны до времени написания им Mein Kampf — для нашего понимания движущих сил Третьего Рейха и Холокоста.
Знакомясь с новой литературой о Гитлере, я также нашёл невозможной ту мысль, что он просто впитал идеи, которые были всеобщими в Баварии, поскольку во время войны он уже был в отношениях любви-ненависти с Мюнхеном и Баварией. Как человеку, мечтавшему об объединённой Германии — пангерманисту, в то время таких людей так именовали — Гитлеру причиняло глубокие страдания католическое, анти-прусское баварское местничество — чрезмерная преданность интересам Баварии — которое царило в самом южном государстве Германии и среди многих солдат его полка. Важно помнить, что Бавария гораздо старше Германии как политическая единица. Когда Бавария стала частью объединённой Германии после основания Германского Рейха во главе с Пруссией в 1871 году, то новая империя была федерацией множества немецких монархий и княжеств, среди которых Пруссия была только самой большой.
Все они сохранили много от своего суверенитета, как очевидно из того факта, что в Баварии остался свой собственный монарх, вооружённые силы и министерство иностранных дел. Кайзер Вильгельм, глава Германии, несмотря на всё своё бряцание оружием, был только первым среди равных из монархов Германии.
Как результат столкновения с сильным возрождением анти-прусских настроений и местничества в Мюнхене, когда он выздоравливал зимой 1916–1917 г от ранения в бедро, которое получил на Сомме, Гитлер не проявил никакого интереса к посещению Мюнхена при двух последующих возможностях, когда ему давали отпуск домой с фронта. Оба раза он предпочёл остаться в Берлине, столице как Пруссии, так и Германского Рейха. Это предпочтение столицы Пруссии над Мюнхеном составило двойное неприятие последнего: это было не только отрицательное решение против Мюнхена и Баварии, но также и положительное в пользу Берлина и Пруссии в то время, когда нигде в Германии не ненавидели Пруссию столь сильно, как в Баварии. В то время многие баварцы думали, что это Пруссия виновата в том, что война всё ещё продолжается.
В противоположность к тому образу, который порой формируется о Баварии как о месте зарождения нацистской партии, политическое развитие Баварии выглядело многообещающим, по крайней мере до конца Первой мировой войны. Глядя с довоенной перспективы, было бы обоснованным предположение, что в конце концов произойдёт полная демократизация Баварии. Часто слышимое мнение, что немецкая демократия была мертворожденной вследствие безуспешной и незавершённой революции в конце Первой мировой войны, что в конечном счёте привело страну в бездну после 1933 года, основано на неверном предположении, что революционное республиканское изменение было предпосылкой для демократизации Германии. Это проистекает от чрезмерного поклонения духу американской революции 1776 года и французской революции 1789 года. Это также является результатом неведения, окружающего то, что можно назвать духом 1783 года, финального года американской войны за независимость. Этот год отмечает начало эры постепенных реформ, постепенного изменения и конституционной монархии в самой Британии и в оставшейся части её империи. В течение последующего столетия или около того дух 1783 года был столь же успешен по всему земному шару, как был успешен дух 1776 и 1789 годов в распространении свободы, правового государства и гуманитарных идеалов, и в поощрении демократизации. Решающим образом доморощенная политическая традиция Баварии разделяла свои главные черты с духом 1783 года, но не с духом 1776 и 1789 годов.
Бавария до войны уверенно шла по пути к демократизации своей политической системы. Кроме того, довоенные социал-демократы, либералы и по меньшей мере прогрессивное крыло католической партии центра — все приняли путь к постепенным реформам и к конституционной монархии. Вследствие их действий члены баварской королевской семьи также приняли постепенное изменение в направлении парламентской демократии уже до войны. Это в особенности относилось к кронпринцу Руппрехту, бывшему номинальным претендентом от Стюартов на британский трон, который был известен своими литературными произведениями о его приключениях по всему миру, включая исследования Индии, Китая и Японии, и своими путешествиями инкогнито с караваном по Среднему Востоку, которые в том числе привели его в Дамаск, где он был очарован еврейской общиной города. Это также равным образом верно в отношении сестры короля Людвига, принцессы Терезы Баварской. Она не только приобрела известность как зоолог, ботаник и антрополог, исследуя дикие местности в Южной Америке, внутренней части России и в других местах, но также она была известна в своей семье как «демократическая тётушка».
Во многих отношениях принцесса Тереза воплощала собой город, в котором она жила и который даст рождение нацистской партии. Мюнхен был старым средневековым городом, который в течение веков был резиденцией династии Виттельсбахов, правившей Баварией. Однако, поскольку Бавария долгое время была европейским захолустьем, Мюнхен уступал в размере и в значении крупным городам Европы. И всё же к восемнадцатому веку началось превращение Мюнхена в изысканный город искусств. К тому времени, когда в него прибыл Гитлер, он славился своей красотой, своими искусствами и своим либерализмом, что сосуществовало с традиционной баварской жизнью, с упором на католическую традицию, культуру пивных залов, кожаных штанов и духовых оркестров. Жизнь в Швабинге, наиболее богемном предместье Мюнхена, напоминала жизнь в парижском Монмартре, в то время как жизнь всего лишь через несколько улиц в основном была схожа с жизнью жителей баварской деревни, поскольку большая часть населения Мюнхена переехала в город только лишь в предшествующие десятилетия из баварской сельской местности. Довоенный Мюнхен едва ли был городом, где мог бы родиться политический экстремизм.
С написанием книги «Первая война Гитлера» мне стало ясно, что все наши предыдущие объяснения того, как Адольф Гитлер превратился в нациста, более не являются логичными. В то время как исследования и написание книги позволили мне понять, какую роль война в действительности играла в развитии Гитлера и какую роль придуманная им история о его военном опыте будет играть в политическом смысле в грядущие годы, это также сформулировало новую загадку: как стало возможным то, что Гитлер превратился в знаменитого пропагандиста возникающей нацистской партии в течение всего лишь одного года, и вскоре после этого стал не только лидером партии, но и искусным и умелым политическим дельцом?
Ответ на этот вопрос, который был дан множество раз в различных вариациях с момента публикации Mein Kampf, состоял в том, чтобы представить Гитлера как человека, вернувшегося с войны с радикальной, но неопределённой предрасположенностью к правым политическим взглядам; как кого-то, кто не высовывался в течение месяцев революции, которую он пережил в Мюнхене, и кто затем вдруг осенью 1919 года стал политизирован, впитывая как губка и усваивая все идеи, выражаемые людьми, с которыми он встречается в армии в Мюнхене. Относясь с глубоким уважением к историкам, выражающим эти взгляды, я всё же стану доказывать в этой книге, что сохранившиеся свидетельства о том, каким образом Гитлер превратился в нациста, указывают в совершенно ином направлении.
«Становление Гитлера» также оспаривает ту точку зрения, что Гитлер был просто нигилистом и непримечательным человеком без каких-либо истинных качеств. Не был он также до написания Mein Kampf и «барабанщиком» для других. Эта книга не соглашается с утверждением, что Гитлера лучше всего можно понять как кого-то, кто «направлялся» кем-то другим и кто, следовательно был лишь немного более, чем пустая оболочка, на которого немцы могли направлять свои желания и идеи. Более того, эта книга отвергает ту идею, что Mein Kampf был лишь немного более, чем систематизацией идей, распространявшихся Гитлером с 1919 года.
В соответствии с собственным заявлением Гитлера в его квази-автобиографической книге Mein Kampf, опубликованной в середине 1920‑х годов, он стал тем человеком, кого мир знает, в конце войны, во время левой революции, разразившейся в начале ноября и свергшей монархов по всей Германии. В это время он вернулся в Германию после недавнего отравления горчичным газом на Западном фронте. В Mein Kampf Гитлер описывает, как он реагировал на новости, внезапно сообщённые пастором, приписанным к его военному госпиталю в Пазевалке, недалеко от Балтийского моря, что началась революция и что война окончена и была проиграна. В соответствии с Mein Kampf, он выбежал из комнаты, пока пастор всё еще обращался к пациентам госпиталя: «Для меня было невозможно больше там оставаться. В то время как всё вновь начало темнеть перед моими глазами, спотыкаясь, я нащупал свою дорогу обратно в спальню, бросился на койку и зарыл свою пылающую голову в одеяла и подушки».
Описание Гитлером возвращения его слепоты, впервые пережитой на Западном фронте вследствие газовой атаки британцев в середине октября, представляет собой кульминацию драматического превращения, которое предположительно сделало его правым политическим лидером. Он описывает, как в ночи и дни после того, как он узнал о социалистической революции, испытывая при этом «всю боль в глазах», он принимает решение о своём будущем: «Я, тем не менее, твёрдо решил теперь стать политиком».
Предшествующие 267 страниц Mein Kampf были ничем иным, как основой для этого одного предложения. Они подробно описывают, как его детство в глубинке Австрии, проведённые им годы в Вене, и, прежде всего, четыре с половиной года с Шестнадцатым Баварским Резервным пехотным полком за Западном фронте, превратили его в национал-социалиста, из неизвестного солдата в воплощение неизвестного солдата Германии — вкратце, процесс того, как он сначала превратился в человека, которого ослепляет простая мысль о социалистической революции, и затем в радикального правого антисемитского и антисоциалистического политического лидера. Рассказывая в Mein Kampf историю своей жизни, Гитлер следовал условностям воспитательного романа [Bildungsroman], что в своё время немедленно было бы распознано почти всеми его читателями — романа, который рассказывает о том, как главный герой взрослеет и развивается в течение его или её формирующих лет, как морально, так и психологически, выходя в мир и ища приключений.
Наша история начинается сразу же после выпуска Гитлера из госпиталя в Пазевалке и его предположительного драматического превращения. В ней в трёх частях рассказываются две параллельные истории: как Гитлер стал нацистом и превратился в лидера, немедленно узнаваемого для всех нас, а также как Гитлер создал альтернативную, вымышленную версию своей трансформации. Две истории взаимно переплетаются, потому что то, как он создал альтернативное повествование о своём превращении, было составной частью его попыток выстроить для себя место в политике и создать восприятие политического пробела или пустоты, который только он может заполнить. Другими словами, только рассказывая обе истории, можно прояснить, как Гитлер действовал в качестве манипулирующего и коварного политического ловкача.
Часть I. Начало
Глава 1. Государственный переворот
20 ноября 1918 года вскоре после выписки из военного госпиталя в Пазевалке двадцатидевятилетний Адольф Гитлер оказался перед выбором. После его прибытия на Штеттинский вокзал в Берлине по пути в Мюнхен, куда он должен был явиться в демобилизационное подразделение своего полка, у него был выбор из нескольких маршрутов, чтобы попасть на вокзал Анхальтер, откуда отходили поезда на Баварию. Наиболее очевидным был самый короткий — через центр Берлина вдоль Фридрихштрассе. Идя этой дорогой, он, скорее всего, мог видеть или слышать в отдалении огромный социалистический митинг и марш, проходившие в тот день как раз рядом с бывшим имперским дворцом, из которого еще совсем недавно сбежал кайзер Вильгельм II.
Другим вариантом было пройти как можно дальше от социалистических революционеров. Гитлер легко мог это сделать, не теряя много времени, некоторое время направляясь на запад к тому району, из которого он станет править Третьим Рейхом спустя много лет, поскольку вокзал Анхальтер находился от него к юго-западу, а демонстрация была к востоку от него. Третьим вариантом было отклониться к востоку, чтобы вблизи наблюдать социалистическую демонстрацию в честь рабочих, убитых полутора неделями ранее во время революции.
Следуя логике его собственного признания в Mein Kampf о том, как он узнал о революции на предыдущей неделе в Пазевалке, и как при этом событии он был радикализован и политизирован, первые два варианта были единственно истинно правдоподобными, при этом второй был наиболее вероятным. Если его собственная история о том, как он стал нацистом, верна, по всей вероятности он бы попытался проложить дорогу как можно дальше от социалистических революционеров. Это было бы единственным способом избежать риска вновь потерять своё зрение и быть вблизи подвергнутым воздействию той доктрины, которую он столь презирал.
Тем не менее, Гитлер не сделал ничего, чтобы избежать социалистической революционной демонстрации. В сильном контрасте к тому, как он описал в Mein Kampf возвращение своей слепоты и как он игнорировал революцию, он разыскивал левых революционеров, чтобы видеть их своими собственными глазами и ощутить социализм в действии. В действительности, в другом месте в Mein Kampf Гитлер неосторожно допустил, что он буквально отклонился от своего пути, чтобы увидеть, как социалисты демонстрируют силу в тот день: «В Берлине после войны я наблюдал массовую марксистскую демонстрацию перед королевским дворцом и в Лустгартене», — писал он. «Океан красных флагов, красных шарфов и красных цветов придавали этой демонстрации […] мощный облик, по крайней мере, внешне. Я сам мог чувствовать и понимать, сколь легко человек из народа поддаётся гипнотическому очарованию такого грандиозного и впечатляющего спектакля».
Поведение Гитлера в Берлине показывает человека, у которого нет признаков недавнего обращения к национал-социализму с глубокой антипатией в отношении социалистических революционеров. Всё же когда он, в конце концов, сел на поезд, который отвезёт его обратно в Мюнхен, город, охваченный даже более радикальным левым переворотом, чем имевший место в Берлине, то ещё должно было проясниться, как он станет реагировать на каждодневное воздействие революционной жизни.
Гитлер сел на направлявшийся в Мюнхен поезд на вокзале Анхальтер не из-за особенной любви к городу и его обитателям, но по двум различным причинам. Во-первых, у него не было настоящего выбора в этом отношении. Поскольку демобилизационный отдел полка Листа размещался в Мюнхене, ему было приказано проделать свой путь обратно в столицу Баварии. Во-вторых, его самые лучшие надежды воссоединиться со своими фронтовыми товарищами из полкового штаба должны были направить его в Мюнхен.
Даже хотя они и обращались с ним как с несколько чудаковатым человеком, Гитлер ощущал себя чрезвычайно близким к своим братьям по оружию из вспомогательного персонала полкового штаба, в отличие от солдат в окопах. Поскольку его контакты с довоенными знакомыми за время войны иссякли, и он, лишившийся родителей в восемнадцать лет, давно уже прекратил контакты со своей сестрой, сводной сестрой, сводным братом и обширной остальной семьёй, то вспомогательный персонал штаба полка Листа стал его новой квази-суррогатной семьёй. В течение войны он предпочитал общество своих товарищей какому-либо ещё. Когда Гитлер направился на юг от Берлина, солдаты Списочного полка всё ещё служили в Бельгии, но теперь это был лишь вопрос времени, когда члены полкового штаба тоже вернутся в Мюнхен. В то время, как поезд Гитлера, пыхтя, продвигался через равнины и долины центральной и южной Германии, он мог с нетерпением ожидать вскоре воссоединения с товарищами военного времени, к которым был так привязан.
Оказавшись в Мюнхене, Гитлер добрался до казарм демобилизационного подразделения своего полка на Обервизенфельд, в северо-западной части столицы Баварии. По пути он обнаружил город, истощённый более чем четырьмя годами войны и двумя неделями революции. Он проходил мимо осыпавшихся фасадов и по улицам, полным выбоин. Это был город, где краска отставала от большинства поверхностей, трава была не скошена, а парки стали почти неотличимы от дикой местности.
Должно быть, это приводило в уныние того, кто выбрал Мюнхен своим убежищем, имея подданство Австро-Венгерской Империи, — австрийского немца, живущего среди немцев Баварии. Бело-голубые баварские флаги были вывешены повсюду для приветствия возвращающихся воинов, в то время как флагов Германии можно было видеть очень немного. Это свидетельствовало о том, что город всё ещё ставил свою баварскую идентичность выше германской, именно так, как это было, когда Гитлер столкнулся с этим и невзлюбил Мюнхен в зиму 1916–1917 гг. В умах многих людей «германский вопрос» — должны ли все территории с говорящим по-немецки населением действительно быть объединены и жить вместе под одной национальной крышей — всё ещё не был разрешён.
Когда Гитлер шёл по улицам Мюнхена, он встретился с таким вариантом социализма у власти, который, следуя логике его более поздних заявлений, он должен был бы ненавидеть ещё более, чем тот, с которым столкнулся в Берлине. Даже хотя у Баварии была и более умеренная политическая традиция, чем у Пруссии, революция в Берлине возглавлялась умеренными социал-демократами (SPD), в то время как в Мюнхене у руля были более радикальные отколовшиеся независимые социал-демократы (USPD) левого толка. Несмотря на гораздо меньшую опору в народе у радикальных левых, они действовали более решительно и, таким образом, преобладали в Баварии.
Невозможно понять, почему Бавария обеспечит Гитлеру сцену, с которой он начнёт свою политическую карьеру, без понимания особенностей баварской революции, которые поставили её в стороне от большей части остальной Германии. События конца 1918 и начала 1919 года разрушили структуру умеренной баварской традиции, создавая, таким образом, условия, при которых в конечном счёте мог возникнуть Гитлер в качестве национал-социалиста.
В отсутствие опытного вождя, вследствие недавней отставки их больного и слабого здоровьем долговременного председателя Георга фон Волльмара, и основываясь на вере в действенность постепенных реформ и заключения сделок с оппонентами, умеренные социал-демократы в Баварии просто не знали, как извлечь выгоду из неожиданного начала политического хаоса в ноябре 1918 года. В последние дни войны по всей Германии вспыхнули протесты, требовавшие демократизации и скорого окончания войны. Неумение «Баварских Королевских социал-демократов», как с насмешкой именовали умеренных, справиться с ситуацией стало очевидным во время массовой политической демонстрации, которая прошла солнечным днём 7 ноября на Терезиенвизе [ «луг Терезы»], месте проведения знаменитых мюнхенских ежегодных народных пивных фестивалей, «Октоберфест». Демонстрация была созвана скорее для того, чтобы потребовать немедленного мира, а также отречения кайзера Германии Вильгельма II, чем для начинания революции или для требований положить конец монархии как институту власти.
На демонстрации умеренные намного превосходили числом радикалов. И всё же когда мероприятие подходило к концу, у них не хватило решительных лидеров и они были захвачены врасплох, когда вождь независимых социал-демократов Курт Айснер уловил момент. Айснер и его сторонники устремились к военным казармам в Мюнхене, намереваясь пригласить солдат присоединиться к ним в немедленной революционной акции. Тем временем умеренные социал-демократы и большинство присутствовавших на демонстрации отправились домой поужинать и лечь спать.
Когда Айснер и его сторонники достигли военного городка, государственные учреждения Баварии не сумели отреагировать на революционную акцию, происходившую в тот момент в городе. Оглядываясь назад, сумма индивидуальных решений, принятых в ту ночь, вылилась в крах старого порядка. Однако реагировавшие на действия независимых социал-демократов намеревались совершить иное и осмысливали свои принятые в то время решения совсем иначе.
Люди реагировали на местные события часто вполне рационально, не видя, не говоря уже о понимании, картины большего масштаба, и поэтому не предвидя последствия своих действий. Например, организация без необходимости сопротивления действиям Айснера и его сторонников, которые не угрожали неминуемо благоденствию короля Баварии, выглядела бы нецелесообразной поздним вечером 7 ноября по простой причине. Ранее тем вечером король Людвиг III, вовсе без багажа, кроме коробки сигар, которую он нёс в своих руках, покинул город, веря в то, что он покидает Мюнхен просто на время, чтобы пережить бурю.
Если короля не было в городе, а правительственные чиновники все были по домам, то не было непосредственной опасности для безопасности королевской семьи и для правительства. Когда революционеры из независимых социал-демократов достигли первых военных казарм, унтер-офицеры, оставленные дежурными на внеурочные часы, решили, что нет необходимости устраивать битву. Поэтому они разрешили солдатам покинуть казармы и присоединиться к революционерам на улицах Мюнхена, если они так желают. С одним исключением подобные сцены последовательно произошли в казармах по всему городу, включая казармы воинской части Гитлера. Тем временем изредка слышались случайные выстрелы.
До вечера 7 ноября было очень мало признаков того, что народ в Мюнхене требует революционных перемен. Когда швейцарская женщина-фотограф Рене Шварценбах-Вилле, посещавшая свою подругу и любовницу Эмми Крюгер в Мюнхене в дни, предшествовавшие революции, покинула Мюнхен и вернулась в свою родную Швейцарию, то у неё не было и малейшего подозрения, что революция может разразиться в ближайшие часы. Мать Рене отметила в своём дневнике после возвращения своей дочери домой, что она «не заметила ничего, а в тот вечер Баварии стала республикой!»
Только небольшое число решительных и идеалистических радикальных левых вождей, многие из них мечтатели в самом лучшем смысле слова, нежели умеренные социал-демократы, приняло участие в акции тем вечером. По словам Рахель Штраус, врача и сионистской активистки, которая присутствовала на демонстрации днём: «Лишь горстка людей — как утверждают, едва сотня — овладела моментом и начала революцию».
Ближе к полуночи, когда почти все в Мюнхене крепко спали, Айснер провозгласил Баварию свободной республикой, Freistaat — в буквальном переводе, свободным государством — и отдал указание издателям газет обеспечить, чтобы его декларация появилась в утренних газетах. Баварская революция в действительности была левым государственным переворотом, которого мало кто ожидал, и ещё меньше предвидели его наступление. Это не была народная волна протеста, возглавляемая Айснером, которая осуществила революцию; скорее, Айснер ждал, чтобы массы и их вожди отправились спать, прежде чем узурпировать власть. Как телеграфировала в газету Neue Zürcher Zeitung в Швейцарии служба по делам прессы новообразованного Совета рабочих, солдат и крестьян, «буквально в течение ночи с четверга на пятницу после большой массовой демонстрации был успешно совершён умело управляемый переворот».
Утром 8 ноября, когда Мюнхен пробуждался от сна, большинство людей сначала не поняли, что это не будет только лишь ещё один обычный день. Например, Эрнст Мюллер-Майнинген, один из либеральных лидеров Баварии, сказал женщине, сообщившей ему новость о революции, что сейчас не то время года — рассказывать ему первоапрельские шутки. Людвиг III тем временем до полудня не знал, что он стал королём без королевства.
Как написал в своём дневнике Йозеф Хофмиллер, учитель одной из мюнхенских средних школ и умеренный консервативный эссеист, «Мюнхен лёг спать как столица королевства Бавария, но проснулся как столица Баварского „народного государства“». И можно добавить, что даже когда поезд Гитлера из Берлина подходил к Мюнхену позже в тот месяц, то будущий диктатор прибыл в город с довольно умеренной политической традицией — такой, который, несмотря на свой недавний опыт радикального захвата власти решительными действиями сектантского меньшинства, был маловероятным местом для рождения политического движения, которое принесёт в мир беспрецедентные насилие и разрушение.
Когда 21 ноября 1918 года Гитлер в конце концов явился в резервный батальон Второго пехотного полка, демобилизационное подразделение полка Листа, в котором он служил, он снова оказался перед выбором. Он мог выбрать демобилизацию и отправиться домой, что теперь, когда война окончилась, было ожидаемой стандартной процедурой для людей, не бывших профессиональными солдатами. Более того, возвращавшимся в свои демобилизационные подразделения при их прибытии в Мюнхен выдавали заранее отпечатанные документы об увольнении. В качестве альтернативы Гитлер мог принять демобилизацию и затем вступить в один из правых добровольческих корпусов (Freikorps), как называли народное ополчение, сражавшееся в восточных пограничных землях Германии как против этнических поляков, так и против русских большевиков, или защищавших разваливающуюся южную границу Германии. Последнее было бы действием, ожидаемым от человека, антагонистически настроенного и политизированного наступлением социалистической революции.
У Гитлера однако был и иной выбор: предпринять необычный шаг отказа от демобилизации и таким образом поступить на службу новому революционному режиму, что он и сделал, вступив в Седьмую запасную роту Первого запасного батальона Второго пехотного полка. По словам Хофмиллера, это были прежде всего «нескладные молодые люди, уклоняющиеся от работы», кто принимал такое же решение, как Гитлер, и оставался в армии. По контрасту с этим, «домой отправлялись хорошие, зрелые, трудолюбивые солдаты». Большинство солдат, замечает он, «просто возвращались домой. Наши люди чрезвычайно миролюбивы. Долгая война измотала людей на фронте».
В послереволюционном Мюнхене люди, подобные Гитлеру, которые не приняли демобилизацию, слонялись по городу. Их красочный внешний вид был большой разницей по сравнению с их дисциплинированным видом во время войны. «Они одевали свои круглые полевые шапки щегольски заломленными набекрень. На плечах и на груди у них были красные и синие украшения, такие как банты, ленты и маленькие цветы», — как наблюдал Виктор Клемперер, академик еврейского происхождения и журналист во время своего визита в Мюнхен в декабре 1918 года. Клемперер добавил: «Но все они тщательно избегали комбинации красного, белого и черного [цвета имперской Германии], и на их шапках не было следа имперской кокарды, в то время как они сохранили баварскую». В поведении солдат на улицах Мюнхена было мало контрреволюционного. В одном случае одна и та же группа солдат распевала по очереди традиционные баварские военные марши и «Марсельезу» немецких рабочих — песню немецких социалистов, которая пелась на мелодию французского национального гимна с припевом: «Не боясь врага, мы сплотимся и сражаемся! Мы маршируем, мы маршируем, мы маршируем, мы маршируем; через боль и нужду, если потребуется, за свободу, права и хлеб!»
Репутация запасного подразделения Гитлера и подобных ему в Мюнхене была не просто та, что они помогли революции устоять, но такая, что как авангард радикальных изменений они в первую очередь осуществили революцию. Некоторые люди в Мюнхене даже говорили о солдатах, служащих в городе, как о «большевистских солдатах». В самом деле, в дни после революции группы солдат из Второго пехотного полка видели марширующими с красными флагами по Мюнхену.
Решение Гитлера остаться в армии не обязательно было следствием политических соображений. Поскольку его единственным значимым социальным сообществом в то время был вспомогательный персонал полкового штаба, его решение отвергнуть демобилизацию несомненно было следствием осознания, по меньшей мере частично, того, что у него нет семьи или друзей, к которым можно вернуться. Не является невероятным и то, что материальные проблемы также играли роль в его решении остаться в армии. Он вернулся с войны совершенно без средств к существованию. Его сбережения к концу войны составляли 15 марок 30 пфеннигов, приблизительно 1 процент от годового заработка рабочего. Если бы он выбрал демобилизацию, он бы встал перед перспективой жизни на улице, если бы только не исхитрился немедленно найти работу, что было не простым делом вследствие войны. Обращение в австрийское консульство за помощью также было бы напрасным, поскольку в Мюнхене было полно австрийцев. В соответствии с данными консульства, предполагалось, что австрийская дипломатическая миссия в Мюнхене будет обеспечивать двенадцать тысяч австрийских семей, однако у неё попросту не было ресурсов для этого.
Оставаясь в армии, по контрасту с этим, Гитлер получал обеспечение бесплатными жильём, едой и ежемесячным жалованьем приблизительно в 40 марок. Позже в частном разговоре он подтвердит, насколько важным для него было получаемое им армейское обеспечение. «Это было единственное время, когда я был свободен от забот: мои шесть лет с армией», — заявит он 13 октября 1941 года в одном из своих монологов в Верховной Ставке, «ничто не воспринималось очень серьёзно; меня обеспечивали одеждой, которая, хотя и была не очень хороша, всё же была почётна, и пищей; а также жилищем, или же позволением улечься там, где я захочу».
Основной мотив Гитлера в отказе от демобилизации вполне мог быть приспособленческим. Тем не менее, своим активным и необычным решением остаться в армии он продемонстрировал, что не имеет ничего против того, чтобы служить новому социалистическому режиму, если этот выбор позволяет ему избежать бедности, бездомности и одиночества. Вкратце, как минимум, приспособленчество победило политику.
Служба Гитлера не позволяла ему держаться в стороне, поскольку солдатам в Мюнхене было приказано поддерживать и защищать новый порядок. Поскольку всё чаще у людей возникало желание противостоять новому режиму, Курт Айснер вынужден был отказаться от своих пацифистских убеждений и положиться на поддержку тех солдат в Мюнхене, которые, подобно Гитлеру, выбрали отказ от демобилизации. Как замечает 2 декабря Йозеф Хофмиллер: «Толпа пришла к министерству иностранных дел, чтобы заставить Айснера выйти и потребовать от него отставки. Но немедленно подъехал военный автомобиль. Пулеметы, направленные на толпу, заставили ее быстро рассеяться. Солдаты заняли [примыкающий] „Баварский Двор“».
Одной из задач для Гитлера и других солдат в Мюнхене была защита режима от антисемитских атак, которые быстро увеличивались в числе, не в последнюю очередь вследствие бросающегося в глаза вовлечения в революцию евреев, не родившихся в Баварии. Например, как Айснер, так и его главный помощник Феликс Фехенбах были не баварскими евреями. Рахель Штраус и некоторые из её друзей среди установившегося в Мюнхене еврейского сообщества ощущали тревогу с момента взятия власти Айснером по поводу того, как на отношение к евреям может повлиять революция. «Нас в то время стало беспокоить, как много евреев неожиданно стало министрами», — вспоминала Штраус спустя много лет. «Вероятно, дела хуже всего обстояли в Мюнхене; дело не только в том, что было много евреев среди вождей, но даже ещё больше среди правительственных служащих, с которыми сталкиваешься в правительственных зданиях. […] Это была большая беда. Это было началом еврейской катастрофы […] И не то, что мы знаем это только теперь; мы знали это тогда, и мы так и говорили».
Действительно, через несколько часов после свержения старого порядка в Мюнхене стали слышны голоса, обвиняющие новый режим в том, что им управляют евреи. Например, оперная певица Эмми Крюгер, подруга и любовница Рене Шварценбах-Вилле, отметила в своём дневнике 8 ноября: «Оборванные солдаты с красными флагами, пулемёты, „поддерживающие порядок“ — стрельба и крики повсюду — революция в полном разгаре. […] Кто у власти? Курт Айснер, еврей?? О, Боже!» В тот же день Хофмиллер написал в своём дневнике: «Наши еврейские соотечественники, похоже, беспокоятся, что ярость толпы может повернуться против них». Более того, маленькие листовки, направленные против Айснера и евреев в целом, были расклеены на Фельдхеррнхалле, монументе, прославляющем военные победы Баварии в прошлые времена, на месте множества народных собраний.
Через неделю после возвращения Гитлера в Мюнхен его решение остаться в армии было вознаграждено. Оно позволило ему воссоединиться с членом его «суррогатной» семьи на фронте, с которым он был ближе всего во время войны: Эрнст Шмидт, живописец и член профсоюза, связанного с социал-демократической партией. Как и Гитлер, Шмидт выбрал остаться в армии, когда 28 ноября он явился в демобилизационное подразделение Списочного полка. Шмидт вернулся в Мюнхен задолго до того, как другие солдаты полка прибудут обратно в столицу Баварии, поскольку он был в отпуске дома с начала октября. Вследствие развала Западного фронта ему не требовалось более возвращаться в северную Францию и Бельгию.
Шмидт, подобно Гитлеру, был одним из его собратьев-связных в штабе полка на Западном фронте. Это было далеко не единственное сходство между Гитлером и Шмидтом. Оба были не-баварцами, родились в один и тот же год вдали от баварской границы — Шмидт вышел из Вюрцбаха в Тюрингии, в то время как Гитлер родился вблизи южной границы Баварии, в Браунау-ам-Инн в Верхней Австрии. Оба, Шмидт и Гитлер, жили в довоенной Австрии и их общей страстью была живопись: Гитлер как рисовальщик почтовых открыток и честолюбивый художник, Шмидт как художник орнаментов. Они даже внешне выглядели в некоторой степени схоже: оба были худощавы, хотя Гитлер был слегка выше, а у Шмидта были светлые волосы. Как и Гитлер, Шмидт был одинок. Как и Гитлер, он не выказывал какого-либо явного глубокого интереса к женщинам, и подобно Гитлеру, у него не было близкой семьи, к которой можно вернуться. Единственное настоящее различие было в их религиозном воспитании: в отличие от Гитлера, который номинально был католиком, Шмидт, как многие будущие национал-социалисты, был протестантом. Помимо этого, Шмидт и Гитлер выглядели и действовали почти как близнецы.
С возвращением Шмидта в Мюнхен Гитлер мог надеяться, что он сможет просто продолжать свою жизнь, какой она была в полковом штабе во время войны, и которую он нашёл эмоционально столь удовлетворяющей для себя. Если верить последующему свидетельству Шмидта, два друга проводили своё время в дни, последовавшие за их воссоединением, за сортировкой военного обмундирования. При этом Гитлер от всех остальных держался на дистанции. Можно с уверенностью предположить, что эти двое страстно ожидали возвращения в Мюнхен своих товарищей из полкового штаба.
До этой поры в течение двух недель, которые он провёл в столице Баварии после своего возвращения с войны, Гитлер действовал весьма отлично от той истории, которую национал-социалистическая пропаганда будет рассказывать о том, как он стал вождём национал-социалистов. Он был человеком, плывущим по течению и оппортунистом, который быстро приспосабливался к новым политическим реалиям. В его поведении не было ничего антиреволюционного.
Мюнхен, в котором он обретался, был теперь в руках социалистических революционеров, которые, в отличие от вождей большевиков в России, воздерживались от применения силы во время своего переворота — почти совершенно бескровной революции. Более того, лидер этой революции, Курт Айснер, пытался выстроить мосты от социал-демократов к центристам и умеренным консерваторам. Как стало ясно в последующие недели и месяцы, проблема будущего Баварии не состояла в целях Айснера. Она заключалась в том факте, что его государственный переворот разрушил существующие институты и политические традиции Баварии, не заменив их жизнеспособными новыми. На данный момент, однако, Гитлер выказывал мало знаков того, что его беспокоит что-либо из этого. Будущий диктатор Третьего Рейха был не аполитичной личностью, но приспособленцем, для которого стремление избежать одиночества значило больше всего прочего.
Мечте Гитлера о воссоединении со своими товарищами по военному времени не суждено было претвориться. Рано утром 5 декабря, за неделю до возвращения в Мюнхен их братьев по оружию из полка Листа, Гитлер и Шмидт собрали свои пожитки в Луизеншуле, школьном здании как раз к северу от Центрального вокзала Мюнхена, где располагалось их подразделение и где Гитлер выздоравливал зимой 1916–1917 года от своего ранения на Сомме. Они оделись в зимнее обмундирование и отправились в короткое путешествие, которое привело их в Траунштайн, маленький живописный город к юго-востоку от Мюнхена рядом с Альпами, где они должны были нести службу в лагере для военнопленных и гражданских интернированных лиц.
На поезде, который повёз их в Траунштайн, они были в числе 140 рядовых и двух унтер-офицеров из Запасного батальона их полка, которым было приказано нести службу в городе недалеко от австрийской границы. Из этих солдат было отобрано в общей сложности пятнадцать человек для работы в лагере. Состояние здоровья Гитлера скорее всего послужило причиной того, что он попал в списки солдат, направленных в Траунштайн, поскольку местные жители характеризовали подразделение, в котором ему надо было служить, как по сути «команду выздоравливающих».
Гитлер и Шмидт станут позже утверждать для политической выгоды, что они вызвались добровольцами для службы в Траунштайне, так, чтобы поддержать историю о том, что их будущий вождь нацистской партии вернулся с войны как почти полностью сформировавшийся национал-социалист и потому не чувствовал ничего, кроме отвращения к революционному Мюнхену. В Mein Kampf Гитлер утверждал, что его служба «в резервном батальоне моего полка, который был в руках „солдатского“ совета […] настолько внушала мне отвращение, что я решил немедленно уйти снова, если будет возможно. Вместе с моим преданным товарищем по войне, Эрнстом Шмидтом, я теперь прибыл в Траунштайн и оставался там до тех пор, пока лагерь не был закрыт». Шмидт, между тем, позже заявит, что когда искали добровольцев для службы в Траунштайне, «Гитлер сказал мне: „Слушай, Шмидт, давай вызовемся, ты и я. Я не могу здесь больше находиться“. И я тоже не мог! Так что мы вышли вперёд».
Заявления Гитлера и Шмидта противоречат фактам. Даже если они добровольно вызвались исполнять свои обязанности в лагере, их решение всё ещё не было направлено против нового революционного режима, поскольку эти двое всё ещё служили этому самому режиму в Траунштайне. Солдатские советы существовали повсюду в Баварии так же, как они существовали в Мюнхене. Революционные советы были учреждены в военных частях по всей Баварии, на заводах, а также и крестьянами, с надеждой на то, что они более, нежели парламент, теперь представляли народную волю и что они приведут к политическим переменам. Только лишь вступив в Добровольческие корпуса или согласившись быть демобилизованным, мог Гитлер избежать служения режиму Айснера.
Когда Гитлер и Шмидт прибыли в Траунштайн, почти исключительно католический город с населением немногим более восьми тысяч человек, они были встречены впечатляющим видом, особенно после жизни посреди разорённого пейзажа Западного фронта в течение более четырёх лет. В морозный зимний день покрытые снегом величественные горные цепи Баварских Альп, видимые вблизи Траунштайна, выглядели почти нереальными.
Гитлер и Шмидт были теперь членами караульной команды, которая, как и команда пограничной стражи (Grenzschutz), проживавшей вместе с ними, поддерживала новое революционное правительство. В день революции солдаты в Траунштайне действительно приветствовали новую республику. И на волне революции члены караульной и пограничной команд избрали солдатский совет, решительно высказавшись в поддержку нового порядка.
Лагерь, в который были посланы Гитлер и Шмидт, располагался в бывшей соляной фабрике, лежавшей ниже располагавшегося на возвышенности исторического центра Траунштайна. В начале войны здание в форме креста в плане, увенчанное большой дымовой трубой в центре, было огорожено деревянным забором. Хотя лагерь прежде содержал как вражеских гражданских лиц, так и военнопленных, его гражданские интернированные лица покинули лагерь ко времени прибытия Гитлера. Оставшиеся в нём военнопленные, которые не видели себя более заключёнными вследствие окончания войны, теперь проводили своё время, входя и выходя из лагеря, исследуя район или посещая фермы и мастерские, в которых они прежде использовались как работники.
В противоположность утверждению нацисткой пропаганды, что задачей Гитлера было контролировать выход и вход у ворот лагеря, имея в виду поддержку истории о нём как о честном, контрреволюционном будущем нацисте, который избежал безумия Мюнхена, чтобы поддерживать порядок, похоже, что он работал в центре распределения одежды лагеря, выполняя задачи, сходные с теми, что были назначены ему в Мюнхене. Другими словами, Гитлер служил революционному режиму в Траунштайне на должности в самом низу лагерной иерархии.
Когда он прибыл в Траунштайн, людей в лагере было существенно меньше его полной вместимости. Оставлено было только шестьдесят пять французских и приблизительно шестьсот русских военнопленных. Почти определённо это было первый раз в жизни Гитлера, когда он встретил вблизи большое число русских. Он также встретил там группу евреев, которые были поселены вместе, как принадлежавшие к одной этнической группе, поскольку власти лагеря предполагали, что русские военнопленные будут репатриироваться по национальной принадлежности вследствие развала царской империи.
К сожалению, остаётся неясным, какое впечатление произвело на Гитлера знакомство с пленниками из страны, которая в конце концов станет столь значимой для его идеологии, как и с религиозной общиной, которой он вскоре станет столь одержим. Он прибыл в лагерь во время немногих оставшихся трений между русскими военнопленными и их тюремщиками. Пленники, надсмотр над которыми был минимален, ощущали себя политически близкими баварскому вождю Курту Айснеру. Кроме того, Германия и Россия были в состоянии мира между собой с начала 1918 года. Таким образом, непохоже, чтобы ежедневные встречи Гитлера с русскими в Траунштайне должны были иметь немедленное негативное влияние на него. Только позже, существенно позже после того, как он стал правым радикалом, он превратится в русофоба.
Когда Гитлер был не на службе и ходил вверх по скалам в центр Траунштайна, он встречал город, который не ощущал горечь или чувство мщения, по той простой причине, что осознание поражения Германии ещё не проникло в головы людей. Это стало очевидным на параде, который город устроил в начале января 1919 года в честь местных ветеранов, возвращающихся с войны.
В назначенный солнечный зимний день ветераны и члены местных клубов и объединений промаршировали по городу, в котором над частными домами развевались флаги Баварии и местный флаг Траунштайна. Только общественные здания вывесили имперский флаг Германии. Всё время звонили церковные колокола, играли военные марши, салютовали пушки и народ ликовал. В своей официальной речи Георг Фонфихт, бургомистр Траунштайна, чествовал вернувшихся с войны как «победителей».
Несомненно, местные жители знали, что французы и британцы безусловно видели себя победителями в войне и требовали условий мира, отражающих эту реальность. И всё же Гитлер и остальные читатели газет в Траунштайне по всей видимости верили в то, что британцы и французы вряд ли добьются своего и что война окончилась вничью. Осознание людьми реальности поражения Германии, которое станет столь важным для зарождения Гитлера как национал-социалиста, всё ещё было в будущем.
В декабре 1918 года местные газеты в Траунштайне раз за разом сообщали о том, что президент США Вудро Вильсон всё ещё придерживается своих четырнадцати пунктов — наброска нового мирового порядка и послевоенного мирного соглашения, которое отвергает штрафные санкции. Гитлер мог причесть в местных газетах Траунштайна, что Вильсон не верил в аннексии и полагал, что немецкая земля должна оставаться немецкой. Далее, пресса сообщала, что американские официальные лица, недавно прибывшие в Париж в процессе подготовки мирных переговоров, поддерживали членство Германии в должной быть вскоре основанной Лиге Наций и полагали, что интересы Германии должны быть учтены в любом мирном соглашении. Это освещение международных новостей в местных газетах объясняет, почему местным жителям в Траунштайне всё ещё казалось, что их ветераны вернулись домой как «победители», или в самом крайнем случае не как проигравшие.
В конце речи бургомистра Траунштайна все присутствующие запели «Песню Германии» (Deutschlandlied) с её знаменитой фразой «Германия превыше всего» (Deutschland über alles), которой предполагалось завершить мероприятия дня. Но затем произошло нечто, что должно было напомнить Гитлеру, что едва ли в Траунштайне он когда-либо сможет чувствовать себя как дома.
Даже не будучи приглашённым сделать это, лейтенант Йозеф Шлагер — двадцатишестилетний местный житель и ветеран войны на подводных лодках — взошел на трибуну и начал нападать на три группы людей среди присутствующих: увиливающих от работы, «женщин и девушек без чести» (т. е. тех, кто предположительно спал с военнопленными), и «угнетателей пленников [войны]!» Упоминание последней группы было явным указанием на офицеров и стражей лагеря Гитлера и на то, что с интернированными там скверно обращались. Нападки Шлагера на Гитлера и его товарищей не было мнением одиночки. За этим последовали неожиданные аплодисменты из толпы. Это вовсе не говорит о том, что Гитлер лично жестоко обращался с военнопленными, в частности, поскольку он прибыл в Траунштайн только после окончания войны. Но безотносительно того, как он лично обращался с пленниками, поведение стражей лагеря во время войны повлияло на то, как местные вели себя с новыми стражами, тем самым обеспечивая то, что Гитлер и Шмидт не чувствовали себя особенно желанными в Траунштайне.
Находясь в Траунштайне, Гитлер должен был полагаться на газеты и на молву, чтобы следить за продолжением разворачивания нового политического порядка в городе, куда он вскоре должен был вернуться. Новости из Мюнхена подтверждали, что даже хотя революция в Баварии и была более радикальной, чем происходившее в остальной Германии, будущее всё ещё выглядело обнадёживающим. Особенно в канун Нового Года многие в Мюнхене хотели наслаждаться жизнью после лет войны. Как неодобрительно писала в своём дневнике 6 января Мелания Леманн, жена националистического издателя Юлиуса Фридриха Леманна: «Мюнхен ринулся в Новый Год с большим шумом на улицах, множеством стрельбы, резвых танцев. Похоже, что наши люди всё ещё не отдались какому-либо серьёзному осмыслению. После 4 лет лишений солдаты хотят теперь развлекаться, равно как и городская молодёжь».
Зимой 1918–1919 гг. всеобщим настроением в Мюнхене была скорее неопределённость, чем безысходность. Иногда люди были полны надежд и сдержанно оптимистичны в отношении будущего; в другое время они испытывали тревогу, беспокойство и множество сомнений. Мира, в котором они выросли, более не существовало, и многие люди всё ещё гадали для себя, в какого рода будущем мире они хотели бы жить. По всей видимости, они всё время встречались с друзьями и знакомыми, чтобы попытаться понять смысл событий, происходивших и всё ещё разворачивавшихся вокруг них, и поговорить о своих ожиданиях и надеждах на будущее.
В то время, как старый порядок распадался на «хаотическую мешанину безымянных фрагментов», как это выразил поэт, романист и житель Мюнхена Райнер Мария Рильке, всё еще было неясно, как эти фрагменты будут собраны заново, чтобы сформировать нечто новое. Тем не менее, 15 декабря 1918 года Рильке думал, что наступающее Рождество будет гораздо счастливее, чем было предыдущее. Как он писал своей матери, он думал, что дела были не столь плохи в сравнении не с картиной совершенного мира, но с картиной прошлого: «Когда мы сравним, дорогая мама, это Рождество с последними четырьмя, оно представляется мне неизмеримо более обнадёживающим. Сколь сильно не расходились бы мнения и стремления — теперь они свободны».
Даже политически дела выглядели всё ещё обнадёживающе, несмотря на тот факт, что вследствие переворота Айснера и американской политики Бавария уже утратила свой наилучший шанс на успешную демократизацию — шанс, который был бы основан на местных традициях постепенности и реформ, подобных британской конституционной традиции, нежели чем на революционном духе 1776 и 1789 гг. Как написал Йозеф Хофмиллер в своём дневнике 13 ноября: «Я верю, что всеобщее чувство — это то, что революция вещь неплохая, но люди в Мюнхене хотели бы революции, возглавляемой господином фон Дандль [дореволюционный премьер-министр Баварии] […] и, быть может, королём Людвигом, или, ещё лучше, дорогим старым регентом». Он заключил так: «В этом много подобострастия, но также и естественный инстинкт, что у монархии есть свои практические стороны, даже с социал-демократической точки зрения».
В решающий момент кронпринц Руппрехт дал явное согласие на продолжение демократизации Баварии. 15 декабря Руппрехт отправил телеграмму кабинету министров, предлагая создать «национальную конституционную ассамблею». Хотя и существовало растущее возмущение его отцом во время войны, поскольку в глазах многих баварцев Людвиг III стал прислужников пруссаков, но чаще всего это не переходило в постановку вопроса о существовании монархии как института, или даже самой династии Виттельсбахов, правивших Баварией на протяжении семисот лет. В самом деле, многие баварцы видели в кронпринце Руппрехте противоположность Людвигу. Многие славили его за то, как он противостоял пруссакам, поскольку его неприязнь к генералам Паулю фон Гинденбургу и Эриху Людендорфу, бывшими де-факто верховными военачальниками в конце войны, была хорошо известна. Существовал даже широко распространявшийся в Баварии слух о том, что в конце войны Руппрехт отказался продолжать жертвовать своими войсками в конфликте, который был уже проигран, и таким образом нанёс Гинденбургу в противостоянии с ним сильный удар.
В ноябре 1918 года триумф республиканского революционного духа 1776 и 1789 гг. над местным духом постепенных реформ — родственным британской традиции реформирования — непреднамеренно удалил умеренные и стремящиеся к умеренности силы с центра политической сцены. В результате многократно возрос риск того, что экстремистские группы левых или правых смогут сорвать демократизацию Баварии.
Разумеется, революция в Баварии не происходила в изоляции. Она имела место не только в контексте коренных перемен по всей Германии, но также и в процессе великой глобальной фазы разрушительных волнений, смятений и переходов, происходивших со времени убийств коронованных особ и террористических атак анархистов 1880-х годов и позже, через революции довоенного десятилетия до середины 1920-х. И всё же дело тут именно в том, что многие из государств, которые лучше всего прошли через этот период глобального хаоса — в этом они не были сломлены внутренними противоречиями — предпочли путь постепенных реформ и конституционной монархии. Британия и её доминионы, Скандинавия, Нидерланды и Бельгия обратились к разуму. И хотя государства, здесь упомянутые, либо были на стороне победителей в войне, либо в ней не участвовали, монархии на территориях проигравшей стороны не были неустойчивыми. В конце концов, монархия в Болгарии пережила поражение в войне.
В Германии монархия вполне могла бы выжить в конституционной форме, если бы Вильгельм II и его сыновья прислушались к родственникам и многим другим и отреклись. Убеждение реформистов военного времени в том, что политические перемены стали бы наиболее успешны в том случае, если они придут в форме конституционной монархии, не были ограничены реформистами среди социал-демократов, либералов и склонными к реформам консерваторами в Германии. Финляндия, например, в 1918 году пыталась основать конституционную монархию, что, тем не менее, державы-победительницы в войне не допустили. Подобным образом во время войны Томаш Масарик, вождь чешского национального движения, который станет первым президентом Чехословакии, пытался убедить британцев в том, что новое послевоенное независимое государство «может быть только королевством, не республикой». Точка зрения Масарика состояла в том, что только монарх — и только тот, кто не являлся бы членом ни одной из этнических групп в землях чехов и словаков — мог бы предотвращать этническое напряжение и тем самым удерживать страну единой.
Если её собственные политические традиции и институты указывали на умеренное будущее, почему Бавария потерпела поражение в своей лучшей попытке демократизации, что в конечном счёте вывело на сцену Гитлера?
Условия, которые сделали возможным неожиданный коллапс германских монархий, были результатом чувства всеобщего изнеможения и желания мира почти что любой ценой. В общем и целом революция не была по своей природе социальной. Скорее это был бунт против войны. Как заметила в своём дневнике Мелани Леманн через четыре дня после начала баварской революции: «Огромное большинство армии, равно как и народ, хотели только мира, и таким образом мы должны были принять позорный мир: не потому, что мы были разгромлены нашими врагами (мы не были), но только потому, что мы сами сдались, и у нас не было силы терпеть». Более того, люди верили, что предпосылкой заключения приемлемых условий мира — основываясь на четырнадцати пунктах президента Вудро Вильсона и последующих американских заявлениях — была ликвидация монархий. Комбинация этих настроений ослабила иммунную систему Баварии и сделала её почти беззащитной к фатальным ударам. Имел ли в виду Вильсон действительно ликвидацию монархии или только лишь автократии, но он был понят большинством немцев как настаивавший на первом.
Таким образом, поведение держав-победительниц было более важным в прекращении существования монархий в Европе к востоку от Рейна, чем проигрыш этих регионов в войне. В Баварии это способствовало левому путчу и в большой степени определило то, как люди реагировали на переворот. Действия победителей в войне устранили от власти институцию, которая в прошлом часто была как умеренной, так и сдерживающей. На территориях, которыми правила династия Виттельсбахов, чувство коллективного изнурения уменьшило защитные функции и вероятно было наиболее важной причиной для принятия большинством людей как крушения старого порядка, так и переворота Айснера. Стремление к миру почти что любой ценой было чётко и ясно выражено на митингах и собраниях, происходивших в Мюнхене в недели и дни, приведшие к революции.
Хотя наилучший шанс Баварии на успешную демократизацию, основанный на традициях баварской стратегии постепенных изменений и реформ, был погублен революцией Айснера и требованиями победителей в войне, переход к более демократическому будущему вовсе не был мертворожденным. Поскольку политическая трансформация собственно Гитлера была, как это станет ясным со временем, зависимой от политических условий вокруг него, то и будущее Гитлера также всё ещё было неопределённым.
Одна из причин того, что демократизация a la bavaroise [«по-баварски»] не была обречена с самого начала, состоит в готовности умеренных социал-демократов сформировать правительство с радикалами Айснера. В то время как вожди баварской СДПГ предпочли бы исполнить революцию иного рода, они желали сотрудничать с правительством Айснера, таким образом приручая радикалов на левом фланге. Некоторое время эта стратегия СДПГ работала на удивление хорошо, чему помогали собственный примиренческий и благородный идеалистический подход Айснера к политике и его способность, по меньшей мере вначале, осознавать, где остановиться, не заходя чересчур далеко. Хотя он и возглавлял независимых социал-демократов, он не разделял цели крайне левых революционеров в Мюнхене. Айснер рассматривал себя умеренным социалистом более в традициях великого философа Просвещения Иммануила Канта, нежели чем тех, что породили большевиков, произведших революцию в России.
Другая равным образом важная причина того, что демократизация в баварском стиле всё же имела шанс, состоит в прагматической готовности многих членов старой элиты и верноподданных режима сотрудничать с новым правительством, даже если часто их собственное предпочтение явно было в пользу иного политического порядка. Это прежде всего вследствие поведения верноподданных прежнего режима революция прошла так гладко. Когда они проснулись в республике 8 ноября, то предпочли просто согласиться с новыми реальностями, нежели устраивать сражение.
Конечно, само собой разумеется, что многие верноподданные режима предпочли бы реформы скорее, чем ликвидацию старого порядка. И всё же они приняли новый. Даже Отто Риттер фон Дандль, последний премьер-министр короля, убеждал Людвига отречься, добавляя при этом, что он тоже потерял свою работу. Подобным образом Франц Ксавер Швайер, высокопоставленное должностное лицо при короле и непоколебимый роялист, станет тем не менее лояльно служить республике, сначала как чиновник в Берлине и затем в качестве баварского министра внутренних дел. Макс фон Шпайдель, один из бывших командиров военного времени и стойкий монархист, также помогал новому режиму. Через три дня после захвата власти Айснером он отправился к королю Людвигу, чтобы убедить его освободить баварских офицеров от их присяги верности монарху. Так как Людвига нигде нельзя было найти, Шпайдель решил сам выпустить предписание, которое побуждало солдат и офицеров сотрудничать с новым режимом. Даже Михаэль фон Фаульхабер, архиепископ Мюнхена, который полагал, что революция принесла не «конец несчастьям», но «несчастье без конца», сказал священникам своей епархии помогать поддерживать общественный порядок. Он также отдал им указание заменить традиционную молитву за короля в церковных службах «так незаметно, как это возможно» другой молитвой, и поддерживать «официальные отношения с правительством».
Наиболее важными причинами того, почему будущее Баварии выглядело многообещающим, были результаты двух выборов, которые имели место 12 января. Они выявили, что Айснер и его товарищи, независимые социал-демократы, которые возглавляли баварскую революцию во время их переворота, практически не имели никакой поддержки среди населения, и, таким образом, у них не было легитимности. Партия Айснера получила только жалкие 3 места из 180 в баварском парламенте, что означало преобладающую поддержку парламентской демократии, или по меньшей мере её принятие. Более того, суммарное количество голосов за социал-демократов, левых либералов и католическую Баварскую Народную партию (BVP) дало трём партиям в сумме 152 места в новом баварском парламенте. Политические лагери этих партий уже сотрудничали друг с другом на национальном уровне во время войны, продвигая идеи мира без аннексий и конституционных реформ. Теперь, после войны, они были главными силами при основании Веймарской республики, как она была названа по имени города, в котором собралась конституционная ассамблея страны.
Результаты выборов в Национальную Ассамблею, которые имели место спустя неделю, 19 января, выявили существование линии непрерывности поддержки реформистских партий через водораздел Первой мировой войны. Результаты в Баварии доказали, что ни война, ни революция не изменили фундаментально политическое мировоззрение и предпочтения баварцев. Суммарное голосование за СДПГ, левых либералов и политический католицизм в Верхней Баварии был почти точно таким же, как в последние довоенные выборы в Рейхстаг 1912 года: в 1912 году за одну из этих партий голосовали 82,7 процентов избирателей по сравнению с 82,0 процентами в 1919 году. Если человека, совершенно не знающего истории двадцатого века, попросить назвать время катастрофической войны, которая, как говорили позже, всё изменила, пользуясь при этом только результатами выборов в Баварии на протяжении всего столетия, то он или она определённо не выбрали бы период 1912–1919 гг.
В самом деле, результаты выборов в Баварии ставят под вопрос частое предположение о том, что по крайней мере для региона, который станет местом рождения немецкого национал-социализма, Первая мировая война была «зародышевой катастрофой» последующих бедствий двадцатого века. Перспективы демократизации, или по крайней мере умеренного политического будущего в Баварии, продолжали быть обещающими в январе 1919 года, не несмотря на, но вследствие отсутствия разрыва с прошлым. На политические идеи и предпочтения баварцев удивительно мало повлияла война; те же соотношения голосов избирателей, которые в прошлом подпитывали довоенный реформистский политический строй в Баварии, теперь поддерживали новый либеральный парламентский порядок в Германии.
Если вернуться в Траунштайн, то там зрели проблемы, поскольку по словам Ганса Вебера, одного из офицеров лагеря, люди, с которыми служил Гитлер, были индивидами, «которые похоже расценивали свою военную работу после перемирия и революции чисто как средство продолжения своего беззаботного существования за счёт государства. […] Они были самыми отвратительными созданиями из когда-либо бывавших в Траунштайне: ленивые, недисциплинированные, требовательные и нахальные. Они регулярно покидали свои посты, не исполняли своих обязанностей и отлучались без увольнительной». Вследствие их распущенного поведения глава солдатского совета срочно затребовал, чтобы солдат вернули в Мюнхен, когда большинство из оставшихся военнопленных было репатриировано в конце декабря. Запрос был удовлетворён. Однако офицеры в лагере исключили Гитлера и Шмидта из числа тех, кого попросили покинуть Траунштайн. Решение начальников оставить Гитлера, когда отослали так много других стражников, указывает на то, что в глазах его офицеров он продолжал быть добросовестным солдатом и послушным долгу исполнителем приказов, каким он был в течение войны. То есть, в отличие от большинства других солдат, которые были вместе с ним посланы в Траунштайн, он не был ни недисциплинированным, ни бунтовщиком. Всё ещё не было признаков какой-либо трансформации в личности Гитлера, по крайней мере во внешнем проявлении.
По этой причине Гитлер и Шмидт всё ещё были в Траунштайне после того, как большинство военнопленных было отправлено по домам. Не совсем ясно, когда эти двое вернулись в Мюнхен. Сам Гитлер ложно утверждал в Mein Kampf, что они оставались в лагере до его роспуска и что «в марте 1919 года мы снова вернулись в Мюнхен». Это была своекорыстная ложь, поскольку она удобно размещала Гитлера вне Мюнхена во время политического хаоса, который должен был разразиться в конце февраля.
Наиболее вероятно, что Гитлер и Шмидт покинули Траунштайн вскоре после отбытия 23 января 1919 года последних из остававшихся русских военнопленных. С этого времени оставался только основной состав для закрытия лагеря, который был демонтирован в конце февраля. Похоже, что самое позднее 12 февраля Гитлер вернулся в Мюнхен, поскольку в этот день он был переведён из Седьмой роты Запасного батальона Второго пехотного полка во Вторую демобилизационную роту полка.
Тот факт, что Гитлер и Шмидт не были среди стражников, отосланных обратно в Мюнхен, как только большинство военнопленных покинуло лагерь, важен не только потому, что он показывает Гитлера, продолжающего угождать своему начальству. Он также указывает на пропасть, существовавшую между Гитлером и большинством солдат, с которыми он служил, как это было во время войны. Его добросовестная служба вбила клин между недисциплинированным большинством служивших в Траунштайне и им. Как результат, Гитлер и Шмидт продолжали быть чужаками там так же, как они были во время войны в качестве членов полкового штаба.
Когда Гитлер вернулся в Мюнхен, недавний опыт будущего вождя Третьего Рейха на границе Альп не дал ничего, что восстановило бы его против нового революционного режима. Они оба, Шмидт и он, добросовестно служили ему, не делая в этот момент никаких попыток для демобилизации. Их продолжающаяся поддержка правительств Баварии и Германии, несмотря на их превращение из монархий в республики, не образует противоречия с той мыслью, что Гитлер по сути был всё тот же человек, каким он был в течение войны, когда, так же как и теперь, он был в хороших отношениях со своими начальниками и послушно следовал их приказам. В конце концов, многие представители старого режима, включая командира дивизии Гитлера, также служили новому режиму. Но только после возвращения Гитлера в Мюнхен его вовлечённость в новый политический порядок начнёт заходить гораздо дальше, чем у его бывших начальников.
Глава 2. Маленький винтик в машине социализма
Однажды 15 февраля 1915 года поэт-романист Райнер Мария Рильке сидел за своим столом в Мюнхене и разглядывал фотографию, которую графиня Каролина Шенк фон Штауффенберг, его знакомая, вложила в своё последнее письмо. На ней были изображены три сына графини — Клаус, Бертольд и Александр.
Политическая ситуация в Мюнхене резко изменилась к худшему с того времени, когда Рильке написал осторожно оптимистическое рождественское письмо своей матери. Тем не менее, когда он начал писать свое письмо графине Каролине, он пытался оставаться позитивным, выражая на бумаге свою надежду, что из нынешних невзгод вырастет лучший мир для мальчика графини Каролины, «который уже теперь подаёт признаки большого будущего».
Рильке писал: «Кто знает, не доведётся ли нам преодолеть величайшие смятение и опасность так, что следующее поколение вырастет в ощущении естественности этого мира, который будет очень сильно обновлён». Он писал графине Каролине, что существует надежда на то, что несмотря на нынешние лишения, будущее её троих сыновей будет блестящим, «поскольку несомненно за водоразделом войны, несмотря на всю его ужасающую высоту, течение реки должно легко течь в направлении нового и открытого».
Осторожно оптимистичный в отношении будущего двадцатидвухлетнего Клауса и его братьев, он выражал надежду, что нынешний кризис не станет предвестником чего-то худшего в будущем, но приведёт к «решению в пользу гуманизма как такового». В тот день, когда Рильке писал своё письмо, было просто невообразимо, что спустя двадцать пять лет Клаус Шенк фон Штауффенберг и его брат Бертольд будут казнены за попытку убийства 20 июля 1944 года человека, который был теперь лишь двадцатидевятилетним никем, недавно вернувшимся в Мюнхен после своей службы в Траунштайне.
Одной из причин, по которой политическая ситуация в Мюнхене быстро изменилась к худшему к середине февраля, было продолжение экономических трудностей и голода, царивших в городе, который снова стал домом для Гитлера.
Спустя несколько дней после революции эссеист и учитель Йозеф Хофмиллер полушутя выразил сомнение, что революция вряд ли бы произошла, «если бы у нас было приличное пиво». С тех пор дела не улучшились заметно, за что многие в Мюнхене возлагали вину на державы-победительницы в войне. Как вспоминала активная сионистка Рахель Штраус, «заключение перемирия не положило конец блокаде Германии. Это было поистине ужасно. Люди были в состоянии пережить тяготы, зная, что альтернативы нет, это была война. Война окончилась, [но] всё ещё были закрыты границы, голод оставался. Никто не мог понять, почему дозволялось голодать целому народу».
Эти чувства голода и предательства, описанные Штраус, сделали гораздо больше для подпитки политической радикализации города, нежели пережитая война или существовавшие прежде до войны политические настроения. Такова была, по крайней мере, оценка двух офицеров британской разведки, капитанов Соммервиль и Броад, которые были посланы в Мюнхен. В конце января они докладывали в Лондон, что «если только помощь не будет оказана до апреля, когда запасы продовольствия будут истощены, то будет невозможно удержать народ Баварии — уже недоедающий — в известных пределах». Они предсказывали: «Голод приведёт к мятежам и большевизму, и нет сомнений в том, что это будет большой причиной беспокойства для властей».
Однако развороту событий к худшему в столице Баварии даже более, чем продолжавшаяся блокада, способствовало то, что Курт Айснер просто не знал, как управлять. Хотя сердце у него было в правильном месте, он просто не понимал искусство политики. Он не постигал, что для того, чтобы быть успешным политиком, требуется совершенно иной набор инструментов, чем тот, который нужен для успешного интеллектуала. Многие из качеств, что являются достоинствами в мыслителях — это активная обуза в политиках, по каковой причине теоретическая проницательность чаще всего сочетается с политической неудачей. В то же время революционному лидеру Баварии недоставало приспособляемости и хитрости, равно как и способности, придя к власти, быстро реагировать и использовать ситуации к своему преимуществу. Он был приятным, но не имел понятия, как вдохновлять, очаровывать и вести. Во всём этом он был полярной противоположностью Гитлеру, который возникнет на политической сцене позже в этом году.
Критики всех политических направлений полагали, что Айснер был интеллектуалом без какого-либо таланта для лидерства. В глазах журналиста Виктора Клемперера Айснер был «деликатным, хрупким, согнутым маленьким человеком. Его лысая голова не была впечатляющего размера. Грязные седые волосы беспорядочно лежали на его воротнике, его рыжеватая борода имела грязный, сероватый оттенок; глаза его были скучно серыми за линзами его очков». Писатель еврейского происхождения не смог обнаружить «никаких признаков гения, почтенности, героизма». Для Клемперера Айснер был «посредственной, тусклой личностью». Некоторые из министров в правительстве Айснера, которые не вышли из его партии, отзывались о его талантах как политика даже ещё менее комплиментарно. Например, Хайнрих фон Фрауэндорфер, министр транспорта, говорил Айснеру на заседании кабинета министров 5 декабря: «Весь мир говорит о том, что Вы не знаете, как управлять», добавив при этом: «Вы не государственный человек, … Вы дурак!»
Другой проблемой было то, что большое число вышестоящих лиц в правительстве и в советах не были баварцами по рождению. Курт Айснер не смог понять, что если бы он поставил на руководящие должности в революции больше местных революционеров, то это улучшило бы легитимность нового режима в народе. В феврале Клемперер, который освещал революцию в Мюнхене для лейпцигской газеты, язвил в одной из своих статей: «Что раньше было верно в отношении искусств в Мюнхене, стало верным в отношении политики; все говорят: где народ Мюнхена, где баварцы?»
Хуже того, в результате отсутствия таланта политического деятеля, у Айснера не было реалистичных мыслей о том, как лучше всего удерживать радикальных революционеров внутри его собственных рядов и в тех группах, что были левее его партии, таких как «Спартаковцы», когда эйфория первых дней революции пошла на убыль. («Спартаковцы» — революционная группа, названная так в честь вождя римских рабов Спартака, которая пропагандировала диктатуру пролетариата). Айснер отмахивался от повторяющихся и настойчивых предупреждений, что он чересчур доверяет крайним левым и что он недооценивает опасность переворота с их стороны. Он говорил своему правительству, что люди на крайнем левом фланге всего лишь выпускают немного пара: «Нам следует дать людям выпустить его из их систем». Он не смог понять, что пытаясь приручить крайних левых в Мюнхене, он достиг противоположного: он раздул левый радикализм, роя тем самым могилу для своего примиренческого подхода к политике.
Радикальные революционеры ощущали, что Айснер продался реакционерам, которые в их глазах включали всех от социал-демократов (СДПГ), либералов и умеренных консерваторов до истинных реакционеров. В их идеалистическом, но параноидальном видении мира, которое следовало стандартным большевистским рассуждениям, парламентская демократия, либерализм, постепенность и реформизм с одной стороны, и правый авторитаризм с другой были двумя сторонами одной и той же медали.
В начале декабря 1918 года Фриц Шрёдер, один из представителей независимых социал-демократов Айснера, недвусмысленно высказался в Совете солдат против парламентской демократии: «Слухи о национальном собрании — это не более чем реакционная болтовня». Схожим образом анархист Эрих Мюэзам требовал установления мягкой диктатуры, нацеленной не на поддержку пролетариата, но на то, чтобы «разделаться с пролетариатом». Тем временем, близкий соратник Мюэзама, Йозеф Зонтхаймер, по существу требовал разрушительной власти толпы. «Я надеюсь», — выкрикивал Зонтхаймер по время митинга в начале января, «что мы все возьмёмся за оружие, чтобы посчитаться с реакцией». Несколькими днями раньше коммунисты потребовали на публичном митинге в Мюнхене, что люди должны «пойти на выборы Национальной Ассамблеи не с избирательными бюллетенями, но с ручными гранатами».
К концу ноября 1918 года Эрхард Ауэр, министр внутренних дел и лидер СДПГ, уже пришёл к заключению, что продолжающийся радикализм крайне левых делает демократизацию в Баварии нежизнеспособной. Глубоко обеспокоенный тем, что это может перерасти в тиранию, Ауэр постоянно набрасывался на Айснера и на отсутствие решительных действий с его стороны против левых радикалов, заявив 30 ноября: «Не может, не должно быть диктатуры в нашем свободном народном государстве». Поскольку сторонники Айснера чувствовали себя всё более осаждёнными со всех сторон, они фактически отменили свободу слова уже 8 декабря. В этот день они приказали нескольким сотням солдат атаковать офисы газет: консервативных, либеральных и умеренных от СДПГ. Двумя днями позже американцы, проживавшие в Мюнхене, получили срочное уведомление от государственного департамента США, что более не безопасно проживать в Германии; им было сказано «отправиться домой как можно раньше».
Повсюду в Германии попытки радикалов левого крыла свергнуть новый либеральный политический порядок были даже более экстремальными, доказывая то, что опасения Ауэра не были безосновательными. В начале января коммунисты попытались устроить в Берлине государственный переворот, нацеленный на свержение национального правительства, уничтожение парламентской демократии путём предотвращения проведения национальных выборов и установления вместо неё Германской Советской Республики. Только с помощью милиции умеренным социал-демократам удалось спасти зарождающуюся парламентскую демократию Германии. И попытки левых свергнуть силой парламентскую демократию в Германии не были ограничены столицей. Например, с января до 4 февраля Советская Республика существовала в Бремене, старом ганзейском городе на северо-западе Германии. В конце 1918 и в начале 1919 года основной вызов установке либеральной демократии в Германии не исходил от правых. Он пришёл слева.
Единственный серьёзный вызов в Баварии, не исходивший от радикальных левых, был от Рудольфа Бутманна, библиотекаря, работавшего в библиотеке баварского парламента, который недавно вернулся с войны и который станет возглавлять нацистскую партию в баварском парламенте между 1925 и 1933 гг. Вместе с пангерманистским издателем Юлиусом Фридрихом Леманном и другими соучастниками заговора Бутманн планировал свержение правительства Айснера и с этой целью в конце декабря основал милицию («бюргервер», Burgerwehr). Однако его сотоварищи были политически различными. Они включали и консерваторов, и радикальных правых экстремистов, которые мечтали устроить путч против Айснера, и известных членов Общества Туле — радикального правого тайного общества, которое будет играть выдающуюся роль в начале становления нацистской партии. В числе заговорщиков Бутманна также были ведущие социал-демократы; в самом деле, когда основывался «бюргервер», он контактировал с Эрхардом Ауэром, который также сотрудничал с другим членом Общества Туле, Георгом Грассингером, в попытке свергнуть Айснера.
После того, как он очень скоро понял, что реставрация монархии, которую он бы предпочёл, не была жизнеспособным вариантом, Бутманн решил перекинуться к умеренным революционерам. В течение зимы 1918–1919 гг. он снова и снова пропагандировал прагматическое сотрудничество с социал-демократами, профсоюзами и другими группами. В отличие от радикальных левых, он хотел согласиться с новой послевоенной парламентской системой. В это время Бутманн ещё не был национал-социалистическим активистом и политиком, которым он должен был стать. Запись от 6 января 1919 года в дневнике жены Леманна, Мелании, наводит на мысль, что Бутманн и Леманн искренне сотрудничали с министрами от СДПГ. В ней также отмечено, что эти двое в тот момент не намечали активно свергнуть правительство, но скорее намеревались помочь ему против предполагаемых выпадов со стороны крайне левых. Мелания писала: «В начале декабря в Мюнхене тихо формировалась милиция для противостояния разрушительной деятельности группы Спартака, которая вооруженными самозванцами сорвала несколько собраний и вынудила уйти в отставку министра внутренних дел Ауэра, умеренного социалиста». Она добавила: «Юлиус работал с большим удовольствием и усердием, и надеялись, что милиция будет организована и готова победить спартаковцев при следующем мероприятии, которое, как ожидалось, пройдёт до выборов. Правительство знало об этом, и умеренные министры это решительно поддерживали».
Как отмечает случай Бутманна и Леманна, послевоенная демократизация в Баварии не была мертворождённой; в то время некоторые из тех людей, которые в будущем станут одними из наиболее важных сторонников Гитлера, всё ещё хотели развивать парламентаризацию и демократизацию Баварии. Даже Общество Туле, членом которого был Юлиус Фридрих Леманн, тогда представляло будущую Баварию во главе с лидером СДПГ. В начале декабря СДПГ разрабатывало планы ареста Айснера и замены его Ауэром.
В то время, как политическая ситуация в Мюнхене в начале 1919 года продолжала радикализовываться, Гитлер и Шмидт продолжали своими действиями поддерживать революционное правительство, даже когда по их возвращению из Траунштайна в свой полк в Мюнхене его состав стал поощряться к демобилизации. Для содействия быстрого возвращения к гражданской жизни его членов полк организовал «Отдел службы занятости» и позволил его членам брать отпуск до десяти дней за один раз с целью поиска работы, с правом возвращения в часть, если в этот период работа не будет обеспечена. И всё же Гитлер и Шмидт выбрали продолжение службы новому режиму, даже когда противники Айснера пытались выступить, чтобы сместить его 19 февраля.
Попытка переворота 19 февраля остаётся покрытой тайной до сегодняшнего дня. Нацеленный на отстранение Айснера от власти, он возглавлялся моряком, старшим унтер-офицером флота Конрадом Лоттером, членом Баварского солдатского совета. В нём участвовали шестьсот моряков — большинство из них были баварцами — которые лишь несколькими днями ранее вернулись в Баварию с Северного моря. Путч окончился схваткой и перестрелкой на центральном вокзале Мюнхена. Большинство сохранившихся отрывочных свидетельств наводят на мысль, что Лоттер был обеспокоен тем, что Айснер как не желает, так и не способен передать власть партиям, которые выиграли выборы в Баварии, и следовательно, что более радикальная революция, поддерживаемая войсками, симпатизирующими крайне левым, была неминуема. Примечательно, что ни полк, членом которого был Гитлер, ни другие располагавшиеся в Мюнхене войска не пришли спасать Лоттера и его людей.
Имеются веские причины верить тому, что руководство СДПГ было замешано в путче, поскольку Лоттер встретился с вождём СДПГ Эрхардом Ауэром незадолго до попытки переворота для обсуждения вопроса о создании проправительственных войск для обеспечения безопасности Мюнхена. Лоттер также публично заявлял 13 декабря, что если Ауэр станет вождём революции в Баварии, то 99 процентов баварцев поддержат революционное правительство. Более того, в соответствии с дипломатической телеграммой папского нунция в Баварии Евгенио Пачелли, будущего папы Пия XII, моряки Лоттера заявили, что их целью было защитить здание, в котором размещался парламент, и сделать так, чтобы открытие новой парламентской сессии прошло 21 февраля, как было запланировано.
Продолжая служить в воинской части, лояльной Айснеру, Гитлер, в сущности, поддерживал скорее баварского революционного вождя, нежели Лоттера. Он продолжал обитать и выполнять свои обязанности в казармах Второго пехотного полка на Лотштрассе, прямо к югу от Обервизенфельд, где он размещался с момента своего возвращения из Траунштайна. Одной из его задач была функция охраны в различных местах в Мюнхене. Например, некоторые из солдат его части общим числом тридцать шесть человек, среди которых вероятно был и сам Гитлер, с 20 февраля до марта были использованы для защиты места, у которого попытка переворота Лоттера окончилась перестрелкой, и для защиты центральной железнодорожной станции Мюнхена. Своей службой Гитлер помогал предотвращать попытки других людей отстранить от власти еврейского социалистического вождя Баварии, таким образом защищая режим, с которым, как он заявит, став национал-социалистом, всегда боролся.
Несмотря на усилия Гитлера и его соратников защитить Айснера, прошло только лишь два дня со времени провалившейся попытки переворота Лоттера, когда противники Айснера ударили снова. На этот раз удачно. 21 февраля, в день открытия парламента Баварии, молодой студент и офицер придворного пехотного полка Антон граф фон Арко ауф Валлей подкрался к Айснеру сзади как раз в тот момент, когда вождь независимых социал-демократов вышел из баварского министерства иностранных дел по пути в парламент на открытие сессии законодательной власти Баварии, где он намеревался подать в отставку. Арко дважды быстро выстрелил ему сзади в голову. Айснер скончался на месте.
Наиболее вероятно, что Айснер погиб в результате заговора офицеров придворного пехотного полка, элитной части, обязанностью которой ранее была защита короля. Внучатой племяннице Михаэля фон Годин, офицера-однополчанина Антона фон Арко, и брата одного из командиров полка Гитлера во время Первой мировой войны, одна из её двоюродных бабушек говорила, что офицеры придворного пехотного полка строили планы убить Айснера. Двоюродная бабушка поделилась с ней, что Михаэль фон Годин и его товарищи в придворном пехотном полку тянули жребий — кто будет стрелять, что и определило — Арко будет тем, кто убьёт Айснера.
Вследствие убийства Айснера ничто больше не было как прежде, определённо не так, как представляли себе Арко и его соучастники заговора. Высокопоставленный американский официальный представитель Герберт Филд обнаружил это на своём непростом опыте. Через несколько часов после убийства Филд, представитель военной комиссии союзников по контролю от США в Мюнхене, которая была организована после перемирия, шёл к центральной станции Мюнхена, сопровождаемый немецким офицером. На станции солдаты набросились на них двоих, опрокинули немецкого офицера на пол и сорвали с его формы эполеты. Через несколько дней после этого события Филд написал в своём дневнике: «Перспективы чрезвычайно мрачные. Я ожидаю увидеть в ближайшем будущем установление большевистского господства.» Поскольку станция охранялась солдатами из подразделения Гитлера и других того же полка, это происшествие даёт нам хорошо почувствовать, с какого рода людьми Гитлер служил в своей части в конце февраля 1919 года, независимо от того, был ли он лично на месте во время нападения на Филда (см. фото 4).
Если, как Гитлер станет намекать в Mein Kampf, он был настолько не согласен с левыми солдатами, служившими в Мюнхене, почему он не запросил в этот момент демобилизации? Почему он никогда не говорил о путче Лоттера? В последующие годы он станет до отвращения много говорить о своём опыте во время войны, но лишь в общих словах о революции. В конце концов, если бы он рассказал о нападении на американского офицера или о подобных событиях, которые происходили по всему городу, — то есть, если бы он действительно противостоял им — то эти эпизоды хорошо бы проиллюстрировали некоторые из его более поздних взглядов на революцию, включая повторяющееся заявление о том, что революция фатально ослабила Германию в момент её величайшей нужды. Но в Mein Kampf Гитлер предпочитал молчать о своей службе в Мюнхене во время убийства Айснера и делать вид, что в то время он всё ещё был в Траунштайне.
В часы, дни и недели, последовавшие за вероломным убийством Айснера, радикализация Баварии ускорялась по мере того, как центр политики быстро разрушался. В глазах многих компромисс и умеренность просто не сработали.
И тем не менее убийство Айснера не было коренной причиной последующей радикализации Баварии. В действительности радикальные левые так никогда и не приняли результаты выборов в Баварии в начале января. С того дня, когда были объявлены результаты выборов, готовились планы упразднить парламентскую демократию и передать всю политическую власть в руки Советов солдат, рабочих и крестьян, как в Советской России.
Например, на митинге Совета рабочих в начале февраля Макс Левин[2], родившийся в Москве лидер баварских радикальных революционеров, спартаковцев, доказывал необходимость новой, второй, «неминуемой» революции, нацеленной на сокрушение буржуазии «в гражданской войне без пощады». Он полагал, что Советы должны взять себе всю исполнительную и законодательную власть до тех пор, пока в Германии не будет прочно установлен социализм. На той же сессии Эрих Мюэзам потребовал, чтобы Совет предпринял действия против парламента Баварии в том случае, если парламент будет действовать так, что это не понравится Советам. Он считал, что как в России, вся власть в любом случае принадлежит Советам.
16 февраля была проведена громадная демонстрация на Терезиенвизе, организованная совместно независимыми социал-демократами, коммунистами и анархистами. По пути на митинг толпа, наводнённая солдатами, выкрикивала «Долой Ауэра!» и «Да здравствует Айснер!» На этом событии, на котором красные флаги развевались наряду с лозунгами, требующими диктатуру пролетариата, присутствовал не только Айснер, но, по всей видимости, и никто иной, как Адольф Гитлер, поскольку его подразделение на митинге тоже было. Во время митинга Мюэзам заявил, что протест образует прелюдию к мировой революции, в то время как Макс Левин угрожал, что парламент должен принять власть пролетариата.
Как отмечено в дипломатическом докладе папского нунция Евгенио Пачелли от 17 февраля, люди задавали себе один важный вопрос в дни, которые вели и к путчу Лоттера, и к убийству Айснера: что станут делать радикальные левые, когда 21 февраля (в день, когда будет убит Айснер) откроется парламент Баварии? Пачелли доказывал, что, судя по последним действиям группировки, представляется маловероятным, что радикальные левые примут переход власти к парламенту и откажутся от своей веры в необходимость второй, более радикальной революции. Он также доказывал, что Айснер, после неудачи с обеспечением какой-либо существенной электоральной поддержки, склонялся к тому, чтобы дать больше власти Советам.
Если коротко, то убийство революционного вождя Баварии не было настоящей причиной второй революции, которая произошла после этого события. Смерть Айснера обеспечила радикальным левым оправдание попытки захватить власть и полностью похоронить парламентскую демократию, существенно увеличив легитимность того, что группировка так или иначе желала сделать.
Каковы бы ни были его намерения, Айснер сам посылал сигналы, которые легко могли быть поданы как поощрение действовать против правительства. Незадолго до его убийства он заявил: «Мы скорее можем обойтись без Национального Собрания, чем без Советов. […] Национальное собрание — это выборный орган, который может и должен быть изменён, когда от народных масс исходит иное мнение». Прежде он делал немало заявлений, которые меньше всего годятся для их неверного понимания. Например, 5 декабря он говорил членам баварского кабинета министров: «Я не обращаю внимание на публику, она меняет своё мнение каждый день». Он также говорил о парламенте, как об «отсталом органе», добавляя, что полагал, что настоящей проблемой его правительства было то, что «мы недостаточно радикальны». Когда на том же заседании кабинета министров Иоганнес Тимм, министр юстиции, спросил его: «Считаете ли Вы, что солдатам следует распустить Национальное Собрание в том случае, если Вам оно не понравится?», то ему был дан ответ, который предполагает, что он ожидал своей отставки 21 февраля для того, чтобы подготовить почву не для мирной передачи власти, но для более радикальной революции. Его ответом было: «Нет, но при определённых обстоятельствах будет другая революция».
Независимо от того, было ли решение Айснера подать в отставку 21 февраля тактическим, сделанным в ожидании того, что его отставка вызовет возобновление революции, как подозревали многие в то время, или он искренне принял верховенство парламента, одно ясно: члены радикального левого крыла, наконец, могли сделать то, что многие недели они хотели делать с самого начала — начать новую революцию.
В тот же день, когда был убит Айснер, Советы встретились и учредили Центральный Комитет, который по существу забрал себе исполнительную власть, делая всё, что только мог, чтобы предотвратить образование в парламенте нового правительства. На следующий день самолёты сбросили на Мюнхен листовки, которые объявили установление военного положения. В последующие после политического убийства дни по городу бродили солдаты, а по улицам продолжали носиться автомобили с красными флагами. Красный флаг — цвет революции — теперь также развевался на крыше университета. Декреты, выпускавшиеся Советом рабочих и солдат, информировали население Мюнхена о том, что «мародёры, воры, грабители и те, кто агитирует против нынешнего правительства, будут расстреливаться». В ночное время звуки стрельбы из винтовок и пулемётов наполняли воздух города. Священники, которые в глазах революционеров были контрреволюционными реакционерами, больше не допускались в военные госпитали.
Новый режим возглавлялся Эрнстом Никишем, левым социал-демократом и учителем из Аугсбурга в Швабии. Его восхождение к власти в Баварии было признаком явного отхода от процесса демократизации, сравнимого с парламентской демократией в западном стиле. Он был сторонником национал-большевизма, политического движения, которое отвергало интернационализм большевиков, но в остальном верило в большевизм. Никиш придерживался того мнения, что Германии следует повернуться спиной к Западу, что, как он полагал, позволит Германии остановить своё падение. Думая, что будущее находится на Востоке, новый лидер Баварии считал, что если дух Пруссии и дух России будут объединены, а либерализм отвергнут, то впереди будут золотые дни как для России, так и для Германии.
Спустя пять дней после убийства Курта Айснера, 26 февраля, он был кремирован. Ранее в тот день в его честь в течение получаса звучали церковные колокола и выстрелы в воздух, прежде чем погребальная процессия отправилась от Терезиенвизе. Десятки тысяч людей прошли в ней через центр Мюнхена. Над их головами кружили самолёты. Делегации социалистических партий Мюнхена и профсоюзов, русские военнопленные, представители всех располагавшихся в Мюнхене полков, равно как и множество других групп, прошли с гробом Айснера через город. Марш окончился на площади перед Остбанхоф — Восточным вокзалом Мюнхена, где были произнесены траурные речи, прежде чем тело Айснера было обращено в пепел на близлежащем Восточном кладбище.
Как свидетельствует огромное количество народа на его похоронах, Айснер в смерти был более популярен, чем когда-либо при жизни. Однако чувства присутствовавших на марше не обязательно являются показательными для населения Мюнхена в целом. Правительство потребовало, чтобы жители по всему Мюнхену вывесили флаги в честь Айснера в день его кремации. Тем не менее, это требование в значительной степени было проигнорировано. Флаги были видны преимущественно на общественных зданиях; очень небольшое число частных домов вывесили их. Для Фридриха Люэрса, сторонника либеральной Немецкой Демократической партии, который служил с Гитлером в том же самом подразделении полка Листа в начале войны, похоронное шествие выглядело как «скверная шутка».
Если бы Люэрс сам принял участие в марше и прошёл весь путь до Остбанхоф, он вполне мог бы воссоединиться со своим прежним боевым товарищем, Адольфом Гитлером. Фотография, сделанная Хайнрихом Хоффманом, со временем ставшим придворным фотографом Гитлера, изображает прибытие похоронного марша на Остбанхоф (см. фото 6). Она показывает группу русских военнопленных в форме, один из которых держит большую фотографию или портрет Айснера. Группа немецких солдат в форме стоит как раз за ним. Один из них, как полагают, это Адольф Гитлер. Участие в марше указывает на желание Гитлера отдать дань уважения убитому еврейскому социалистическому вождю, поскольку для солдат присутствие не было обязательным. Однако продолжаются жаркие споры о том, действительно ли групповая фотография включает Гитлера. Фотография слишком зернистая, чтобы идентифицировать солдата с какой-либо степенью уверенности. Тип телосложения, рост, осанка и форма лица человека под вопросом выглядят именно так, как предположительно выглядел бы Гитлер на зернистом фото. Однако в феврале 1919 года в Мюнхене, вне всякого сомнения, квартировало много других солдат подобного внешнего вида. И тем не менее очень похоже, что человек на фотографии — это действительно Адольф Гитлер. Например, на копии этого изображения, которая была среди фотографий, проданных внуком Хайнриха Хоффмана Государственной Библиотеке Баварии в 1993 году, имеется стрелка, указывающая на человека, который, как полагают, Адольф Гитлер. Стрелка не была нанесена на отпечаток фотографии, которая принадлежит Государственной Библиотеке Баварии; соответственно, она должна была быть нанесена на её негатив либо Хоффманом, либо его сыном или внуком. Сын Хоффмана также подтвердил в начале 1980-х, что фотография изображает Адольфа Гитлера.
Оставляя в стороне вопрос, действительно ли фотография Хоффмана изображает Гитлера, обратимся к событию, происшедшему где-то между февралём и началом апреля, более ярко проливающему свет на тесные взаимоотношения Гитлера с революционным режимом. Это событие было выборами доверенного лица (Vertrauensmann, представитель солдат) в подразделении Гитлера, Второй демобилизационной роте. На выборах Гитлер был избран представителем людей своей роты. У него теперь была должность, которая существовала для того, чтобы служить, поддерживать и обеспечивать левый революционный режим.
Задачей Гитлера была помощь в обеспечении беспроблемного функционирования полка. Если верить статье, опубликованной в марте 1923 года в Münchener Post («Почта Мюнхена») — пристрастной социал-демократической газете, которая, однако, в целом была хорошо информирована о рождающемся национал-социалистическом движении — его ответственность со временем зашла далее этого. В соответствии со статьёй, он также действовал как посредник между пропагандистским отделом своего полка и революционным режимом. Статья утверждала, что Гитлер принимал активную роль в работе отдела, выступая в защиту республики. Статья была написана Эрхардом Ауэром, антагонистом Курта Айснера, который при нападении отмщения чуть не был убит в день убийства Айснера и который в 1920 году стал главным редактором газеты Münchener Post.
Даже если статья Ауэра 1923 года в той газете и преувеличивала вовлечённость Гитлера в прореспубликанскую пропагандистскую работу, факт остаётся фактом, что в начале 1919 года Гитлер активно и обдуманно решил баллотироваться на должность, задачей которой было служить, поддерживать и обеспечивать революционный режим. Точная дата этих выборов не сохранилась. Но они имели место не позже, чем в начале апреля, поскольку в приказе, изданном по демобилизационному батальону Второго пехотного полка, датированным 3 апреля 1919 года, Гитлер числится в качестве Vertrauensmann'а (доверенного лица) своей роты.
Избрание Гитлера в качестве доверенного лица его товарищей солдат было настоящим поворотным моментом в его жизни, в меньшей степени из-за его политического подтекста и в большей степени вследствие того факта, что теперь, впервые в его жизни, он занимал лидерское положение. Его трансформация из послушного получателя приказов — того, кто всю свою жизнь был либо в самом низу иерархий, либо одиночкой, плывущим по течению вне всяких иерархий, в лидера других людей, наконец, началась. И всё же его метаморфоза не началась внезапно. Её контекст сильно наводит на мысль, что она была воспламенена тлеющими углями целесообразности и приспособленчества.
Как было возможно, что человек, который никогда не показывал каких-либо лидерских качеств и не имел явного желания вести за собой людей, неожиданно решает заняться политикой? Даже в Траунштайне Гитлер не проявил каких-либо характерных черт лидерства. Если бы он это сделал, то несомненно был бы отослан обратно в Мюнхен с большинством караульных из Второго пехотного полка в конце декабря 1918 года — поскольку его считали бы ответственным за их поведение — скорее, чем его выбрал бы кто-то из офицеров лагеря, желавший, чтобы он остался. И как это было возможно, что его товарищи хотели теперь отдавать за него голоса, когда в прошлом в самом лучшем случае с ним обращались как со всеми любимым одиночкой?
Единственный правдоподобный ответ на эти вопросы — это то, что перевод Гитлера в середине февраля во вторую демобилизационную роту его части стал сигналом для него, что его демобилизация была неминуема, если он не сможет обеспечить себе положение, которое предотвратит это. Вакантная должность доверенного лица точно была таким положением. Перспектива продолжения службы в армии наиболее вероятно была причиной того, почему Гитлер решил принять вызов и избираться на должность. Любые другие возможные объяснения либо противоречат с его предшествующим поведением, в котором он не проявлял интереса к лидерству, либо не могут обеспечить правдоподобного объяснения желания людей из роты Гитлера голосовать за него.
Если бы товарищи Гитлера голосовали за него потому, что большинство из них придерживалось праворадикальных взглядов и они видели в нём родственного по духу, это предполагало бы, что Гитлер высказывал и обсуждал с ними контрреволюционные, ксенофобские, националистические идеи. Однако большинство солдат в Мюнхене, и, соответственно, голосовавших на выборах доверенного лица, придерживались в то время левых убеждений.
На январских выборах в Баварии подавляющее большинство людей Запасного батальона Второго пехотного полка — вполне в унисон с солдатами других базировавшихся в Мюнхене частей, для которых был учреждён специальный избирательный округ — голосовали за социал-демократов. Например, в одном из избирательных участков Запасного батальона Второго пехотного полка, в том, что на Амалиенштрассе, ошеломляющие 75,1 процента голосов были отданы за СДПГ. Независимые социал-демократы Айснера были вторыми с несущественными 17,4 процентами голосов.
Более того, незадолго до избрания Гитлера людьми Второй демобилизационной роты, солдаты батальона, к которому принадлежала рота, избрали своим представителем Йозефа Зайса, который был известен своими левыми склонностями. В действительности, он спустя несколько недель присоединится к Красной Армии. Те же люди, которые подавляющим числом голосовали за левые партии в январе и только что избрали закоренелого левого кандидата в качестве представителя батальона, вряд ли выбрали бы представителем своей роты кандидата-новичка с известными и высказанными правыми убеждениями. Подобным же образом трудно увидеть, как бы они голосовали за кого-либо, кого бы они воспринимали как сторонника крайне левых.
Ответ состоит в степени левизны. Солдаты в Мюнхене колебались между поддержкой умеренных левых, то есть СДПГ, и радикальных левых в их различных инкарнациях, но не между левой и правой идеологиями. В конце концов, более 90 процентов солдат в воинской части Гитлера голосовали либо за умеренных, либо за радикальных левых в январских выборах в Баварии. Это не обязательно означает, что Гитлер откровенно высказывался в поддержку революции; только то, что если бы он сказал что-то против революции даже в умеренном виде, то тем самым он уничтожил бы свои шансы на избрание. Вкратце, какими бы не были его внутренние мысли, Гитлера воспринимали как поддерживающего по меньшей мере умеренные левые идеи.
Большинство солдат из резервной части Гитлера, сопротивлявшиеся демобилизации и служившие с ним в Траунштайне и в других местах, не были известны своим рвением служить и возглавлять. Поэтому весьма непохоже, чтобы планка требований для кандидатов, которых они хотели избрать, чтобы не заниматься самим этими делами, была очень высокой. Это создало окно возможностей для Гитлера. Даже с низко установленной планкой требований трудно себе представить, что они могли бы голосовать за откровенного правого кандидата на эту должность.
Контекст выборов Гитлера в качестве доверенного лица сильно наводит на мысль, что его решение баллотироваться на должность, когда в прошлом он не интересовался лидерством, было продиктовано целесообразностью и приспособленчеством с его стороны. Но теперь, когда у него была его первая лидерская должность, ему представилась возможность научиться работе, что в свою очередь дало ему возможность понять, что у него действительно имеется потенциал лидера. В разговорах с некоторыми из своих близких товарищей по первым годам нацистской партии Гитлер раскрыл, что он совершенно ничего не знал о своём таланте лидерства до весны 1919 года. Он определённо не признавал позже своей роли в качестве доверенного лица. Предпочтительнее он приукрасил своё пробуждение как лидера в фантастическом повествовании о том, как предположительно бросил вызов радикальным революционерам в гостинице на своём пути обратно из Траунштайна в Мюнхен. Этот рассказ кем-то был передан Конраду Хайдену. Как этот социал-демократический журналист изложил эпизод в своей биографии Гитлера, написанной в эмиграции, Гитлер «взобрался на стол, переполненный страстью, едва осознавая, что он делает — и неожиданно обнаружил, что может говорить».
Реальное значение зимы и весны 1919 года, в течение которых Гитлер был маленьким винтиком в машине социализма, не лежит в политической плоскости. Скорее оно находится в том, что через рациональность и приспособленчество он пришёл к неожиданной радикальной трансформации своей личности. Почти что за одну ночь Гитлер из неуклюжего, но всем симпатичного одиночки, в котором никто не видел каких-либо лидерских качеств, превратился в вождя, находящегося в процессе развития.
Глава 3. Арест
12 апреля 1919 года Эрнст Шмидт решил, что настало время покинуть армию. Его друг Гитлер, в отличие от него, выбрал остаться. Это было инициативное решение со стороны будущего правого диктатора Германии — служить режиму, который в то время клялся в преданности Москве.
7 апреля Баварский Центральный Совет вдохновился недавним установлением Советской Республики в Будапеште. В надежде, что социалистическая ось сможет полностью протянуться от Мюнхена через Вену и Будапешт до Москвы, Совет провозгласил Баварию Советской республикой. Он подчеркнул, что не будет какого-либо сотрудничества с «презренным» социал-демократическим правительством в Берлине. И заключил следующими словами: «Да здравствует Советская Республика! Да здравствует мировая революция!» Совету удалось провести провозглашение, несмотря на плохие результаты радикальных левых на выборах, потому что весы недавно качнулись против парламентского правления. Это произошло потому, что основные секции социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Верхней Баварии начали противостоять своему собственному лидеру, Йоханнесу Хоффману, который встал во главе партии после попытки покушения на Эрхарда Ауэра.
В тот же самый день, когда была провозглашена Советская Республика, баварское правительство меньшинства, возглавляемое Хоффманом — которое было сформировано 17 марта после голосования в парламенте и с тех пор соревновалось с Центральным Советом за власть — вынуждено было спасаться бегством в безопасную гавань Бамберга на севере Баварии. Базировавшиеся в Мюнхене военные части отказались прийти на помощь правительству Хоффмана. Как писал 7 апреля в своём дневнике принц Адальберт Баварский, сын двоюродного брата изгнанного короля, «гарнизон Мюнхена заявил, что он ничего не будет делать для защиты парламента Баварии». Как бы там ни было, парламент уже приостановил 18 марта свои полномочия на неопределённый срок. Он сделал это путём утверждения закона о чрезвычайных полномочиях, по букве, хотя и не по духу, напоминавшего гитлеровский Закон о чрезвычайных полномочиях 1933 года, который ликвидирует парламентскую демократию в Германии на последующие двенадцать лет.
В отсутствие в городе правительства меньшинства в Мюнхене воцарился революционный социализм. 10 апреля правители Баварской Советской Республики объявили, что все части мюнхенского гарнизона станут основой вновь формирующейся Красной Армии. Таков был контекст, в котором Эрнст Шмидт решил, что настало время демобилизоваться и таким образом прекратить служить революционному режиму. Вместо того, чтобы и далее проводить как можно больше времени с единственным оставшимся членом своей «суррогатной» семьи времён войны, Гитлер остался в воинской части, которая отказалась выступить в поддержку правительства в Бамберге и которая, поскольку это имело отношение к Советскому правительству, была частью вновь создаваемой Красной Армии.
Почему Гитлер не последовал примеру Шмидта, когда тот покинул армию? Почему он предпочел проводить меньше времени с человеком, который был самым близким для него в течение нескольких месяцев, а возможно даже и лет? Один из возможных ответов состоит в том, что избрание Гитлера доверенным лицом изменило его. Это придало смысл его существованию, снабдило его новым домом и дало ему новое место, чтобы в него вписаться. И впервые в жизни это дало ему влияние и власть над другими людьми. Если бы он последовал за Шмидтом и отвернулся от революционного режима, ему пришлось бы от всего этого отказаться.
Гитлер остался, даже когда 13 апреля, в Вербное воскресенье, революция поглотила своих детей, когда ещё более радикальный режим — новая и более жестокая Советская Республика во главе с коммунистами — был установлен в Мюнхене. Правительство Республики, Исполнительный комитет, имело прямую линию связи с советским руководством в Москве и в Будапеште. Зашифрованные телеграммы шли туда и обратно между столицей России и Мюнхеном. В действительности в лице Товиа Аксельрода Ленин и его товарищи, вожди большевиков в Москве, даже имели своего человека в Исполнительном комитете, через которого они могли непосредственно влиять на решения, принимаемые мюнхенской Советской Республикой.
Создание второй Советской Республики было кровавым. 13 апреля, когда в уличных боях погиб двадцать один человек, и на следующий день в Мюнхене царили хаос и беспорядок. «Мы чрезвычайно изолированы и находимся во власти красного сброда», — писала оперная певица Эмми Крюгер в своём дневнике 14 апреля. «В то время, как я пишу, раздаются выстрелы и звонят колокола — отвратительная музыка. Все театры закрыты, Мюнхен в руках спартаковцев — убийства, воровство, все пороки получили свободу действий».
И всё же вскоре после этого ощущение нормальности вернулось в Мюнхен. Например, Рудольф Гесс, будущий заместитель Гитлера, который недавно перебрался в Мюнхен и жил теперь на Элизабетштрассе, близко к казармам, в которых в то время обитал Гитлер, не думал, что Советская Республика была чем-то таким, чему стоило огорчаться. «Если судить по тому, что пишут иностранные газеты, похоже, что о Мюнхене распространяются самые неандертальские слухи. — Однако, я могу сообщить, что здесь было и есть в настоящее время совершенно тихо», — писал Гесс своим родителям 23 апреля. «Я не ощутил вовсе никаких беспорядков. Вчера у нас был организованный марш с красными флагами, а больше ничего необычного».
Несмотря на внешнее спокойствие, политическая, социальная и экономическая ситуация в Мюнхене становилась всё более изменчивой по мере того, как с каждым днём всё больше ощущался недостаток продовольствия и ресурсов в городе. Даже хотя для жителей Мюнхена стало привычным ложиться спать голодными в течение последних четырёх с половиной лет, всё же был предел того, что могли вынести люди. 15 апреля учитель Йозеф Хофмиллер заключает, что «либо они введут войска, либо мы умрём с голода».
Британская разведка разделяла чувства Хофмиллера. Уинстон Черчилль, военный министр, уже 16 февраля пришел к заключению, основываясь на донесениях разведки, что Германия «проживает свой капитал в отношении запасов продовольствия, и либо всеобщий голод, либо большевизм, возможно и то, и другое, произойдут до следующего урожая». Тем не менее, он хотел поиграть с огнем, дав Германии почувствовать страдания, что даст Британии рычаги воздействия. Он полагал, что «поскольку Германия всё ещё вражеская страна, не подписавшая пока условия мира, было бы нецелесообразно устранить угрозу голодной смерти слишком неожиданными и обильными поставками продовольствия».
Офицеры британской разведки на месте в Баварии менее, нежели Черчилль, желали рискованной авантюры. Капитан Броад и лейтенант Бейфус, исследовавшие ситуацию в Баварии до и после провозглашения Мюнхенской Советсткой Республики, полагали, что существовал начальный массовый оптимизм в отношении будущего после войны. Однако со временем эти надежды испарились, когда ожидание мира, приемлемого для всех сторон, всё ещё не претворилось в жизнь, и материальные условия вместо улучшения ухудшились. К апрелю они высказывали мнение, что ситуация стала неустойчивой, считая, что недостаток продовольствия является «серьёзной угрозой для страны», поскольку он имеет «наиболее деморализующее влияние на людей». Они настаивали, что «припасы должны быть посланы с чрезвычайной поспешностью».
Как в начале апреля сформулировал Бейфус, «отложенная надежда измучила сердце Германии. С высот надежды прошлого ноября — и несмотря на катастрофу, которая охватила страну, перемирие приветствовалось с истинной радостью в Германии — они теперь погрузились в пучину отчаяния». Лейтенант писал, что в результате отсутствия «безотлагательного мира» «нервы немецкого народа, похоже, сломлены». Он утверждал, что продолжавшееся разложение дало большевизму шанс в Баварии. Вкратце, британская разведка полагала, что они наблюдают в Баварии политическое явление, порождённое социально-экономическими факторами.
К 15 апреля правители Советской Республики решили, что они проведут новые выборы в каждой из воинских частей, расположенных в Мюнхене. К этому подталкивала обостряющаяся политическая ситуация и тот факт, что Йоханнес Хоффман из своей штаб-квартиры в Бамберге замышлял собрать военные силы, которые атакуют Мюнхен. Выборы были объявлены в надежде обеспечить то, что отныне все избранные представители будут «безоговорочно поддерживать Советскую Республику» и защищать её от «всех атак объединённой буржуазно-капиталистической реакции».
Выборы, которые были проведены 15 апреля, предоставили Гитлеру блестящую возможность остаться в стороне, если он был глубоко озабочен установлением коммунистической Советской Республики. В самом деле, многие солдаты в Мюнхене, которые прежде хотели идти вместе с революцией, изменили своё мнение и теперь выражали поддержку правительству в Бамберге. Чувствуя изменчивость настроений солдат, а также происходящее среди них размежевание на умеренные и агрессивные революционные фракции, коммунистические правители города попытались купить их лояльность, объявив 15 апреля, что «все солдаты получат 5 марок в день дополнительно».
В отличие от многих других, кто предпочёл отказаться, Гитлер решил продолжить своё соучастие в коммунистическом режиме и снова выдвинуться на выборах. Проявив себя с момента своего избрания в качестве доверенного лица, он теперь выдвинул свою кандидатуру на должность Bataillons-Rat (батальонного советника) — представителя своей второй демобилизационной роты в совете батальона. Когда результаты выборов были опубликованы на следующий день, он узнал, что получил второе место по количеству голосов, 19, в сравнении с 39 голосами победителя, что означало, что он был избран в качестве Ersatz-Bataillons-Rat (заместителя советника батальона) своего подразделения.
Избрание Гитлера не обязательно следует истолковывать как знак явной и искренней поддержки Советской Республики с его стороны или со стороны голосовавших за него. Хотя не может быть полностью исключена возможность того, что он и люди его подразделения были захвачены потоком событий последних недель, предыдущие и последующие формы поведения и Гитлера, и голосовавших за него уверенно предполагают нечто иное: что голосовавшие воспринимали его как сторонника умеренных революционеров.
Каковы бы ни были его внутренние мысли и намерения, Гитлер теперь должен был служить в качестве представителя своего подразделения внутри нового советского режима. Благодаря своему желанию выдвинуться на должность батальонного советника, он стал даже более значительным винтиком в машине социализма, чем это было раньше. Более того, действия Гитлера помогали удержаться Советской Республике.
К тому времени, когда Гитлеру в пасхальное воскресенье 20 апреля исполнилось тридцать лет, удача стала явно сопутствовать коммунистическим правителям с тех пор, как они назначили выборы в военных частях Мюнхена. Поскольку Советская Республика продолжала распространяться по Баварии, они теперь контролировали большие зоны страны. А 16 апреля Красная Армия под руководством Эрнста Толлера, драматурга и писателя, уроженца Западной Пруссии, отпраздновала огромный успех. Она отразила нападение импровизированной армии приблизительно в восемь тысяч человек, лояльных правительству в Бамберге, на маленький город Дахау к северу от Мюнхена, предварявшее атаку на столицу Баварии.
Плакаты по всему Мюнхену объявляли: «Победа Красной Армии. Дахау взят». Кроме того, в знак поддержки коммунистического режима число кадровых и нерегулярных солдат и матросов в городе, кто носил красные повязки и другие знаки отличия, с каждым днём росло. Правительство, жившее в изгнании в Бамберге, совершенно недооценило силу и решимость красных сил. Оно не могло быть на равных с коммунистическим режимом в Мюнхене.
Правители Советской Республики получили ещё одну поддержку, когда 17 апреля они потребовали, чтобы русские военнопленные, кто ещё не вернулся домой, вступили в Красную Армию Мюнхена. Точное число военнопленных, кто записался, не сохранилось. И всё же их вклад в боеспособность Красной Армии Мюнхена был значителен, не в последнюю очередь вследствие их боевого опыта и их компетенции в разработке оперативных регламентов и планов для армии.
Очень мало известно о том, как Гитлер отпраздновал свой тридцатый день рождения в пасхальное воскресенье в казармах имени Карла Либкнехта, как советские правители Мюнхена недавно переименовали военный комплекс, в котором квартировал его полк, в честь убитого сооснователя Коммунистической Партии Германии. Мы знаем, однако, что Гитлер провёл свой день рождения с красной повязкой на рукаве, которую требовалось носить всем солдатам в Мюнхене. Мы также знаем, что 20 апреля во время ежедневной переклички своего подразделения он должен был объявить, как он это делал каждый день, самые последние декреты и объявления советских правителей Мюнхена, что доводилось до полка через его отдел пропаганды. (Гитлер также должен был раз в неделю являться в отдел пропаганды Второго пехотного полка, чтобы забирать новые пропагандистские материалы).
Между тем Йоханнес Хоффман с неохотой обратился к Берлину за помощью, поняв, что он не сможет сместить советский режим без помощи извне. Просить Берлин о помощи было нелёгким делом, поскольку баварские и общенациональные власти боролись друг с другом с момента окончания войны относительно той степени, до которой Бавария будет оставаться суверенным политическим субъектом под крышей федеративной Германии, как это было до войны. Хоффман теперь должен был смириться с тем, что его товарищ по социал-демократической партии Густав Носке, министр национальной обороны, станет всем командовать.
Более того, Хоффман вынужден был принять и то, что не баварский генерал станет командовать всегерманскими силами, которые Носке и Хоффман старались собрать, чтобы сломать шею Советской Республике Мюнхена. Баварское правительство запросило военную помощь от правительства Вюртемберга, своего южно-германского соседа, и от нерегулярных войск вне Баварии, призывая баварцев быстро учредить милицию и присоединиться к ним. Подобным образом руководство баварской СДПГ призвало баварцев записываться в милицию, чтобы положить конец «тирании незначительного меньшинства чуждых большевистских войск».
Когда в Мюнхене распространились новости о том, что правительство в Бамберге собирает силы для свержения Советской Республики, люди начали толпами покидать город, чтобы присоединиться к «белым» войскам, как 23 апреля написал в своём дневнике Фридрих Люэрс, бывший товарищ Гитлера по полку Листа. Другие в Мюнхене начали думать о том, чтобы покинуть не только Мюнхен, но и совсем уехать из Германии и начать новую жизнь в Новом Свете. Интерес к эмиграции был настолько велик, что периодическое издание, специализировавшееся на этом предмете, Der Auswanderer («Эмигрант»), продавалось на улицах Мюнхена. Например, за день до дня рождения Гитлера прилично одетых людей видели покупающими этот журнал у газетчицы в центре Мюнхена.
Тем не менее Гитлер не проявлял какого-либо явного интереса к тому, чтобы оставить свою должность. Он ни отвернулся от Советской Республики, ни поддерживал её активно в этот момент, равно как он не покинул Мюнхен, чтобы присоединиться к милиции, но и не вступил в активные части Красной Армии.
Теоретически все базировавшиеся в Мюнхене военные части и, таким образом, также и полк Гитлера были частью Красной Армии. В этом смысле Гитлер служил в Красной Армии. В действительности же, однако, большинство полков ни поддерживали активно советский режим, ни противостояли ему. Это не означает, что они открыто заняли нейтральную позицию, поскольку любое нежелание предоставить себя в распоряжение законным правительствам в Баварии и в Берлине представляло собой, строго говоря, государственную измену.
Так что большинство частей, расположенных в Мюнхене, не поддерживали Советскую Республику активно и военными средствами. Мнения в большинстве из частей в городе были разделены. Некоторые солдаты поддерживали Советскую Республику и таким образом вошли во вновь сформированные части Красной Армии, которые были готовы сражаться, в то время как большинство людей старались оставаться нейтральными. Это было именно то, что случилось в подразделении Гитлера. Будущий лидер нацистской партии был среди тех людей своей части, которые держались позади и не присоединились к вновь формируемым активным подразделениям Красной Армии.
И всё же Гитлер не был больше лишь простым солдатом. Он был в положении, в котором было почти невозможно занять нейтральную позицию. И это была должность, в которой демонстрацию нейтральности можно было легко неверно истолковать как поддержку статус-кво или как недостаточную поддержку в этом отношении. Выдвинув себя на должность и служа в должности представителя своей части после того, как была установлена (вторая) Советская Республика, в то же время не поддерживая вновь сформированные части Красной Армии в момент, когда новый режим был под осадой, Гитлер неумышленно мог оказаться между двух стульев. Он рисковал оказаться под гневом нового режима за то, что был на ответственном посту и тем не менее не использовал его для более активной поддержки республики; подобным же образом он рисковал подвергнуться гневу войск Хоффмана и Носке в случае, если они захватят Мюнхен, за то, что служил Советской Республике на выборной ответственной должности. Так что Гитлер оказался перед возможностью ареста с любой стороны.
По мере того, как в конце апреля веревка затягивалась на шее Советской Республики, жизнь для любых настоящих или воспринимаемых таковыми контрреволюционеров, оставшихся в Мюнхене, стала, безусловно, очень опасной. Например, 29 апреля и на следующий день революционеры появились в неоклассическом дворце на Бриеннер Штрассе, в котором располагалось представительство папского нунция, вошли в здание и угрожали нунцию Евгенио Пачелли ружьями, кинжалами и даже ручными гранатами. Пачелли так сильно ударили в грудь револьвером, что это деформировало крест, который он носил на цепочке на шее. Нападение на будущего папу Пия XII не было единственным задокументированным случаем прерванной акции, предпринятой против настоящих или предполагаемых противников Советской Республики. Во второй наиболее известный случай был вовлечён сам Гитлер.
В Mein Kampf Гитлер заявлял, что 27 апреля красные стражники пришли в его казармы, чтобы взять его в заложники: «В ходе новой, советской, революции я впервые выступил с речью, которая вызвала недовольство Центрального совета. 27 апреля 1919 г. рано утром меня попытались арестовать. Трех молодцов, которые пришли за мною, я встретил с карабином в руках. У них не хватило духа и молодчики повернули оглобли». Эрнст Шмидт, который не мог присутствовать при аресте, но который оставался близким к Гитлеру, сделал подобное заявление в своём интервью пронацистскому биографу Гитлера Хайнцу А.: «Однажды утром, очень рано, три красных стражника вошли в казармы и отыскали его в своей комнате. Он уже встал и был одет. Когда они взбирались по лестнице, Гитлер догадался, что затевается, так что он схватил свой револьвер и приготовился к стычке. Они забарабанили в дверь, которая немедленно была открыта. „Если вы не уберётесь немедленно, — закричал Гитлер, размахивая своим оружием, — я поступлю с вами так, как мы поступали с мятежниками на фронте“. Красные тотчас же повернули и спустились обратно по лестнице. Угроза была чересчур реальной, чтобы подвергаться ей хоть на мгновение дольше».
Гитлер и Шмидт могли придумать историю попытки ареста Гитлера, или, более вероятно, приукрасили историю, которая имела какую-то правду в основе. Трудно себе представить, как именно Гитлер мог бы справиться с тремя. Суть их заявлений о том, как он едва избежал ареста, тем не менее, не является невероятной. Даже если сила правителей мюнхенской Советской Республики и ослабла к 27 апреля, именно эта слабость делала режим опасным. Он в самом деле действовал исключительно агрессивно, как часто делают обречённые политические движения, когда ослабевают.
29 апреля, два дня спустя после означенного инцидента с Гитлером, Рудольф Эгельхофер, вождь Красной Армии, планировал согнать и казнить мюнхенскую буржуазию на Терезиенвизе, если лояльные правительству в Бамберге войска войдут в Мюнхен. На собрании советских вождей его предложение не прошло большинством всего лишь в один голос. В действительности, восемь политических заключённых — семеро из них члены Общества Туле — арестованные в Мюнхене 26 апреля, будут казнены 30 апреля во внутреннем дворе местной школы, где по приказу Эгельхофера их поставили к стене и расстреляли.
Дополнительные аресты были произведены по всему Мюнхену в конце апреля, когда военные лидеры Советской Республики отчаянно пытались собрать под собой как можно больше войск до ожидаемой атаки на Мюнхен. Так что весьма правдоподобно, что Гитлер должен был быть арестован за отсутствие активной поддержки Красной Армии. Даже если стычки, которую он описывает, никогда не было, нежелание избранного представителя выступить в поддержку вновь формируемых активных частей Красной Армии стало бы причиной гнева по отношению к нему со стороны советского режима.
27 апреля войска, собранные Хоффманом и Носке — значительные силы из тридцати тысяч человек — вошли в Баварию. Они включали остатки сил, разбитых в Дахау, части из Швабии и Вюртемберга, и милицию со всей Баварии и других частей Рейха. К 29 апреля они обратно взяли Дахау.
Правительственные войска ожидали столкнуться с существенным сопротивлением в Мюнхене. Меморандум, изданный 29 апреля, предостерегал от недооценки Красной Армии. Он оценивал количество войск под ружьём в Мюнхене в 30–40 тысяч человек, из которых 10 тысяч следовало рассматривать как «серьёзных и чрезвычайно стойких бойцов». В меморандуме подразделение Гитлера, Второй пехотный полк, описывалось ни как воинская часть, которая «не станет поддерживать Советскую Республику и склонна дезертировать», ни как такая, «что [можно предположить] будет полностью стоять за красных». На следующий день начался массовый уход из Красной Армии. Гитлер, однако, не дезертировал. Более того, существенное число людей поддержало Рудольфа Эгельхофера в организации последнего сопротивления.
30 апреля повсюду в Мюнхене царила нервозная неопределённость. Как свидетельствовала некогда обедневшая румынская принцесса Эльза Кантакузене — чье замужество за мюнхенским издателем Гуго Брукманном превратило её в Эльзу Брукманн и вернуло её к благосостоянию — в городе была суматоха. Люди бродили по городу в поисках последних новостей, солдаты были при пулемётах или сидели в военных автомобилях и грузовиках, и всё это время вдалеке на востоке можно было слышать грохот орудий. Все признаки обычной жизни исчезли. Прекратили работу трамваи, а всеобщая забастовка остановила деловую активность. Повсюду были расклеены плакаты, которые либо изливали ненависть революционеров к правительству, надвигающимся войскам и к прусакам, либо сообщали подробные сведения о станциях скорой помощи и перевязки, которые, как ожидалось, в скором времени очень потребуются. Повсюду раздавались листовки. На каждом углу можно было слышать разговоры, полные недовольства.
Ночью принцесса Эльза уселась с тяжелым сердцем и начала сочинять письмо своему мужу, её «любимому, дорогому сокровищу», который покинул город. Она размышляла, «действительно ли сегодня вечером и завтра придёт решение и наше спасение, как говорят все?», и продолжала: «Где это окончится? Многие говорят, что красные сдадутся быстро; другие полагают, что они будут сражаться до конца, что дворец Виттельсбахов, казармы и железнодорожную станцию придётся брать силой. В этом случае, те безрассудные люди станут принуждать народ вступить в уличные сражения».
В одиннадцатом часу правители Советской Республики предприняли отчаянные, но всё же безнадёжные меры. Например, поздно вечером 30 апреля они вывесили жёлтые объявления, которые пытались использовать мюнхенские анти-прусские чувства. Объявления гласили: «Прусская Белая гвардия стоит у ворот Мюнхена». На следующее утро, когда прибытие правительственных войск стало неминуемым, жители Мюнхена, лояльные к правительству и с доступом к оружию, начали восставать против Советской Республики. Рано утром 1 мая, певица-сопрано Эмми Крюгер наблюдала «бунты на улицах» и видела, как члены Красной Армии «стреляли в людей». Атаку на Мюнхен предполагалось начать 2 мая, однако когда вспыхнули уличные сражения, она была перенесена на день раньше. Когда правительственные войска и милиция начали выдвигаться в город и вступили в контакт с Красной Армией, произошли жестокие схватки, не в последнюю очередь благодаря участию закалённых в сражениях бывших русских военнопленных в качестве бойцов ударных частей.
Везде, где Красная Армия воздвигала баррикады, происходили уличные сражения. Население Мюнхена к этому моменту было настолько голодным, что Михаэль Бухбергер, католический священник, наблюдал из своего жилища, как люди выходили на улицы, несмотря на бушевавшую битву, чтобы отрезать мясо от туш четырёх лошадей, убитых перекрёстным огнём. Поздно утром 2 мая контрреволюционные силы — обычно называемые «белыми войсками» по наименованию антибольшевистских сил в России — наконец смогли прорваться в центр города. Последовала «гражданская война», как писала Крюгер в своём дневнике, «Немцы против немцев, дороги заблокированы — солдаты с револьверами и штыками очищают дома, а красные стреляют с крыш».
«Белые» войска действовали с особенной свирепостью по отношению к реальным или воображаемым красногвардейцам, когда они полагали себя под огнём снайперов. Один из таких моментов произошёл, когда прусские и гессенские войска приблизились к казармам Гитлера (имени Карла Либкнехта) в конце утра 1 мая. Если мы можем доверять рассказу, который Гитлер, выглядевший «весьма измученным и истощённым», поведал Эрнсту Шмидту спустя несколько дней и который Шмидт, соответственно, пересказал, «когда белые вошли, было похоже, что со стороны казарм прозвучало несколько случайных выстрелов. Никого нельзя было посчитать ответственным за них, но белые быстро приняли меры». Они «забрали в плен всех людей на месте, включая Гитлера, и заперли их в подвалах гимназии Макса».
Как и версия Шмидта о том, как Гитлер едва спасся несколькими днями ранее, его рассказ об аресте Гитлера правительственными войсками правдоподобен. Во-первых, она не вписывается в обычный шаблон Шмидта — преувеличение степени, в которой Гитлер и он были против революции. В соответствии с этим шаблоном непохоже, чтобы Шмидт вообще упомянул историю ареста, и скорее вместо этого рассказал бы историю о том, как войска, занимая казармы, немедленно распознали бы в Гитлере антисоветского активиста. Далее, аресты такого сорта, что описал Шмидт, были обычными после падения Советской Республики. Любой человек с симпатиями или вовлечённый в Красную Армию рисковал быть арестованным. Аресты производились настолько часто, что стало обычным видеть пленников с поднятыми руками, идущими по улицам Мюнхена в центры задержания для арестованных. Всего не менее 2 500 человек содержались в заключении в Мюнхене по крайней мере в течение дня после поражения мюнхенской Красной Армии.
Был или не был Гитлер действительно арестован и лишён свободы в гимназии Макса, теперь он стоял перед перспективой весьма неопределённого будущего после прибытия в Мюнхен «белых» войск. Как он мог обеспечить то, что его предыдущая деятельность не будет расценена как служба для Советской Республики за пределами служебных обязанностей? Гитлеру нужно было понять, как спасти собственную шею, что будет зависеть более от того, как другие изобразят его службу в предшествующие недели, чем от того, как он сам определил свою политическую лояльность в апреле.
Одним из наиболее устойчивых наследий мюнхенской Советской Республики был огромный подъём антисемитизма. И всё же весной 1919 года он возрастал образом, несовместимым с конечным появлением собственного радикального антисемитизма Гитлера. Будет невозможно понять, как последнее случилось позже в этом году без уяснения природы антисемитизма, от которого он отличался.
В отличие от нацистского антисемитизма, наиболее распространённый вид антисемитизма в Мюнхене в 1919 году не был направлен против всех евреев одинаково. В действительности многие евреи в городе выражали соё открытое отвращение к еврейским революционерам и не воспринимали подъём антибольшевистского антисемитизма весной 1919 года как направленный также и против них. Как вспоминал сын Рафаэля Леви, его отец, доктор, был равным образом ортодоксальным иудеем и патриотом-монархистом: «Мой отец и все наши друзья имели консервативные взгляды», — отмечает он. «Они не думали, что их это затронет. Они думали, что это было направлено против революционеров, подобных Айснеру. Мой отец, мой дядя, так же как и их еврейские и нееврейские собратья солдаты — никто из них не выражал симпатии к тем революционным „горячим головам“ и „атеистам“. Я всё ещё отчётливо это помню».
В отличие от последующего антисемитского преображения Гитлера, рост антисемитизма в революционном Мюнхене в начале 1919 года в большой степени был явлением католических влиятельных кругов города, порождённым из столкновений с поборниками Советской Республики. Его наиболее известное выражение можно найти в дипломатическом докладе Евгенио Пачелли от 18 апреля, в котором будущий папа римский описывает, пользуясь языком антисемитизма, грубое столкновение, которое было у его помощника Лоренцо Шиоппа с Максом Левиеном и другими революционерами в Резиденции, королевском дворце, использовавшемся тогда как штаб-квартира правителей Советской Республики. Оно описывает, как революционеры превратили королевский дворец в «настоящий ведьмин котёл», полный «непривлекательных молодых женщин, среди них больше всего евреек, которые провокационно располагались во всех кабинетах и двусмысленно смеялись». Левин, который в действительности не был евреем, описывался как «молодой человек, русский и еврей к тому же», который был «бледен, грязен, с бесстрастными глазами», а также как «умный и коварный».
В своём докладе будущий папа Пий XII и его помощник явно разделяют чувства, распространённые среди многих в Мюнхене, что революция была преобладающим образом еврейским предприятием. Вдобавок к своему антикоммунизму с сильными антисемитскими нотками Пачелли также отвергал еврейские религиозные практики (подобно тому, как он в качестве главы католической церкви, отвергал все некатолические религиозные практики). И тем не менее он был счастлив поддерживать евреев в нерелигиозных делах, раз за разом помогая сионистам, которые обращались к нему за помощью, пытаясь вмешаться в поддержку евреев, озабоченных подъёмом антисемитского насилия в Польше, или предупреждая в 1922 году министра иностранных дел Германии, еврея Вальтера Ратенау, о готовящемся заговоре с целью его убийства. Действия Пачелли с целью помощи еврейским сообществам были подобны таковым же Михаэля фон Фаульхабера, архиепископа Мюнхена, который был счастлив оказать услугу, когда еврейские представители обращались к нему с просьбой о помощи. И в письме к главному раввину Люксембурга Фаульхабер неодобрительно упоминает рост антисемитизма в Мюнхене: «Здесь в Мюнхене мы также видели попытки […] раздуть огни антисемитизма, но к счастью, они не сильно разгорались». Архиепископ также предлагал Центральной Ассоциации граждан Германии иудейского вероисповедания помощь в предотвращении распространения антисемитских памфлетов за пределами церквей.
Вкратце, в отличие от нацистской юдофобии, антибольшевистский антисемитизм Пачелли и Фаульхабера и их отрицание некатолических религиозных практик не рассматривали евреев как источник всяческого зла. Скорее, евреев считали родственными человеческими существами, заслуживающими помощи во всех нерелигиозных делах, до тех пор, пока они не поддерживали большевизм. И в своей сути антисемитизм Пачелли и Фаульхабера не был расовым по характеру. В этом отношении он фундаментально отличался от сути антисемитизма Гитлера во время Третьего Рейха. Это не означает преуменьшения господствующего в католичестве антисемитизма. Скорее, это предполагает то, что глядя на рост антибольшевистского антисемитизма в Мюнхене весной 1919 года, мы не продвинемся далеко в объяснении антисемитской трансформации Гитлера. Несомненно, для некоторых баварцев расовый и антибольшевистский антисемитизм шли рука об руку. И всё же для гораздо большего числа баварцев две ветви антисемитизма не сводились в одну.
То же было верным в отношении антисемитизма традиционного баварского политического истэблишмента. Например, 6 декабря 1918 года, месяц спустя после революции, неофициальная газета католической Баварской Народной Партии (BVP, Bayerische Volkspartei) «Баварский Курьер» (Bayerischer Kurier), утверждала: «Раса не играет никакой роли для BVP», и что члены партии «уважают и соблюдают права каждого честного еврея. […] С чем, тем не менее, нам следует сражаться — это множество атеистических элементов, образующих часть беспринципного международного еврейства, которое является главным образом русским по характеру». Подобным образом Георг Эшерич, который должен будет возглавить одну из крупнейших правых военизированных групп в Германии в послереволюционный период, выразил мнение Виктору Клемпереру во время случайной встречи в поезде в декабре 1918 года, что будущее правительство BVP будет открыто равным образом для католиков, протестантов и евреев. Он сказал Клемпереру: «Человек будущего уже здесь: Доктор Хайм, организатор Крестьянского Союза; человек партии Центра, но не „чёрный“ [т. е. обращающийся только к католикам]. Протестанты и евреи также являются частью Крестьянского Союза».
Юдофобия Пачелли, Фаульхабера и BVP имеет значение в объяснении конечной антисемитской трансформации Гитлера по двум причинам: Во-первых, это характеризовало основное направление антисемитизма в революционном и постреволюционном Мюнхене. Во-вторых, это определяло антисемитизм, который Гитлер станет считать неэффективным в тот самый момент, когда он превратится в антисемита. Что многозначительно, основное направление антисемитизма в Баварии, а равно и позиции Пачелли, Фаульхабера и политического истэблишмента Баварии, имели больше общего с антисемитизмом Уинстона Черчилля, чем с таковым у Гитлера, когда он обратился против евреев. В феврале 1920 года бывший тогда британским военным министром Черчилль напишет в воскресной газете, что для него существует три вида евреев: хороший, плохой и безразличный. «Хороший» еврей для Черчилля это «национальный» еврей, который был «англичанином, практикующим иудейскую веру». По контрасту с этим, «плохой» еврей был «интернациональным евреем» революционной марксисткой разновидности, разрушительным и опасным, и который, в соответствии как с убеждениями множества баварцев, так и Черчилля, был во главе революции. Черчилль напишет: «С известным исключением в случае Ленина большинство ведущих фигур — это евреи. Более того, основное вдохновение и стимуляция идут от еврейских вождей».
Нерасистский характер антисемитизма многих баварцев объясняет, почему, несмотря на головокружительный рост антибольшевистского антисемитизма во время революции, евреи могли служить и служили в добровольческих корпусах (Freikorps) и других милицейских формированиях, которые помогли сокрушить мюнхенскую Советскую Республику. Это также объясняет, почему не-евреи желали служить наряду с евреями, чтобы остановить продвижение коммунизма. Более важно то, что служба многих евреев в добровольческих корпусах (Freikorps) ставит под сомнение всеобщее суждение о том, что политическое движение, возглавляемое Гитлером, выросло из этих корпусов. Часто верят, что Freikorps были авангардами нацизма, разжигаемыми фашистским духом, а также полным отрицанием демократии, культуры и цивилизации. В соответствии со всеобщим мнением, члены Freikorps формировали культ разрушения, который стремился к единству и основанию расового общества. Члены Freikorps якобы следовали неконтролируемой и неподконтрольной «логике истребления и чистки», что произведёт дух, который позже станет вдохновлять SS (сокращение от Schutzstaffel, «охранные отряды») — военизированные силы нацистской партии, которые станут ответственными за осуществление Холокоста. Также считается, что они были в равных долях антисемитскими и антикапиталистическими, или в действительности гораздо более антисемитскими, чем они были антикапиталистическими. Если в самом деле так зародился национал-социализм, то как это было возможно, что много евреев служило в этих добровольческих корпусах?
Добровольческий корпус «Оберланд», например, включал несколько членов-евреев. «Оберланд» не был просто одним из добровольческих корпусов. В нём также состоял один из товарищей-связных Гитлера на войне, Артур Родль, будущий командир концентрационного лагеря, а также никто иной, как будущий глава SS Генрих Гиммлер. В конце войны, когда стали искать добровольцев для службы в этих Freikorps, очень мало солдат выразили желание, поскольку большинство людей просто хотели попасть домой. Например, только восемь человек из полка Гитлера вступили добровольцами в начале декабря, когда в Списочном полку был объявлен набор добровольцев. Но когда весной 1919 года демократически избранное правительство попросило людей защитить свои дома от коммунистического государственного переворота, это было воспринято как совершенно другое дело. Людей просили присоединиться временно, поскольку регулярная армия и правоохранительные органы не были теперь численно достаточно сильны, чтобы ответить на радикальный левый вызов новому политическому порядку.
Большое число людей вызвались записаться добровольцами. Так что не пережитая долгая и жестокая война, не стремление к насилию предполагаемых протофашистов, не поколение нигилистов, ненавидящее культуру и цивилизацию, но динамика и логика послевоенного конфликта объясняют, почему большое число — и всё же меньшинство — баварцев присоединилось к полувоенным формированиям в 1919 году. Например, членство в либеральной Немецкой Демократической Партии не остановило Фридолина Золледера, офицера из полка Гитлера, от присоединения к добровольческому корпусу.
Движение добровольческих корпусов было на удивление гетерогенным. По меньшей мере 158 евреев служили в Баварском добровольческом корпусе после Первой мировой войны. Также следует подчеркнуть, что евреи продолжали вступать в добровольческий корпус в дни и недели после конца мюнхенской Советской Республики, что, отмечая очевидное, следует рассматривать как одобрение действий «белых» войск против мюнхенской Советской Республики. Например, 6 мая 1919 года Альфред Хайлброннер, еврейский торговец из Меммингена, вступил в добровольческий корпус «Швабия», в котором Фриц Видеман, командир Гитлера во время войны, служил командиром роты. Добровольческий корпус Видемана и Хайлброннера участвовал в операциях в Мюнхене между 2 и 12 мая, и впоследствии сражался в Швабии.
158 евреев — членов Баварского добровольческого корпуса — составляли примерно 0,5 процента от его численности. Эта цифра не сильно отличается от общего процента евреев среди населения Баварии, который к 1919 году составлял где-то между 0,7 и 0,8 процента. Действительное число еврейских членов добровольческого корпуса, кто причислял себя к иудейской вере, было гораздо больше, чем 158, поскольку сохранившиеся записи о членстве неполные. Например, Роберт Ловензон, из Фурта во Франконии, не числится в сохранившихся списках личного состава корпуса. Этот еврейский офицер и в военное время командир пулемётной части вступил в милицию или в добровольческий корпус весной 1919 года. Поскольку его умеренно левые симпатии были несовместимы с идеями мюнхенской Советской Республики, он помог разгромить её. Когда он был вновь арестован в 1942 году, его прошлая служба во время Первой мировой войны и в 1919 году больше ничего не значили. Ветеран похода добровольческого корпуса против мюнхенской Советской Республики проведёт остаток войны в лагерях на востоке и умрёт в феврале 1945 года на марше смерти. Вследствие отсутствия в сохранившихся записях членства баварской милиции евреев, подобных Ловензону, весьма похоже, что доля евреев среди членов Freikorps в действительности была равна или превышала долю евреев в общем населении Баварии.
Более того, логика диктует, что существенное число светских евреев — то есть евреев, которые не определяли себя принадлежащими к иудейскому вероисповеданию и которые не состояли в какой-либо религиозной общине или перешли в одну из христианских церквей, — также служили в добровольческих корпусах. Вкратце, если на то пошло, обычный взгляд на добровольческие корпуса, в соответствии с которым они были более антисемитскими, чем антикоммунистическими, и в соответствии с которым они образовали зародыш национал-социалистического движения, следует повернуть с головы на ноги. В конце концов, добровольческий корпус Баварии включал по меньшей мере 158 евреев, но не Гитлера.
Ничто из этого не ставит под вопрос то, что для части членов движения добровольческих корпусов была явная преемственность от их действий в 1919 году до прихода к власти национал-социалистов. Важным моментом здесь является то, что они образовывали только часть движения. Представление движения добровольческих корпусов весны 1919 года как авангарда национал-социализма будет означать неумышленное согласие с той историей, какой её преподносила нацистская пропаганда. Например, в 1933 году Герман Геринг отзовётся о членах Freikorps как о «первых солдатах Третьего Рейха» в попытке переделать историю подъёма национал-социализма между 1919 и 1933 гг. в героический эпос. Подобным образом сам Гитлер заявит в 1941 году, что хотя некоторые евреи могли по тактическим соображениям желать противопоставить себя Айснеру, «никто из них не взялся за оружие для защиты Германии от своих собратьев-евреев!»
Что бы там «белые» войска ни увидели в заместителе батальонного советника из Второй демобилизационной роты, когда они вошли в столицу Баварии 1 мая, одно вполне ясно спустя столетие: Гитлер не выступал против умеренных социал-демократических революционеров в революционном Мюнхене, равно как он и не поддерживал идеалы второй Советской Республики.
Однако, даже если он открыто не выражал определённые политические и антисемитские идеи в течение более чем пяти месяцев революции, которые он пережил в Мюнхене и в Траунштайне, по крайней мере в теории возможно, что Гитлер тем не менее мог уже хранить их глубоко в своём сердце. То есть, хотя он мог внешне казаться бесцельным в течение революции, его политические идеи уже могли быть разработанными и устоявшимися. Другими словами, возможно, что он мог полностью возненавидеть зрелище революции, когда добирался обратно в Мюнхен при своём возвращении из Пазевалка, и что в действительности он мог никогда не иметь каких-либо левых симпатий.
Можно утверждать, что опыт революции и Советской Республики в Мюнхене пробудил в Гитлере глубокую ненависть ко всему, что было чуждым, интернациональным, большевистским и еврейским — вдобавок к предшествующему, что скрытно уже существовало во время его жизни в Вене. И всё же свидетельство, которое подтверждает заявления такого рода, скорее является свидетельством постфактум, как, например, заявление, которое Гитлер предположительно сделал в своей ставке в 1942 году, в то время, когда его политика истребления евреев набирала обороты. Он скажет своим гостям в 1942 году, что в «1919 году еврейка написала в газете Bayerischer Kurier: „Что Айснер делает теперь, однажды отзовётся на нас, евреях!“ Это странный случай ясновидения».
Цитата из Гитлера в самом деле разоблачающая, но не потому, что она проливает свет на возникновение его мировоззрения как следствие мюнхенской Советской Республики. Скорее это демонстрирует то, сколь заметно он станет использовать революцию в качестве влияющего события для своей политики постфактум, находясь у власти, таким же образом, как он станет вызывать свои впечатления от Первой мировой войны, переходящие в послевоенные, в качестве вдохновения для руководства усилиями Германии во Второй мировой войне. Утверждать, что Гитлер был отрицательно расположен по отношению к революции с самого её начала, и что он никогда не выказывал никакой симпатии к социал-демократам, значит неумышленно согласиться с нацистской пропагандой. Важно отметить, что сотрудничество с новым режимом даже не дистанцирует Гитлера от многих из его прежних начальников. В конце концов, некоторые из них, как, например, генерал Макс фон Шпайдель, сотрудничали с новым режимом и поддерживали его. Если даже его бывший командир дивизии принял революционный режим, не должно удивлять то, что Гитлер, который на протяжении всей войны смотрел снизу вверх на своих начальников, тоже сделал бы так же.
Хотя вероятное присутствие Гитлера на похоронах Айснера подтверждает присутствие у него симпатий к левым, это не обязательно делает его сторонником независимых социал-демократов Айснера, поскольку Айснер после его убийством был весьма уважаемой личностью среди и радикальных, и умеренных левых, а также и среди солдат, служивших в Мюнхене. Вопрос не в том, поддерживал ли Гитлер левых во время революции, что он явно делал, а какого рода левые идеи и группы он поддерживал или, по крайней мере, признавал. Поскольку Гитлер служил всем левым режимам на протяжении всех фаз революции до самого конца, он явно принимал все из них, или по меньшей мере молчаливо соглашался с ними по причинам целесообразности. К тому же его предыдущие политические заявления времён войны, равно как и стиль его поведения во время и войны, и революции, отмечают, что количество политических идей, с которыми он активно соглашался, было гораздо меньше тех, каким он был готов служить.
Принимая во внимание то, что солдаты, в преобладающем числе голосовавшие за СДПГ на выборах в Баварии в январе 1919 года, избрали Гитлера своим представителем; что самый близкий товарищ Гитлера во время революции был членом связанного с СДПГ профсоюза; и что СДПГ под руководством Эрхарда Ауэра выступала против интернационального социализма и во многих случаях сотрудничала с консервативными и центристскими группами, одно совершенно ясно: Гитлер был близок к СДПГ, но либо упустил возможность, либо ему не хватило силы воли «спрыгнуть с корабля» после установления второй Советской Республики.
В действительности во время Второй мировой войны Гитлер в частном разговоре допустит, по крайней мере косвенно, что он одно время симпатизировал Эрхарду Ауэру. В своей военной ставке 1 февраля 1942 года он говорил (это было записано): «Но существует разница в том, что касается людей в ситуации 1918 года. Некоторые из них просто оказались в ней, как Понтий: они никогда не хотели быть частью революции, и сюда относится Носке, так же как и Эберт, Шайдеманн, Северинг и Ауэр в Баварии. Я не был в состоянии принимать это в расчёт, пока шла битва. […] Только после того, как мы победили, я был в состоянии сказать: „Я понимаю ваши аргументы“». Гитлер добавил: «Единственная проблемой социал-демократов в то время — это отсутствие вождя». Даже говоря в узком кругу о Версальском договоре, карательном мирном договоре, который завершил Первую мировую войну, он станет обвинять католическую партию центра больше, чем социал-демократов, за предательство Германии: «Было возможно достичь весьма иных условия мира», — скажет Гитлер в частном разговоре 27 января 1942 года в военной ставке. «Были социал-демократы, готовые стоять на своих позициях до конца. [Однако] Вирт и Эрцбергер [из партии Центра] подписали сделку».
Сам Ауэр также утверждал, что у Гитлера были симпатии в отношении СДПГ в течение зимы и весны 1919 года. В статье 1923 года, написанной для газеты Münchener Post, Ауэр утверждал, что Гитлер «вследствие его убеждений рассматривался как социалист большинства [Mehrheitssozialist] в кругах департамента пропаганды и заявлял, что он им является, как столь многие другие; но он никогда не был политически активным или членом профсоюза».
Чрезвычайно маловероятно, что такой проницательный и осторожный политический деятель, как Ауэр, стал бы измышлять такое заявление в политически насыщенной атмосфере весны 1923 года. Выдумка такого рода принесла бы риск быть легко разоблачённым в качестве мошенника и тем самым обернулась бы против него. Невозможно теперь установить с определённостью, кто в этом случае был источником Ауэра, но нетрудно догадаться. С большой степенью вероятности это был Карл Майр, который должен будет стать отеческим наставником Гитлера летом 1919 года, когда Майр стал главой департамента пропаганды армии в Мюнхене. Его задачей станет выполнять задачи пропаганды, а также расследовать более раннюю деятельность департамента пропаганды в течение революции. Майр сменит в 1921 году политические пристрастия и начиная с этого времени станет регулярно снабжать Эрхарда Ауэра информацией для его статей.
Ауэр не был единственным социал-демократическим писателем с доступом к людям, подобным Майру, который сообщал о близости Гитлера к СДПГ в течение весны 1919 года. Конрад Хайден, социал-демократ и еврей по матери, который прибыл в Мюнхен студентом в 1920 году и после выпуска начал работать в Мюнхене корреспондентом либеральной газеты Frankfurter Zeitung, сообщит в 1930-х годах, что Гитлер поддерживал СДПГ и даже говорил о присоединении к партии. По словам Хайдена, Гитлер «среди своих товарищей заступался за социал-демократическое правительство и в их горячих дискуссиях поддерживал сторону социал-демократов против коммунистов». Драматург Эрнст Толлер между тем станет утверждать, что в то время, как он позднее в 1919 году был в заключении за своё участие в революции, один из его товарищей заключённых рассказал ему, что он случайно встретился с «Адольфом Гитлером в первые месяцы республики в военных казармах в Мюнхене». В соответствии с Толлером, заключённый рассказал ему, что «в то время Гитлер заявлял, что он был социал-демократом». Кроме того, сам Гитлер намекнул, что у него были в прошлом социал-демократические симпатии, когда он рассказывал своим товарищам — национал-социалистам в 1921 году, что «каждый был когда-то социал-демократом». Свидетельство Фридриха Крона — одного из первых членов партии и её финансового покровителя, который обращался к Гитлеру с фамильярным «ты» до тех пор, пока они не разорвали отношения в 1921 году по причине растущей мегаломании Гитлера — также подтверждает, что у Гитлера вначале были социал-демократические пристрастия. Когда Крон и Гитлер в первый раз встретились примерно в то время, когда Гитлер впервые посетил собрание того, что должно было стать нацистской партией, Гитлер сказал ему, что предпочитает «социализм», который принял форму «национальной социал-демократии», лояльной к государству, подобной такой, как в Скандинавии, Англии и в довоенной Баварии.
Осмысливая время, проведённое Гитлером во время мюнхенской Советской Республики и его последствия, было бы ошибкой представлять Гитлера служившим в полку, в котором сторонники левых и правых противостояли друг другу. Поэтому было бы неверным описывать его в то время, когда он был выборным представителем солдат своей части, как тайного представителя солдат с правыми политическими убеждениями. Как отмечено ранее, разделительная линия в военных частях, базировавшихся в Мюнхене во время Советской Республики, проходила не между левыми и правыми, но между радикальными левыми и умеренными левыми, что определяет Гитлера как умеренного левого.
Как заявил Карл Майр в сообщении, опубликованном в Америке в 1941 году, когда он был заключён в один из гитлеровских концентрационных лагерей, Гитлер был бесцельной «бродячей собакой» после войны. «После Первой мировой войны», — напишет Майр, «[Гитлер] был просто одним из многих тысяч бывших солдат, бродивших по улицам в поисках работы. [.] В это время Гитлер был готов связать свою судьбу с любым, кто проявил бы к нему доброту. [.] Он стал бы работать на еврейского или французского работодателя с такой же готовностью, как и на арийца. Когда я впервые встретил его, он был как уставшая бродячая собака, ищущая хозяина».
Разумеется, Майр мог преувеличить степень, до которой сознание Гитлера было подобно чистой грифельной доске в первые полгода или около того после войны. Определенно, правда то, что Гитлер вернулся с войны без предначертанного направления и встал на путь самоопределения. Всё же приспособленчество, рациональность и смутные политические идеи сосуществовали и временами соперничали друг с другом внутри Гитлера. Его политическое и личное будущее было неопределённым. Гитлер остался в армии, потому что ему некуда больше было идти. И конечно же, он часто был побуждаем приспособленчеством, питаемым стремлением избежать одиночества, и временами был человеком, плывущим по течению. Тем не менее, было бы преувеличением предположить, что он был бесстрастным, без политических интересов, и побуждаемым единственно стремлением к выживанию.
Модель поведения Гитлера и его действия, а также критическое прочтение ранних и более поздних заявлений его и других людей, выявляют человека с изначальной симпатией к революции и к СДПГ, который в то же самое время отвергал идеи интернационализма. На протяжении нескольких месяцев посредством комбинации рациональности, приспособленчества и умеренных левых предпочтений Гитлер из неуклюжего одиночки и исполнителя приказов превратился в того, кто желает и способен занять лидерскую позицию. Эта перемена произошла точно в тот момент, когда большинство людей предпочло бы не высовываться, чтобы пережить бурю. Однако с падением Советской Республики Гитлеру необходимо было понять, должен ли он выйти и каким образом из того угла, в котором он оказался в конечном итоге вследствие своих действий в предшествующие недели.
Глава 4. Перебежчик
То, каким образом «белые» силы свергли Советскую республику и восстановили порядок в Мюнхене, проясняет, почему положение для любого заподозренного в симпатиях к Советской республике было столь опасным.
В то время как громкие возгласы «Ура!» и «Браво!» приветствовали проправительственные войска на улицах верхнего среднего класса, прибытие «белых» войск часто приносило с собой массовые казни подозреваемых в принадлежности к Красной Армии. Они происходили повсюду, даже в школьных дворах. Как отметил 8 мая 1919 года в своем дневнике Клаус Манн, сын романиста Томаса Манна: «В нашем школьном дворе были застрелены два спартаковца. Один из них, семнадцатилетний юноша, даже отказался от повязки на глаза. Пошенридерер сказал, что это был фанатизм. Я нахожу это героическим. Школу захватили уже к полудню».
Многие из служивших в «белых» войсках подозревали сопротивление повсюду. Например, 3 мая «белые» войска осыпали пулями особняк, в котором располагалась резиденция папского нунция Пачелли, после того как его помощник Лоренцо Шиоппа включил свет в своей спальне поздним вечером. У Шиоппы не было иного выхода, кроме как покинуть комнату на карачках. «Белые» войска, ответственные за эту акцию, предположили, что их собираются обстрелять, когда они увидели включенный свет.
В большой степени насилие, нацеленное на истинных и воображаемых сторонников Советской республики, имело происхождение в агрессивной ментальности некоторых, но ни в коем случае не всех членов Freikorps («Добровольческих корпусов»). Что ухудшало ситуацию, так это хаотичная и сбивающая с толку обстановка, ожидавшая войска, которые часто были незнакомы с географией Мюнхена. Например, один из «белых» командиров получил карту Мюнхена лишь значительно позже своего прибытия в город. Кроме того, новости об убийстве заложников приводили к тому, что даже те члены «белых» сил, кто считал себя левыми и кто сражался неохотно, прибегали к насилию. По словам издателя Юлиуса Фридриха Леманна, который убежал из Мюнхена и вернулся в город в качестве командира милиции из юго-западного германского государства Вюртемберг, «мне удалось заставить двигаться вперёд моих людей из Вюртемберга, бывших искренними сторонниками красных, только когда я поведал им о недостойных деяниях по убийству заложников». По словам Леманна ещё за пять минут до начала сражение его люди отказывались стрелять.
Охота за предполагаемыми членами Красной Армии подпитывалась не только лишь паранойей, страхом и хаосом, но также и тем фактом, что твердолобые красногвардейцы продолжали свою борьбу, применяя тактику партизан, даже после занятия Мюнхена. Фридрих Луэрс, который жил на Штигльмайрплац, к северу от центрального вокзала Мюнхена, в районе с сильной поддержкой Советской республики, четыре дня спустя после первого прибытия «белых» войск всё ещё наблюдал, как «красные» активисты сражаются и ведут снайперский огонь по «белым» захватчикам. Действительно, время от времени посты проправительственных войск убивали в ночное время под прикрытием темноты. Эскалация насилия в первые дни мая в конечном счёте следовала логике асимметричной городской войны, в которой неравное распределение потерь среди атакующих и обороняющихся не обязательно отражает то, у какой стороны был более агрессивный склад ума.
И всё же Гитлер смог не попасться в круговорот насилия, направленный против настоящих и воображаемых сторонников Мюнхенской Советской республики. По словам его друга Эрнста Шмидта, он снова был отпущен из-под ареста посредством вмешательства офицера, который неожиданно встретился с ним после его ареста и который знал его с фронта.
Как показали действия Гитлера в марте и апреле, по крайней мере на это время он ещё не овладел наиболее важным искусством из всех в политике: способностью заглядывать за пределы известного и формировать мнение, основанное на неполной информации. Другими словами, он ещё не научился, как наилучшим образом обращаться с неопределённостью окружающих вариантов выбора и как выбирать путь действий, которые произведут максимальную степень преимущества. Тем не менее, он добился успеха в преобразовании себя из человека, в котором никто ещё никогда не видел каких-либо лидерских качеств, в того, кто держал власть над другими. Примечательным образом авторитет был дарован ему не сверху, но демократически снизу. Хотя в процессе он приблизился к краю пропасти, как он продемонстрировал в хаотические дни в начале мая, он уже отточил искусство возвращения с задних позиций и превращения поражения в победу. Тут мы можем видеть первые признаки манеры поведения Гитлера в публичной жизни, в которой он почти всегда станет более успешен в режиме ответных, а не упреждающих действий.
Во всяком случае, политическая ситуация в Мюнхене в течение мая становилась всё более неустойчивой. В то время, как кровавые события вследствие падения Советской республики ожесточили обе стороны в конфликте, умеренный центр политики испарился. Умеренные социал-демократы были крупными неудачниками в мюнхенской Советской республике, даже несмотря на то, что, говоря объективно, они сделали больше для защиты нового послевоенного демократического порядка, нежели чем любая другая группа. Однако в глазах умеренных и консерваторов социал-демократическая партия (СДПГ) оказалась неспособной держать в узде радикальных революционеров и защищать новый порядок, тогда как многим на левом фланге представлялось, что СДПГ предала свои корни.
Как отметил в письме другу 20 мая поэт-романист Райнер Мария Рильке, просто не было видно света в конце туннеля. Из-за наследия, оставленного Советской республикой и её падением, «наш уютный и безопасный Мюнхен похоже отныне останется источником общественных волнений. Советский режим разорвался на миллион маленьких щепок, которые невозможно будет удалить повсюду. […] Горечь, спрятанная во множестве потайных мест, ужасно выросла и рано или поздно взорвётся снова».
Опасаясь, что взрыв горечи и сжатие политического центра в Мюнхене может привести к возрождению радикальных левых, новые правители города решили, что военные части, базировавшиеся в Мюнхене в дни Советской республики, следует распустить как можно скорее. Озабоченные тем, что солдаты, служившие в тех частях, всё ещё могут быть заражены радикальными левыми идеями, военные власти объявили 7 мая, что все оставшиеся солдаты гарнизона в Мюнхене, которые обитали в городе до вступления в него вооружённых сил, подлежат немедленной демобилизации. В течение недель большинство солдат старой баварской армии были освобождены от службы.
Поскольку распускаемые части, имевшие опыт Советской республики, могли быть недостаточно эффективными для предотвращения возрождения левого радикализма, военные власти также желали удалить из воинских частей при их роспуске как можно больше «заноз», оставленных Советской республикой. Их цель — идентифицировать и наказать солдат, которые наиболее рьяно поддерживали Советскую республику — предоставила Гитлеру благоприятную возможность. Играя на страхе среди новых правителей Мюнхена относительно повторения мюнхенской Советской республики, он добровольно вызвался стать информатором для новых хозяев города. Став перебежчиком, он смог против всех шансов не только уклониться от демобилизации и тем самым избежать неопределённого будущего, но также выйти усиленным из ситуации, которая в ином случае могла привести к депортации в его родную Австрию, тюремному заключению или даже смерти.
Новая жизнь Гитлера в качестве информатора началась 9 мая, когда он вошёл в помещение прежнего полкового солдатского совета и начал служить в комиссии по расследованию и демобилизации Второго пехотного полка. Он был младшим членом комиссии из трёх человек, состоявшей из офицера, обер-лейтенанта Марклина, офицера запаса, фельдфебеля Клебера, и его самого. В последующие дни и недели комиссия должна была заниматься перед демобилизацией кандидата установлением того, искал ли тот возможность активной службы в Красной Армии.
Гитлер мог быть предложен к службе в комиссии командиром Второго пехотного полка Карлом Бухнером, который короткое время возглавлял полк после разгрома мюнхенской Советской республики. Они возможно познакомились во время войны, когда Бухнер возглавлял Семнадцатый Баварский Резервный пехотный полк. Так как эта часть была родственной его собственному полку, Гитлер в качестве посыльного своего полкового штаба регулярно отправлялся в штаб полка Бухнера. Если в самом деле верно, что после его ареста 1 мая Гитлер был освобождён посредством вмешательства офицера, знавшего его с войны, то не будет большой натяжкой воображения указать на Бухнера, как скорее всего, бывшего тем офицером.
Для службы в комиссии Гитлер был забран из его батальона, который был в процессе роспуска, и 19 мая 1919 года переведён в часть, непосредственно приданную штабу Второго пехотного полка. Таким образом, побуждаемый большей частью приспособленчеством, Гитлер умудрился ухватиться за ещё один спасительный канат внутри преобразуемой армии.
Он теперь доносил на своих собственных полковых товарищей. В показаниях, данных комиссии, Гитлер, например, указывал на то, что Йозеф Зайхс, его предшественник в роли доверенного лица (Vertrauensmann) от его роты, а также Георг Дуффер, прежний председатель Совета демобилизационного батальона, вербовали солдат полка присоединиться к Красной Армии. «Дуффер был самым скверным и наиболее радикальным подстрекателем», — заявит Гитлер, давая показания 23 мая в судебном разбирательстве, инициированном комиссией, в которой он сам служил. «Он постоянно занимался пропагандой в пользу Советской республики; на официальных собраниях полка он всегда занимал наиболее радикальную позицию и приводил доводы в пользу диктатуры пролетариата». Он уточнял: «Несомненно то, что в результате пропагандистской активности со стороны Дуффера и батальонного советника Зайхса отдельные части полка вступили в Красную Армию. В результате его подстрекательских речей против проправительственных войск, которыми он докучал вплоть до 7 мая, солдаты полка присоединились к первопроходцам враждебности к правительственным частям».
Превращение Гитлера в перебежчика далеко не было уникальным явлением. В действительности, всё это время Мюнхен был полон перебежчиков. Например, некоторые из прежних членов Красной Армии присоединились к Добровольческим корпусам.
Как только Гитлер вступил в комиссию, он начал переделывать своё прошлое в предшествующие полгода. Множеством искусных и не столь искусных способов он начал создавать свой фиктивный образ в русле той истории своего возникновения, которую он теперь желал рассказывать: что он всегда стоял в оппозиции к следовавшим друг за другом революционным режимам. Попытку Гитлера переписать историю своего соучастия в революционном Мюнхене следует рассматривать, как ранний знак его последующей способности постоянно заново изобретать свой образ, переписывая свое собственное прошлое. Например, он станет рассказывать одному из своих начальников, что после своего возвращения из Траунштайна (т. е. во время убийства Айснера) он искал работу вне армии. Другими словами, он подразумевал, что пытался найти возможность не служить революционному правительству. Однако поскольку похоже, что он не использовал время, предоставленное солдатам в его демобилизационной части для поисков другой работы, это представляется своекорыстной ложью, созданной для поддержки его заявления в послереволюционный период, что он никогда не был запятнан более радикальными воплощениями баварской революции.
Следует отметить, что стать перебежчиком было сравнительно легко для Гитлера, в отличие от тех, кто активно участвовал в сражениях на стороне Красной Армии. Даже хотя он занимал должность в мюнхенской Советской республике, он не был преданным приверженцем идеалов вождей того режима. Как симпатизировавший СДПГ и умеренным среди крайне левых, непохоже, что он выработал искреннюю симпатию к радикальным левым интернационалистам, что сделало его полезным кандидатом для службы в комиссии по расследованию и демобилизации своего полка.
Тогда как ранее в том году Гитлер был маленьким винтиком в машине социализма, теперь он был таковым в машине постреволюционной армии. Даже хотя правительство Баварии в теории снова было ответственно за состояние дел в Мюнхене, в реальности на месте делами заправляла армия, поскольку правительство Баварии не вернётся в Мюнхен еще в течение более трёх месяцев, оставаясь в Бамберге до 17 августа. Новые начальники Гитлера были офицерами нового армейского командования в Мюнхене, окружного командования 4-го военного округа (Reichswehr-Gruppenkommando 4), которое было учреждено 11 мая. Возглавляемому генералом Арнольдом фон Молем, ему было вверены все регулярные воинские части, расположенные в Баварии. В то время, как в течение лета сохранялось военное положение, окружное военное командование 4 в сущности имело исполнительную власть в Мюнхене.
Политические взгляды командования были резко антиреволюционными. Однако комиссия, в которой служил Гитлер, была нацелена скорее на тех, кто был связан с радикальными левыми, чем на умеренных левых, как показало свидетельство Гитлера на процессе Зайхса. Как утверждалось в заявлении об учреждении комиссии, «все офицеры, офицеры запаса и срочнослужащие, в отношении которых было доказано их членство в Красной Армии или принадлежность к спартаковцам, большевикам или к деятельности коммунистов, подлежат аресту». Следует добавить, что 10 мая полк Гитлера был возвращён в руки офицера, который менее всего был позитивно предрасположен — из прагматических причин либо по убеждению — по отношению к умеренным левым: полковника Фридриха Штаубвассер, который был командиром полка с конца декабря 1918 до февраля 1919 года. Штаубвассер поддерживал создание Народной Армии («Volksheer»), которая станет служить республике, возглавляемой правительством СДПГ. Вкратце, среди военных в Мюнхене после падения Советской республики явно всё ещё существовало место для умеренных социал-демократических идей.
Тот факт, что анти-левая реставрация в городе была направлена прежде всего и более всего против радикалов, нежели умеренных левых, также нашёл своё выражение в визите президента Германии Фридриха Эберта и рейхсминистра обороны Густава Носке в столицу Баварии в мае, где два высокопоставленных социал-демократа присутствовали на параде «белых» войск. Сам Гитлер также всё еще выражал симпатии к СДПГ, если мы сможем поверить свидетельству, опубликованному либеральной ежедневной газетой Berliner Tageblatt («Берлинер Тагеблатт») 29 октября 1930 года: «3 мая 1919 года, через 6 месяцев после революции, на митинге членов 2-го пехотного полка в полковой кантине на Обервизенфельд Гитлер сказал, что он одобряет демократию большинства». Это свидетельство утверждает, что митинг был созван для обсуждения того, кто должен стать новым командиром полка, добавив, что Гитлер обозначил себя «как приверженец социал-демократии [Mehrheitssozialdemokratie; т. е., СДПГ], хотя и с некоторыми оговорками».
Растущая неустойчивость политической ситуации в Мюнхене и эрозия политического центра были не единственными, а возможно даже не главными результатами последовательности революционных режимов, которые испытала Бавария между ноябрём и маем. Как отмечали доклады британской разведки в апреле, дальнейшая политическая радикализация могла быть предотвращена или даже обращена вспять при соблюдении двух условий: улучшения ситуации с продовольствием в Баварии и заключения мирного договора, который немцы не восприняли бы как слишком карательный.
Ни одно из этих условий не было выполнено. Неудивительно, что за этим последовали возмущения. 7 мая, за два дня до того, как Гитлер стал служить информатором, были опубликованы условия мира, разработанные в Париже державами-победительницами. Они требовали от Германии больших территориальных уступок, роспуска большей части её вооружённых сил, уплаты репараций и признания ответственности Германии за войну. В течение нескольких часов условия мира произвели огромный шок как в Мюнхене, так и по всей стране. «Итак, мы, немцы, узнали, — высказывала свое мнение Münchner Neuesten Nachrichten, газета баварского католического консервативного истэблишмента в редакционной статье на следующий день, — что мы не только побеждённый народ, но и народ, брошенный на полное уничтожение, если воля наших врагов станет законом».
Опубликование 7 мая условий мира разрушило прежний послевоенный оптимизм в Мюнхене на то, что мир придёт более или менее в соответствии с линиями, очерченными президентом Вильсоном и таким образом станет приемлемым для всех сторон. Условия мира не были необычайно жёсткими. Говоря беспристрастно, они были не более суровыми, чем те, что привели к концу предшествующие войны. Более того, большинство миротворцев в Париже были гораздо более благоразумными людьми, чем можно будет предположить по их последующей репутации. Дело в том, что в 1919 году условия мира были восприняты в Мюнхене как чрезвычайно карательные. Полное пренебрежение победителей в войне к пожеланию Временной Национальной Ассамблеи немцев Австрии, чтобы Австрия присоединилась к Германии, показало, что не будет рассвета новой эры в международных делах, основанной на принципе самоопределения наций. «Четырнадцать Пунктов» Вильсона и его видение нового типа международного порядка, равно как и последующие обещания, сделанные его администрацией, теперь рассматривались как пустые, ничего более, кроме как вероломная уловка.
С того момента, как новости об условиях мира достигли Мюнхена, в городе начало расцветать политическое недовольство. Хайнрих Вольффлин, швейцарский профессор истории искусств в Мюнхенском университете, например, писал 8 мая своей сестре о «огромном напряжении касательно мирного договора» в Мюнхене. Тремя днями ранее Михаель фон Фаульхабер, мюнхенский архиепископ, делился своими мыслями с другими баварскими епископами: «Такой вынужденный мир создаст основы не для мира, но для вечной ненависти, которая подвергнет общество неисчислимым внутренним потрясениям и сделает полностью невозможным существование Лиги Наций, на которую Святой Отец смотрел в течение войны как на цель развития и гарант мира».
Недовольство, вызванное опубликованием условий мира, не ушло. Например, 18 июня оперная певица Эмми Крюгер записала в своём дневнике: «Этому унижению Антанта осмеливается подвергнуть мою гордую Германию! Но она снова воспрянет. Никто не сможет раздавить такой народ, как наш!»
Шок, который почувствовали от условий мира, принял такие интенсивные формы потому, что только теперь, в дни и недели после 7 мая 1919 года, люди в Мюнхене осознали, что Германия была побеждена. Почти что мгновенно осознание отравило уже хрупкий политический климат города, как очевидно, например, проявилось во взаимодействии местных с представителями стран, с которыми воевала Германия.
До опубликования условий мира в Мюнхене было на удивление мало франко-германских трений, несмотря на большие потери баварских войск в сражениях против французов во время войны. Как отметил еврейский журналист Виктор Клемперер, вследствие того факта, что многие баварцы возлагали вину за войну на пруссаков, с французскими офицерами и должностными лицами, служившими в военных комиссиях, которые были образованы как часть соглашений по перемирию, обращались хорошо, когда люди встречались с ними на улицах Мюнхена. Клемперер сам был свидетелем этого, отмечая, что «они казались ни мстительными, ни даже заносчивыми, просто весёлыми и довольными их приёмом. И явно не без причины, потому что враждебных взглядов не было; на самом деле, некоторые были даже благожелательными — и благорасположение исходило не только из женских глаз». Он добавлял: «Я полагаю, что для людей в Баварии война прекратила своё существование. Война всегда была делом довлеющего прусского духа в Рейхе; Рейха более не существовало, Бавария снова была самой собой. Почему новое Свободное Государство не может вести себя общительно с Французской Республикой?»
Сцены, подобные этим, теперь были явлением прошлого. Например, в августе 1919 года, немецкие военнопленные, возвращавшиеся из Сербии, были полны презрения к французам. «Все придерживаются того мнения, что винить за позорный мир следует главным образом французов», — заявил солдат, который встретился с военнопленными. «Они все говорят, что если нам придётся снова воевать с французами, они все пойдут на войну».
Вполне может быть правдой, что в Центральной Европе Первая мировая война оставила после себя чрезвычайно взрывоопасную смесь горькой ненависти, воинственности и неисполненных мечтаний. Однако для многих людей — не только в Мюнхене, но по всей Германии — будет полугодовая задержка до тех пор, пока они осознают, что война не окончилась своего рода вничью, но что Германия действительно проиграла.
Из-за наследия Советской республики и её насильственных последствий, продолжавшихся материальных затруднений и опубликования жёстких условий мира в Париже, ситуация в Мюнхене оставалась чрезвычайно изменчивой в июне, как было очевидно для каждого при виде проволочных заграждений и импровизированных окопов, воздвигнутых и выкопанных на улицах города. Повсюду в Баварии дела обстояли не лучше. Как докладывал в начале июля служащий из сельской Нижней Баварии и Баварского Леса, работавший для Окружного военного командования 4, не только не был сокращён левый радикализм, но в действительности росла поддержка независимых социал-демократов. В соответствии с его докладом «Существует мощная пропагандистская активность в пользу независимых социал-демократов в Баварском Лесу, и почти никакой контрпропаганды». Служащий свидетельствует о том, как исчезает в регионе поддержка правительства, возглавляемого умеренными социал-демократами, заключая: «Похоже на то, что было много дискредитации и волнений снова в подготовке еще одного переворота». Он также предупреждал военные власти в Мюнхене о том факте, что «сельское население настроено враждебно в отношении нового рейхсвера», как была названа новая послевоенная армия.
Для разрядки политической ситуации в Мюнхене и в других местах Окружное Военное командование 4 и правительство в Бамберге решили уже в мае учредить «Народные курсы» (Volkskurse), чтобы обратиться непосредственно к тем, кого рассматривали потенциально увлечёнными возобновлением коммунистических экспериментов. План был провести серию из шести вечерних лекций в университете с целевой аудиторией среди рабочих. Но он не сработал так, как предполагалось, поскольку целевая аудитория не проявила к ним интереса. Как сообщал 13 июня своей сестре Хайнрих Вольффлин, которого привлекли вести один из классов, «лекция для рабочих 11 числа потерпела фиаско. Посетителей было немало, но присутствовало лишь немного тех людей, для кого это событие было предназначено». Фиаско продолжилось: «Лекционный зал был заполнен полностью, но что было заметно — то были костюмы, а не халаты рабочих».
Даже хотя «Народные курсы» завершились фиаско, Военное командование 4-го Округа решило, что ситуация была настолько зловещей, что классы следует учредить также для состоявших в армии. Целью было натренировать солдат в качестве ораторов, которые соответственно стали бы распространять контрреволюционные идеи среди рядовых военных частей, а также среди гражданских лиц по южной Баварии. Как устанавливал военный декрет от 1 июня 1919 года, лекции имелись в виду как «анти-большевистская тренировка», нацеленная на поощряемое «гражданское мышление». Задача их организации, равно как и более широкого отслеживания политической активности в Баварии и выполнения антиреволюционной пропаганды, была возложена на Отделение 1b (Abteilung 1b) Окружного Военного командования 4, более известное как Отделение разведки, образования и прессы. Внутри департамента задача организовать и вести курсы была возложена на капитана Карла Майра, главу подотдела пропаганды (Abt. 1b/P)
Как знак того, насколько важной считалась его работа, Майру — который расценивал себя как «главного человека в разведке» в Баварии — дали в качестве базы операций самый элегантный отель, который гордился тем, что был самым современным в Европе. Из комнаты 22 в «Регина Палас-отель» (Regina Palasthotel) Майр разрабатывал планы, как он изгонит коммунистические идеи из Баварии. Его целью было использовать пропагандистские курсы для того, чтобы привить их участникам «принятие необходимости действий государства, и новое чувство политической морали». Его целью не было «натренировать и послать законченных ораторов в страну и в войска». Скорее, он верил в то, что «многое будет достигнуто уже в том случае, если точки зрения, которым мы учим в этих классах, будут восприняты людьми, хорошо настроенными к нашей родине и к нашим солдатам, и эти честные люди пойдут вперёд и станут распространять такие идеи в своих кругах».
Майр изо всех сил старался найти тех, кого он имел в виду как подходящих участников для его курсов пропаганды, жалуясь своему партнёру 7-го июля, когда два его курса уже были завершены: «Ты не поверишь, сколь мало умелых, образованных людей имеет подход к людям, кто может разговаривать с людьми, но без партийных лозунгов. Невозможно остановить их от разглагольствований на тарабарщине».
Одним из немногих, кто соответствовал запросам Майра, был член комиссии по Расследованию и Демобилизации Второго пехотного полка — Адольф Гитлер. Вероятно, назначенный на курсы своим командиром полка, полковником Отто Штаубвассером, он посещал третьи курсы пропаганды Майра, которые проходили с 10 по 19 июля в барочном особняке Palais Porcia. Параллельные курсы для офицеров, которые должны были иметь место в то же время, будут включать в качестве участников Альфреда Йодля, будущего начальника штаба оперативного руководства Верховного Командования вермахта, и Эдуарда Дитля, который станет любимым генералом Гитлера во Второй мировой войне.
Курсы обеспечили Гитлера ещё одним спасательным кругом в армии. Приказ по полку, датированный 30 мая, разъяснил, что Гитлер может избегать демобилизации только до тех пор, пока он нужен в комиссии по расследованию своей части. Если бы не возможность принять участие в одних из пропагандистских курсов, у него было бы мало шансов не оставить армию. Курсы в Palais Porcia не только дали ему ещё один спасательный круг в армии, но и обеспечили будущего вождя Третьего Рейха его первым формальным политическим образованием. Что даже более важно, это тесно связано с его неожиданной политизацией в середине 1919 года.
9 июля 1919 года, в предшествующий началу пропагандистского курса Гитлера день, произошло событие, объясняющее реальное значение курсов. В тот день Германия ратифицировала Версальский договор. Ратификация символизировала конечную точку в радикальном сдвиге общего мировоззрения людей в Мюнхене, которое происходило с 7 мая, когда державы-победительницы в войне впервые опубликовали свои условия мира. Вплоть до момента ратификации противники условий мира могли жить в надежде, что Ватикану удастся воздействовать на Соединённые Штаты, чтобы они настояли на некарательном мире. Или, по меньшей мере, они могли надеяться, что Германия будет достаточно сильна и у неё будет воля, чтобы сопротивляться карательному миру. Даже Мелания Леманн, жена правого издателя Юлиуса Фридриха Леманна, одобрительно отметила в своём дневнике 7 июня, что Национальная Ассамблея Германии «заявила, что эти условия мира были невозможными», таким образом чувствуя или надеясь, что у держав-победительниц в Первой мировой войне ничего не выйдет с карательным мирным договором. Однако, к своему ужасу, в конце июня она осознала, что парламент собирается принять условия мира, на основании чего она заключила: «Теперь мы действительно потеряли всё».
Девятое июля изменило всё для Гитлера, поскольку ратификация мирного договора имела следствием его запоздалую реализацию того, что Германия действительно проиграла войну. Это был момент прозрения Гитлера, его драматическое политическое преображение. Оно произошло ни во время его жизни в Вене, ни в течение войны, ни во время революционного периода, ни вследствие кумулятивного опыта войны и революции. Наоборот, оно случилось вследствие его отложенной реализации поражения в постреволюционном Мюнхене. Это теперь началась политическая трансформация и радикализация Гитлера.
Подписание и ратификация Версальского договора (см. фото 7) были травматичны не только для Гитлера, но и для людей в Мюнхене по всему политическому спектру. Например, Рикарда Хух, романист, драматург, поэт и документалист либерально-консервативных убеждений, а также защитник прав женщин, напишет своей лучшей подруге, либеральному члену Национальной Ассамблеи, Марии Баум позже в том месяце: «Подписание мира оставило у меня ужасное впечатление. Я не могла полностью оправиться. Постоянное ощущение дискомфорта».
Несмотря на последующее обращение Гитлера из политической целесообразности к 9 ноября 1918 года — когда революция в Берлине покончила с имперской Германией — как к тому дню, который предположительно «сотворил» его, в действительности же 9 июля 1919 года было гораздо более важной датой в метаморфозе Гитлера. Его более позднее подчёркивание важности 9 ноября, как преобразившего его политически, позволит Гитлеру датировать более ранней датой своё политическое преображение и тем самым натянуть покров над своим соучастием в последующих революционных режимах. Это позволит ему в Mein Kampf мельком пройтись по своему опыту между его возвращением в Мюнхен в ноябре 1918 года и падением мюнхенской Советской республики. Его описание в Mein Kampf своей жизни во время этих шести судьбоносных месяцев насчитывает 189 слов и могло бы уместиться на обратной стороне почтового конверта. Даже его описание своих разногласий с отцом в возрасте одиннадцати лет — какую школу он должен посещать — более чем в два раза длиннее этого.
Тем не менее, его фокусировка на 9 ноября 1918 года не была исключительно приспособленческой. На всю оставшуюся жизнь Гитлер снова и снова станет возвращаться к одним и тем же двум вопросам: как может быть аннулировано поражение Германии в ноябре 1918 года? И как следует преобразовать Германию, так, чтобы в ней никогда снова не смог случиться ноябрь 1918 года, но и чтобы она была в безопасности на все времена?
Например, в ночь с 22 на 23 июля 1941 года, через несколько часов после налёта бомбардировщиков люфтваффе на Москву, мысли Гитлера будут сфокусированы не на самой России. Вместо этого он станет размышлять о том, как военная кампания в России сможет помочь сбалансировать взаимоотношения Британии и Германии, тем самым отменить ноябрь 1918 года и создать устойчивую международную систему, в которой смогут сосуществовать Германия и Британия: «Я верю в то, что конец войны [с Россией] будет началом прочной дружбы с Англией. Условия для нашей жизни в мире с ними станут нокаутом, который англичане ожидают от тех, кого они должны уважать. 1918 год должен быть стёрт». До своего смертного дня Гитлер твёрдо верил, что обращение вспять условий, которые в его сознании сделали возможным поражение в Первой мировой войне, было единственным способом устранить стоявшую перед ней Германией угрозу её существованию, и дать ей возможность выжить в быстро меняющемся международном окружении. Оглядываясь в прошлое, события 9 ноября 1918 года, таким образом, составляли для Гитлера самую суть всех проблем Германии.
С ратификацией 9 июля 1919 года Версальского договора СДПГ больше не была подходящим политическим домом для Гитлера. И события того дня обеспечили то, что политический католицизм не станет его новым домом. Почему? Хотя возглавляемое социал-демократами правительство Германии подало в отставку в знак протеста против условий мира, новое правительство, сформированное СДПГ и Партией Католического Центра, в конце концов подписало мирное соглашение, а депутаты рейхстага от СДПГ и Партии Центра ратифицировали его.
Последующие свидетельства людей, которые взаимодействовали с ним летом 1919 года, открывают важность Версальского договора для Гитлера в то время. Один из его товарищей по демобилизационной части будет утверждать в 1932 году, что в начале лета 1919 года Гитлер стал одержим мирным соглашением: «Я всё ещё вижу его сидящим передо мной с первым изданием Версальского договора, которое он изучал с утра до ночи». Далее, Германн Эссер в интервью в 1964 году заявит, что как пропагандист рейхсвера Гитлер фокусировался прежде всего на темах Версальского договора и Брест-Литовского мира, который закончил войну между Германией и Россией в начале 1918 года. Кстати, Гитлер сам в одной из своих ранних речей 4 марта 1920 года заявит, что вначале люди поверили, что обещание Вудро Вильсоном мира между равными станет явью: «Мы, немцы, огромное большинство нас, кто добродушен и честен, поверили обещаниям Вильсона примирительного урегулирования мира и были столь горько разочарованы».
Поскольку Гитлер, когда он приобрёл власть, тщательно разрушал любые следы о своей деятельности во время революции и после неё, любое свидетельство, что отложенное воздействие поражения было его «дорогой в Дамаск[3]», должно быть прежде всего вытекающим из контекста. Все ранние речи Гитлера в конечном счёте будут связаны с постижением смысла проигрыша Германии в войне. Они не будут просто направлены на врагов Германии. Скорее они станут попыткой понять причины поражения и попыткой очертить план создания Германии, которая никогда снова не проиграет войну.
Поскольку в Мюнхене и в Траунштайне до мая 1919 года не было настоящего беспокойства о том, что Германия проиграла войну, маловероятно, что опорная точка Гитлера по объяснению причин поражения и провозглашения планов построения иной Германии, которая без последствий переживёт будущие удары, возникла прежде этого времени. В отсутствие этого понимания не было нужды для фантазий о победоносной Германии, которую ударили кинжалом в спину, и для составления планов предотвращения будущих поражений. Весьма похоже на то, что Гитлер, как и люди вокруг него, вообразил, что война окончилась своего рода ограничениями, возможно не слишком благоприятными для Германии, но не теми, что равны поражению.
Плюс к этому, маловероятно, что политизация Гитлера произошла до того, как парламент Германии ратифицировал Версальский договор, поскольку только ратификация подтвердила слабость и поражение Германии. Прежде этого всё ещё было возможно представить себе, что правительство Германии и парламент откажутся подписать и ратифицировать договор. Но наиболее важный ключ к разгадке, позволяющий нам определить дату политического превращения и пробуждения Гитлера, это та степень, до которой суть его последующих политических идей зеркально точно отображает многие идеи, которые были открыты ему во время его пропагандистских курсов в Palais Porcia. Тем самым существует очень высокая степень вероятности того, что Гитлер начал посещать свои курсы в тот самый момент, когда он начал понимать значение поражения Германии и извлекать из этого поражения политические уроки.
Курс состоял из лекций известных местных докладчиков по истории, экономике и политике, за которыми следовали сессии в стиле семинара и дискуссий. Их центральной темой, как наметил в меморандуме граф Карл фон Ботмер — который вёл курсы для Майра — было отрицание большевизма и «анархических и хаотичных условий». Они также скорее отстаивали новый «обезличенный политический порядок», чем цели любой отдельной партии.
Преподаватели на курсах Гитлера приняли такой подход, как к своим лекциям, так и к политике и искусству управления государством в целом, который был сколь историческим, столь и идеалистическим. Курс был построен на предпосылке, которая немедленно бы стала привлекательна для любителя истории, каким был Гитлер со своих школьных дней в Австрии: что исторический прецедент объясняет мир и обеспечивает инструментами для решения возникающих проблем настоящего и будущего. Далее, как это сформулировал меморандум Ботмера, предполагалось, что лекции будут передавать ту мысль, что идеи, более чем материальные условия, приводят мир в движение: «Прежде всего, история Германии будет использована для демонстрации связи между миром идей и составом государства, а также для понимания того, что не единственно материальные вещи влияют на ход истории, но мировоззрение и идеи [Weltvorstellungen und Lebensauffassungen] — то есть тот факт, что всё существование человечества основано на идеализме [Idealitat]. Подъёмы и упадки будут показаны в связи с положительными и отрицательными качествами нашего народа и в связи с его историческим развитием».
Как проясняет также меморандум Ботмера, в лекциях следовало высоко оценивать разъяснение того, почему регулирование ограниченных запасов продовольствия и естественных ресурсов было неотъемлемой частью выживания государства. Равным образом они подчёркивали — сходно с коммунистическими пропагандистами, против которых докладчики направляли свои усилия, — как международный капитализм и финансы разрушали саму суть общества и были, таким образом, коренной проблемой социального неравенства и страданий. Это было послание, которое станет резонировать с Гитлером более, чем антибольшевистский посыл курсов.
В заключение лекции также предполагались как средство усилить этическую и политическую важность работы (Arbeit). В соответствии с меморандумом Ботмера, это работа «по существу дела» создаёт различие между «человеком и зверем … не только как необходимое средство существования, но и как источник моральной прочности, которая рассматривает работу как силу, лишь единственно от которой может вырасти владение и собственность, и преимущественное право работы, которая стоит выше любых доходов без усилий: работа выковывает общины; работа есть проблема сознания, понимание того, что делание и продолжение делания работы почётной являются идеалом личности всех работающих классов».
Значение меморандума Ботмера о целях Карла Майра и его пропагандистских курсов лучше всего измеряется, если посмотреть на его отзвуки в том подходе к политике, который впоследствии предпримет Гитлер. Прежде всего, Ботмер доказывал, что было бы неверно «иметь дело» с «чисто негативной формулировкой» своих целей; что равно важно определить позитивно, за что ты выступаешь. И таким образом Гитлер станет структурировать свои аргументы в будущие годы. Также на всю оставшуюся жизнь Гитлер станет подходить к проблемам с исторической точки зрения, именно как предположил Ботмер в своём меморандуме, и станет обращаться к историческим прецедентам, как для понимания мира, так и для определения политики на будущее.
Критериями раннего антисемитизма Гитлера между тем были преклонение перед идеализмом, отрицание материализма и прославление этического измерения работы, во многом так же, как определил эти этические и политические измерения Ботмер. Более того, именно таким же образом, как Ботмер сфокусировался на значении регулирования ограниченных запасов продовольствия и природных ресурсов для выживания государства, Гитлер на оставшуюся жизнь станет одержим как продовольственной безопасностью, так и вопросами доступа к природным ресурсам и их геополитическим смыслам. Далее, подобно меморандуму Ботмера, в котором подчёркивалось, что международный капитализм и финансы разрушают саму суть общества и что они являются, таким образом, коренной проблемой социального неравенства и страданий, в складывающемся мировоззрении Гитлера станут доминировать тот же сорт антикапитализма и отвержение международных финансов.
Курсы Гитлера вели по меньшей мере шесть докладчиков. Сам Ботмер вёл лекции о СДПГ, а также о связи внутренней и внешней политики. Другими докладчиками были: исполнительный директор группы поддержки аграрной политики Михаэль Хорлахер, экономист Вальтер Л. Хаусманн; директор Баварского музея рабочих Франц Ксавер Карш, инженер Готфрид Федер и профессор истории Мюнхенского университета Карл Александр фон Мюллер.
Судя по сравнению документов, написанных докладчиками пропагандистских курсов Гитлера, и его собственных последующих произведений и речей, двое из докладчиков в особенности — Федер и Мюллер — обеспечили Гитлера ответами, когда он пытался понять причины поражения Германии и извлечь из него уроки.
Франконец по рождению, сын высшего баварского чиновника и внук бабушки-гречанки, проживавший в Мюнхене самозваный экономический теоретик Федер читал лекции своим слушателям о предположительно разрушительном влиянии процентного финансирования. Тридцатишестилетний инженер защищал запрет процентного капитала и «процентного рабства». Его целью было создание мира, в котором крупным финансам нет места, поскольку для него капитал и проценты были источником всего зла. Он защищал запрет таких финансов, которые были известны, в которых он видел только деструктивный капитал, но ратовал за поддержку «продуктивного капитала»: фабрик, шахт и механизмов — всего того, что, по его мнению, имело объективную ценность.
Гитлер открыто признал влияние Федера в Mein Kampf, что мало удивительно, поскольку разновидность антикапитализма Гитлера будет весьма близким отражением антикапитализма Федера: «Впервые в моей жизни я слышал теперь обсуждение в принципе международного биржевого и заёмного капитала». Он был под воздействием Федера целый день на шестой день курсов, 15 июля 1919 года, когда Федер читал лекцию на пропагандистских курсах утром, за которой после полудня последовала сессия в виде семинара. Гитлер был захвачен обеими: «В моих глазах заслугой Федера было то, что он с беспощадной жесткостью очертил характер биржевого и заёмного капитала, который наносит вред экономике, и что он раскрыл исходное и вечное предположение процентного капитала», — напишет он в Mein Kampf. «Его аргументы были настолько верными во всех фундаментальных вопросах, что те, кто критиковал их, с самого начала менее отрицали теоретическую правильность идей, но более практическую возможность их выполнения. Но что в глазах других было слабостью аргументов Федера, в моих глазах было их силой».
Федеру понравился опыт чтения лекций участникам курсов Гитлера. Позже он записал в своём дневнике, что в тот день он «был совершенно удовлетворён» тем, как прошли занятия. Однако он мало что знал о том, насколько глубокое впечатление его идеи о международном капитализме и финансах оставили в тридцатилетнем Гитлере.
Что у Федера и Гитлера было общего, то простиралось далеко за пределы их шока и смятения от условий мира — в своём дневнике Федер записал в тот день, когда они были опубликованы: «finis Germaniae [конец Германии].» После войны они оба развивали и отшлифовывали свои политические убеждения о роли государства, социальные и экономические теории, и о социальной справедливости, что непросто подходило к политической среде от крайне левого до крайне правого фланга. Таким образом, неудивительно, что как и Гитлер, Федер выказал активное желание сотрудничать с революционерами после падения старого режима в конце 1918 года и в 1919 году; однако когда он предложил свои экономические идеи и экспертные познания крайне левому революционному режиму, то к его разочарованию, тот отстранился от него. Теперь, после падения мюнхенской Советской республики, он переместился с крайне левого фланга на крайне правый, чему содействовало частичное совпадение, но определённо не идентичность, идей о роли государства, экономики и социальной справедливости среди сторонников крайне левых и крайне правых в Мюнхене. Даже хотя идеи Федера и не были оригинальными, это через него Гитлер узнал о них в тот самый момент, когда он искал ответы на вопрос, почему Германия проиграла войну.
Гитлер никогда открыто не подтверждал глубокое влияние, оказанное на него другим лектором на его курсах, Карлом Александром фон Мюллер, шурином Федера, который в отличие от Федера был баварским консерватором в более традиционном смысле. Тем не менее, Мюллер, который читал Гитлеру и другим слушателям курсов лекции по немецкой и международной истории, рассказывал в своих мемуарах о его встрече с Гитлером: «После окончания моей лекции и последующих оживлённых дебатов я встретил в теперь почти пустом зале небольшую группу, которая задержала меня». Мюллер вспоминал: «Казалось, их вниманием завладел человек в середине группы, который непрерывно говорил им странно гортанным голосом и с нарастающей горячностью». Профессор истории добавил: «У меня было странное ощущение, что их возбуждение было его делом, и что в то же время оно наделяло его голосом. Я увидел бледное, суровое лицо под невоенной прядью волос, стриженые усы и поразительно большие бледные голубые глаза с холодным фанатическим блеском».
Мюллеру было любопытно, будет ли Гитлер участвовать в дискуссии после его следующей лекции. Однако, как и после первой лекции Мюллера, Гитлер этого не сделал. Так что Мюллер предупредил присутствовавшего Майра о талантах Гитлера: «Вы в курсе, что среди Ваших инструкторов имеется талантливый природный оратор?» — спросил он Майра. «Такое впечатление, что он может говорить без перерыва, стоит ему начать». Когда Мюллер указал на Гитлера, Майр ответил: «Это Гитлер, из полка Листа». Майр попросил Гитлера выйти вперёд. Мюллер вспоминал про этот случай: «Он послушно вышел, вызванный к кафедре, с неуклюжими движениями и как будто у него было дерзкое смущение. Наш разговор не был плодотворным».
Основываясь на сообщении Мюллера, стало общей практикой полагать, что пропагандистские курсы Майра имели значение для Гитлера, потому что здесь он осознал, что он может говорить, и что он был впервые обеспечен, как выразился один выдающийся исследователь Гитлера, «некоей формой направленного политического образования». Однако в реальности Гитлер уже осознал, что он может говорить и вести за собой, будучи дважды избранным представителем солдат своей части той весной. К тому времени, когда он занимался на курсах, он уже трансформировался из неуклюжего одиночки в лидера. Вместо этого Мюллер имел значение для Гитлера по двум иным причинам: во-первых, он передал Гитлеру знание, как прилагать историю к политике и к искусству государственного управления. И во-вторых, он обозначил отношения Германии с англо-саксонским миром как дающее ключ к пониманию того, почему Германия проиграла войну и как Германии следует реорганизовать себя, чтобы быть в безопасности на все времена.
Не осталось никакой информации о лекциях, которые проводил Мюллер на пропагандистских курсах Гитлера, но статьи, написанные Мюллером в 1918 и в начале 1919 года, имели ту же суть, что и его лекции. Со своих уроков в предвоенном Оксфорде в качестве стипендиата Родса Мюллер был увлечён Британией и её ролью в мире. В январе 1918 года он написал статью для Süddeutsche Monatshefte, озаглавленную «Как англичане выигрывают мировые войны», в которой он представил роль и положение Германии в мире как результат роли Британии в нём, и обозначил Британию как главного врага Германии. В другой статье в том же году «К немецкому рабочему» Мюллер набросился, как будет затем снова и снова делать Гитлер, на англо-американский финансовый капитализм, задавая вопрос «хочет ли народ Германии отдать всю Землю англо-американским финансовым олигархам». Затем в феврале 1919 года он написал статью об угрозе «Англо-саксонского мирового доминирования».
Таким образом, лекции Мюллера, Федера, Ботмера и возможно также Михаэля Хорлахера по сельскому хозяйству — которые, похоже, были сфокусированы на связи продовольственной и национальной безопасности — снабдили Гитлера ответами на два вопроса, которые у него были в результате своего прозрения. Тем не менее, он не впитывал как губка всё, что приходило к нему во время курсов пропаганды. Неудивительно, что фигура Франца Ксавера Карша малоизвестна в наши дни. Гитлер определённо не был воодушевлён его экономическими идеями, в центре которых были понятия мира и избежание войны. Также он никогда не выражал симпатии к воззрениям Ботмера о том, что сильное, унитарное германское государство будет источником небезопасности в Европе, или к его выводу, что, следовательно, Бавария и немецкоговорящая Австрия должны образовать монархическое государство, отдельное от остальной Германии. Курсы также не снабдили его гомогенным набором политических идей. Поскольку лекторы на курсах Гитлера не все поклонялись более или менее одним и тем же идеям, возникшая впоследствии идеология Гитлера, возможно, не может быть описана как попросту бывшей суммой их идей.
Для понимания его неожиданного политического преображения в 1919 году, таким образом, будет проясняющим моментом проверить, какие идеи не будут иметь отклика у Гитлера, также как и те, что воодушевят его, в тот самый момент, когда он начал становиться человеком, известным в настоящее время каждому.
Когда были впервые учреждены пропагандистские курсы Майра, Майр и Ботмер отбирали лекторов из интеллектуального и семейного круга Мюллера, которого Майр знал с тех пор, как они ещё мальчиками ходили в одну и ту же школу. Ранние курсы, так же, как и некоторые из дискуссий, которые организовал Майр для других аудиторий, включали Мюллера, Йозефа Хофмиллера и журналиста Фрица Герлиха — трёх постоянных авторов для Süddeutsche Monatshefte, консервативного журнала, издававшегося Николаусом Коссманном, еврейским новообращённым в католицизм. Федер между тем был шурином Мюллера и в прошлом также писал для Monatshefte. Далее, Ботмер писал статьи для еженедельной газеты сотрудника Федера — Дитриха Экарта, который станет играть выдающуюся роль в жизни Гитлера. Хотя более поздние курсы, включая те, что посещал Гитлер, были расширены другими лекторами, ядро группы лекторов всё ещё составляли пришедшие из кругов Мюллера.
И всё же, несмотря на всю их схожесть и близость социальных кругов, лекторы на пропагандистских курсах Майра и Ботмера были далеки от того, чтобы составлять однородную группу сходно мыслящих правых идеологов. Все лекторы определённо сходились в отвержении большевизма и на некоторых принципах, которые Ботмер изложил в своём меморандуме. За пределами этого, однако, их идеи относительно политики и экономики чрезвычайно отличались. Например, некоторые лекторы были закоренелыми германскими националистами, в то время как у других была склонность к баварскому местничеству. Далее, хотя и Готфрид Федер и Вальтер Л. Хаусманн были очень критичны по отношению к финансам, заключения, которые они выводили из своего отвержения финансов, были радикально различными.
Хаусманн, который в своих лекциях на курсах Гитлера освещал политическое образование, а также макроэкономику, сделал себе имя книгой о «иллюзии золота». В своей книге Хаусманн выдвинул идею о том, что использование золота в международной торговле и финансах было источником не только плохо функционирующей экономики, но также и всех войн и социальных бедствий. Хаусманн полагал, что в двадцатом веке войны станут происходить только по экономическим причинам, порождённые завистью и стремлением к новым рынкам. Он, таким образом, придерживался того мнения, что установление нового и отличного от прежнего экономического мирового порядка, без зависимости от золота, сделает будущие войны ненужными и произведёт «мир во всём мире». Как станет ясным через некоторое время, цель Федера и партии, к которой он принадлежал, Германской Рабочей партии, определённо было не установление мира во всём мире посредством избегания войн. И Гитлер совершенно определённо не возьмёт от курсов веру в мир во всём мире путём уклонения от войн, подобную вере Хаусманна.
Последующие жизни некоторых из лекторов также напоминают нам, что из пропагандистских курсов Гитлера не выходило никакой явной траектории в будущее, даже если идеи некоторых из них станут иметь для него центральное значение. Хотя Федер станет служить Гитлеру в качестве заместителя министра, а Мюллер в конечном счёте станет новообращённым приверженцем национал-социализма, Хорлахер, который на курсах Гитлера вёл лекции по сельскому хозяйству и который расценивал происходящее как экономическое удушение Германии, будет заключён в концентрационный лагерь. Майр и Герлих оба умрут в концентрационном лагере.
Случай Фрица Герлиха имеет особенное значение в понимании смысла политического направления пропагандистских курсов Карла Майра, поскольку Герлих был предпочтительным выбором Майра в качестве напарника по управлению ими. Только лишь слишком большая занятость Герлиха помешала ему принять приглашение возглавить курсы, и потому Майр обратился к Ботмеру, которого Герлих рекомендовал Майру вместо себя. В то время как Герлих и Ботмер были ярыми антикоммунистами, в отношении Герлиха к евреям существовало глубокое различие между ним и некоторыми из других лекторов Майра. Герлих не поддерживал антисемитизм. Он особенно отрицал существование связи между большевизмом и иудаизмом. Поскольку Герлих был столь решителен в своём отрицании антисемитизма, то Гитлер столкнулся бы с весьма другими курсами в тот самый момент, когда он старался понять, что удерживает мир вместе, если бы предпочтительный избранник Майра для возглавления курсов был бы менее занят. Герлих был озабочен тем, что «травля наших еврейских сограждан идёт к риску стать опасностью для общества и к дальнейшему усилению тех элементов, которые раскалывают людей и государство». И всё же, Герлих был предпочтительным выбором Майра в ведении пропагандистских курсов Командования 4-го Военного Округа, и он продолжал вести пропаганду для Майра.
К тому же, в то время как брошюры, которые Майр раздавал своим пропагандистам и широко распространял среди войск в южной Баварии, все были антибольшевистскими, за пределами этого они существенно различались в своих политических воззрениях. Среди них была брошюра, озаглавленная «Что Вы должны знать о большевизме», которая словами одного из пропагандистов Майра «доказывала, что вожди большевизма — это преимущественно евреи, которые усердно ведут свои грязные дела». Однако другая брошюра из числа распространяемых Майром включала статью Фрица Герлиха «Коммунизм на практике», которую восхвалял один из мюнхенских пропагандистов Майра, несмотря на отсутствие в ней антисемитизма, как ясно показывающую тёмную сторону коммунизма. Другая брошюра, «Большевизм» — полагавшаяся одним из пропагандистов Майра «достойной для широкого распространения» — была издана Католическим издательским домом, связанным с Католической Баварской Народной партией (BVP, Bayerische Volkspartei). Майр также распространял брошюру, которая расценивалась его отделом пропаганды как «приблизительно социал-демократические взгляды». Более того, он советовал офицеру по пропаганде полка в швабском городе Аугсбург получить копии и консервативно направленного журнала Süddeutsche Monatshefte, и социал-демократического Sozialistische Monatshefte, говоря ему: «Вы можете тем самым возбудить интерес людей, и таким образом, содействовать нашим интересам».
Весьма трудно определить личные политические взгляды Майра, поскольку некоторые из близких к нему людей страстно ненавидели друг друга. Например, он был близок не только к Герлиху, но также и к Дитриху Экарту, будущему наиболее влиятельному наставнику Гитлера в ранней нацистской партии. И всё же Экарт так рьяно нападал на Герлиха за его политические взгляды в статьях в своём еженедельнике Auf gut Deutsch («На чистом немецком языке»), что Герлих в конце концов подаст на него судебный иск. Несмотря на своё очень публичное столкновение с Герлихом, даже Экарт не общался исключительно с одинаково с ним политически мыслящими людьми. Летом 1919 года люди всё еще разговаривали друг с другом через политические водоразделы. Например, на регулярных собраниях под председательством Экарта в Bratwurst-Glockl, гостинице рядом с мюнхенским собором, «собирались вместе люди из множества различных политических групп», как напишет Германн Эссер. Эссер был молодым горячим журналистом и будущим шефом пропаганды нацистской партии, который часто бывал на этих собраниях. По словам Эссера, на регулярных собраниях Экарта «было возможно беседовать с политическими противниками» в «атмосфере, где встречаются различные взгляды и мнения». В тот момент, когда вскоре должно было начаться политическое преображение Гитлера, будущий вождь нацисткой партии был, таким образом, подвержен воздействию довольно разнородного набора политических идей.
Мюнхен в 1919 году был городом, в котором люди всё ещё пытались найти новую политическую опору в послевоенном, постреволюционном мире. Существовали даже признаки того, что будущий политический наставник Гитлера Карл Майр, как и столь многие в то время, всё ещё колебался между различными политическими идеями. У него явно не было симпатии к постреволюционной жизни в Баварии. 7 июля 1919 года он жаловался на «нескладность, недисциплинированность и дезорганизацию нашей революционной эры». И всё же за пределами антибольшевизма политические идеи Майра были в постоянном движении. В отличие от прошлого, он не рассматривал более себя как близкого к Баварской Народной партии, но как человека правых убеждений. И он определял себя как антисемита. С одной стороны, он поддерживал людей, мечтавших о великой Германии; с другой, в течение лета 1919 года Майр написал сепаратистский меморандум. Когда меморандум в сентябре стал известен, и против него было возбуждено судебное разбирательство, он выступил с малоправдоподобной историей о том, что он всего лишь изображал поддержку сепаратистских идей, и это должно было стать ловушкой для выявления сепаратистов.
Участники пропагандистских курсов Майра также различались по своему происхождению и по их политическим взглядам. На самом деле, лекции, читавшиеся на курсах Гитлера, равно как и на других курсах, организованных Майром летом 1919 года, воспринимались по-разному среди соучеников Гитлера вследствие их разнородности. В теории люди, которых отбирали военные части для обучения у Майра, предположительно должны были иметь ясно определённую характеристику, как устанавливала телеграмма, посланная Майром в воинские части по всему Мюнхену: люди должны были быть «зрелыми» и «надёжными», и иметь «острый природный интеллект». Однако в реальности те, кто записались на курсы, не обладали очевидным общим лицом.
Среди участников были люди в возрасте от двадцати с небольшим до изрядно за тридцать лет; как католики, так и протестанты; солдаты срочной службы, офицеры запаса и кадровые офицеры; студенты университета и люди со скромным образованием; а также ветераны, повидавшие службу на фронте, те, кто служил в тылу и ветераны Добровольческих корпусов. И некоторые из записавшихся, как Гитлер, вовсе не покидали армию, в то время как другие вначале были демобилизованы в конце войны и восстановлены в армии в начале мая. Один заявлял, что он вновь присоединился к армии только в мае, чтобы избежать безработицы. Некоторые между тем жаждали посещать лекции; другие уклонялись. Как жаловался один из участников курсов: «К сожалению, многие, в особенности молодые, присоединились к обучению только для того, чтобы хорошо провести время за счёт общества и иметь несколько дней вне повседневной службы». Другой соглашался: «Состав участников оставляет желать много лучшего. Я обнаружил здесь людей, которые, я уверен, не окажутся теми, кого хотели видеть организаторы».
Разнородность их подоплёки также передалась на политическую разнородность, всё, разумеется, внутри ограничений отрицания радикальных левых экспериментов. Среди участников были те, кто подобно Гитлеру, флиртовали с политическими левыми, но стали политическими перебежчиками, которые вскоре станут придерживаться глубоко антисемитских взглядов, равно как и те, кто резко не соглашался с ними. Например, Германн Эссер в начале года всё ещё работал для радикально левой газеты Allgauer Volkswacht, однако к лету он превратился в глубоко антисемитски настроенного антикапиталиста на правом политическом фланге. К тому времени, когда он принял участие в четвёртых курсах Майра, у него были стычки с другими участниками.
Эссер жаловался, что другой участник курсов не одобрял его восхищение и поддержку Федера, что очень важно вследствие роли, которую Федер будет играть в нацисткой партии: «На открытой дискуссии в пятницу я укорил организаторов курсов, потому что не мог понять, почему великолепные произведения герра Федера не доступны бесплатно для участников курсов таким же образом, как другие брошюры», — напишет Эссер Майру через несколько дней после происшествия. «Среди других вещей я сказал, вот именно этими словами: „Я полагаю, что слишком много внимания уделяется здесь определённым кругам, в чьих естественных интересах то, чтобы эти произведения, которые потрясают сами основы эксплуататорских крупных финансов, не достигли широкой публики.“ Я даже осмелился назвать имя этих кругов, этой раковой опухоли, разъедающей нашу немецкую экономику: это международное еврейство». Эссер добавил: «Другой участник, который использовал прежние возможности выступить на защиту этих кругов, полагал, что его долгом является снова заступиться за них. Он старался смягчить воздействие моих слов, обвиняя меня в бестактности из-за того, что я тем самым выразил недоверие организаторам курсов».
Несомненно то, что отклики на идеи Федера среди участников курсов Майра в наибольшей степени привносили разнородность курсов на передний план. Другому посещавшему пропагандистские курсы Эссера, герру Бош, настолько понравились произведения Федера, что он без разрешения продавал их другим участникам. Курсант же другого потока принял противоположную точку зрения и написал Майру письменную жалобу относительно включения в курсы Федера и его идей. В действительности даже у Майра были смешанные чувства относительно Федера, который станет оказывать одно из наиболее важных ранних влияний на Гитлера. Хотя Майр решил включить его в курсы, он по меньшей мере дважды заявит в письмах к прежним участникам своих курсов, что не согласен с идеями Федера относительно «разрывания цепей процентного рабства», которые он считал слишком радикальными и которые при внедрении принесут разруху. Всё же в типичной для Майра манере он политически колебался в своей оценке Федера. Казалось, что он не способен окончательно составить свое мнение о Федере, который является одним из интеллектуальных отцов-основателей нацистской партии, как очевидно из письма, которое он послал другому из своих прежних пропагандистов: «Относительно речей герра Федера, — писал он, — я бы хотел порекомендовать Вам купить и внимательно прочесть его „Манифест о запрете процентного рабства“, и Вы увидите, что он содержит много ценных предположений».
Как наводит на мысль разнородность как инструкторов, так и участников его пропагандистских курсов в Palais Porcia, политизация и радикализация Гитлера не были просто результатом разочарования и негодования в ответ на проигрыш Германии в войне. Его последующие речи, произведения и высказывания отчётливо указывают в другом направлении. Они отмечают то, что Гитлер присмотрел и выбрал большие куски из буфета идей, выражавшихся лекторами, в случае, когда и если он чувствовал, что они помогали ему найти свои собственные ответы на вопросы о поражении Германии и о том, как учредить государство, нечувствительное к внешним и внутренним ударам. И всё же он не делал свой выбор бездумно; скорее, он создал свою собственную модель, по которой одни идеи отвергал, а другие — принимал. Блюдо, которое он составил во время своих пропагандистских курсов в 1919 году, станет доминирующим в меню его политических идей и будет разжигать его на протяжении следующих двадцати шести лет. Вот почему курсы были столь важны в стимуляции радикализации, которая станет влиять на судьбы сотен миллионов людей в 1930-х и в 1940-х годах.
Было бы ошибкой доказывать, что идеи не были важны для Гитлера и его конечного успеха. Равным образом было бы ошибкой доказывать, что менее значительно то, что Гитлер сказал, чем то, как он это сказал. Он был человеком, который сам определял для себя политические вопросы и который искал свои собственные ответы на них, что, однако, не означает, что его ответы были полностью оригинальными. Однозначно то, что летом 1919 года Гитлер зародился как человек идей. Вскоре он станет также проявляться как политик, у которого было прозорливое восприятие политических процессов. Он вскоре начнёт оттачивать искусство передачи идей в политику, а также искусство потворства и манипуляции. С войны, когда он в больших подробностях изучал немецкую и вражескую пропаганду, он понял важность создания повествований, которые были политически полезными, даже если они были ложью. Вот почему в своих речах и в Mein Kampf он создаст мифическое повествование о своём возникновении — повествование, в соответствии с которым он развил свои политические идеи уже в предвоенной Вене и в соответствии с которым война и разразившаяся революция превратили его из олицетворения немецкого неизвестного солдата в будущего спасителя страны.
Хотя ни в коем случае не будучи постыдной, служба Гитлера во время войны была политически бесполезной для того, что он хотел достичь. Его настоящие действия и пережитый опыт между концом войны и крушением Советской республики были не только политически бесполезными, но и вредными для его политической карьеры и преследования своих конечных политических целей. Вот почему Гитлер изобрёл фиктивное повествование о своём возникновении, которое было оформлен в Mein Kampf. Оно было столь крепко и умно создано, что переживёт падение Третьего Рейха на десятилетия. Он создал его целенаправленно, чтобы заслонить своё истинное возникновение — из одиночки, который воспринимался многими солдатами его подразделения военного времени как «тыловая крыса», в приспособленца с умеренными левыми симпатиями, который служил последовательности революционных режимов до того, как стать перебежчиком, в конце концов ставшим политизированным и радикализированным, только когда летом 1919 года установилось отложенное понимание поражения Германии.
На следующие несколько лет Гитлер останется замечательно гибким в изменении и совершенствовании своих политических идей и в прокладывании своего пути наверх. Хотя нацистская пропаганда станет представлять Mein Kampf как Новый Завет нового немецкого мессии, он будет писать, изменять и отбрасывать множество черновиков этого «Нового Завета» до его публикации. Некоторое время он будет продолжать искать ответы на вопрос о том, как может быть учреждена новая, жизнеспособная Германия.
Часть II. Новые заветы
Глава 5. Наконец-то новый дом
После окончания своих пропагандистских курсов Гитлер был представлен генералу Арнольду фон Моль. Командир Окружного Военного командования 4 был настолько впечатлён недавним выпускником курсов Карла Майра, что решил — Гитлер будет служить в качестве пропагандиста отдела разведки Майра.
Новая должность позволила Гитлеру часто взаимодействовать с Майром в то время, когда новоиспеченный пропагандист продолжал искать ответы на вопрос — как должна быть перестроена Германия, чтобы быть устойчивой в быстро меняющемся мире. Вскоре после того, как Гитлер начал работать для него, Майр, бывший только на шесть лет старше него, начал играть роль отца-наставника Гитлера, как он делал для множества других пропагандистов. Это взаимодействие Майра и Гитлера в 1919 году запустило в движение наиболее разрушительную цепь событий, какую когда-либо видел мир. Эта цепь событий потерпит крушение только в 1945 году, когда умрут два человека, один из них в концентрационном лагере Бухенвальд, а другой в бункере рейхсканцелярии в Берлине.
Поскольку Карл Майр станет играть столь важную роль в жизни Гитлера, стоит познакомиться с ним получше. Родившийся в 1883 году в католической семье среднего класса в Миндельхайме в баварской Швабии, Майр был сыном судьи. После завершения своей учебы в школе юный Майр вступил на путь карьеры профессионального солдата и офицера. Во время Первой мировой войны он был на службе в действующей армии на Западном фронте (где был серьёзно ранен пулей в правую ногу), на альпийском фронте и на Балканах, после чего служил в генеральном штабе Немецкого Альпийского корпуса. Позже в войну он, как и многие другие, кто станет важными фигурами в Третьем Рейхе, служил сначала в военной миссии Германии в Константинополе, затем в Восточной группе армий (Халил-паша) и в Исламской армии Кавказа. К концу войны начальники оценивали его как «высоко талантливого, разностороннего офицера с исключительной интеллектуальной энергичностью».
После своего возвращения в Германию в октябре 1918 года он сначала служил в Военном министерстве в Мюнхене и на других постах в столице Баварии, затем как командир роты в Первом пехотном полку, но 15 февраля 1919 года его отправили в отпуск до последующего извещения. Однако в отличие от Гитлера капитан Майр активно боролся с коммунистическим режимом изнутри. С 20 апреля до 1 мая он возглавлял тайное подразделение, целью которого было свержение Советской республики. После падения Советской республики он, таким образом, был очевидным выбором для оказания помощи руководству антикоммунистической реставрации в Мюнхене. Судьбоносное взаимодействие Майра и Гитлера летом и осенью 1919 года по воле случая могло бы и не произойти, потому что Майру было приказано вернуться на Ближний Восток и нести службу в Военной миссии в Турции. Однако приказ был затем отменён. Вскоре после этого Майр стал главой отдела пропаганды в командовании 4‑го Военного Округа.
Внешний вид Майра был каким угодно, только не впечатляющим (см. фото 8). Он был небольшого роста, гладко выбритое широкое лицо придавало тридцатишестилетнему офицеру вид даже более молодого человека, чем он был. И всё же за его мальчишеским лицом скрывался внушительный характер и большое эго. Через свои курсы пропаганды Майр старался сформировать группу людей, которыми он сможет руководить подобно тому, как дирижёр управляет оркестром. Для создания своего «оркестра» он отбирал тех людей, кто принимал его видение и кто соглашался идти с ним вместе и быть слепленным им. Он видел себя наставником и учителем для людей, служивших под его началом, как очевидно из письма, которое он напишет в сентябре 1919 года офицеру запаса, который хотел работать для него:
Знания, приобретённые упорным трудом, лишь только тогда становятся ценным активом, когда они упорядочены. Ваш стиль письма совершенно удовлетворителен. Ясность и простота являются неотъемлемым качеством. Как сказал Шекспир, «Краткость — это душа разума». И, кстати, этот британец ценен более, чем Толстой, Горький и tutti quanti.[4] Только в отношении одного места я должен сыграть роль школьного учителя и покритиковать одно из Ваших выражений: «ein sich in Urlaub befindlicher» [некто, находящийся в отпуске] это причастие, в то время как «sich befindlicher» таковым не является (это прилагательное). Но выше нос! У Вас всё будет хорошо.
Параллели в прошлом корреспондента Майра, Макса Ирре, и Гитлером проявляются в том, что Майр искал людей, которых он всё ещё мог сформировать. Родители как Ирре, так и Гитлера, рано умерли; оба они какое-то время плыли по течению — Гитлер, пребывая в приюте бездомных, Ирре в детском приюте; страсть обоих была в рисовании, и оба были добровольцами, прослужившими всю войну.
В выборе своих служащих Майр также проявил склонность к политическим перебежчикам. Когда Гитлер входил и выходил из отдела Майра, который теперь располагался в заднем крыле Военного министерства как раз рядом с Баварской Государственной библиотекой, он регулярно встречался с Германном Эссером, молодым журналистом, который в начале 1919 года работал в штате радикально левой газеты. Эссер, также вошедший в штат Майра, теперь работал как гражданский служащий в офисе прессы. Похоже, что у Майра работали другие политические перебежчики, кроме Гитлера и Эсера, но эти двое станут теми, кто будут доминировать совместно в национал-социалистической пропаганде до путча 1923 года.
Гитлер больше не носил униформу ефрейтора (Gefreiter, рядовой первого класса), но куртку и брюки от униформы серого полевого цвета без каких-либо знаков различия, кроме баварской кокарды, которая украшала его фуражку. Впоследствии он станет утверждать, что работал в качестве «офицера по образованию» для командования 4‑го Военного Округа. Даже хотя с технической точки зрения он не был офицером, его заявление не содержит неоправданного хвастовства. Общей практикой было обращаться к людям, служившим у Майра наряду с Гитлером, как к «офицерам по образованию» или же «офицерам разведки», в то время как те, кто были инструкторами на одних из армейских пропагандистских курсов, рассматривались как «офицеры-инструкторы».
В своей новой роли Гитлер продолжал подвергаться воздействию политически разнородного окружения, как это было во время его пропагандистских курсов. В своей повседневной работе он и его товарищи пропагандисты сталкивались с трудной борьбой. Как жаловался один из них, всё ещё было много людей, «которые с поразительным упорством продолжали верить, что война была ошибкой Германии». И другой из пропагандистов Майра заключал, «что только ораторы способны выполнять эффективную пропаганду», поскольку большинство солдат больше не воспринимали серьёзно пропагандистские брошюры, распространяемые в баварских войсках. Как докладывал пропагандист о солдатах в своём подразделении: «Моральный дух войск нехороший. Я раньше мало слышал столько ворчания в действующей армии, как сейчас». Главной причиной низкого морального духа среди солдат были, согласно пропагандисту, нехватка и низкое качество питания: «Следует сказать, что рационы полностью неудовлетворительны и всё невкусно. […] Всё, что я слышу, это 'Прежнее мошенничество'». Затем пропагандист продолжает в терминах, сходных с использовавшимися офицерами британской разведки в Мюнхене, предупреждать об опасности возвращения большевизма, доказывая, что в то время как большевики в меньшинстве, условия таковы, что если их не контролировать, большевики могут снова взять власть.
Даже хотя Гитлер и его сотоварищи, таким образом, видели множество препятствий в поднятии морального духа южных баварцев, бывшие участники курсов Майра, которые оставались близки к нему — по крайней мере сама собой отобравшаяся группа — упорно пытались изменить распространённые тенденции. В их речах и письмах можно услышать эхо речей, произносившихся во время их курсов обучения. Например, один из них говорил о том, что Англия стоит на пути геополитического выживания Германии. Пропагандист говорил о том, как в течение столетия Германия поднялась до величия и была остановлена на своём пути только решением Англии стереть Германию с карты. Другие пропагандисты фокусировались в своих речах на «еврействе» и «большевизме», или на «условиях мира».
Речи, произносимые пропагандистами Майра, даже если они следовали определённым темам, всё ещё содержали эхо диссонанса, отражая многообразие лекторов и участников в пределах широкого антибольшевистского мировоззрения. В то время как Гитлер, похоже, уже многие годы отвергал «внутренний интернационализм», что было направлено равным образом против династической мультиэтничности, католицизма, капитализма, а также большевистских идей, другие среди пропагандистов Майра отрицали только коммунистическое воплощение интернационализма. Например, в конце августа лейтенант Кайзер, ветеран Добровольческого корпуса «Швабия», произнёс речь, в которой он призвал людей отвергать «Интернационал», но ни «космополитизм», ни создание «Лиги Наций». Кайзер говорил, что им следует отказаться и от красного, и от золотого (т. е. коммунистического и капиталистического) интернационалов. Он выражал мнение о том, что им следует быть «патриотичными [völkisch] и социальными» в своём мировоззрении, в то же время будучи «космополитичными» и стремиться основать «Лигу наций».
Многообразие солдат и гражданских лиц, к которым должны были обращаться вновь обученные пропагандисты Майра, делало задачу невозможной, как это стало очевидно в лагере для возвращавшихся военнопленных в конце августа 1919 года. 20 августа Гитлер и двадцать пять его товарищей пропагандистов проехали приблизительно тридцать миль к западу от Мюнхена. Их назначением был Лехфельд, где Гитлер тренировался с полком Листа в течение 10 дней в октябре 1914 года в начале войны до отправки на фронт. (см. фото 9) К лету 1919 года в Лехфельде был бывший лагерь военнопленных, который теперь использовался как лагерь для приёма немецких военнопленных, возвращавшихся домой. Гитлер и другие члены его команды должны были проводить «практическую тренировку в ораторском искусстве и агитации» в качестве упражнения или «испытательной службы» до 25 августа, таким образом, проверяя, насколько хороши они стали в качестве пропагандистов.
В последующих рассказах Гитлера и в нацистской пропаганде заявлялось, что пропаганда, выполнявшаяся Гитлером и его соратниками в Лехфельде и в других местах, была несравненным успехом. Например, он будет утверждать в Mein Kampf: «Таким образом, в ходе своих лекций я привёл сотни, возможно, даже тысячи к их народу и отечеству. Я „национализировал“ войска, и таким способом я был также способен помочь в усилении общей дисциплины». История, которую нацистские пропагандисты рассказывали об усердной работе Гитлера в Лехфельде, должна была поддерживать заявление о том, что он нашёл новый дом в армии, что его принимали там исключительно хорошо и что его политические идеи были теми же, что и у людей вокруг него.
В действительности командир лагеря в Лехфельде даже не доверил Гитлеру и его товарищам-пропагандистам обратиться к великому множеству солдат в его лагере. В течение всего лета в лагере пышно расцвели крайне левые идеи. Например, офицер, инспектировавший лагерь в середине июля, докладывал: «Моральный дух […] в лагере […] произвёл на меня очень скверное впечатление и заставил меня почувствовать, что сама его почва была заражена большевизмом и спартакизмом… [Солдаты там] смотрели на меня в моей форме рейхсвера так, что будто бы, прямо по пословице, эти взгляды убили бы меня, если бы могли».
Поскольку к концу августа ситуация не улучшилась, Гитлера не подпускали куда-либо близко к возвращающимся военнопленным. Командир лагеря пришёл к заключению, что моральный дух и дисциплина были настолько низкими в лагере, что Гитлер и его товарищи должны обращаться только к солдатам рейхсвера под его прямым командованием, что неудивительным образом пошло хорошо. Один из его товарищей пропагандистов впоследствии восхвалял Гитлера за его «яркие лекции (которые включали примеры из жизни)». Другой добавил: «Герр Гитлер в особенности, по моему мнению, является прирождённым оратором для народа, чей фанатизм и народная манера вести себя абсолютно вынуждали его слушателей в собрании обращать на него внимание и следовать за его мыслями». Однако Гитлеру даже не позволили обращаться к тем, для кого пропаганда была бы наиболее необходима. Равнозначно предварительной игре в спорте, в которой подбирают слабого противника, чтобы усилить моральный дух и уверенность себе, Гитлера и его товарищей-пропагандистов попросили обращаться только к наиболее лояльным и преданным солдатам.
Когда Гитлер не бывал обеспечен отобранными субъектами для своей пропагандистской работы, дела шли, мягко говоря, гораздо менее гладко. Как расскажет американским следователям в 1947 году Макс Аманн, старший сержант из главного штаба полка Гитлера военного времени и будущий ведущий национал-социалист, он случайно столкнулся с Гитлером тем летом. В соответствии с записью в протоколе допроса, Гитлер рассказал ему о своей должности пропагандиста в армии. «Я провожу лекции против большевизма», — сказал Гитлер, после чего Аманн спросил его, заинтересовало ли это солдат. «К сожалению, нет», — ответил Гитлер. «Это бессмысленно. Мне не нравится продолжать делать это». В соответствии с Аманном, Гитлер сказал, что офицеры в особенности не слушают его предупреждения об опасностях, которые стоят перед Германией. «Солдаты больше верят в них, чем старые майоры, кого они вовсе не интересуют».
Несомненно, что Гитлер должен был думать, что даже обычные солдаты не особенно заинтересованы в его стараниях, поскольку иначе он не считал бы свои лекции бесполезными. Суть вопроса, которую он доносил до Аманна, была та, что офицеры не одобряли его разговоры даже более, чем обычные солдаты. Гитлер сказал: «Я проводил лекции группам солдат до размера батальона, [но] майорам это совсем не понравилось. Они бы предпочли, чтобы я развлекал солдат танцующим медведем, но я этого не люблю, и вот почему я уйду».
Хотя в одном случае Гитлер, несомненно, предпочёл бы, чтобы к нему относились как к танцующему медведю, чем пострадать от полученного им обращения. Во время этого происшествия Михаэль Кеог, ирландец, служивший в немецкой армии, вынужден был спасать Гитлера от солдат, к которым он обращался, если верить рассказу Кеога об инциденте. (см. фото 10).
Кеог попал в руки немцев во время Первой мировой войны и стал военнопленным. Когда власти Германии попытались набрать Ирландскую бригаду из ирландских военнопленных, которая стала бы сражаться за независимость Ирландии против британцев, он стал одним из добровольцев, которые присоединились к ней. Даже хотя попытка учредить Ирландскую бригаду потерпела фиаско, Кеог, теперь предатель британского правительства, остался в Германии и в мае 1918 года вступил в регулярную немецкую армию, в результате чего в конце войны он встретился с Гитлером. Демобилизованный в конце войны, он вступил в Добровольческий корпус в качестве капитана, когда требовались добровольцы, чтобы положить конец мюнхенской Советской республике. После крушения недолговечного коммунистического эксперимента в Мюнхене Кеог был восстановлен в армии и служил в городе в пятой демобилизационной роте Четырнадцатого пехотного полка под принятым им немецким именем Георг Кёниг.
Будучи в армии летом 1919 года, Кеог снова встретил Гитлера. Он вспоминает: «[Однажды] я был дежурным офицером в казармах на Туркен Штрассе, когда получил срочный вызов около восьми часов вечера. В гимнастическом зале произошли беспорядки из-за двух политических агентов. Этим „политическим офицерам“, как их называли, было позволено посетить каждую казарму и произнести речи или обратиться к солдатам за голосами и поддержкой». Кеог рассказывает: «Я отдал приказ сержанту и шести солдатам и с примкнутыми штыками ускоренным шагом повёл их. В гимнастическом зале было около 200 солдат, среди них несколько крепких тирольцев. Двух политических агентов, которые читали лекции со стола, стащили на пол и били. Некоторые из толпы пытались спасти их. Начали сверкать штыки (у каждого солдата висел такой на поясе). Двое на полу были в опасности, что их забьют насмерть».
Кеог приказал караульному сделать один выстрел поверх голов бунтующих. «Это остановило беспорядки. Мы вытащили двоих политических. У обоих были порезы, шла кровь и им требовался доктор. Можно было сделать только одно. Один из двоих, бледный человек с усами, выглядел более в сознании, несмотря на побои. Я сказал ему: „Я арестовываю вас. Я подвергаю вас аресту для вашей собственной безопасности“. Он кивнул в знак согласия. Мы отнесли их в караульное помещение и вызвали доктора. Пока мы его ждали, я опросил их. Малый с усами тотчас же назвал своё имя: Адольф Гитлер».
Гитлер был не единственным, кто встретил противодействие своей работе в качестве пропагандиста в рейхсвере. Деятельность Карла Майра также часто встречала сопротивление. Майру приходилось иметь дело с военными и гражданскими властями в Мюнхене, которые временами были далеки от того, чтобы поддерживать его и его идеи.
Как отмечено в письме Германна Эссера к Майру с жалобой на исключение публикаций Федера из свободно доступных пропагандистских материалов Окружного Военного командования 4, Майр был далеко не всесильным в Мюнхене. Хотя он мог пригласить Федера читать лекции, он не мог добиться бесплатного распространения написанных Федером работ среди участников курсов, и потому вместо этого посоветовал Германну Эссеру самим покупать брошюры Федера. Кроме того, он сказал, что посещать как можно большего числа книжных магазинов и задавать вопрос о наличии брошюры было бы «наиболее дешёвым способом рекламирования брошюры, которая в противном случае несомненно будет в опасности снова и снова быть убранной с витрин книжных магазинов еврейскими агентами».
Майр не чувствовал, что его положение было особенно безопасным среди разнородного политического и военного истэблишмента Мюнхена. Например, 30 июля он писал предполагаемому участнику одних из его курсов: «Мы можем увидеть Вас позже, если только к тому времени организаторы не уступят партийно-политическим махинациям, происходящим главным образом, возможно, от (еврейских) филистеров и обструкционистов». Подобным образом 16 августа Майр говорил ещё одному из своих корреспондентов: «В этой связи я могу сказать Вам доверительно, что множество влиятельных кругов, прежде всего еврейской ориентации, произвели определённые усилия, чтобы сместить меня, графа Ботмера и несколько других человек, отобранных мной». Это было не в последний раз, когда Майр столкнулся с противодействием из-за своих взглядов и действий. В последующие месяцы у него будут различные стычки с другими офицерами, служившими в Мюнхене, что в конечном счёте сделает его положение в командовании 4-го Военного Округа невыносимым.
Хотя оба они встречались с большими препятствиями в своей пропагандистской работе летом 1919 года, деятельность Гитлера под опекой Майра дала ему возможность развить антисемитские идеи. В этом заключается истинное значение пропагандистской работы Гитлера летом 1919 года, включая его применение в лагере Лехфельд. Его антисемитские идеи были не особенно ясно выраженными до лета 1919 года. Первое из сохранившихся антисемитских заявлений человека, который станет более ответственен за Холокост, чем кто-либо ещё, относится к его времени работы в Лехфельде. То, как он выражал там и впоследствии в других местах антисемитские идеи, весьма отчётливо указывает на то, что его зарождающийся антисемитизм был прямым результатом его попыток понять, почему Германия проиграла войну и какой должна была выглядеть будущая Германия, чтобы выжить навсегда. В ранних антисемитских высказываниях Гитлера присутствует сильный отзвук идей — таких, как предполагаемая роль евреев в ослаблении Германии, — с которыми он познакомился на пропагандистских курсах в июле.
В Лехфельде Гитлер участвовал в групповых дискуссиях с солдатами и провёл по меньшей мере три беседы: «Условия мира и преобразование», «Эмиграция» и «Социальные и экономические условия». И именно во время его беседы «Социальные и экономические условия», которая была сфокусирована на связи между капитализмом и антисемитизмом, Гитлер сделал свое первое известное антисемитское заявление. К тому времени антисемитизм был настолько важен для него, что он сфокусировался на нём более, чем это делали его товарищи-пропагандисты, как это очевидно из рапорта высокопоставленного офицера в лагере, старшего лейтенанта Бендта. Рапорт, в целом хвалебно отзываясь о Гитлере за его «очень вдохновенную, легко воспринимаемую манеру [говорить]», делал исключение для резкости, с которой он набрасывался на евреев:
Что касается очень точной, ясной и вдохновенной речи, произнесённой рядовым Гитлером о капитализме, в которой он коснулся еврейского вопроса, что, конечно же, было неминуемо, выявилось различие мнений со мной во время дискуссии внутри отдела относительно того, следует ли ясно и резко выражать своё мнение или же выражать его как-то с помощью косвенной речи. Было заявлено, что отдел был основан командиром округа Молем и что он действует официально. Речи, которые включают недвусмысленное обсуждение еврейского вопроса с выраженной ссылкой на немецкую точку зрения, легко могут дать евреям возможность изображать эти лекции как антисемитские. Следовательно, я полагаю, что лучше всего дать установку проводить эти лекции с величайшей возможной осторожностью и что явного упоминания чужих рас, пагубных немецкому народу, следует по возможности избегать.
Тот факт, что антисемитизм Гитлера был выражен скорее через антикапитализм, чем через антибольшевизм, делает весьма маловероятным то, что Советская республика пробудила в Гитлере латентный антисемитизм. Скорее, осознание поражения Германии и результирующая попытка найти причины, почему Германия проиграла войну, были неотъемлемой частью его трансформации. Однако в недели после его политического пробуждения стало ясно, что постреволюционная армия была слишком разнородным и запретным местом, чтобы стать домом для Гитлера. Он всё ещё нуждался в новом месте, где он почувствует себя в своей тарелке. Пройдёт немного времени, прежде чем он найдёт его. Однако должен был случиться ещё один фальстарт, прежде чем Гитлер найдёт заново «дом» для себя.
Где-то в начале сентября Гитлер представился Георгу Грассингеру, члену «Общества Туле», который сотрудничал с социал-демократами в попытках сместить Айснера. Грассингер был основателем и председателем Социалистической партии Германии, близкой к «Обществу Туле», а также управляющим директором Völkischer Beobachter («Фёлькишер Беобахтер», «Народный наблюдатель») — будущей национал-социалистической газеты, которая в то время была де-факто органом Социалистической партии Германии. Гитлер предложил свои услуги — писать для газеты — и сказал Грассингеру, что хочет вступить в партию и принимать участие в её деятельности. Однако партийное руководство дало понять Гитлеру, что они не желают ни его в партии, ни чтобы он писал для их газеты. И всё же спустя несколько дней Гитлер был более успешен.
Вечером 12 сентября он шёл по Старому Городу Мюнхена. В тот вечер на нём была его единственная гражданская одежда, а также его непромокаемый плащ и свободно свисающая над лицом и шеей шляпа.
Его целью был ресторан, названный по имени одной из бывших мюнхенских пивоварен, Sterneckerbrau, которая расхваливала хорошую еду и ежедневные представления комических певцов. Придя туда, Гитлер не проявил интереса к ежедневному театральному представлению в ресторане из диалогов и песен. Он прошёл прямо в одну из задних комнат ресторана, Leiberzimmer, поскольку Карл Майр послал его поприсутствовать и понаблюдать на собрании Немецкой Рабочей партии (Deutsche Arbeiterpartei, или DAP), которое там происходило. Похоже, что Майр сам был приглашён на собрание, но он не мог или не хотел идти, и, таким образом, он послал вместо себя Гитлера.
Название группы, собравшейся в Leiberzimmer, было в самом лучшем случае желаемым, поскольку DAP не была партией в каком-либо традиционном смысле, ни в коей мере, поскольку она не выступала в действительности за выборы. Даже хотя у неё были и национальный и местный председатель, на самом деле она не существовала нигде, кроме как только в Мюнхене; и членство в ней было настолько ограниченным, что она легко помещалась в одну из задних комнат Sterneckerbrau. В действительности даже ещё в феврале 1921 года председатель партии напишет своему партнёру, что он не стал бы называть их газету как Parteiblatt («партийный листок»), поскольку «мы не партия, и не имеем никаких намерений становиться ею».
Немецкая Рабочая партия была рыхлым сообществом крошечного числа рассерженных неудачников. Она даже не объявляла публично о своих собраниях. Скорее людей приглашали посещать собрания либо устно, либо письменными приглашениями. Из перспективы сентября 1919 года DAP была самым маловероятным из претендентов на то, чтобы однажды стать массовым политическим движением, которое подойдет близко к тому, чтобы поставить мир на колени.
Когда Гитлер уселся в Leiberzimmer слушать ход собрания, он был окружён памятными вещами от ветеранов полка телохранителей баварского королевского дома, Пехотного Лейб-полка, которые висели на стенах комнаты. Однако вечером 12 сентября комната была заполнена не ветеранами полка, а симпатизировавшими DAP людьми числом от сорока до восьмидесяти, которые пришли послушать приглашённого на этот вечер оратора. Этим оратором был Готтфрид Федер, который — так же, как он это делал во время пропагандистских курсов Гитлера, — давал лекцию по своей коронной теме: зло капитализма. Это была шестнадцатая лекция Федера в том году, но первая, которую он давал DAP. Названием его лекции было: «Как и какими методами может быть устранён капитализм?»
Будучи в Лехфельде, Гитлер сам набрасывался на капитализм, и если бы оратором был только Федер, Гитлер, возможно, никогда снова не посетил бы собрание того, что должно было стать нацистской партией. Однако Гитлера разгневал человек, который выступал после Федера: Адальберт Бауманн, учитель одной из мюнхенских местных школ, Luitpold-Kreisoberrealschule, и председатель политической группы в Мюнхене, Burgervereinigung (Ассоциация Граждан). Бауманн также был автором книги, которая стала основой для создания ориентированного на немецкий международного языка (lingua franca), предназначенного для соперничества с эсперанто и его замещения. Ранее, в январе, Бауманн неудачно выдвигался представителем в баварский парламент от недолго жившей Демократическо-Социалистической партии граждан. Эта партия, как и Burgervereinigung, разделяла большинство из целей политики Немецкой Рабочей партии (DAP).
Фундаментальным различием между DAP и Бауманном было то, как он и многие из его политических сотрудников подходили к вопросу о баварском сепаратизме. Например, 4 января, когда Берлин был на грани гражданской войны, Munchener Stadtanzeiger, газета, видевшая себя как рупор Демократическо-Социалистической партии граждан, опубликовала страстное воззвание в защиту независимости Баварии. Она доказывала, что «призыв к „независимости от Берлина“ откликнулся тысячекратным эхом, и правомерно», и заключала: «Теперь пришло время избавиться от злополучного доминирования Берлина. „Бавария для баварцев“ должно быть нашим лозунгом; и нам не следует обращать внимание на причитания тех, кто из-за своих деловых связей с Берлином всегда будет выступать за Великую Германию».
Вслед за речью Федера — неизвестно, чтобы атаковать идеи Федера или найти в DAP сходно мыслящих людей, — Бауманн продолжил доказывать правоту сепаратизма Баварии. Председатель Ассоциации Граждан доказывал, что Баварии следует отделиться от Германии и образовать новое государство с Австрией, веря в то, что державы-победительницы в Первой мировой войне предоставят Австро-Баварскому государству более благоприятные условия мира, чем Германии, в которой доминирует Пруссия. Бауманн также доказывал, что установление Австро-Баварского государства оградит Баварию от риска возобновления революции, что он полагал чрезвычайно возможным в северу от Баварии.
Слушая заявление Бауманна, Гитлер подскочил со своего стула и начал вдохновенную атаку против сепаратизма Бауманна. Только через четверть часа Гитлер закончил излагать своё старое убеждение — возвращаясь назад к своей юности в Австрии; другими словами, своей первоначальной политизации, задолго до своей новой политизации и радикализации в это лето, — что все этнические немцы должны жить под одной национальной крышей. Неожиданно инициированный Бауманном, Гитлер в эту судьбоносную ночь из пассивного наблюдателя превратился в активного участника собрания DAP.
Нападая на председателя Ассоциации Граждан, Гитлер втолковывал мысль, что только объединённая Германия будет способна противостоять экономическим вызовам. Он настолько успешно и активно нападал на Бауманна, обвиняя его в отсутствии характера, что Бауманн покинул место собрания, когда Гитлер ещё говорил.
Антон Дрекслер, местный председатель DAP, вспоминал об этом случае: «[Гитлер] произнёс короткую, но воодушевляющую речь в пользу [установления] Великой Германии, которая была воспринята мной и всеми, кто его слышал, с огромным энтузиазмом». Вмешательство Гитлера оставило такое немедленное впечатление на Дрекслера, что, если мы можем поверить его собственным воспоминаниям, он сказал своим соратникам по DAP: «Он умеет говорить, он будет нам полезным».
Дрекслер использовал момент сразу после речи Гитлера, чтобы обратиться к нему. «Когда этот оратор закончил, я подбежал к нему, восторженно поблагодарил его за речь и предложил взять мою брошюру, озаглавленную „Моё политическое пробуждение“ и прочесть её, поскольку она содержала фундаментальные взгляды и принципы нового движения». Дрекслер спросил Гитлера, «будет ли приемлемым для него вернуться через неделю и начать работать с нами более тесно, поскольку такие люди, как он, очень нужны нам».
Гитлеру не потребовалось много времени, чтобы погрузиться в манифест Дрекслера. Если мы можем поверить его собственному заявлению в Mein Kampf, он начал читать на следующий день в 5:00 утра, проснувшись в своей комнате в казарме Второго пехотного полка, так как не мог снова заснуть.
В соответствии с Mein Kampf Гитлер понял, читая манифест, что председатель DAP и он подверглись очень сходной политической трансформации несколькими годами ранее во время его жизни в Вене. Гитлер заявлял, что в брошюре Дрекслера «событие [т. е. политическая трансформация Дрекслера] отражало то, через что я прошёл лично подобным образом двенадцать лет назад. Я вновь увидел своё собственное развитие как живое перед своими глазами». Заявление Гитлера является свидетельством того факта, что он иногда не полностью продумывал скрытый смысл того, что он писал в Mein Kampf. Подчёркивая то, что он подвергся во многом такой же политической трансформации, как и Дрекслер, Гитлер непреднамеренно допустил своё левое прошлое, заявляя, что центральной темой манифеста Дрекслера было «как из мешанины марксистских и профсоюзных фраз он снова начал думать в национальных дефинициях».
Когда Гитлер изучал страницы брошюры Дрекслера, пока Мюнхен пробуждался ещё к одному дню позднего лета, он понял, какого рода партию он обнаружил предыдущей ночью в Старом Городе Мюнхена. Брошюра была манифестом против интернационализма, который, так же, как в случае Гитлера, не был направлен прежде всего на социалистический (т. е. радикальный левый) интернационализм. Убеждения Дрекслера были направлены против «интернационализма Партии Центра» (т. е. католического интернационализма), «интернационального масонства», «капиталистического или, можно сказать, золотого интернационала» и социалистического интернационализма. Но интернационализм, который больше всего раздражал Дрекслера, был его «золотой» вариант. По Дрекслеру, еврейский финансовый капитал был тем, что подпитывало капиталистический интернационализм.
Для него международный социализм был просто инструментом в руках еврейских банкиров, с помощью которого они стремились разрушить государства, чтобы впоследствии взять власть над ними. Еврейские социалистические лидеры, писал он, были агентами, которых еврейские финансисты использовали для инфильтрации в рабочие классы. Далее, он полагал, что социалистические лидеры были членами международных масонских лож, в которых предположительно доминировали еврейские миллиардеры и которые работали как тайные штабы для еврейских банкиров, чтобы взять власть над миром. По словам Дрекслера, еврейские финансисты «нацеливались не менее чем на глобальную капиталистическую республику». Вдобавок он заявлял: «Имеется растущее свидетельство того, что „еврейский большевизм“ и „[движение] Спартака“ организуются и взращиваются международным капиталом».
Мюнхенский председатель DAP также возлагал на «золотой» еврейский интернационал ответственность за Версальский договор, в результате которого «у нас теперь вместо интернационала всех наций имеется диктатура капиталистического интернационала». Дрекслер говорил своим читателям, что он сделал «задачей своей жизни» сражаться с «глобальной системой финансовых трестов» и учить рабочих тому, кто их настоящий враг. Его целью, заявлял он, было освободить мир от еврейских банкиров и их соучастников в масонских ложах. Он рассматривал свою брошюру как призыв к оружию против капитализма англо-американского мира, повторно подчёркивая, что Россия и Германия должны быть друзьями. Что должны делать люди, так это бороться против «англо-еврейских амбиций» и против «еврейского духа в них самих».
Для достижения своих целей Дрекслер стал сооснователем Немецкой Рабочей партии. Партия была плодом умственных усилий двух человек: Дрекслера, мюнхенского председателя, и Карла Харрера, её национального лидера. Дрекслер, бывший старше Гитлера на пять лет, родился в Мюнхене и был сыном железнодорожного рабочего. В возрасте семнадцати лет, в 1901 году, Дрекслер покинул Мюнхен и отправился в Берлин, но не смог найти работу и с того времени вёл жизнь бродяги по всей Германии. Он наскребал на жизнь игрой на цитре и, как говорят, имел жёсткие стычки с еврейскими торговцами скотом. Через год он вернулся обратно в Мюнхен и нашёл работу на Баварских государственных железных дорогах, как и его отец. Во время войны он оставался в тылу, продолжая работать слесарем по металлу в мюнхенских железнодорожных мастерских.
Со своим скромным, серьёзным и плотным обликом молодой Дрекслер был маловероятным кандидатом на роль основателя политического движения. Однако он был разъярен тем, что он видел как провал марксистского социализма в отношении «национального вопроса». Это вдохновило его написать статью «Банкротство Пролетарского Интернационала и идеи Братства Людей». Если можно верить его собственным заявлениям, он стал даже ещё более рассержен, когда понял, что военные усилия Германии были подорваны военными спекулянтами и деятелями чёрного рынка в тылу, которых он обвинял в голоде и невзгодах, царивших в Мюнхене. В ответ на это в конце 1917 года Дрекслер основал Лигу Борьбы с ростовщичеством, спекуляцией и профессиональными оптовыми покупателями. Однако к его великому разочарованию мало кто разделял его оценку происхождения мюнхенских бедствий; не более сорока человек вступили в его Лигу Борьбы. Это не было единственным разочарованием самопровозглашённого социалиста в 1917 году. Когда в тот год Дрекслер присоединился к мюнхенскому отделению Немецкой партии Отечества, которая была создана во всей стране для поддержки консервативными и правыми группами военных усилий, он надеялся построить мост между социалистами и буржуазией, но его сторонились. В течение трёх месяцев он покинул партию. Однако он не сдался.
7 марта 1918 года он основал «Комитет Свободных Рабочих за Хороший Мир», направленный на объединение рабочих классов вокруг поддержки военных усилий и на кампанию против военных спекулянтов. Даже хотя и теперь присоединилось очень мало людей, на первом публичном собрании Комитета Рабочих 2-го октября 1918 года произошло судьбоносное знакомство, т. к. собрание посетил Карл Харрер.
Харрер, молодой спортивный журналист, родившийся в маленьком городе северной части Верхней Баварии, верил, как и Дрекслер, в срочную необходимость объединения рабочего класса и буржуазии вокруг нации. Харрер был военным ветераном, для которого война окончилась, когда он получил в одно из своих колен пулю или шрапнель, и он верил, что для целевой аудитории рабочих следует основать организацию в духе секретного общества. Целью будет отвратить их от крайне левых и привести в сообщество народного (völkisch[5]) движения. Так что Харрер и Дрекслер основали «Кружок политических рабочих».
Völkisch практически невозможно перевести на английский язык. По словам одного из учёных, «это слово переводится как понятный, популистский, народный, расовый, расистский, этно-шовинистический, националистический, объединяющий в коммуну (только для немцев), консервативный, традиционный, нордический, романтический — и оно в действительности означает всё это». Оно свидетельствует о «чувстве германского превосходства», также как о «духовном сопротивлении „злу индустриализации и атомизации современного человека“».
К концу декабря 1918 года Дрекслер заключил, что тщетно обсуждать будущее Германии и её спасение только в узком кругу, и решил, что им следует основать новую партию. Это увенчалось основанием Немецкой Рабочей партии в отеле в Старом Городе Мюнхена 5-го января 1919 года, на котором присутствовало примерно пятьдесят человек, едва ли больше, чем было раньше в 1917 году на собраниях Лиги Борьбы. Её ядро состояло из двадцати пяти товарищей по работе Дрекслера из Королевских Баварских Государственных Железных дорог. И она определяла себя, по словам Дрекслера, как «социалистическая организация, которая [должна] будет руководиться только немцами» — вкратце, её главной целью было примирение национализма и социализма.
После радикализации революции в начале 1919 года Немецкая Рабочая партия вскоре прекратила свои действия и ушла в состояние спячки до того момента крушения мюнхенской Советской республики, когда она попыталась использовать подъём антибольшевистского антисемитизма в Мюнхене. Теперь партия время от времени собиралась в задней комнате Sterneckerbrau и в других ресторанах. Это всё ещё было в лучшем случае крошечное, сектантское тайное общество. В действительности, это было немного больше, чем политизированный Stammtisch, стол для встречи завсегдатаев в трактире или в пивном зале, за которым люди горько жалуются на то, как была унижена Германия, и обращают свои чувства разочарования на евреев. В плохой день на собраниях партии показывалось только около двадцати человек. Даже в хороший день присутствовало лишь вдвое больше. Кроме того, работа «партийного руководства» не имела ничего общего с таковой у традиционной политической организации. Она была сродни местному клубу или ассоциации. Время от времени Дрекслеру удавалось заполучить местных völkisch-знаменитостей для выступлений на собраниях партии.
Завершив чтение брошюры Дрекслера, Гитлер столкнулся с выбором — принять ли приглашение местного председателя DAP и стать активным в партии. Однако прежде, чем он мог уделить этому вопросу больше размышлений, он должен был встать с кровати и заняться своей ежедневной службой — исполнением пропагандистской работы для Карла Майра.
Как часть своих обязанностей, Гитлер должен был разгружать Майра от отнимающих много времени задач. В один из дней после прочтения Гитлером брошюры Дрекслера, Майр передал ему письмо, которое он получил от Адольфа Гемлиха в Ульме, бывшего участника одних из его пропагандистских курсов. В своей приложенной записке Майр просил Гитлера составить ответ на одну-две страницы. Гемлих, двадцатишестилетний протестант, родившийся в Померании в Северной Германии, — кстати, в том же маленьком городе был армейский госпиталь, в котором Гитлер провёл последние недели войны, — спрашивал Майра: «Какова позиция правящих социал-демократов в отношении еврейства? Являются ли евреи частью „равенства“ наций в социалистическом манифесте, даже если их следует рассматривать как опасность для нации?»
Как стало ясно в Лехфельде, запрос имел отношение к теме, которая теперь более всего заботила Гитлера. Поэтому, когда 16 сентября он уселся за работу, то вложил всю свою энергию в сочинение ответа Гемлиху, произведя заявление гораздо более длинное, чем его попросили написать.
Его письмо выказывает как то, что оно утверждает, так и то, о чём оно не говорит. Гитлер писал Гемлиху, что большинство немцев были антисемитами, главным образом, по неверным причинам. Их антисемитизм, высказывался он, был результатом неблагоприятных личных столкновений с евреями, и, вследствие этого, проявлял склонность принимать «характеристики простых эмоций». Однако такой вид антисемитизма, продолжал он, игнорировал нечто гораздо более существенное, а именно «пагубное воздействие, которое евреи в целом, сознательно или бессознательно, оказывают на нашу нацию». Он, следовательно, призывал к антисемитизму, который базировался не на эмоциях, но на «основанном на фактах проникновении в суть».
Гитлер говорил Гемлиху, что евреи действовали как «пиявки» в отношении к людям, среди которых они жили. Далее, он утверждал, что «еврейство является безусловно расовым, а не религиозным сообществом»; что евреи принимают язык стран, в которых они выбрали проживать, но никогда не принимают ничего другого от принимающих их людей. Вследствие «тысячи лет межродственного скрещивания», писал он, они никогда не смешиваются с нациями, в которых они живут. Игнорируя или не замечая большого количества браков между евреями и не-евреями в предвоенной Германии, Гитлер доказывал, что евреи поддерживали свою собственную расу и её признаки. Следовательно, они были «не-немецкой, чуждой расой», живущей среди немцев, таким образом, инфицируя Германию своим материализмом.
Гитлер заявлял, что «чувства» евреев и, даже более того, их «мысли и устремления» доминировались «их танцем вокруг Золотого Тельца», в результате чего «еврей» превратился в «пиявку принимающей его нации». Евреи делают это — и тут мы слышим явное эхо идей, выраженных Готфридом Федером — посредством «власти денег, процентная ставка которых приводит к их бесконечному умножению без приложения усилий. Деньги накладывают это наиболее опасное из всех ярмо на шеи наций, которым так трудно различить его скорбные последствия сквозь начальный золотой туман».
По Гитлеру, еврейский материализм вызывал «расовый туберкулёз наций», потому что евреи растлевали характер принимающих их народов. По сути дела, он предполагал, что как результат «пиявочного» поведения евреев, принимающие нации сами начинали действовать как евреи: «Он [т. е. еврей] разрушает […] национальную гордость и собственную силу нации посредством смехотворного и бесстыдного побуждения к злу». Скорее, чем производить бесцельные погромы евреев, писал он, правительства должны ограничивать права евреев и в конечном счёте полностью удалить евреев из своих принимающих наций: «Антисемитизм из чисто эмоциональных причин находит своё крайнее выражение в виде погромов. Но антисемитизм здравомыслия должен вести к применению закона, чтобы систематически устранять преимущества, которые есть у евреев […]. Но окончательной, непоколебимой целью антисемитизма здравомыслия должно быть полное устранение евреев».
Гитлер заключает, что для ограничения прав евреев Германия нуждается в другом правительстве, «правительстве национальной силы, а ни в коем случае не правительства национального бессилия». Будущий вождь Третьего Рейха утверждал, что «Возрождение» Германии может быть достигнуто лишь посредством «безрассудных усилий патриотических вождей с внутренним чувством ответственности». В своём заявлении Гитлер противопоставил себя католическому истэблишменту Баварии. Например, архиепископ Мюнхена Михаэль фон Фаульхабер осенью 1919 года на собрании в цирке Кроне, самой большой площадке для ораторов в Мюнхене, публично предостерегал от «придания слишком большого значения суверенным правам правителей и высказывался против поклонения абсолютному государству».
Гитлер выступил против Фаульхабера и католического истэблишмента Мюнхена также в своей ненависти к интернационализму. Для архиепископа Мюнхена не было противоречия в том, чтобы быть баварцем, быть немцем и быть интернационалистом, как становится очевидно из письма, которое он написал политику либеральной Немецкой Демократической партии (DDP) и автору исследования интернационализма Фридриху Фику: «Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность за то, что Вы очень любезно послали мне Ваше исследование о „Защите интернационала от клеветы и оскорблений среди людей“. Я очень рад видеть, что Вы […] защищаете правдивость среди людей в такой тщательной и практической манере». 7-го ноября 1919 года, ровно через год после начала революции в Баварии, Фаульхабер заявил: «Опустошение, вызванное нациями, обменивающимися клеветой, и гарантирование международного мира, которое состоит во всеобщей правдивости, сами по себе являются хорошими причинами для организации международного конгресса, на котором следует обсуждать эти темы в соответствии с основами, данными в Вашем исследовании».
Спустя столетие после его написания письмо Гитлера Адольфу Гемлиху на поверхности читается как леденящее душу предсказание холокоста. Внешне оно также кажется и отражающим, и представительным в отношении неожиданного подъёма антисемитизма в Мюнхене в 1919 году. Однако наиболее вероятно, что оно не было ни тем, ни другим.
Хотя антисемитизм Гитлера в сентябре 1919 года не был оригинальным по своему характеру, и хотя он выражался также существенным меньшинством баварцев, особенно в армии, он не принял формы наиболее популярной разновидности антисемитизма в постреволюционном Мюнхене — антибольшевистской ненависти к евреям. Скорее он был антикапиталистическим по своему характеру и был направлен против финансового капитализма. Например, в ноябре 1919 года мюнхенское управление полиции вынесет заключение, что распространённый антисемитизм в Мюнхене подпитывался «особенным появлением евреев на поверхности с начала революции Советской республики в Мюнхене и т. д.», а также идентификацией евреев как спекулянтов и вымогателей, однако оно не будет упоминать о финансовом капитализме.
Между тем антибольшевизм попросту не представлен в письме Гитлера, даже несмотря на то, что запрос Гемлиха недвусмысленно задавал вопрос об отношениях социализма и евреев. Антисемитизм Гитлера, таким образом, не вдохновлялся антисемитским штормом, который накопился во время революции и мюнхенской Советсткой республики. Тот был в своей сути антибольшевистским по своему характеру. В отличие от антисемитизма Гитлера, который был без разбора направлен на всех евреев, это был антисемитизм, в котором всё ещё было место для евреев, как это было в традиционном католическом антисемитизме в Верхней Баварии. В действительности это был антисемитизм, который всё ещё позволял тем евреям, которые были самим воплощением евреев, ненавидимых Гитлером, чувствовать себя в Мюнхене непринуждённо. Например, Кларибель Коне, несмотря на то, что она была еврейкой, американкой и чрезвычайно богатой, всё ещё совершенно наслаждалась жизнью в Мюнхене и похоже, что с ней в городе обращались хорошо.
Врач и судебно-медицинский эксперт на шестом десятке лет, ставшая хорошо обеспеченной женщиной, ведущей праздный образ жизни, и коллекционером предметов искусства, Коне жила в Мюнхене с 1914 по 1917 год и с конца войны до 1920 года. Её жизнь в этом городе была настолько экстравагантной, что она проводила всё своё время в Мюнхене в его самом шикарном отеле, Regina Palasthotel, где ей потребовалась отдельная комната в отеле просто для хранения некоторых из её вещей. Хотя она жила в том же отеле, в котором у Карла Майра и других офицеров командования 4‑го Военного Округа был их офис и который, похоже, часто навещал Гитлер, её послевоенные воспоминания о жизни в Мюнхене были столь же позитивными, как и о её прежней жизни.
После войны она вынуждена была запланировать переезд в Америку из-за ограничений на её американский паспорт. Однако почти седая американская женщина всё ещё настолько наслаждалась пребыванием в Мюнхене, что 2 сентября, за десять дней до первого посещения Гитлером собрания DAP, она написала своей сестре: «Как обычно, я пустила настолько глубокие корни в то место, где мне пришлось жить, что и лошади не смогут вытащить меня отсюда». В начале декабря она напишет своей сестре в Балтимор: «В действительности я не спала здесь — у меня было „erlebing“ — слово, которое я выдумала сама, поскольку не существует английского слова, выражающего Erlebnisse [впечатления, жизненные опыты], которые у меня были здесь в эти последние пять с половиной лет». И как раз перед Рождеством, 23 декабря, она доложит своей сестре, что в Германии дела действительно медленно движутся в правильном направлении. Она определённо не была слепа в отношении политического хаоса, который переживал Мюнхен. И всё же в её письме не было признаков тревоги о том, как с ней — живым воплощением богатого американского еврейского капиталиста — обращались:
В целом Германия постепенно успокаивается от симптомов своей кипящей белой горячки до состояния государства, более близкого к нормальному. Но свидетельство выздоровления всё же — более точно — в поправке признаков серьёзной болезни, от которой она страдала и которые всё ещё имеются здесь. Но она предвещает хорошее и я верю, что в конце концов полностью поправится.
Еврейка-коллекционер предметов искусства поясняет, почему она настолько наслаждается пребыванием в Германии: «У неё столько чудесных качеств. […] Это нация „Dichter and Denker“ [поэтов и мыслителей]. […] Атмосфера старого мира, культура и традиции всё ещё оставили свои следы на этом мире будничности, и когда шторм — (кипение, если быть последовательным) утихает — начинаешь снова чувствовать очарование мира, у которого в качестве фона — (её позвоночника, можно сказать) — культура, которая существовала или начала существовать до того, как мы были рождены».
Даже в антисемитизме Эрнста Пёхнера, начальника полиции Мюнхена, который станет выдающимся членом NSDAP, всё ещё имелось место для существования евреев осенью 1919 года. Но в антисемитизме Гитлера никакого места не было, тем не менее, именно потому, что он был в своей сути не антибольшевистским по характеру, его антисемитизм в то время был не только отличным от главного течения антисемитизма в Мюнхене; он также отличен от его антибольшевистского антисемитизма 1940-х. Равным образом антисемитизм Гитлера сентября 1919 года не был непосредственно связан с его поиском Lebensraum, или жизненного пространства, как это станет впоследствии, даже хотя и посылка, на которой основывается письмо Гитлера к Гемлиху, была той, что мир без евреев будет лучше.
Неожиданное преображение Гитлера летом 1919 года в радикального антисемита было не только прямым следствием, но и функцией его поиска способа построить Германию, которая станет устойчивой к внешним и внутренним ударам по её системе. То есть, хотя антисемитизм и расизм были неотъемлемой частью мировоззрения Гитлера, они не были его исходной точкой; его политизация и его непрерывная центральная идея, основанная летом 1919 года, были стремлением избежать ещё одного поражения Германии и построить государство, которое станет способствовать этой цели, а не взращивание антисемитизма и расизма ради их самих.
Антисемитское преображение Гитлера основывалось на двух идеях: во-первых, что еврейский капитализм в тех определениях, которым его научил Готтфрид Федер, был величайшим источником слабости Германии; и во-вторых, что евреи образовали расу с неизменно вредными качествами, которую следует изгнать из Германии раз и навсегда. В черновике письма Гитлера к Гемлиху, которое Майр переправил ему со своей приложенной запиской, мы можем видеть рациональное приложение аргументов, которые основаны на иррациональных верованиях и изначальных принципах того вопроса, как может быть выстроена навечно безопасная Германия.
В немалой степени вследствие гипнотизирующей риторики Гитлера по принципу «всё или ничего» было бы соблазнительно доказывать, что к сентябрю 1919 года ему уже было ясно и понятно, что в конечном счёте он хочет изгнать из Германии каждого отдельного еврея, даже если он и не мог ещё вообразить, каким образом исполнит это. Было ли это так или нет в действительности, и понимался ли в то время ранний послевоенный антисемитизм Гитлера людьми, которые встречались ему, остаётся ещё увидеть.
Между тем, пока он сочинял своё письмо е Гемлиху, Гитлеру также нужно было принять решение, принимать ли приглашение Антона Дрекслера начать работать для Немецкой Рабочей партии. Во время прошедшего собрания рядовой Гитлер не разочаровал местного председателя DAP. Воспоминание о собрании DAP 12-го сентября и о его чтении рано утром брошюры Дрекслера всё ещё возбуждали Гитлера. Поэтому он решил принять приглашение Дрекслера прийти на собрание руководителей партии.
Собрание руководителей DAP, которое посетил Гитлер, имело место, в соответствии со свидетельством присутствовавших, где-то между 16 и 19 сентября в ресторане в Мюнхене. На собрании Гитлер сказал Дрекслеру, что он примет его приглашение начать работать для партии и что он вступит в партию.
В соответствии с утверждением самого Гитлера в Mein Kampf, он не вступил в партию так охотно и так быстро, как предполагает сохранившееся свидетельство. Он заявлял, что колебался относительно вступления в партию, изображая себя человеком, который принимает значительные решения в результате долгих раздумий, и как человек, полностью контролирующий себя и людей вокруг себя. Делая так, Гитлер увернулся от факта, что он вступил в партию сломя голову, не имея никакой гарантии, сколь важную роль он будет играть в ней. Он заявлял, что через несколько дней он пришёл к заключению, что сам факт того, что партия была скверно организована, позволит ему приложить немного усилий, чтобы забрать её под свой контроль и сформировать её по своему собственному представлению. Он писал, что даже после посещения собрания руководства партии, он размышлял более двух дней, присоединяться ли к партии, прежде чем наконец сделать это в пятницу 26 сентября 1919 года.
Не совсем ясно, насколько велика была DAP к тому времени, когда Гитлер присоединился к ней. Когда партия начала присваивать номера членства в начале февраля 1920 года, они начали с номера «501», чтобы замаскировать, сколь плачевно малым в действительности было членство. Гитлеру был присвоен номер 555, что указывает на действительное количество членов — 55. Это не означает, что он был хронологически пятьдесят пятым членом партии. Вначале номера присваивались в алфавитном порядке по фамилии, нежели чем по дате вступления. Антон Дрекслер, например, стал членом партии под номером 526, несмотря на то, что был председателем-основателем DAP. Таким образом, Гитлер был пятьдесят пятым именем в алфавитном списке из 168 членов партии.
Сохранившееся свидетельство наводит на мысль, что на дату присоединения к ней Гитлера членов партии было несколько десятков. Однако, присоединение к партии, когда существенное количество других людей уже сделало это, не подходило для истории Гитлера в будущие годы, в соответствии с которой он присоединился к партии в её младенчестве и был тем единственным человеком, кто выстроил партию. Он станет утверждать, что вступил в партию как её семнадцатый член. В Mein Kampf он писал, что вступил в «партию из шести человек». Нацистские пропагандисты соскребут его истинный членский номер 555 с оригинального членского билета Гитлера и заменять его на номер 7. Гитлер не вдруг извлек этот альтернативный членский номер. Номер относится не к общему членству в партии, но к числу его исполнительного комитета. Он на самом деле принял приглашение Дрекслера вступить в исполнительный комитет (Arbeitsausschuss) партии, который теперь де-факто включал семь человек. С юридической точки зрения он присоединился к исполнительному комитету только летом 1921 года. Естественно, что вследствие потребностей партии, как их определил Дрекслер, ему дали портфель пропагандиста.
Что просвечивает сквозь старание Дрекслера завербовать Гитлера, так это убеждение в том, что партия недостаточно успешна в обращении к новым членам. Кто был нужен DAP, это некто с чрезвычайными риторическими способностями и навыками пропагандиста. Пока ей не удалось привлечь внимание к себе в Мюнхене за пределами сектантских кругов. Например, еженедельник ведущего идеолога в партии в то время Дитриха Экарта Auf gut Deutsch оставался неприметным изданием. Как жаловался в начале октября бывший участник одних из пропагандистских курсов Карла Майра: «Жаль, что их издание такое незначительное. Что также весьма примечательно, это как такие публикации проходят в почти полном молчании прессы».
Гитлер был теперь членом гибридной политической группировки. Это была рабочая партия, равно как и партия с апелляцией ко всем социальным классам. По меньшей мере 35 процентов её членов были рабочими по происхождению. Эти 35 процентов, например, не включают Антона Дрекслера и его товарищей рабочих из железнодорожных мастерских у Donnersberger Brücke, которые сформировали самое ядро партии и которые установили общую атмосферу Немецкой Рабочей партии. И хотя они самоопределялись как рабочие, и их род работы явно определял их принадлежащими к лагерю рабочего класса, они классифицировались для статистических целей как принадлежащие к среднему классу, потому что они были государственными служащими. Однако для понимания партии, самоидентификация членов и задачи, которые они исполняли, явно должны преобладать над тем, как они классифицируются в соответствии с хитросплетениями Закона о труде Германии.
Неудивительно, что партия, в которую вступил Гитлер, состояла преимущественно из мужчин. Тем не менее, 13,5 процентов её членов были женщинами, что, относительно говоря, делает DAP вначале гораздо более женской партией, чем она когда-либо будет после своего основания заново в 1925 году. Гитлер в возрасте тридцати лет был слегка моложе, чем средний член партии. Средний возраст членов партии был в 1919 году тридцать три года, что всё же делает DAP очень молодой, почти юной партией. Что, однако, делало партию наиболее необычной, это высокий процент протестантов среди её членов. В 1919 году 38,3 процента членов DAP были протестантами в сравнении с 57 процентами католиков. В абсолютных числах, разумеется, католиков было большинство. Всё же, что делает долю протестантов столь удивительной, так это тот факт, что только примерно 10 процентов населения Мюнхена было протестантами. Это означает, что примерно в десять раз более вероятно было то, что в партию вступит житель Мюнхена католик. Также очень вероятно то, что DAP была непропорционально партией мигрантов, которые, подобно Гитлеру, сделали Мюнхен своим домом.
Гитлер также был теперь членом партии, которая по самому своему наименованию и вследствие членства во время войны её мюнхенского председателя в Партии Отечества, рассматривала себя как защиту против растущей волны баварского местничества — другими словами, повышенного пристрастия к интересам Баварии — и сепаратизма. Рост местничества в Баварии имел глубокие корни в истории, в первую очередь подпитывался огромным ростом анти-прусских настроений во время войны, и затем возмущением новой конституцией Германии, которая была написана в течение лета.
В глазах большинства баварцев новая конституция Германии, которая вступила в действие в течение лета, не позволяла более баварцам быть хозяевами в своём собственном доме. И хотя число сепаратистов, ратовавших за разрыв между Баварией и остальной новой Германией, было значительным, большее число баварцев надеялись на конституцию, которая была бы в традициях предвоенной конституции имперской Германии. И довоенная, и послевоенная Германия были федеративными государствами, но тем не менее было множество различий между имперской Германией и Веймарской республикой. Одна, разумеется, была монархией; другая республикой. Однако форма правления не была тем, что более всего заботило баварцев. Настоящий предмет разногласий состоял в том, кому принадлежал суверенитет.
В предвоенной Германии, поскольку они были в этом заинтересованы при установлении Германского Рейха в 1870/1871 гг, Бавария и другие немецкие государства, за исключением Австрии, просто объединили свои суверенитеты. В соответствии с этой концептуальной разработкой новый Германский Рейх был равнозначен городской стене, воздвигнутой вокруг нескольких домов, одним из которых была Бавария. Вкратце по этой концепции баварцы оставались хозяевами в своём собственном доме. Объединяя свои суверенитеты, власть делегировалась наверх в Рейх, но она в конечном счёте оставалась у баварцев.
В соответствии с восприятием большого числа баварцев, послевоенная конституция Германии 1919 года была противоположна предвоенному конституциональному соглашению. Суверенитет теперь был у Рейха, часть которого просто делегировалась обратно в Баварию. Другими словами, теперь больше не было баварского дома, в котором баварцы были сами по себе хозяева. Скорее, существовал только дом Германия, в котором баварцы занимали только одну комнату и в которой баварцы должны были отвечать перед своими хозяевами, жившими наверху.
У DAP, несмотря на её отрицание послевоенной конституции Германии во многих других пунктах, не было проблем с этой концепцией новой Германии. Если на то пошло, партия хотела создать даже более сильное централизованное немецкое государство, чем то, которое устанавливалось новой конституцией. Гитлер, таким образом, был теперь членом партии, которая находилась в открытой оппозиции к баварскому истэблишменту и, возможно, к взглядам большинства баварцев в 1919 году. Однако для него с этим всё было в порядке, поскольку его самым старым политическим убеждением была крепкая вера в необходимость учредить объединённую Германию — посредством разрушения домов, в которых обитали отдельные немецкие государства и постройкой вместо этого одного единственного немецкого дома со стенами, которые будут противостоять любому и чему угодно. Вот почему вступление в партию, выступающую против основного течение баварских политических взглядов, было для Гитлера естественным, поскольку он хотел помочь изменить эти взгляды.
Отрицание сепаратистских движений на любой немецкоговорящей территории и желание учреждения объединённой Германии в самом деле было возможно единственной политической константой, которая прошла через всю жизнь Гитлера с его юности до дня смерти. В самом деле, когда в 1922 году Гитлера отправят в тюрьму впервые в его жизни, это будет не из-за его антисемитских действий. Он будет обвинён и приговорён к трёхмесячному заключению в тюрьме (из которых отсидит только месяц и три дня) за насильственный срыв политического митинга Отто Баллерштедта, лидера сепаратистского Bayernbund («Баварский Союз»), которого он убьёт после «Ночи Длинных Ножей» в 1934 году. Его презрение к баварскому сепаратизму также отразится в том факте, что с 1934 года ни одно государственное учреждение в Баварии не будет нести флаг Баварии, после того, как Гитлер выразил свое неприятие флага.
Даже когда он разговаривал со своей свитой 30 января 1942 года, через десять дней после конференции в Ваннзее, которая решила судьбу евреев в Европе, Гитлер, всё еще помешанный на Баллерштедте и на том, как он предположительно подрывал единство Германии, заявит, что среди всех ораторов, с какими он когда-либо встречался, Баллерштедт был самым большим его противником. Двумя днями позже Гитлер выделит сепаратистов как предположительно единственных политических оппонентов, кого он преследовал без какого-либо компромисса. В своей военной ставке в Восточной Пруссии «Волчье Логово» он скажет своей свите: «Я уничтожил всех тех, кто принимал участие в сепаратизме, как предупреждение, чтобы все знали, что для нас это не шутка. К остальным я был снисходителен». Тем не менее, Гитлер верил, что в отличие от сепаратистов, активисты левого фланга могут быть исправлены. Месяцем ранее, в ночь с 28 на 29 декабря 1941 года, он заявит, что был уверен в том, что он мог бы обратить в свою веру даже последнего вождя парламентской группы Коммунистической партии Германии Эрнста Тоглера перед тем, как он забрал власть. «Если бы я только встретил этого человека десятью годами ранее! — скажет о нём Гитлер. — Он, в сущности, был умным человеком». Гитлер уже излагал подобные мысли в речи, которую произнёс 26 февраля 1923 года.
С того времени, когда генерал фон Моль приказал ему работать непосредственно для Карла Майра, Гитлер сделал две вещи: во-первых, попытался найти новый дом для себя, и во-вторых, сделал попытки найти ответы, какие он искал для объяснения поражения Германии в войне и найти рецепт, как наилучшим образом создать новую и устойчивую Германию. Рейхсвер в конце концов оказался неприветливым местом для Гитлера. И всё же он обеспечил его полигоном, на котором он мог опробовать свои появляющиеся политические идеи, равно как и технику пропаганды. И богатый выбор разнородных идей, с которыми он познакомился во время своей работы в Рейхсвере, позволил ему отобрать ингредиенты для новой Германии, которую он хотел слепить. В таком контексте Гитлер развил антикапиталистический (скорее, чем преимущественно антибольшевистский) антисемитизм. Он рассматривал «еврейский дух» как яд, который следует вытащить из Германии, прежде чем она сможет подняться. В соответствии с его возникающими политическими идеями «еврейский дух» был единственным наиболее важным препятствием, которое несло опасность для будущего Германии и её выживания.
Однако Гитлер не находил нового дома до тех пор, пока он не натолкнулся на DAP в своей работе для Карла Майра, и буквально, и в политическом смысле. Тут было место, в которое он действительно вписывался. Больше не было вежливого осмеяния, которому он подвергался во время войны, когда он высказывал политические идеи; не было больше страха быть избитым постреволюционными солдатами. Тут была группа мужчин и несколько женщин, которые возбуждались его политическими идеями и аплодировали ему. И была группа сходно мыслящих людей, которые, подобно ему, старались постичь, как наилучшим образом выстроить новую Германию, которая будет безопасной на все времена. Единственной проблемой, с которой всё ещё сталкивался Гитлер, было то, что некоторые люди в DAP, в отличие от Антона Дрекслера, вовсе не были обрадованы его присоединением и не стремились дать ему место.
Глава 6. Две концепции
Карл Харрер не разделял энтузиазма Антона Дрекслера относительно нового рекрута партии. Как вспоминал в 1929 году Гитлер, «Национальный председатель DAP был, в частности, глубоко убеждён, что у меня вовсе не было никаких риторических способностей, мне недоставало необходимого спокойствия для публичных речей. Он был убеждён, что я говорю слишком торопливо, я недостаточно обдумываю свои предложения. Мой голос слишком криклив, и, наконец, я постоянно машу руками».
Харрер сопротивлялся приглашению Гитлера в сообщество главным образом потому, что его представление о Немецкой Рабочей партии (DAP) сильно отличалось от представления Дрекслера, несогласие, которое имело свои корни ещё в дни их начального сотрудничества во время войны. Их послевоенное расхождение во взглядах на будущее DAP определит перспективы Гитлера в партии. Харрер рассматривал Гитлера как неотёсанного мужлана, который не будет вписываться в партию такого рода, какой он видел DAP. В течение осени и зимы Гитлера будут проверять, сможет ли он соответствовать высоким ожиданиям, какие были относительно него у Дрекслера.
Харрер всегда представлял, что DAP станет для рабочего класса версией Общества Туле, членом которого он был. Тайное Общество Туле, которое объединяло интерес к причудливому нордическому оккультизму и мистические идеи с народно-патриотическими (völkisch) и антисемитскими политическими идеями, принимало в свои члены только людей нееврейского происхождения. Члены общества верили в то, что Туле было доисторической нордической страной, возможно Исландией или возможно своего рода Германской Атлантидой, домом для первых германцев, чья цивилизация исчезла. Целью общества было исследование и возрождение культуры и религиозных практик Туле для того, чтобы построить новую Германию.
Общество Туле, символом которого была свастика, явилось плодом размышлений скитальца, посланного в Мюнхен весной 1918 года руководством Германского Ордена в Берлине, на основании убеждения в том, что деятельность Германского Ордена в столице Баварии была недостаточно успешной. (Germanenorden — антисемитское и пангерманское тайное общество, основанное в 1912 году). Этим скитальцем был Адам Глауэр, который называл себя Рудольфо фон Себоттендорф. Сын машиниста поезда в Нижней Силезии, Себоттендорф провёл много лет в Оттоманской Империи, где стал её гражданином и в 1913 году сражался во Второй Балканской войне. Он вернулся в Германию незадолго до Первой мировой войны, но поскольку был гражданином Оттоманской Империи, не должен был служить во время войны в вооружённых силах Германии.
Общество Туле функционировало в Мюнхене как прикрытие для Германского Ордена, направленное на координацию и побуждение народно-патриотической (völkisch) деятельности в городе. В период расцвета в начале 1919 года в нём было приблизительно две сотни членов и оно вело свою деятельность из снимавшихся комнат клуба военно-морских офицеров в роскошном отеле Vier Jahreszeiten («Четыре времени года»). Чтобы иметь как можно более широкую аудиторию, Себоттендорф купил Münchener Beobachter, доселе незначительную газету, специализировавшуюся на местных и спортивных новостях, которую по имеющимся сведениям Гитлер начал читать в Лехфельде. Общество также пыталось изменить реальную жизнь. Для этой цели оно 10 ноября 1918 года учредило военизированную группу.
Поскольку направленность Общества Туле была ограничена верхним и образованным средним классами, некоторые из его членов пришли к выводу, что следует учредить второе тайное общество под его опекой для обращения к рабочим. Вот почему Карл Харрер вошёл в контакт с Антоном Дрекслером, и эти два человека объединились для основания DAP как «Общество Туле» для рабочего класса. Тот же самый импульс породил Немецкую Социалистическую партию, которая в начале сентября оттолкнула Гитлера.
Себоттендорф позже станет утверждать, что Общество Туле, а не Гитлер, породило и вырастило Национал-социалистическую Немецкую Рабочую партию. В соответствии с Себоттендорфом общество обеспечило DAP как политическими идеями, так и организационной структурой. В его глазах Гитлер был не более чем одарённым инструментом в руках Общества Туле. «Мы признаём достоинства, величие и силу Адольфа Гитлера», — напишет Себоттендорф в 1933 году. Однако, доказывал он, работа Общества Туле была тем, что «выковало оружие, которое Гитлер мог использовать». В заявлениях Себоттендорфа наличествует некая правда. Харрер и Общество Туле были эффективными инструментами в первоначальном основании DAP. Кроме того, несколько будущих ведущих национал-социалистов были регулярными гостями на собраниях Туле, включая Антона Дрекслера, Дитриха Экарта, Рудольфа Гесса (будущего заместителя Гитлера), Ганса Франка (ведущий юрист Гитлера и администратор оккупированной Польши) и Альфреда Розенберга (будущий главный идеолог нацистской партии).
Роль Общества Туле также имела значение в той мере, в какой она указывала на неверхнебаварский, на некатолический посыл в учреждении будущей нацистской партии. Происхождение и окружение Себоттендорфа, равно как и значительных гостей группы, предполагает, что общество непропорционально посещалось теми жителями Мюнхена, кто не был ни католиком, ни верхнебаварцем, и кто лишь недавно сделал город своим приемным домом. Розенберг и Гесс родились за границей, Себоттендорф родился на Востоке, Экарт родился в Верхнем Пфальцграфстве в северо-восточной Баварии, а Франк происходил из юго-западного немецкого государства Баден. Гесс и Розенберг были протестанты; Экарт был сыном протестантского отца и католической матери, которая умерла, когда он был ещё ребёнком; Франк был «Старым Католиком[6]»; а Себоттендорф порвал с христианством, будучи привлечён к оккультизму, эзотерическим идеям и определённым течениям в исламе во время своего пребывания в Оттоманской Империи. Далее, Йоханнес Херинг и Франц Даннель, оба соучредители Общества Туле, прибыли соответственно из Лейпцига в Саксонии и из Тюрингии. Схожим образом большинство из казненных в качестве заложников членов Общества Туле в конце апреля в последние дни Советской республики не были верхнебаварцами и не были католиками. То, что говорилось уничижительно в послевоенные годы о тех, кто возглавлял революцию в Мюнхене в 1918 и 1919 годах — а именно, что они были «чуждыми к земле элементами» (т. е. элементами, чуждыми к Земле Бавария) — может быть равным образом приложено к Обществу Туле. Его ведущие члены в своём происхождении были правым зеркальным отражением руководства мюнхенской Советской республики.
Харрер рисовал в своём воображении, что DAP станет функционировать как привилегированное и отчасти секретное общество или ложа, которая посредством отбора своих членов, имевших влияние среди рабочих, через какое-то время станет популяризировать народно-патриотические (völkisch) и антисемитские идеи внутри рабочего класса. Нескладное поведение Гитлера не вписывалось в его концепцию партии.
Мало кто знал о существовании общества до казни некоторых из его членов в последние дни существования мюнхенской Советской республики. Даже такие имевшие хорошие связи в консервативных кругах люди, как эссеист и школьный учитель Йозеф Хофмиллер, не подозревали об Обществе Туле до конца Советской республики. 7 мая в одной из последних сохранившихся записей в его дневнике Хофмиллер задаёт себе вопрос: «Общество Туле? Что это такое?» Однако в последующие дни, когда казни были у всех на слуху, общество стало всеобщей темой в городе. Политически почти что за одну ночь Общество Туле приобрело легитимность как защитник Баварии против левых экстремистов в глазах многих людей, которые в ином случае рассматривали бы группу как не что иное, как эксцентричную «периферийную» организацию. На некоторое время казалось, что Общество Туле находится на подъёме, и поэтому концепция Харрера выглядела жизнеспособной.
Однако к тому времени, когда в сентябре на сцене появился Гитлер, у Дрекслера и людей, близких к местному председателю DAP, давно уже были сомнения относительно концепции Харрера, что DAP должна быть тайным обществом для рабочего класса в духе Общества Туле. Прежде всего, Дрекслер и его партнёры были самодостаточными людьми, и непохоже, что их воодушевляла идея понизить их до роли инструмента в руках Общества Туле. Также, слава и значение общества по следам крушения мюнхенской Советской республики продлились не более семи дней. В действительности глава группы самозваный аристократ Рудольф фон Себоттендорф покинул Мюнхен вскоре после падения Советской республики. По прошествии лишь немногим более года город Мюнхен ему уже наскучил.
За лето Общество Туле стало постепенно отходить на обочину политической жизни Мюнхена. Несомненно, что для членов DAP поддержка общества выглядела всё менее и менее важной. Члены Общества Туле должны были понять, что многие, кто состоял в оппозиции к Советской республике, были готовы вступить в Общество по тактическим соображениям, но не станут активно и продолжительно поддерживать Общество, когда республика была побеждена. Более того, было маловероятным, что общество, чьё само наименование означало отрицание христианства, сможет пустить глубокие корни в католическом истэблишменте Баварии. Себоттендорф и его соратники назвали общество «Туле», веря в то, что Исландия, до своего упадка, служила убежищем для германского народа, сопротивлявшегося христианизации в начале Средневековья. Вкратце, к осени 1919 года Общество Туле было лишь тенью себя прежнего.
Вместо того, чтобы встать на сторону Харрера в его видении DAP как тайного общества, Дрекслер активно предлагал привлечение Гитлера в партию в качестве эффективного устного передатчика его пропаганды; то есть использовать его для обращения прямо к публике. Дрекслер рекомендовал Гитлера для произнесения его первой официальной речи для DAP на октябрьском собрании партии. Поскольку Харрер стал «хромой уткой» внутри партии вследствие сворачивания Общества Туле, Дрекслер сделал по-своему. Единственной уступкой, которой смог добиться Харрер, было то, что Гитлер будет не первым, главным докладчиком, но вторым в этот вечер.
Инаугурационная речь Гитлера на собрании DAP была мгновенным успехом. Она имела место вечером 16 октября 1919 года сразу после главного доклада партийному собранию в Хофбройкеллер, одном из наиболее известных пивных залов Мюнхена, расположенном через реку от центра города. Как сообщала спустя несколько дней газета Münchener Beobachter, Гитлер говорил «вдохновляющими словами», защищая «необходимость объединения против общего врага наций» — то есть евреев — и призывая людей поддерживать «германскую прессу так, чтобы нация узнала вещи, о которых умалчивают еврейские газеты».
Хороший приём дебюта Гитлера доказал правоту Дрекслера, в результате чего новобранец партии стал одним из её систематических ораторов. Германн Эссер, который подобно Гитлеру работал для Майра и который теперь регулярно посещал собрания DAP, также вскоре понял, что Гитлер превосходит всех остальных в своём таланте оратора. Эссер вспоминал об этих ранних речах: «Я полагаю, что эффект Гитлера даже тогда основывался на обстоятельстве, раз за разом замечавшемся мною позже: люди из Австрии, урождённые австрийцы, обычно обладают большим талантом для выступления без записей, чем северные немцы или мы, баварцы». И всё же, согласно Эссеру, австрийское происхождение Гитлера было не единственной причиной для его успеха как оратора: «И он также проявлял хорошее чувство юмора в некоторых из своих наблюдений, он мог быть довольно ироничным временами. Всё это вместе и было тем, что воздействовало на его слушателей». Более того, Гитлер воспринимался более неподдельным, чем другие ораторы. Люди полагали, что в нём есть нечто особое, что делало его такой привлекательной фигурой. Они видели в нём того, кто был «солдатом и того, кто голодал», того, кто производил «впечатление бедолаги», и того, чьё использование иронии делало его речи особенными.
Гитлер выступал снова на собрании 13 ноября, на фоне подъёма антисемитской агитации в Мюнхене в виде антисемитских листовок, раздаваемых или разбрасываемых на улицах. На этот раз речь шла о Версальском договоре. Гитлер использовал своё собственное ощущение предательства — которое у него было с конца весны или начала лета по отношению к Соединённым Штатам, Британии и Франции — чтобы настроиться на аудиторию. Он заключил, что «не существует международного взаимопонимания, только лживость; нет примирения, только насилие». За чем последовали, в соответствии с докладом полиции о событии, «громогласные, длительные аплодисменты».
Пятнадцатью днями позже Гитлер был пятым оратором на другом партийном мероприятии. Он снова вернулся к теме пустоты обещаний, сделанных в конце войны о самоопределении народов, призывая: «Мы требуем человеческих прав побеждённых и обманутых», и спрашивал свою аудиторию: «Мы граждане или мы собаки?» Однако Гитлер не только нападал на державы-победительницы Первой мировой войны; он также привёл позитивный пример для установления правительства технократов. Под смех своих слушателей он говорил о Матиасе Эрцбергере, министре финансов, который родился в городе Буттенхаузен в Швабии и был учителем: «Человек, который является лучшим учителем в городе Буттенхаузен, всё же может быть наихудшим министром финансов», — и потребовал: «Нам нужны эксперты в нашем правительстве, а не некомпетентные лица».
Когда осень перешла в зиму, собрания DAP стали проводиться в ужасно холодных местах из-за запрета обогрева залов для собраний вследствие сильного недостатка топлива в Мюнхене. Но всё же вовлечение Гитлера начало окупаться, поскольку посещаемость мероприятий DAP начала расти. Когда 10 декабря он вышел вперёд в зале ресторана Zum Deutschen Reich для обращения к митингу — в своих чёрных брюках, белой рубашке, чёрном галстуке и старом изношенном пиджаке, который по слухам был подарком еврейского лоточника в предвоенной Вене, — перед ним было три сотни человек. Это было более чем в десять раз больше размера аудитории, какая посещала некоторые из партийных собраний предыдущим летом.
Как и в других своих выступлениях, Гитлер старался определить выводы из того, что он рассматривал как пустые обещания Вильсона о рассвете новой эры в международных делах. Он задавал три вопроса: «Кто виновен в унижении Германии? Что есть право? Может ли быть право без права? [Т. е. может ли существовать справедливость без формальной системы правосудия?]».
Для Гитлера могущество, власть были более важными, чем право, верование, которое для него в то время не было следствием социально-дарвинистских размышлений. Скорее это разжигалось тем, что он видел как воплощение того, что данные Соединёнными Штатами обещания Германии к концу войны стали ничего не значащими, когда подверглись проверке. Гитлер говорил: «Мы сами могли видеть это к концу войны. Северная Америка отклоняет вступление в Лигу Наций, потому что она могущественна сама по себе и ей не требуется помощь других, и потому что она стала бы чувствовать себя ограниченной в своей свободе действий».
Вера Гитлера в то, что «сила и знание того, что за его спиной имеются союзники в тесном строю, решают, что является правильным», была основана также на прочтении истории предшествующих столетий. Он доказывал, что обращение Китая с Японией в девятнадцатом веке, подход Британии к Индии, дискриминация не-белых иммигрантов в Соединённых Штатах и подход Англии к Голландии в начале современной эры — всё это было следствием силы, а не права. Он заявлял, что только если немцы осознают то, что уже знают все остальные — что нет права без силы — тогда лишь Германия сможет выжить. Он также утверждал, что Германия должна найти ответ на проблему недостаточности продовольственных запасов, что вело к эмиграции её населения в Британскую Империю. Эмиграция была пагубной, поскольку она приводит к потере для Германии её лучших людей, следствием чего Германия будет ослаблена, а Британия усилена в международных делах.
Сутью выступления Гитлера в холодном зале Zum Deutschen Reich были два положения: во-первых, Германия должна преобразовать себя, чтобы выжить на всемирной сцене. И во-вторых, Германии следует понять, какие страны всегда будут её врагами и какие лишь разовьют враждебность к ней из целесообразности. Он продолжил, утверждая, что существует два вида врагов: «Первые включают наших извечных врагов, Англию и Америку. Во второй группе нации, которые выработали враждебность к нам как следствие их собственной прискорбной ситуации или вследствие других обстоятельств». Одной из стран, которую Гитлер выделил как не являющуюся естественным врагом Германии, была та, что понесёт наибольшие потери в своей борьбе против Германии во Второй мировой войне: Россия.
В отношении внутренних дел Гитлер выделил для обвинений, так же, как он это делал в Лехфельде и в своём письме к Гемлиху, не большевизм, а еврейский финансовый капитализм: «Мы боремся с деньгами. Нас спасёт единственно только работа, не деньги. Мы должны раздавить процентное рабство. Наша борьба — с расами, которые представляют деньги».
Таким образом, он заключает, что немцы должны противостоять еврейскому капитализму и англо-американскому миру, если немцы хотят стать «свободными людьми в свободной Германии».
Даже хотя Гитлер в течение осени 1919 года стал более активным в DAP, его повседневной работой оставалась пропаганда для Командования 4-го Военного Округа. До конца октября он всё ещё формально служил во Втором пехотном полку. 26 октября он был переведён в 41-й Стрелковый полк (Schutzenregiment 41), где он станет служить в качестве «офицера по образованию» при штабе полка. В результате этого перевода Гитлер был перемещён ближе к сердцу Мюнхена, где он получил место проживания в казармах 41‑го Стрелкового полка, в Турецких Казармах, в том самом месте, куда его спас от побоев Михаэль Кеог, ирландский доброволец в вооружённых силах Германии.
У Гитлера теперь была должность, которая ему нравилась. Ему надо было лишь выйти из казарм, чтобы оказаться прямо в сердце мюнхенского квартала искусств, в центре которого были наиболее известные музеи искусств, Старая Пинакотека и Новая Пинакотека. И оставаясь внутри Турецких Казарм, он мог проводить своё время в полковой библиотеке, за которую он теперь был ответственен, и погружаться в своё любимое времяпрепровождение: чтение.
Выходя из казарм по официальным делам, Гитлер иногда будет обращаться к воинским частям в Мюнхене. В одном случае его перебросили в Пассау на баварско-австрийской границе, где он провёл часть своего детства, для беседы с солдатами полка, размещённого в этом городе. В январе и феврале 1920 года он также участвовал в качестве докладчика в двух пропагандистских курсах того рода, в каких он сам принимал участие предыдущим летом, делая доклад на тему «Политические партии и что они означают», а также на свою излюбленную тему «Версальский мир».
Офицер, возглавлявший эти два курса, не Карл Майр, был настолько впечатлён вдохновенной речью Гитлера о Версале, что он поручил ему сочинить листовку, которая бы сравнила, как следует из её заголовка, «Карательный Брест-Литовский мир и Версальский мир примирения и международного взаимопонимания». Гитлер вложил в составление листовки всю свою страсть, демонстрируя, как, по его мнению, Брест-Литовский мир, который Германия навязала России в начале 1918 года, был миром равных. Он старался продемонстрировать, что Германия сохранила Россию в полном порядке и немедленно возобновила с ней отношения, а также отказалась почти от всех требований репараций. Вкратце, Гитлер представил Брест-Литовский мир как результат стремления установить «мир и дружбу». По контрасту с этим Версальский договор он описывал как «карательный мир, который не только ограбил Германию на её исконные территории, но и который продолжит обращение с Германией как с парией, делая материальное и социальное восстановление Германии невозможным».
В течение поздней осени 1919 года и последующей зимы Гитлер курсировал между Турецкими Казармами, офисами Окружного Военного командования 4 и местами, в которых встречались члены DAP и её руководство. Его деятельность для DAP и работа на армию дополняли друг друга.
Карл Майр явно рассматривал работу Гитлера для DAP как служащую интересам окружного командования. Это очевидно из его продолжавшейся поддержки своего протеже. Во-первых, он поддержал решение Гитлера вступить в DAP. Во-вторых, вдобавок к регулярному жалованью, которое Гитлер продолжал получать от армии, Майр давал Гитлеру, так же как и Эссеру, который также продолжал для него работать, дополнительные деньги из тех, что, похоже, были секретным фондом. Каждые три-четыре недели Майр будет давать каждому от десяти до двадцати марок наличными, особенно в тех случаях, когда они наблюдали для него за множеством вечерних политических собраний в качестве аналитиков или шпионов. Сам Майр также посетил выступление Гитлера на собрании DAP 12-го ноября.
Но хотя сначала Майр и послал Гитлера в DAP, это был сам Гитлер, который предпринял активные шаги для вхождения в политику, уже будучи политизированным к тому времени, когда он появился в Немецкой Рабочей партии. То есть Майр явно одобрял решения и действия Гитлера и старался использовать их в интересах рейхсвера, но Гитлер не вошёл в политику по его инструкциям. Теперь, когда Майр пытался использовать его как инструмент, с Гитлером становилось всё труднее управляться. В действительности Гитлер начал освобождаться от влияния Майра в конце 1919 года, пытаясь использовать других людей — возможно даже самого Майра — как свой инструмент. Хотя Майр лишь в марте 1921 года полностью понял, что Гитлер больше не находится у него в руках, Гитлер начал заменять Майра как своего отеческого наставника уже к концу 1919 года.
Его новым наставником был ведущий идеолог в DAP Дитрих Экарт, поэт, драматург, представитель богемы и журналист с общительным, но легко поддающимся переменам настроения характером, морфинистом с лицом моржа. Экарт был старше Гитлера на двадцать один год. Хотя большинство его предприятий были финансово неудачны, его драматическая версия пятиактной пьесы Генрика Ибсена в стихах «Пер Гюнт» в 1912 году принесла ему неожиданные увечье, успех и достаток.
По словам Германна Эссера, с конца 1919 года Гитлер «более или менее почитал Экарта как своего отеческого друга, как на самом деле делал и я». По Эссеру «Экарт играл роль отца для нашей семьи, и мы уважали его в этой роли». Экарт, между тем, впоследствии будет утверждать, что он немедленно был впечатлён Гитлером при первой с ним встрече: «Я чувствовал себя привлечённым всем его существом, и очень скоро я понял, что он точно правильный человек для нашего молодого движения». Для Экарта, впечатлённого его энергией, Гитлер был безоговорочно самым лучшим оратором. Он обращался с Гитлером как со своим любимым протеже в партии. Когда Эссер и Гитлер сцеплялись, как они это время от времени делали тогда, Экарт выступал в роли миротворца, но он также говорил Эссеру, как последний вспоминал позже: «Не мни о себе лишнего; он гораздо лучше тебя».
Подобно столь многим ранним национал-социалистам Экарт, который был привлечён городом, был чужаком в южно-баварской католической местности вокруг Мюнхена. Родившийся и выросший в северной Баварии, он много лет провёл в Берлине, прежде чем переехать в Мюнхен в 1913 году, в том же году, в котором Гитлер сделал столицу Баварии своим домом. В жизни Экарта и Гитлера присутствует много параллелей, несмотря на их разницу в возрасте. Оба в душе были художники, оба, похоже, страдали от депрессии, оба пережили тяготы жизни — Гитлер в Вене, Экарт в Берлине — и страсти обоих находились равно в искусстве и в политике. И оба были подвергнуты еврейскому влиянию до войны, о котором они позже предпочтут умалчивать.
Когда Гитлеру был двадцать один год, у него в Вене были еврейские партнёры по бизнесу и знакомые в жилище людей из рабочего класса, с которыми у него сложились хорошие отношения. Для Экарта еврейское влияние заходило даже глубже этого. Два человека, которыми он более всего восхищался до встречи Гитлером, были евреями: Генрих Гейне и Отто Вайнингер. Гейне, великий немецко-еврейский поэт, был героем юности Экарта. Первая публикация Экарта была изданием стихов Гейне. Ещё в 1899 году Экарт восхвалял наиболее известную еврейскую литературную личность Германии девятнадцатого века как гения страны этого столетия: «Если принять во внимание всю эту безжизненную немецкую эпоху — во всей её суетности — нельзя не удивляться силе гения, с которой один единственный человек неожиданно сотряс недостойную литературную культуру [людей] и вывёл их освобождённый дух на поразительные новые пути. Этим человеком был Генрих Гейне». В 1893 году Экарт даже написал и опубликовал поэму, которая возносила хвалу прекрасной еврейской девушке.
Вайнингер стал важен для Экарта во время его антисемитского преображения в первые годы двадцатого столетия. Вайнингер был австрийским евреем, который уже взрослым перешёл в протестантизм. Он опубликовал свою книгу Geschlecht und Charakter (Пол и характер) в 1903 году, незадолго до своего самоубийства в возрасте двадцати трёх лет. Её центральной темой была полярность мужского и женского в индивидуальном и во вселенной, характеризуя при этом женские принципы как еврейство. Для Вайнингера главной чертой женского принципа был его материализм, отсутствие души и личности. После прочтения книги Экарт начал героизировать еврейского автора за ненависть к самому себе. Он писал в своей записной книжке в то время: «Если у меня в руках книга Вайнингера, разве я не держу в своих руках также его мозг? Разве у меня самого нет мозга, чтобы читать между строк его мыслей? Разве он не мой? Разве я не его?»
Несмотря на раннее еврейское влияние, после Первой мировой войны и революции Гитлер и Экарт разделяли риторику истребления относительно евреев. В своём письме к Гемлиху Гитлер определил как свою конечную цель «полное устранение евреев»; а Экарт во время своего первоначального знакомства с Гитлером выразил своё желание погрузить всех евреев на поезд и вывезти их в нём в Красное море.
Экарт имел первостепенное значение для Гитлера не только вследствие его политического влияния на него, и не потому, что, похоже, под его влиянием Гитлер впервые начал верить, что является высшим существом. Он был также чрезвычайно важен для Гитлера из-за своей жизни вне политики, или, можно сказать, на границе политики и искусств. Это через Экарта Гитлер — который сам никогда бы не смог найти устойчивое положение на мюнхенской сцене искусств — был представлен сходно мыслившим людям искусства, образовывавшим субкультуру в городе, в котором доминировали прогрессисты. Для Гитлера наиболее важным представлением, которое сделал Экарт, было знакомство с Максом Цэпером, пейзажистом, чьей целью было изгнание еврейского влияния из искусства, и который держал салон для подобных ему людей искусства. Когда Экарт впервые привёл Гитлера в салон Цэпера осенью 1919 года, он представил его как знатока архитектуры с происхождением из рабочего класса. Гитлер определённо выглядел с головы до ног бедным знатоком для остальных участников салона. Как вспоминал один из них, Гитлер появился в салоне «со слегка прикрытыми серыми глазами, тёмными голосами, висячими усами и примечательно широкими ноздрями. Его костюм был тёмным и поношенным, брюки старые и потёртые, топорщившиеся на коленях».
Дитрих Экарт будет иметь такое важное влияние на Гитлера, что второй том Mein Kampf будет полностью посвящён ему. Однако Гитлер не упомянул Экарта в тексте книги, потому что он пытался выставить себя как человека, полностью обязанного всем самому себе. Тем не менее, несмотря на отсутствие упоминания в Mein Kampf, в частном разговоре Гитлер допустит, что Экарт играл роль его наставника и учителя. В ночь с 16 на 17 января 1942 года он расскажет своей свите в военной ставке: «С тех пор мы все ушли вперёд, вот почему мы не видим, чем [Экарт] был тогда: путеводной звездой. Сочинения всех остальных были наполнены банальностями, но если он отчитывал тебя — какое остроумие! Я был тогда совсем ребёнком в смысле стиля». Экарт безусловно имел сильнейшее влияние на Гитлера в годы становления партии.
В сравнении с тем, чем была DAP летом 1919 года, она феноменально преобразилась к концу того года. И всё же даже тогда она оставалась едва различимой политической группировкой, как очевидно, например, по её судьбе среди студентов Мюнхена. Хотя к тому времени многие из появлявшихся на собраниях DAP были студентами университета, преобладающее большинство их товарищей студентов не проявляли никакого интереса к партии и её деятельности. Например, студент из Рейнланда провёл зимний семестр 1919–1920 гг. в Мюнхенском университете, ни разу не посетив мероприятия DAP. Он был никем иным, как Йозефом Геббельсом, который станет шефом пропаганды Третьего Рейха. Это не означает, что студенты, подобные Геббельсу были все аполитичны; просто у них не было интереса к DAP.
Геббельс колебался между своим католическим воспитанием, с одной стороны, против которого он начал восставать даже хотя он всё ещё голосовал за Баварскую Народную партию (BVP), когда в январе был студентом в Вюрцбурге — и своими растущими социалистическими, антиматериалистическими, немецко-националистическими и прорусскими чувствами, с другой стороны. Живя в Мюнхене, он работал над драмой под названием «Борьба рабочего класса», и ощущал себя интеллектуально близким к еврейскому поэту — писателю Эрнсту Толлеру, ведущему члену Мюнхенской Советской Республики. Единственное место, где Геббельс предположительно мог мимолётно встретиться с Гитлером, не осознавая этого, была опера, поскольку и он, и Гитлер любили посещать оперы Вагнера.
Социалистические, антиматериалистические и националистические чувства Геббельса и Гитлера, равно как и зарождавшейся DAP, не были очень далеки друг от друга. А вот их отношение к антисемитизму было. Яростный антисемитизм DAP, похоже, был единственной причиной того, почему партия не стала домом для студентов, подобных Геббельсу. Ранее в 1919 году Геббельс написал своей подруге Анке: «Ты знаешь, мне не особенно нравится этот преувеличенный антисемитизм. […] Я не могу сказать, что евреи такие уж друзья мне, но я не думаю, что мы избавимся от них посредством проклятий или пререканий, или даже погромов, и если это станет возможно, то будет очень неблагородно и бесчеловечно».
И всё же, несмотря на продолжавшуюся неприметность DAP, на горизонте для неё был проблеск надежды в зиму 1919–1920 гг., возможно наилучшим образом представленный событием, которое случилось 16 января 1920 г. В тот день, наконец, подошёл к концу судебный процесс над графом Арко, убийцей Курта Айснера.
Приговор, вынесенный в тот день, едва ли был источником ликования на правом политическом фланге, поскольку Арко был приговорён к смерти. Как засвидетельствовал Геббельс, университет Мюнхена в тот день бурлил, после того, как донеслась новость о вердикте, в результате чего многие студенты начали горячо заступаться за Арко. Даже то, как государственный обвинитель процесса восхвалял Арко, показывает, как далеко вправо сдвинулся политический климат за прошедшие месяцы, тем самым создавая возможности для групп и партий на правом фланге. В своей оценке Арко государственный обвинитель был более похож на его защитника, чем на прокурора: «Это был истинный, основательный патриотизм с глубокими корнями, который мотивировал обвиняемого». Он добавил: «Если бы только все наши молодые люди были вдохновлены таким пылким патриотизмом, мы могли бы надеяться быть способными глядеть вперёд в будущее нашего отечества с радостными сердцами и уверенностью».
Даже баварский министр юстиции, Эрнст Мюллер-Майнинген, член либеральной Немецкой Демократической партии (DDP), имел симпатии к убийце Айснера и быстро смягчил наказание сначала до пожизненного заключения, а затем до четырехлетнего срока, который Арко должен был отсидеть в комфортабельной камере в крепости Ландсберг. Во время процесса Арко удалось очаровать половину Мюнхена. Эльза Брукманн, например, находила его «чрезвычайно привлекательным». Бывшая румынская принцесса думала, что «он действовал полностью из благородных побуждений». Брукманн говорила своей матери, что «все говорят о нём только самое лучшее».
DAP не была прямым выгодоприобретателем правого сдвига в баварской политики, который подпитывал выражения симпатии к Арко. Политические и идеологические различия между Арко и DAP были по меньшей мере столь же значительны, как и их сходные черты, поскольку Арко был баварским сепаратистом и монархистом. На самом деле самым большим выгодоприобретателем сдвига Баварии вправо было сепаратистское, монархистское, авторитарное крыло BVP (Баварской Народной партии). В действительности, даже когда Гитлер был у власти, не было любви между убийцей Айснера и партией солдата, служившего режиму Айснера. В 1933 году Арко будет помещён в «обеспечивающий арест» из-за опасений, что он может снова превратиться в убийцу и избрать своей целью Гитлера.
Тем не менее, сдвиг вправо в политике Баварии также пошёл на пользу DAP. Все партии критически относились к Айснеру, и это теперь помогало держать под контролем потенциальные возобновленные попытки левых переворотов, опасность которых нарастала в глазах больших рядов сторонников консервативных и центристских политиков. Другими словами, в то время как относительно мало людей активно поддерживали подобные политические группы в начале 1920‑х, и в то время как многие из политических целей DAP часто открыто конфликтовали с целями баварских центристов и консерваторов, роль DAP как части антиреволюционного бастиона обеспечила ей положение в политике Баварии. Эта роль, в отличие от прошлого, обеспечила партию правом и способностью быть услышанной, на чём DAP смогла выстроиться в последующие месяцы и годы.
Вдобавок, многие консерваторы в Германии, особенно молодые, после войны пришли к пониманию того, что нет возврата к старому режиму. Они заключили, что предвоенные консервативные партии и организации не смогли решить «социальный вопрос»; иными словами, социальные и классовые трения, возникшие в результате индустриализации. Также у них не было убеждения в том, что предвоенная консервативная партия, Немецкая Консервативная партия (Deutschkonservative Partei), даже в своей модернизированной послевоенной форме, будет способна превратиться в народную партию и обращаться к рабочим. Даже хотя новая консервативная партия в своём названии провозгласила себя народной — Немецкая Национальная Народная партия (Deutschnationale Volkspartei, or DNVP) — молодые консерваторы в Германии, такие как Ульрих фон Хассель, сомневались, что партия действительно будет способна достичь этого.
Хассель, зять Альфреда фон Тирпица, ультраконсервативного главы ВМФ кайзера Вильгельма, и крупная фигура в DNVP, опубликовал манифест «Мы, молодые консерваторы» в ноябре 1918 года, сразу после окончания войны, доказывая, что консерваторы и социалисты, скорее, чем консерваторы и либералы, найдут общую почву и пойдут вместе. Как противник англо-американского международного капитализма, он не видел шанса политического альянса с либералами. Однако, как заявил в своём манифесте молодой член DNVP, он верил в то, что сотрудничество между социалистами и консерваторами было как возможно, так и желательно, для того, чтобы решить «социальный вопрос» и охватить будущее. Он полагал, что это единственный путь, который обеспечит выживание консерватизма в век массовой политики. Изначально Хассель имел в виду Социал-демократическую партию (СДПГ), когда очерчивал своё видение консервативно-социалистического альянса, но в течение месяцев он отказался от социал-демократов.
Раздумья за фасадом предложения Хасселя были частью более широкой стратегической перегруппировки, от которой больше всего выиграли бы в конечном счёте коллективистские партии, которые были отпрысками и социализма, и национализма. Другими словами, дух манифеста Хасселя воодушевлял консерваторов по всей Германии по крайней мере проявить интерес и открытость к таким партиям, как DAP. Они виделись как партии, которые могут потенциально обращаться к избирателям, недоступным консервативным партиям, даже если консерваторы не разделяли все политические цели таких партий.
В краткосрочной перспективе новая открытость консерваторов была ограниченно полезна для DAP, пока она работала внутри Баварии, поскольку за пределами Баварии существовала гораздо более благодатная почва для процветания таких партий, как DAP. В остальной стране основные консервативные партии — главная среди них Немецкая Национальная Народная партия — полагали, что они сами были, несмотря на свои наилучшие усилия, маловероятно успешными в обращении непосредственно к рабочему классу и к нижнему среднему классу. Вот почему они делегировали обращение к рабочему классу и к нижнему среднему классу небольшим партиям типа DAP. Однако в Баварии DNVP, или если быть точным, её баварская ветвь — партия Центра — не была ведущей консервативной партией. В баварском консерватизме доминировала Баварская Народная партия (BVP), которая в отличие от DNVP была партией, обращавшейся ко всем классам. Хотя политики BVP могли рассматривать DAP как полезного антибольшевистского союзника, они не чувствовали, что они должны передавать ей права на обращение к рабочим и к нижнему среднему классу. Они полагали, что BVP была вполне способна сделать это сама. По этой причине партия с таким профилем, как DAP, наиболее вероятно могла бы выбиться за пределами Баварии.
Однако на пользу DAP в Баварии существенное меньшинство баварских католиков начали ощущать враждебность к интернационализму Святейшего престола Ватикана и к демократизации BVP. Как результат, они начали испытывать враждебность как к католической партии, так и к BVP. Для них DAP обеспечивала потенциальный и жизнеспособный новый политический дом. Они чувствовали себя воодушевлёнными статьями и брошюрами местных политических авторов, таких как Франц Шрёнгхаммер-Хаймдаль, близкий друг Дитриха Экарта. Шрёнгхаммер-Хаймдаль, который вскоре вступит в DAP, пропагандировал национальный, народно-патриотический (völkisch) католицизм. Для него Иисус был не евреем, а галилейским арийцем из Назарета. В некоторых из статей Экарта также имелись отзвуки католицизма, пропагандировавшегося его другом.
Католики в Мюнхене, которые верили в тот вид национального католицизма, за который ратовал Шрёнгхаммер-Хаймдаль, более не ощущали себя представленными архиепископом Мюнхена. Даже хотя Фаульхабер не был другом нового политического порядка, его главной целью было бороться с урезанием прав католической церкви. Однако к смятению части правых католиков, Фаульхабер поддерживал «мир» и «взаимопонимание между нациями». Он даже начал признавать демократию, пока она не будет прилагаться к внутренним делам церкви. Как он изложил это в своём пасторском письме на Великий Пост 1920 года, «Деревья на земле растут вверх, но звёзды на небе сияют на нас сверху». Другими словами, он полагал, что политическое правление на земле должно быть легитимизировано снизу — демократически — в то время как религия должна управляться через Папу прямо с неба. Значимое меньшинство баварских католиков, отвернувшееся от Фаульхабера и католического истэблишмента, обеспечило в краткосрочной и среднесрочной перспективе величайший потенциал для роста DAP.
Что ещё шло на пользу DAP, так это продолжавшиеся нужда и голод, царившие в Мюнхене на фоне возвращения в Мюнхен инфлюэнцы. Ситуация в Мюнхене была настолько скверной, что Фаульхабер и Папа Бенедикт XV во время визита мюнхенского архиепископа в Рим в декабре 1919 года говорили о том, насколько голод впечатался в лица детей. Так что 28 декабря Папа выпустил воззвание к миру с просьбой помочь детям Германии, послав им как хлеб, так и любовь.
И наконец, наиболее важной причиной того, что будущее DAP начало выглядеть блестящим, был исход борьбы между Дрекслером (председателем мюнхенского отделения партии) и Харрером (национальным председателем партии), которая достигла апогея к концу года. После того, как Харреру не получилось не допустить Гитлера на сцену в октябре, он всё ещё старался забрать инициативу. И всё же Харрер вёл уже проигранную битву, поскольку Гитлер и Дрекслер объединялись против него для расшатывания видения Харрером партии в стиле Общества Туле всякий раз, когда могли. Эти двое смогли изолировать Харрера внутри руководства партии. Гитлер доказывал, что партия должна добиваться расположения масс как можно раньше, в то время как Харрер постоянно продолжал доказывать, что DAP не следует подыгрывать массам.
5-го января 1920 года силовая борьба между Харрером, Дреклером и Гитлером была окончена, поскольку «национальный» лидер DAP понял, что он загнан в угол, из которого он не сможет выбраться. Поэтому Харрер вышел из партии. Никогда снова он не станет нигде играть какой-либо значительной роли, и преждевременно умрёт в 1926 году в возрасте тридцати пяти лет.
С отставкой Харрера видение DAP в стиле Общества Туле было мертво. Гитлер и Дрекслер одержали победу. Дрекслер теперь стал абсолютным председателем партии, при этом какое-либо сопротивление против включения Гитлера в руководство партии исчезло. Как наиболее одарённый пропагандист партии, Гитлер теперь был способен работать без значительной оппозиции со стороны руководства DAP.
С уходом Харрера Дрекслер и Гитлер могли беспрепятственно строить планы для выхода партии на арену и прекращения её существования в виде квази-секретного общества. Первые попытки построить инфраструктуру профессиональной партии имели место уже с ноября, когда были очерчены планы напечатать бланки заявлений для вступления в партию, а также объявления о мероприятиях DAP и устав партии.
Далее, 15 января 1920 года DAP учредила свой первый настоящий офис. Пивной ресторан Sterneckerbrau предложил партии комнату для офиса бесплатно с тем условием, что DAP будет проводить свои регулярные еженедельные собрания членов партии в этом заведении. Предложение было сделано также с той договорённостью, что люди, собирающиеся или работающие в офисе, станут заказывать напитки или еду от ресторана. Вот как Гитлер позже описывал новый офис: «Это была маленькая сводчатая тёмная комната с коричневыми деревянными панелями, примерно шести ярдов длиной и три в ширину. В облачные дни в ней было совсем темно. Мы оживили стены плакатами, объявляющими о наших митингах, и в первый раз повесили наш новый партийный флаг. Когда мы проводили собрания, он расстилался на столе — короче говоря, он всегда оставался перед нашими глазами».
В офис можно было попасть только через узкий проход, идущий вдоль Sterneckerbrau. Когда Гитлер и его сотрудники впервые заняли офис, они убрали в сторону всё, кроме стола, поставив оставшийся стол посредине. Вокруг этого стола располагалось руководство во время собраний. Они поставили меньший стол для управляющего директора (Geschäftsfuhrer) рядом со столом для собраний и установили на нём пишущую машинку, подаренную членом партии, у которого была канцелярская и табачная лавка за углом. Для хранения денег была приспособлена старая сигарная коробка.
С тех пор, как Гитлер вступил в партию, его речи срабатывали как необыкновенно успешная вербовка для DAP. Например, 1 декабря 1919 года Эмиль Морис — двадцатилетний помощник часовщика гугенотского происхождения, родившийся рядом с Северным морем, который переехал в Мюнхен во время войны и который будет возглавлять СА, полувоенную организацию партии, в её ранние дни, и который на некоторое время станет одним из лучших друзей Гитлера — вступил в DAP как член партии под номером 594. Даже после 1945 года он будет утверждать, что это речь Гитлера от 13 ноября сделала его новообращённым.
В новом году членство в партии продолжило расти по мере того, как усилия Дрекслера и Гитлера построить инфраструктуру профессиональной партии начали приносить плоды. Среди новых январских рекрутов был Германн Эссер. Вскоре другие новообращённые из левого фланга присоединились к нему в партии. Одним из них был Зепп Дитрих, бывший глава Солдатского Совета военной части, который позже станет возглавлять личную охрану Гитлера — Лейбштандарт СС «Адольф Гитлер» — и станет генералом в Ваффен-СС во Второй мировой войне. Юлиус Шрек, другой новый член DAP, который станет служить у Гитлера в качестве водителя и помощника, в дни мюнхенской Советской республики был членом Красной Армии. Гитлеру было хорошо известно о прошлом многих новобранцев партии. Как заявит Гитлер 30 ноября 1941 года, «Девяносто процентов пополнения моей партии в то время были из левых».
Особенно важный новый член вступил в партию 16 января 1920 года: капитан Эрнст Рем, будущий глава СА (Sturmabteilung, SA), который пришёл в DAP с другого конца политического спектра. Он посетил собрание DAP 16 января из чувства разочарования консервативной Немецкой Национальной Народной партией. Он был настолько захвачен партией, что вступил в неё тут же на месте. В последующие годы Рем будет использовать своё влияние, чтобы сделать доступными для DAP/NSDAP деньги, автомобили и оружие рейхсвера. Вскоре Гитлер и Рем станут обращаться друг к другу с фамильярным «ты», и Гитлер станет частым посетителем в семье Рема, который будет нередко приглашать его на ужин. В феврале будущий заместитель председателя NSDAP Оскар Кёрнер вступил в партию после прослушанной речи Гитлера. Подобно Эмилю Морису Кёрнер был ещё одним протестантом не из Верхней Баварии, проживавшим в Мюнхене, где у него был магазин игрушек. Родившийся в Силезии на немецко-польской границе, будущий заместитель вождя партии сделал столицу Баварии своим домом с конца войны.
Даже хотя действия Дрекслера и Гитлера после изгнания Харрера начали приносить плоды довольно быстро, у них двоих не было намерения только лишь постепенно выстраивать профиль партии и набирать новых членов партии по одному за раз. Вместо этого они хотели выйти на публику с парадного входа. С этой целью исполнительный комитет написал новую программу и рискнул на 24 февраля 1920 года снять Festsaal («Зал празднований»), самое большое место для собраний в Hofbrauhaus («Хофбройхаус») — самом известном пивном зале Мюнхена. Попытка заполнить зал, который мог вместить до двух тысяч человек, была огромным риском для партии, собрания которой привлекали несколько десятков человек менее чем полгода тому назад.
Плакаты, объявляющие о событии, начали появляться за пять или шесть дней заранее. Это было в первый раз, когда DAP вывешивала плакаты в Мюнхене. Тем временем Дрекслер и Гитлер пребывали в нервном ожидании, принесёт ли плоды их авантюра. В Mein Kampf Гитлер размышлял о риске, который предприняла партия: «У меня в то время была только одна забота: будет ли зал наполнен, или нам придётся говорить перед пустым залом?» Он добавлял: «Я с нетерпением ожидал того вечера». И тем не менее объявления сработали, как сообщал Гитлер: «В 7:30 произошло открытие. В 7:15 я вошёл в банкетный зал Hofbrauhaus на Platzl в Мюнхене, и моё сердце чуть не взорвалось от радости. Огромное помещение, ибо оно тогда казалось мне таким, было переполнено людьми, плечо к плечу, числом почти две тысячи. И сверх того, пришли все те люди, к которым мы хотели обращаться».
В Mein Kampf Гитлер выставит это так, как будто зал наполняло чувство предвкушения того, что за вид примет новая программа партии. Он только вскользь отметил, что перед ним к аудитории обращался другой оратор, даже не приводя имя этого оратора. Но это как раз был тот оратор, кто привлёк толпы, нежели чем любопытство о партийной платформе DAP. В действительности красный плакат, развешанный по всему городу, не упоминал ни партийной программы, ни Гитлера. Он объявлял только то, что в тот вечер в Хофбройхаус будет выступать Йоханнес Дингфельдер, врач, народно-патриотический (völkisch) активист и сверх того, любимец публики.
Очевидной тактикой DAP, как всё ещё весьма неприметной партии, неспособной привлечь толпы обещанием выступить с новой партийной программой, было использовать способ «заманить и подменить» для своего митинга 24 февраля. Она использовала Дингфельдера как наживку, чтобы заполнить Хофбройхаус до представления собравшейся аудитории партии и её новой платформы.
Когда Дингфельдер закончил свою речь, Гитлер, самый талантливый оратор партии, объявил программу партии. Хотя он быстро поднялся в DAP, в тот момент он тем не менее был первым и превосходящим всех других «агентом по продажам» партии. Таким образом, непохоже, что Гитлер, даже хотя он и представлял программу, был её главным архитектором. В действительности, по свидетельству Германна Эссера, который был близок и к Дрекслеру, и к Гитлеру: «Гитлер не принимал совершенно никакого участия в формулировке платформы». В самом деле, похоже, что роль Гитлера в составлении партийной платформы была ограничена помощью Дреклеру отредактировать, отшлифовать и расширить её основные моменты. Если бы Гитлер сам был одним из первичных авторов программы, учитывая его высказывания о евреях с предыдущего лета и его сильный акцент на евреях в своих замечаниях до и после публикации программы, то в ней был бы выраженный фокус на евреях, чего не было в этом случае.
Программа, которая вышла в форме списка из двадцати пяти пунктов требований, включая различные моменты с кросс-партийной апелляцией: призыв к установлению меритократии[7], требование, чтобы все граждане имели равные права и обязанности, равно как и требования развития страхования по возрасту и запрет детского труда. За пределами этого, она балансировала между националистическими и социалистическими требованиями.
Её националистические требования включали установление «союза всех немцев в Великой Германии на базе права наций на самоопределение». Другими словами, требованием было создание государства, которое включит в себя Австрию и все другие немецкоговорящие территории за пределами нынешней границы Германии. С этой целью программа призывала к отмене Версальского договора. Она также призывала давать подданство Германии только этническим немцам, заменить Римское право Германским правом, и прекратить иммиграцию не-немцев.
Социалистические требования программы шли рука об руку с её другими пунктами. Они повторяли все требования, какие были коренным признаком с первого дня партии; они не были просто тактической, неискренней уловкой для обращения к рабочим. Они включали призыв к разрушению «процентного рабства», к упразднению доходов, не полученных работой, выявление военных спекулянтов и конфискацию их активов, национализацию трестов (т. е. разрушение монополии посредством национализации), земельную реформу, запрет спекуляции землёй, экспроприацию земли для общественных нужд без компенсации и введение смертной казни за ростовщичество и спекуляцию.
Программа была глубоко нелиберальной в том, что она защищала коллективизм и нападала на индивидуализм, доказывая, например, что общий интерес должен всегда превалировать над интересом личным. Конечный пункт программы требовал «создание сильного центрального государства на уровне Рейха», чтобы привести в действие все остальные пункты программы. В этом DAP вновь заявила своё стремление подавить баварское местничество и объявила себя в оппозиции к главному течению баварской центристской и правой политики. Платформа также требовала территориального расширения за пределы территорий, населённых немецкоговорящим населением. Однако, в отличие от будущих лет, не было требований аннексии территорий с населением, говорящим не на немецком языке в Европе. Наоборот, было требование колониальных заморских территорий «для прокормления нашего народа и расселения нашего излишнего населения».
Как отмечено, программа партии не фокусировалась явно и недвусмысленно на евреях. По словам Германна Эссера, «еврейский вопрос» был затронут в «довольно сдержанной манере и с чрезвычайной осторожностью». Разумеется, многие пункты программы были инициированы антисемитизмом DAP. Тем не менее, только два из двадцати пяти пунктов явно упоминали евреев: один фокусировался на самих евреях; другой был нацелен на идеи, которые предположительно были еврейским по характеру, но могли разделяться неевреями. Так что неясно, были ли еврейские массы или «еврейский дух» центральной заботой партийного антисемитизма. Пункт 4 ставил условие, что ни один еврей не может иметь гражданства Германии; пункт 24 призывал бороться с «еврейско-материалистическим духом внутри и вокруг нас».
В Mein Kampf Гитлер изобразит дело так, как если бы презентация партийной платформы была огромным триумфом, описывая, как многие коммунисты и независимые социалисты, которые пришли бросить вызов ораторам на собрании, вначале доминировали, когда он начал излагать свои вводные замечания. Однако, по словам Гитлера, как только он начал читать программу партии, протесты левого крыла были потоплены в рёве восторженной поддержки двадцати пяти требований партии: «И когда я в конце концов представил, пункт за пунктом, двадцать пять пунктов массам и лично попросил их выразить о них суждение, один за другим они принимались с большей и большей радостью, вновь и вновь единодушно, и когда таким образом последний тезис нашёл свой путь к сердцам масс, я оказался лицом к лицу с залом, наполненным людьми, объединёнными новым убеждением, новой верой, новой волей».
Нацистская пропаганда впоследствии станет утверждать, что всё, что было нужно, чтобы покончить с «попытками коммунистов прервать мероприятие», была горстка старых товарищей Гитлера по войне, которые охраняли место. Это будет частью попытки представить полк Гитлера и, путём расширения понятий, всю германскую армию во время Первой мировой войны как народное сообщество (Volksgemeinschaft), давшее рождение национал-социализму. Гитлер сам заявлял в Mein Kampf, что когда собрание разошлось в конце вечера 24 февраля 1920 года, «был разожжён костёр, и из его пламени однажды должен был выйти меч, который вернёт свободу германского Зигфрида и жизнь германской нации». Он добавлял: «И одновременно с приходящим подъёмом я чувствовал, что там ходит богиня неумолимой мести за клятвопреступное действие 9 ноября 1918 года. Затем зал медленно стал пустеть. Движение пошло своим курсом».
В реальности то, что произошло после речи Дингфельдера, было весьма иным. Сторонники левых вовсе не были заглушены, а за представлением Гитлером программы партии последовала горячая дискуссия. Когда представленные на мероприятии социал-демократы и коммунисты в конце концов поднялись и покинули зал, они громко декламировали лозунги в поддержку коммунистического Интернационала. Дингфельдеру сказали при входе в Festsaal, что присутствует около четырёхсот левых активистов. Как впоследствии узнал Дингфельдер, в преддверии события коммунисты угрожали убить обоих: Гитлера и главного докладчика на нём.
Газеты, освещавшие мероприятие, в дни после 24 февраля не заостряли внимание ни на программе партии, ни на Гитлере. Münchener Zeitung, например, дала подробный отчёт о речи Дингфельдера, но лишь походя заметила в последнем абзаце, что «после речи член комитета Гитлер изложил программу Немецкой Рабочей партии». Освещение газетой события также показательно, поскольку оно выявляет, сколь малоизвестной всё ещё была DAP, т. к. газета говорила о ней, как о «вновь основанной Немецкой Рабочей партии», явно в неведении о существовании партии более года. Münchener Neuesten Nachrichten даже не отметила Гитлера по имени, докладывая лишь, что во время обсуждения после выступления Дингфельдера «оратор представил партийную программу Немецкой Рабочей партии, при этом чрезвычайно резко нападая на Эрцбергера, на евреев, ростовщичество и спекуляцию и т. д.»
Однако даже если презентация программы партии и не была большим событием, каким её представляли Дрекслер и Гитлер, в целом их тактика «замены и подмены» была условным успехом: приём «вставить необъявленного оратора» сработал. DAP выслушали в аудитории из двух тысяч человек, которые пошли в тот вечер домой и стали распространять слух о вдохновленном представлении Гитлера, которое они только что наблюдали. Вечером 24 февраля в Hofbrauhaus стало ясно, что на мероприятии с Гитлером скучно никогда не будет.
Последовавшие затем митинги, на которых выступал Гитлер, привлекали необычно много публики. Посредством своих представлений новая звезда партии смогла укрепить растущий интерес к DAP. В течение 1920 года от 1200 до 2500 человек станут посещать каждый митинг, в сравнении с несколькими десятками посещавших собрания годом раньше.
Первое массовое мероприятие DAP отметило конец семейного спора внутри партии о её природе и направлении. Концепция Харрера в стиле Общества Туле — DAP как тайное общество, руководимое знаменитыми пангерманистами, остающимися в тени — была полностью побеждена. Доминировала концепция Дрекслера и Гитлера. Всё, что оставалось ликвидировать из доктрины Харрера, это было название партии. При изначальном основании партии с Дрекслером Харрер отверг предположение назвать её национал-социалистической партией. Через несколько дней после 24 февраля DAP изменила своё название на Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Национал-социалистическая Немецкая Рабочая партия, или NSDAP). По свидетельству дантиста Фридриха Крона, ведущего члена партии с её ранних дней, обоснованием для изменения названия партии было сделать ясным для всех, что партия не была интернационалистской марксистской рабочей партией. Однако любопытно, что термин «национал-социалистический» ни разу не был использован в программе партии, выпущенной 24 февраля. С юридической точки зрения партия в действительности не будет существовать под своим новым названием до конца сентября 1920 года, когда был основан Национал-социалистический Немецкий Рабочий Союз (Nationalsozialistischer Deutscher Arbeiterverein, e.V.).
Гитлер был в центре диспута внутри своей новой приёмной семьи и вместе с Антоном Дрекслером триумфально вышел из борьбы внутри партии. Когда Карл Майр впервые послал его посетить собрание DAP 12 сентября 1919 года, у Гитлера определённо не было в кармане плана о том, как он станет преобразовывать партию в последующие пять месяцев или как он лично выгадает от этой трансформации. Однако успех в политике редко является результатом внедрения шаг за шагом долгосрочного плана или стратегии. Искусство политики обычно награждает тех, у кого есть талант быстро реагировать на неожиданные ситуации и использовать их не только себе на пользу, но и на пользу политических идей, которые они пропагандируют. И в этом Гитлер уже начал совершенствоваться в начале 1920 года. Он не был просто марионеткой в руках рейхсвера или известных людей среди крайне правых в Мюнхене. Да, они использовали его. Но он также использовал их. Людей, которые поддерживали его, полагая, что он станет их инструментом, он с поразительной скоростью бил их же оружием. Часто они довольно продолжительное время не понимали, насколько быстро Гитлер освобождался от них.
Став в один ряд с Дрекслером, Гитлер смог вытолкнуть Харрера из DAP и прикончить его концепцию «Туле» для партии, тем самым помогая превратить партию в силу, с которой надо считаться. К началу 1920 года DAP стала группой с репутацией, с правом быть выслушанной и услышанной в баварской политике. В ходе этого к весне 1920 года Гитлер (стоит вспомнить, что ещё годом ранее его рассматривали как неуклюжего одиночку) умно переместился из позиции новобранца в партии на место второй наиболее важной и сильной фигуры в ней, второй лишь после председателя DAP Антона Дрекслера.
Гитлер хорошо понимал, что в определённый момент он всё ещё возможно должен будет полагаться на Харрера, на Общество Туле и на пангерманских знаменитостей, стоявших за обществом, для продвижения его идей и усиления его заметности. Поэтому, когда Харрер был вытеснен, Гитлер довольно часто выражал вежливость по отношению к Обществу Туле и к стоявшим за ним. Однако сам он никогда не посещал собрания Туле. И он будет глубоко обижаться на Харрера и его сторонников до конца своей жизни. Гитлер никогда не удовлетворится. Похоже, что он никогда не забыл, как Харрер обращался с ним, и потому он никогда не будет полностью доверять пангерманистам в Мюнхене, которые возглавляли Общество Туле. Он всегда выражал озабоченность в том, что они могут пытаться использовать его в качестве своего инструмента, как было очевидно в его индифферентном взаимодействии с ведущим пангерманистским народно-патриотическим (völkisch) знаменитым человеком в Мюнхене, издателем Юлиусом Фридрихом Леманном. Гитлер в очень большой степени стал хозяином своего собственного предназначения.
Различные элементы возникавших политических идей Гитлера не были оригинальными, однако он использовал их для построения чего-то такого, что возможно не было на 100 процентов новинкой, но, тем не менее, было отличительным. В речах Гитлера и конфликтах этого периода мы видим эхо его пангерманских взглядов — направленных на собирание всех этнических немцев вместе под одной крышей — которые уже существовали во время войны, реконфигурированные и соединённые с его поисками с начала 1919 года — как выстроить Германию, которая будет в безопасности на все времена. Он требовал объединения Германии и Австрии, заклинал своих слушателей сопротивляться эмиграции из Германии, нападал на Версальский договор и продолжал предостерегать о международном еврейском капитализме. Попутно вместе с Антоном Дрекслером он преобразовал DAP из партии, ориентированной на немецких рабочих, в партию с упором на национальный социализм.
И всё же пока Гитлер продумывал политику, как выстроить Германию, которая никогда снова не проиграет войну, он все ещё был несовершенным нацистом. Он всё ещё не фокусировался заметно на большевизме или на «жизненном пространстве» на Востоке, и не будет делать этого некоторое время в будущем. Его устойчивое отсутствие интереса к большевизму необычно, не в последнюю очередь в сравнении с продолжавшимися глубоко укоренившимися опасениями большевизма среди баварцев. Например, 17 февраля 1920 года принц Георг Баварский, внук умершего принца-регента Луитпольда Баварского, утверждал в письме к архиепископу Мюнхена Михаэлю фон Фаульхабер, что «наступление русских большевистских армий на Центральную Европу неминуемо». Позднее в тот месяц Фаульхабер написал принцу Вильгельму фон Гогенцоллерн-Зигмаринген, свергнутому главе одного из малых государств имперской Германии, что люди в Мюнхене ожидают установления Советских республик в Зальцбурге, Инсбруке и Вене в марте. Действительно, шпион, внедрённый внутри Коммунистической партии Германии (КПГ) докладывал пятью днями ранее: «В соответствии с заявлениями, сделанными членами КПГ, восстания [КПГ] должны ожидаться в следующие несколько недель в результате теснейшего сотрудничества с Россией». Шпион также докладывал о тайном собрании приблизительно ста членов КПГ секции мюнхенского квартала Гэртнер, заявляя: «Общее революционное настроение очень уверено в победе в ожидании неминуемых акций как справа, так и слева; слева с помощью русской Красной Армии».
В начале 1920 года всё ещё не было ясно, насколько глубоким был антисемитизм Гитлера. Хотя несомненно он был глубоко антисемитски настроен к этому времени, всё ещё оставалось нерешённым, была ли его непомерная и биологическая антисемитская риторика метафоричной или буквальной. Его главным занятием было — как реагировать на западные державы и западный капитализм. Он всегда будет разглагольствовать, объясняя, как Германия должна была противостоять Франции. Однако его настоящей озабоченностью были британская и американская мощь и англо-американский капитализм.
Глава 7. Инструмент возрастом в 2500 лет
Когда Гитлер 16 марта 1920 впервые в жизни поднялся на борт самолёта, он выглядел так, будто собирался пойти на бал-маскарад — с фальшивой бородой и одетый в смесь гражданского и военного платья. Однако он был на тайной миссии. Карл Майр попросил Дитриха Экарта и Гитлера полететь в Берлин и наладить контакт с Вольфгангом Каппом, политиком и активистом радикального крыла консервативной Немецкой Национальной Народной партии, родившимся в Нью-Йорке.
С окончания войны отклики радикальных правых на происходящее в Германии были чаще реагированием на события. У них было крайне мало позитивных мыслей о новой либеральной парламентской системе. Тем не менее в нескольких обстоятельствах они помогли как национальному, так и местным правительствам отреагировать на вызовы со стороны радикальных левых, как, например, во время спартаковского восстания в январе 1919 года в Берлине и Советской республики в Мюнхене. В 1918 и 1919 годах радикальные попытки правых свергнуть парламентскую демократию были в лучшем случае непродуманными. Однако, когда среди приверженцев правых стало нарастать недовольство, правые радикалы переключились с реагирования на упреждающие действия. К началу 1920 года Капп и множество его заговорщиков стали разрабатывать планы свержения национального правительства в Берлине, уничтожения либеральной демократии и предотвращения неизбежного сокращения вооружённых сил на 75 процентов. 13 марта регулярные войска и ополчение под командованием генерала Вальтера фон Луттвица заняли Берлин с целью установления военной диктатуры во главе с Каппом.
Когда Экарт, Гитлер с фальшивой бородой и их пилот взлетели в открытом самолёте с аэродрома в Аугсбурге, Экарт изображал торговца бумагой, направляющегося по делам бизнеса в столицу Германии со своим бухгалтером — Гитлером. Их истинной миссией было установление прямой линии связи между путчистами в Берлине и Майром.
В день путча эмиссар путчистов прибыл в Мюнхен и отправился с визитом к генералу Арнольду фон Моль, де-факто главе вооружённых сил в Баварии. Как вспоминал Германн Эссер, Моль «тотчас же попросил своего верного политического помощника присоединиться к разговору. Это был капитан Майр». Однако генерал быстро отверг просьбу путчистского эмиссара поддержать переворот. Эмиссар затем попытал счастья с Майром, чувствуя, что тот будет более отзывчив. По словам Эссера, Майр был «единственным […] с точным знанием о планах людей в Берлине», и он выразил свою готовность помочь перенести путч в Баварию.
Однако, как вскоре Майр вынужден был осознать к своему разочарованию, большинство из внутреннего круга близких к Молю офицеров весьма прохладно отнеслись к путчу Каппа. Так что Майр решил за спиной Моля взять инициативу в свои руки. С этой целью он вступил в контакт с Дитрихом Экартом, чтобы тот помог ему координировать пропутчистские действия в Баварии. Поняв, что невозможна никакая прямая связь с путчистами в Берлине, Майр решил послать Экарта и Гитлера с их тайной миссией.
Экарт был очевидным выбором для этого дела, поскольку он и Капп были знакомы друг с другом с той поры, как Капп посмотрел и восхитился одной из пьес Экарта в 1916 году. В то время Капп пришёл к заключению, что произведение Экарта необходимо широко распространить, так чтобы вызвать «пробуждение национальной жизни». Зимой 1918–1919 года Капп пожертвовал Экарту 1000 марок после того, как драматург основал свой еженедельный журнал Auf gut Deutsch. Благодаря Каппа за его пожертвование, Экарт написал: «Что меня более всего вдохновляет, это определённость, которую Вы мне даёте, что я руковожу своей газетой в верном духе, и я руковожу ею в Вашем духе». К тому же, за несколько недель до путча Экарт встречался с Каппом в Берлине.
Трудно узнать, что Гитлер полагал, он сможет достичь в Берлине, когда его самолёт направлялся на север и когда он, вследствие своего страха высоты, продолжал страдать рвотой над лесистыми холмами северной Баварии и центральной Германии. Невозможно уже установить, когда жестокий холодный ветер дул ему в лицо высоко над Германией, верил ли он в то, что использует Майра для достижения своих собственных целей и честолюбивых замыслов, или же тот его использует.
Независимо от того, кто кем играл, Майр, Гитлер и Экарт — все они, увы, не сумели постичь реалистичного ощущения степени поддержки, которую оказывали путчистам в Берлине, Мюнхене и в остальной Германии. Заполнить Хофбройхаус до предела — это было одно; адекватно оценить политическую ситуацию в Мюнхене и в Берлине и свергнуть правительство было совершенно иным, далеко за пределами возможностей трёх заговорщиков.
Дела пошли неверно почти с самого начала. Опыт Гитлера во время его первого в жизни полёта был таков, что должны будут пройти годы, прежде чем он вновь взойдёт на борт самолёта. Вначале самолёт даже не смог долететь до Берлина. Над равнинами к югу от Берлина у самолёта неожиданно закончилось топливо. Это потребовало посадки в городе Ютерборг, где враждебная толпа левых вскоре окружила Гитлера, Экарта и их пилота. Однако этим троим удалось разрешить переговорами конфликтную ситуацию, что позволило им продолжить свой путь в столицу Германии.
Когда они, наконец, добрались до Берлина, попытка переворота Каппа была уже в процессе крушения. Большинство чиновников в Берлине отказались поддерживать путчистов. Более того, многие консерваторы, которые были бы критичны для успеха переворота, решили продолжить занимать нейтральную выжидательную позицию. Например, Ульрих фон Хассель, который в то время служил дипломатом в германском посольстве в Риме и который был предназначен путчистами на роль министра иностранных дел, решил остаться в Риме и выждать. Когда переворот потерпел неудачу, он просто продолжил служить Веймарской республике. Крайние правые переоценили свои силы и степень оказываемой им поддержки.
Путешествие Гитлера и Экарта в Берлин превратилось в полное фиаско, за исключением того факта, что это сблизило их двоих. Они попытались как можно скорее вернуться в Мюнхен, но были задержаны дождём 17 марта, и вынуждены были подождать ещё день, прежде чем смогли вылететь обратно в Мюнхен.
Карл Майр потерпел неудачу в распространении капповского путча на Баварию. Тем не менее попытка переворота вызвала резкую трансформацию в самом южном государстве Германии. 13 марта Моль не только отверг эмиссара путчистов; он также публично заявил о своей поддержке правительства. Однако к вечеру того дня всё большее число офицеров стало нажимать на него, чтобы он не просто стоял в стороне. В ответ генерал надавил на правительство Баварии, чтобы объявить чрезвычайное положение и временно передать ему власть.
Моль играл совсем в иную игру, чем Майр. Как баварский монархист (но не сепаратист), целью Моля было, вероятно, использовать кризис как возможность снова сделать баварцев хозяевами в своём доме, не разрушая Германию, а также привести к власти правительство, возглавляемое Баварской Народной партией. Майр и Экарт, по контрасту с этим, хотели встать на сторону путчистов в Берлине.
На драматическом заседании кабинета министров Баварии, на котором присутствовал Моль, ему были переданы чрезвычайные полномочия. Тем самым он стал государственным комиссаром (Staatskommissar). Однако решение, принятое кабинетом министров, раскололо коалиционное правительство, состоявшее из Социал-демократической партии (SPD), Баварской Народной партии (BVP) и либеральной Немецкой Демократической партии (DDP) и существовавшее с предыдущего мая. В то время как все социал-демократические министры — кроме премьер-министра Йоханнеса Хоффманна — голосовали в пользу передачи чрезвычайных полномочий Молю, полагая, что это предотвратит распространение путча Каппа в Баварию, тем не менее министры от SPD пришли к заключению, что их положение в правительстве стало несостоятельным, и все подали в отставку в тот же день.
События ночи с 13 на 14 марта 1920 года были провоцирующим действием, но не коренной причиной разрыва коалиции между SPD и её двумя буржуазными партнёрами. С того момента, как было сформировано коалиционное правительство, SPD и BVP почти постоянно сталкивались по вопросам политики, в особенности относительно роли католической церкви в школах. В любом случае, было непохоже, что BVP навсегда примет свою роль младшего партнёра SPD, когда в действительности BVP была самой большой партией в парламенте, имея в нём на пять мест больше, чем было у социал-демократов. Передача чрезвычайных полномочий Молю была последней соломинкой, которая сломала шею правительству.
Моль не был заинтересован в сохранении своей власти. Его предпочтительным выбором было передать её Баварской Народной партии (BVP), которая хотела сохранить присутствие социал-демократов в правительстве, хотя и как младшего партнера — что теперь было спорным вопросом. Между тем было непохоже на то, что очевидный кандидат на главу правительства с Баварской Народной партией на ведущих ролях, Георг Хайм, получит большинство в парламенте вследствие своих сильных баварских сепаратистских убеждений. Поэтому BVP решила выдвинуть в премьер-министры технократа, Густава фон Кар, главу области Верхняя Бавария. Его назначение было подтверждено парламентом двумя днями позже, 16 марта.
Смена правительства в Баварии не была переворотом. И смена правительства не произвела резкого изменения, которое привело к власти новое руководство, что станет шагать рука об руку с национал-социалистами в пропасть и превратит Мюнхен в «столицу [национал-социалистического] движения», как Национал-социалистическая Немецкая Рабочая партия (NSDAP) станет называть Мюнхен, придя к власти. Спустя лишь два дня, 16 марта, чрезвычайное положение прекратило своё существование. Военные во главе с генералом фон Молем передали власть обратно гражданскому правительству — в тот самый день, когда Майр отправил Гитлера и Экарта в Берлин помочь установить там военную диктатуру.
Новое баварское правительство, поддерживаемое Баварской Народной партией, национальной либеральной Немецкой Народной партией и Крестьянским Союзом, обладало большинством в парламенте. Кроме того, после избрания премьер-министром Кар заявил: «Разумеется, я буду привержен Рейху и конституции государства». Разница между тем, что случилось в Мюнхене, и тем, что произошло в Берлине, выражается противоборствующими видениями будущего Моля и Майра. Оба желали более консервативной и авторитарной Германии. Однако видение первого было баварским консервативным, в то время как у последнего — германским националистическим. Один предпочитал, по крайней мере в 1920 году, конституционный путь, в то время как другой был сторонником установления военной диктатуры.
Тем не менее установление нового правительства в Баварии образовало резкий сдвиг вправо. Это также обеспечило NSDAP новым лучом надежды, несмотря на провал миссии Гитлера и Экарта в Берлине. Кар начал превращать Баварию в «ячейку порядка» (Ordnungszelle), в которой выдающееся положение было отдано местной милиции (Einwohnerwehren — «обороне жителей»), которая была учреждена вслед за поражением Советской республики. С благословления католической церкви — которая рассматривала милицию, по словам папского нунция Евгенио Пачелли, как «главного защитника против большевизма» — правительство Кара будет пытаться предотвратить роспуск Einwohnerwehren, чего требовали державы-победительницы в Первой мировой войне. Более того, «ячейка порядка» Кара станет предлагать убежище правым экстремистам со всей Германии, включая отдельных из лидеров капповского путча. Некоторые из них со временем обоснуют «Организацию Консул», военизированную группу, которая в последующие годы убьёт двух министров правительства, Матиаса Эрцбергера и Вальтера Ратенау. В частности, начальник полиции Мюнхена Эрнст Понер, протестантский мигрант из самого северо-восточного уголка Баварии, станет поддерживать и защищать правых экстремистов, устремившихся в Баварию, например, тем, что подделывал для них паспорта.
Несмотря на незначительное электоральное приращение уверенно правых партий, баварские выборы 6 июня 1920 года произвели даже более убедительное консервативное правительство. Снова возглавляемое Каром, оно основывалось на партиях его предшествующего правительства, а также на баварском отделении правой Немецкой Национальной Народной партии. В отличие от СДПГ, которая утратила половину своих избирателей в пользу радикально левых, Баварская Народная партия, хотя и глубоко расколотая в своём видении парламентской демократии и республики, удержала свои позиции. Как результат, BVP стала естественной правящей партией в Баварии, пока у неё насильственно не отобрали власть в 1933 году, и даже тогда возглавляемое BVP баварское правительство держалось дольше против нацистов, чем правительство любого другого германского государства. Во времена Веймарской республики, в отличие от консервативных партий в остальной Германии, BVP сможет удерживать под своим влиянием как умеренных, так и правых.
Тем не менее возглавляемое BVP правительство обеспечит прикрытие для групп правого крыла, частично из искренней симпатии к ним людей на правом фланге BVP. Более важно то, что так же, как лидеры BVP использовали капповский путч для возвращения власти обратно в Баварию и для взятия под свой контроль баварского правительства, последующие возглавляемые BVP баварские правительства станут использовать крайне правые группы, включая те, чьи основные политические цели имели мало общего с таковыми у BVP, в качестве инструментов, которые, как они думали, смогут использовать для возвращения ещё большей власти обратно в Баварию, для всего того, чтобы снова сделать баварцев хозяевами с своём собственном доме.
Для достижения этой тактической цели правительство Кара обеспечило плодородную почву, на которой могли расти радикальные правые группы. Вслед за событиями середины марта 1920 года и умеренные, и радикальные правые были поэтому на подъёме в Баварии. Однако что удивительно, в последующие месяцы NSDAP не станет одним из главных выгодоприобретателей подъёма правых в Баварии.
Неудача путча Каппа не была единственным разочарованием, постигшим Гитлера в марте 1920 года. В последний день месяца — после шестидесяти восьми месяцев в армии — он был, наконец, демобилизован, принужден прекратить свою службу в вооружённых силах, которую он столь лелеял со времени добровольного присоединения к ней в 1914 году. Ему вручили комплект одежды, состоящий из военной фуражки, форменной куртки, пары брюк, нижнего белья, одной рубашки, шинели и ботинок, а также 50 марок наличными — и он был уволен.
Наиболее вероятной причиной того, что Гитлер покинул армию, является конфликт Карла Майра с Молем, равно как и полёт Гитлера по поручению Майра в тот самый день, когда Моль вернул власть обратно гражданскому правительству Баварии. Это лишило Гитлера влиятельной поддержки в критический момент. Когда в конце марта нужно было принимать решение о том, кто должен быть демобилизован в ходе планового расформирования 4-го военного округа, то рядовой Гитлер, как протеже Майра, был очевидным выбором.
Со своим уходом из армии Гитлер в первый раз за более чем пять лет должен был сам о себе заботиться. Когда он вынужден был съехать из своего жилища в военных казармах, член его новой суррогатной семьи помог ему найти новый дом. Йозеф Берхтольд, владелец магазина канцелярских принадлежностей и табачных изделий, который подарил пишущую машинку исполнительному комитету NSDAP и который на короткое время будет возглавлять СС в 1926 году, нашёл Гитлеру комнату, которую сдавала в поднаём фрау Райхерт на улице Тирштрассе, где также жил он и его родители. Гитлер теперь жил в окружении мелкой буржуазии близко к реке Изар, недалеко от старого города Мюнхена. Поскольку его армейские ежедневные обязанности прекратились, он должен был найти новую структуру, чтобы заполнить свои дни.
Его прямоугольная узкая комната находилась в южном конце коридора квартиры фрау Райхерт в здании на Тирштрассе, 41, в фасаде которого располагалась ниша с видавшей виды статуей Девы Марии. Меблировка комнаты Гитлера времён конца 19 — начала 20 веков была дешевого и простого вида: рядом с окном стояла кровать, на которой он залёживался допоздна и с которой он станет подниматься ещё позже. Кровать была слишком широка для угла, в котором она стояла, и её изголовье частично перекрывало окно. Имелся буфет и шкаф для одежды, а также умывальник без крана с водопроводной водой. В середине комнаты на линолеумном полу стояла софа и овальный стол, где он станет читать ежедневные газеты во время завтрака.
Ближе к обеду Гитлер покидал свою комнату, спускался по скрипящей лестнице на улицу и шёл к партийному офису в Sterneckerbrau, ел или там, или в одном из соседних дешёвых ресторанов, или же в столовой, где обеды, приготавливаемые главным образом из овощей и репы, приправленные время от времени маленьким кусочком мяса, можно было получить за 30 пфеннигов. Затем он проводил на митингах весь остаток дня до позднего вечера. Почти мгновенно он стал профессиональным политиком. В действительности он был единственным профессиональным политиком партии в течение некоторого времени, поскольку он был единственным её членом без ежедневной работы, который поэтому мог посвящать всё своё время партийной деятельности. Формально Гитлер был первым офицером пропаганды (I. Werbeobmann) партии.
Посвящая всё своё время и все свои таланты NSDAP, Гитлер вскоре вынужден был признать, что партия и он не шли от успеха к успеху, несмотря на плодотворную почву, которую новое правительство обеспечило для правых группировок. Весна и лето 1920 года на самом деле были временем разочарований для NSDAP. Дважды в течение этого времени парламент Баварии обсуждал роль евреев в Баварии и рассматривал вопрос депортации евреев Восточной Европы из Баварии, однако NSDAP ни разу не была упомянута в парламентских дебатах. Хотя Гитлер сделал главной темой некоторых своих речей требование немедленно изгнать евреев из Германии и встречал при этом громкие возгласы одобрения, его требование редко отзывалось эхом за пределами мест, где он выступал.
На оживленном рынке правой политики в Баварии NSDAP не смогла отметиться даже в своей характерной установке — антисемитизме. Несмотря на то, что к лету 1920 года партия могла заполнять самые большие залы внутри мюнхенских пивных, её всё ещё не рассматривали как существенную силу, с которой считаются. Она выросла слишком большой и слишком крикливой к тому времени, чтобы быть способной вернуться к стратегии Харрера — распространять влияние в качестве квази-секретного общества, даже если бы и пожелала это сделать. Однако она не была достаточно большой и вовсе не была достаточно шумной, чтобы быть различимой.
К июлю Антон Дрекслер, придя к заключению, что последние события продемонстрировали недостаточную силу NSDAP стоять на своих собственных ногах, предложил партии рассмотреть слияние с другими группами, в особенности с Немецкой Социалистической партией (DSP). Как и в своём противостоянии с Харрером, Гитлер категорически не согласился со стратегией Дрекслера. И, как и в случае в Харрером, Гитлер одержал победу. Никакого сомнения, что это было в немалой степени из-за того, что он был отклонён DSP, когда хотел вступить в эту партию. У Гитлера не было никакого желания поделить партию с теми самыми людьми, которые отвергли его в прошлом. Вместо слияния с другой партией NSDAP вступила в свободную, и как следствие, необязывающую национальную социалистическую ассоциацию с Немецкой Социалистической партией и с двумя национальными социалистическими группами из Австрии и Богемии.
И всё же триумф Гитлера подвергался риску быть пустой победой, если только NSDAP не начнёт производить фурор своей характерной темой до такой степени, что партию не смогут более игнорировать в парламенте. Со своим исключительным талантом оратора Гитлер похоже увидел в моменте кризиса NSDAP возможность для себя, за которую он ухватился безоговорочно. Среди старших членов партии только он обладал умением представить аргументацию таким образом, какой привлечёт внимание на оживлённом рынке правой политики в Мюнхене. Как то, что он говорил, так и способ, каким он представлял себя, делали его заметным. Вот почему по следам неудачи NSDAP быть услышанной в парламентских дебатах по антисемитизму Гитлер в среду 13 августа произнёс программную речь по антисемитизму перед аудиторией из более двух тысяч человек в большом зале Hofbrauhaus. Речь задавала вопрос: «Почему мы антисемиты?»
Даже хотя антисемитизм был неотъемлемой частью возникающего мировоззрения Гитлера с лета 1919 года, только две из его предыдущих речей в 1920 году были недвусмысленно сфокусированы на антисемитизме. Похоже, что его речь 13 августа была следствием понимания того, что требуется сделать больше, чтобы донести своё послание до публики.
Гитлер выступал более двух часов во время вечернего мероприятия в среду в Hofbrauhaus. Со своего первого до последнего предложения он пытался донести основную идею того, что NSDAP — не просто как любая антисемитская партия. В своём вступительном заявлении он без сомнений провозглашал, что его партия стояла «во главе» антисемитского движения в Германии. Казалось, без каких-либо усилий Гитлер заворожил свою аудиторию. Пятьдесят восемь раз его речь прерывалась аплодисментами и даже криками «браво». Его речь была сдобрена шутками, полными насмешек, сарказма и иронии, смешанными время от времени со скучными или самокритичными шутками. Слушатели разражались смехом, когда он заявил, что Библия не была всецело произведением антисемита, и когда он сказал: «Мы постоянно ищем способы сделать что-либо, и когда немцы не могут найти, что им ещё делать, тогда они будут по крайней мере бить друг друга по голове».
Как и в прошлом, антисемитское послание, которое Гитлер представил в тот вечер, соединяло антикапиталистический антисемитизм с расовой юдофобией. Его центральной темой было предупреждение, что международный еврейский капитализм разрушает Германию и остальной мир; что евреи эгоистичны, работают лишь для себя, нежели чем для всеобщего блага. Вот почему, утверждал он, евреи были неспособны сформировать своё собственное государство, но должны были полагаться на паразитическое высасывание крови других людей. Таким образом, говорил он, евреи не могут не разрушать государства, чтобы управлять ими. Для него еврейский «материализм и корыстолюбие» были антитезой истинного социализма. Он снова и снова повторял идеи Готтфрида Федера о еврейских финансах, не упоминая его имени. И он определил Британию как «то другое еврейство».
Сутью доказательств Гитлера было то, что евреи ослабляли Германию, поскольку они вызывали «снижение расового уровня». Таким образом, люди оказывались перед выбором — либо «освободиться от непрошенных гостей или самим исчезнуть». Центральная политическая тема для Гитлера с дней его политизации в течение предшествующего года — как построить великую Германию, которая никогда снова не проиграет большую войну, и будет всегда выживать в возникающей международной системе — явно просвечивала во всей его речи.
Гитлер также использовал эту речь для атаки на господствующее в Баварии консервативное отношение к иудаизму, порицая наиболее важную газету Мюнхена, Münchner Neueste Nachrichten, за предоставление евреям города голоса на своих страницах. Не случайно новым главным редактором газеты был никто иной, как сотрудник Майра Фриц Герлих, противник антисемитизма. И, как и в первых антисемитских заявлениях Гитлера в 1919 году, антибольшевистский антисемитизм был лишь небольшим добавлением к его речи. Он не рассматривал интернационалистских коммунистов как самостоятельных деятелей, но представлял их, как и самого Карла Маркса, приспособленческими еврейскими деятелями в руках международной еврейской плутократии, состоящей из инвесторов и крупных финансистов.
В тот вечер Гитлер по существу дела протянул руку бывшим спартаковцам. Было ли это рефлексией на свои собственные левые действия во время революции в Мюнхене — представляется вероятным, но невозможным доказать (или опровергнуть, что касается этого). Он заявлял, что даже «самые ярые спартаковцы» были в действительности добропорядочными и попросту введёнными в заблуждение евреями-интернационалистами. Эту точку зрения он публично выразил не только из тактических целей. Он станет утверждать то же самое в частных беседах на протяжении остальной жизни. Например, 2 августа 1941 года он скажет своему близкому окружению в военной ставке: «Я не стану упрекать любого простого человека за то, что он был коммунистом. Это повод для упрёков только в отношении интеллектуалов».
Он также станет говорить, что «в целом я нахожу наших коммунистов в тысячу раз более приемлемыми», чем некоторых из аристократов, которые станут сотрудничать с ним на какое-то время.
В течение всей своей речи 13 августа Гитлер ни разу не упомянул термин «большевизм». Только во время дискуссии после его речи, когда политические оппоненты стали прямо нападать на него, ссылаясь на ситуацию в России, он в конце концов произнёс это слово. Однако он сделал это только чтобы сказать своим критикам, что они «понятия не имеют о всей системе большевизма», поскольку они не осознают, что его целью является не улучшение участи людей, но разрушение рас по поручению международных еврейских капиталистов. В антикапитализме Гитлера и в его возникающем антибольшевизме в 1919 и в 1920 годах была явная иерархия: он изображал большевизм как находящийся в руках международных еврейских капиталистов, обитающих в Британии, в Соединённых Штатах и во Франции, таким образом, представляя антибольшевисткий антисемитизм как важное средство для достижения целей.
Повторяющей особенностью выступлений Гитлера, не только 13 августа, была биологическая форма антисемитизма, на которую он намекнул в своём письме к Адольфу Гемлиху: использование медицинской терминологии для описания предположительно вредного влияния евреев. В речи 7 августа 1920 года он сказал: «Не думайте, что возможно сражаться с болезнью, не убивая причину, без истребления бациллы. И не думайте, что возможно сражаться с расовым туберкулёзом, не позаботившись об освобождении нации от причины расового туберкулёза». Отсюда следует, что с евреями необходимо сражаться без какого-либо компромисса: «Действие еврейства никогда не пройдёт, и отравление нации не окончится до тех пор, пока причина, евреи, не будут удалены из нашей среды».
От этих разговоров о евреях в 1920 году была прямая линия к биологизированным высказываниям Гитлера о евреях в то время, когда Холокост начинал проводиться в жизнь в начале 1940-х. В июле 1941 года, когда «Оперативные группы» (Einsatzgruppen) СС — мобильные истребительные подразделения СС, которые действовали в тылу регулярной армии во время вторжения в Советский Союз — убивали целые еврейские общины, Гитлер выразит практически ту же самую идею: «Я чувствую себя как Роберт Кох от политики», — скажет Гитлер своему окружению в военной ставке, «Он нашёл туберкулёзную бациллу и открыл новое поле деятельности для медицинской науки. Я открыл, что еврей является бациллой и ферментом всего социального разложения».
Антисемитские выражения Гитлера не были особенно оригинальными. Даже хотя его взгляды отличались от господствующей тенденции баварского антисемитизма, они, тем не менее, были сшиты вместе из идей, выраженных другими экстремистами в Баварии и в других местах. Однако настоящий вопрос не в том, был ли оригинален антисемитский язык Гитлера. Скорее он в том, имел ли он то же самое значение для него, какое он имел для других, употреблявших подобный язык.
Более того, вопрос состоит в том, почему неприкрытый антисемитизм Гитлера возник летом 1919 года. Связывание антисемитизма Гитлера с его опытом прозрения в июле 1919 года и идентификация антисемитских влияний, которым он был подвержен в тот момент времени, всё ещё не полностью объясняет, почему его недавно вновь найденный антисемитизм стал столь мощным и все объясняющим инструментом для его понимания мира и для объяснения этого другим.
Для понимания чрезвычайного антисемитизма Гитлера и его наследия для остальной его жизни, сравнение образов антисемитизмов его и других людей в послеверсальском Мюнхене будет мало полезным. Чтобы понять, почему антисемитизм стал столь привлекателен для Гитлера, необходимо понять, почему для столь многих людей в Европе после Первой мировой войны, включая Гитлера, антисемитизм стал призмой, через которую следует рассматривать и извлекать смысл из всех проблем мира. Далее, необходимо исследовать, использовали ли люди экстремальные формы антисемитизма как метафору для объяснения мира, или же они понимали свой антисемитизм в буквальном смысле.
Простое заявление, что антисемитизм — это древнейшая ненависть в мире и что он иррационален по своему характеру — скрывает столь же много, сколько и раскрывает. Почему люди ссылаются на такие иррациональные настроения в определённые моменты времени, а не в другие? Почему антисемитизм принимает такие многообразные формы? И почему в случаях социальных трений между евреями и не-евреями — не только в послевоенном Мюнхене, но и в истории западной цивилизации в целом, включая настоящее время — враждебность к евреям стремится принять форму чрезвычайно непропорциональную к акту или социальному явлению, которое её запускает?
История социальных отношений между евреями и не-евреями в течение последних двух с половиной тысяч лет не показывает постоянной, линейной и неизменной враждебности к евреям. Устойчивость антисемитизма и его способность пересекать культурные, религиозные, политические, экономические и географические границы, а также продолжение его существования из поколения в поколение лежит в том, что он является мощным инструментом, посредством которого обсуждаются и делаются попытки понять проблемы мира в отдельные времена. Впервые он был применён в Древнем Египте и впоследствии стал определяющей чертой уязвимого места западной традиции.
Порождая свежие волны анти-еврейских мыслей, последующие поколения антисемитов не реагировали на социальные практики евреев. Скорее, они переделывали более ранние выражения антисемитских идей в некое подобие рам, в которые они могли вставить проблемы своего собственного мира и таким образом разобраться в них. Это та традиция, которую Гитлер и другие европейцы призвали, чтобы понять смысл мирового революционного кризиса конца 1910-х и начала 1920‑х. И именно к этой традиции обратился Адольф Гитлер, чтобы разобраться в происхождении исторического зла в общем и слабости Германии в частности. Вот почему антисемитизм стал затем столь привлекательным в качестве мотивационной силы для Гитлера и бесчисленного множества других людей в направлении и преобразовании событий в момент глубокого национального кризиса.
Однако форма, в которой действовал антисемитизм в обеспечении указания направления в Германии после Первой мировой войны, была различной. Для некоторых людей антисемитизм был буквальным по характеру и претворялся в прямые акции против евреев; для других он был метафорическим; а для ещё кого-то его суть была буквальной, но некоторые из его более крайних выражений были метафорическими. Исследование этих возможностей поможет нам определить, как Гитлер понимал свою собственную юдофобию, и как другие интерпретировали её.
Это не только лишь главное течение антиеврейской ненависти в Мюнхене после падения Советской республики, принявшее форму антибольшевистского антисемитизма, которое не было огульно направлено против всех евреев. В случаях, в которых антисемитизм стремился объяснить мир, но был метафорическим, антисемитизм был не всегда направлен намеренно против всех людей еврейского происхождения. Превосходным примером этого является антисемитизм Хьюстона Стюарта Чемберлена, который имеет величайшую важность, поскольку в речах и писаниях Гитлера имеются сильные отзвуки работ Чемберлена, и сам Гитлер определит Чемберлена как произведшего на него сильное влияние.
Антисемитизм уроженца Англии, зятя Ричарда Вагнера, наиболее известным образом был выражен в его изданной в 1899 году книге «Основы 19 века» (Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts), двухтомном трактате о связи между расой и культурным развитием, которую вдохновил его написать издатель Чемберлена Хуго Брукманн — муж обедневшей румынской принцессы Эльзы. Произведение имело целью осмысление столетия, которое подходило к концу, так, чтобы помочь людям найти опору и направление в новом столетии.
Даже хотя центральной категорией у Чемберлена является «раса», его основной озабоченностью был иудаизм, не евреи. Для Чемберлена раса не была по-настоящему биологической категорией. Более вероятно, он поддерживал ту точку зрения, что создание новой «чистой» расы позволит цивилизации двигаться вперёд. Для Чемберлена этот новый вид расы будет определяться скорее общей приверженностью к набору идей, нежели общими биологическими чертами. Так что у Чемберлена не возникало проблем в посвящении своих «Основ» Юлиусу Виснеру, венскому учёному еврейского происхождения. Более того, известный драматург Карл Краус, ассимилировавшийся еврей, не сионист и обращённый в католицизм еврей, очень хвалил «Основы» и не верил, что расовый антисемитизм Чемберлена был нацелен на ассимилировавшихся евреев или обратившихся в христианство, как он сам.
В самом деле, как прояснил Чемберлен в письме к Хьюго Брукманну, он думал, что «еврей является полностью искусственным продуктом». В своём письме от 7 августа 1898 года зять Вагнера доказывает, что «возможно быть евреем, не будучи им; и что не требуется обязательно быть „евреем“, при этом будучи еврейским». Чемберлен действительно не думал, что евреи — то есть, люди, которых можно встретить — были реальной проблемой: «Правда в том, что „еврейская опасность“ гораздо глубже, и еврей в действительности не несёт за неё ответственность: мы сами создали её и мы должны её преодолеть». Другими словами, для Чемберлена быть еврейским означало быть приверженным набору идей, которые могут вдохновлять одинаково евреев и не-евреев. Его основной целью было изгнать предположительно вредные идеи из мира.
Антисемитизм Отто Вайнингера, человека, которым более всего восхищался отеческий наставник Гитлера, Дитрих Экарт, близко напоминал таковой у Чемберлена. Для Вайнингера иудаизм был состоянием разума, которое отрицало трансцендентальные идеи и прославляло материализм. По Вайнингеру иудаизм был психологическим складом ума, присущим всему человечеству и который достигал своего высшего выражения в еврее, как идеальном типе. Он проповедовал, что все люди должны бороться против еврейства в самих себе, предупреждая, что западная цивилизация становилась всё более еврейской по духу в современную эпоху.
Вкратце, Чемберлен и Вайнингер — два мыслителя, имевших самое большое влияние, или в любом случае одно из самых больших, в развитии антисемитизма Гитлера и его наставника — понимали свой собственный антисемитизм как отрицание определённого набора идей. Чемберлен не был единственным, кто рассматривал свой расовый антисемитизм как метафорический по характеру. Многие из тех, кто были или станут близкими к Гитлеру, разделяли его идеи. И именно потому, что они воспринимали антисемитизм Чемберлена как метафорический по характеру, им его антисемитизм нравился.
Например, Хуго Брукманн — который впервые был представлен Чемберлену еврейским другом автора, жившим в Байройте дирижёром Германном Леви — равно как и его жена Эльза, были очарованы книгой Чемберлена. После её публикации Эльза Брукманн написала в своём дневнике: «Читая „Основы 19 века“ Чемберлена, я в самом деле была очарована содержанием и формой; после неё никакая книга не доставляет удовольствия». Метафорический антисемитизм Чемберлена соответствовал её вкусу, поскольку он не создавал какого-либо конфликта с её продолжавшейся дружбой с её близкой подругой Йеллой и многими другими евреями.
Её взаимодействие с евреями тогда и в течение всей её остальной жизни имеет величайшее значение, не только из-за дружбы её мужа с Чемберленом, но потому, что с середины 1920-х до 1940-х Эльза и Гитлер будут настолько близки, что Эльза станет почти что играть роль матери для него. Её взаимодействие с евреями, таким образом, проливает свет на взаимодействие евреев и неевреев в некоторых из самых близких к Гитлеру кругах, и путём экстраполяции на то, как близкие к нему люди рассматривали характер антисемитизма собственно Гитлера, и на то, как их восприятие его отношения к евреям менялось с годами.
Эльза Брукманн и Габриэла «Йелла» фон Оппенгеймер были близкими подругами с тех пор, как они впервые встретились в 1893 году, когда Эльза, тогда всё ещё обедневшая принцесса, провела несколько недель во дворце Тедескос, венской еврейской семьи из высшего класса. В годы, последовавшие за Первой мировой войной, отношения двух женщин были настолько близкими, как это в пределах человеческих сил возможно было поддерживать людям, жившим в разных городах. Например, в 1921 и 1922 годах Эльза и её муж проведут больше двух недель с Оппенгеймерами в их имениях в Австрийских Альпах.
Эльза Брукманн будет продолжать восхищаться произведениями звёздного автора её мужа. Например, 31 декабря 1921 года она напишет письмо австрийскому поэту-националисту Максу Мелл, в котором она поделится своими мыслями о только что опубликованной глубоко антисемитской книге Чемберлена «Человек и Бог» (Mensch und Gott): «Я не удивлена, что книга Ч. „Человек и Бог“ произвела столь глубокое впечатление на Вас: это очень личная, очень искренняя книга; настоящая встреча с важнейшими вещами!»
Эльза Брукманн также была близка к еврейскому писателю Карлу Вольфскелю и его жене Ханне. В 1913 году Ханна заявляла, что и её муж, и она «очень её [т. е. Эльзу] любят». Три страсти Карла были мистицизм, коллекционирование предметов (в частности, старых книг, тросточек и слонов в любой форме) и сионизм. До начала столетия он даже встречался с Теодором Херцлем, отцом современного сионизма. Он также дружил с Мартином Бубером, возможно наиболее известным сионистским философом двадцатого века. Вольфскель также был связан с местным мюнхенским сионистским филиалом и в 1903 году освещал для мюнхенской газеты сионистский конгресс в Басле (Уганда). Тем не менее он прежде всего считал себя немцем, а затем евреем. Вольфскель проявлял мало интереса к политическому сионизму; скорее, он видел в сионизме источник культурного и духовного обновления иудаизма. Возможно причиной того, что Эльза Брукманн и Карл Вольфскель могли быть друзьями, было то, что её антисемитизм и его сионизм, хотя и реальные и укоренившиеся, были оба в первую очередь и прежде всего метафорическими.
Эдьза будет продолжать придерживаться своего раннего антисемитизма 1920-х даже после того, как у неё развились отношения матери и сына с Гитлером. Поэтому оба Брукманна станут шокированы сгустившейся антисемитской бурей в 1938 году, как и Карл Александр фон Мюллер, историк, который имел такое большое влияние на Гитлера во время его пропагандистских курсов и который был близок к супружеской паре. Эти трое особенно не одобряли преследование евреев после «Кристальной ночи», как они сообщили своему общему другу Ульриху фон Хасселю во время визита в его дом в Эбенхаузене, к югу от Мюнхена. Как напишет Хассель в своём дневнике 27 ноября 1938 года: «Их [т. е. Брукманнов, а также Мюллера и его жены] ужас от бесстыдного преследования евреев столь же велик, как и у всех порядочных людей. Даже наиболее лояльные национал-социалисты, живущие [в городе] Дахау, которые „придерживались этого“ до сих пор, совсем удручены после того, как они видели дьявольское варварство СС, пытающих этих несчастных задержанных евреев».
В мае и в июне 1942 года Эльза Брукманн будет раз за разом вступаться перед нацистскими властями, пытаясь предотвратить депортацию Йеллы, в конце концов устроив для Йеллы разрешение остаться до конца жизни с её внуком Германном в замке Вартенбург в Австрии. В ноябре 1942 года её дружба с еврейским драматургом Эльзой Бернштайн позволит последней избежать депортации из концентрационного лагеря Терезиенштадт в лагерь смерти в Польше, просто в силу упоминания Бернштайн того, что она в близких отношениях с Эльзой Брукманн и невесткой Чемберлена Винифред Вагнер (Бернштайн переживёт Холокост).
Антисемитизм Чемберлена, Брукманн и многих других был, таким образом, направлен прежде всего и более всего на идеи, которые они считали еврейскими, нежели чем на евреев. Вопрос, который естественным образом следует, обусловленный отзвуками Чемберлена в сочинениях и речах Гитлера и собственной идентификацией Гитлером его как источника вдохновения — воспринимали ли люди антисемитизм Гитлера таким же образом, как они видели антисемитизм Чемберлена? Другими словами, ощущали ли они его как главным образом метафорическим по характеру? И как Гитлер рассматривал свой собственный антисемитизм?
Метафорический антисемитизм Чемберлена и таких людей, как Эльза Брукманн, равно как и две с половиной тысячи лет периодических анти-еврейских размышлений, обеспечили систему отсчёта, относительно которой люди в послевоенном Мюнхене измеряли антисемитизм Гитлера. Поэтому неудивительно, что многие в то время, так же как и в последующие годы, рассматривали истребительный, биологизированный, бескомпромиссный антисемитский язык как не являющийся буквальным по своему характеру.
В некотором смысле, именно из-за своего неодобрения антисемитизма эмоциональных вспышек и погромов, и настаивания, что он борется с иудаизмом в целом для того, чтобы спасти Германию и улучшить мир, Гитлер, по меньшей мере внешне, поставил себя в традиции антисемитизма Чемберлена, равно как и анти-еврейских идей предыдущих двух с половиной тысяч лет. Во время Холокоста, разумеется, истребительный, биологизированный, бескомпромиссный антисемитизм Гитлера был чем угодно, но только не метафорическим по характеру. Однако из перспективы 1920 года неясно, пересёк ли он уже линию в течение этого года.
Совершенно правдоподобно, что Гитлер воспринимал свой истребительный и биологизированный антисемитизм буквально с самого начала; то есть, со второй половины 1919 года. Другими словами, невозможно опровергнуть то, что в отличие от многих других он действительно верил в то, что еврейская кровь приносила паразитов в немецкое общество. В этом случае он мог или не мог уже иметь в мыслях конечный геноцид евреев. Как бы там ни было, логика развития раннего послевоенного антисемитизма Гитлера, независимо от того, понял ли он это или ещё нет, вероятно, уже указывала в направлении геноцида.
Однако, равным образом возможно более правдоподобно доказывать, что Гитлер вначале говорил метафорически, или, более похоже, что он сам ещё не решил, был ли его антисемитизм буквальным или метафорическим. В своих речах он порой, казалось, соглашался с убеждением Чемберлена в том, что можно быть евреем, не будучи им, и что основная цель антисемитизма — это бороться с еврейским духом. Например, в качестве приглашённого лектора на мероприятии Федерации Защиты и Сопротивления Немецкого Народа он сказал 7 января 1920 года под аплодисменты слушателей: «Величайший злодей — это не еврей, но тот, кто делает себя доступным еврею», добавляя: «Мы сражаемся с евреем, потому что он препятствует борьбе с капитализмом. Мы большей частью сами навлекли на себя наше великое несчастье».
Совершенно невозможно узнать, понимал ли в 1920 году Гитлер свой расовый, биологизированный, бескомпромиссный антисемитизм как буквальный или метафорический, потому что никто не может заглянуть в голову Гитлера. Никакая степень изобретательности не может, вероятно, полностью преодолеть это препятствие. Даже если появятся новые документы, которые были сделаны самим Гитлером или те, что зафиксировали его слова, дилемма такова: поскольку он постоянно переделывал себя и был общеизвестным лжецом, говорившим все, что, как он верил, люди хотят слышать, мы можем никогда не узнать при отсутствии разумных оснований для сомнения, когда он говорил правду и когда он лгал. Отсюда всё, что мы можем сделать, это объяснить, почему некоторые заявления о его намерениях и внутренние мысли более правдоподобны, чем другие, а также исследовать примеры его действительного поведения и экстраполировать заключения на то, как работало его сознание и что за намерения у него были.
Один из возможных способов проверить, воспринимал ли Гитлер свой собственный биологизированный, расовый, бескомпромиссный антисемитизм буквально, — это посмотреть, как он обращался с евреями, которых он знал лично. Более вероятно, что он действовал бы по отношению к ним бескомпромиссно, если бы он воспринимал свой собственный тип биологизированного расового антисемитизма буквально.
В своей речи 13 августа 1920 года Гитлер доказывал, что не следует пытаться различать отдельных евреев как хороших либо плохих. Он говорил, что даже евреи, которые имели бы внешность хороших людей, своими действиями тем не менее разрушили бы государство, поскольку это присуще их природе — делать так, независимо от их намерений. Сходным образом в начале 1940-х он категорично заявит, что в преследовании евреев не должно делаться исключений, сколь ни сурово это могло бы быть в некоторых случаях. В ночь с 1 на 2 декабря 1941 года, когда индустриализированный процесс убийства евреев начал претворяться в жизнь, он заявит в своей военной ставке: «Наше расовое законодательство приносит большие трудности отдельным людям, это правда, но не следует основывать его оценку на судьбе индивидуумов». Однако это именно то, что сам Гитлер делал не один раз.
Одним из исключений, сделанных Гитлером, был Эмиль Морис, когда в середине 1930-х Генрих Гиммлер пытался изгнать Мориса из СС и из партии из-за еврейского происхождения Мориса. Гитлер не только отверг намерения Гиммлера, но и сделал жест, предложив воспользоваться своими апартаментами для приёма по случаю свадьбы Мориса в 1935 году, дав ему довольно большую сумму денег в качестве свадебного подарка, а также даровав ему особое изъятие из правил, чтобы тот мог остаться в партии и в СС.
Они сблизились вскоре после вступления Мориса в Немецкую рабочую партию в конце 1919 года. Морис был один из немногих людей, кому позволялось обращаться к Гитлеру неформальным «ты». В бесчисленных баталиях в пивных залах и на улицах Мюнхена он был одним из наиболее жестоких среди ранних национал-социалистов. В знак признания его талантов Гитлер в 1921 году сделал его главой СА; Морис станет служить как адъютант его личной охраны — «Ударной группы Гитлер» — в 1923 году и продолжит это дело, став одним из основателей СС. Некоторое время он служил Гитлеру в качестве его водителя, и когда они оба они окажутся в заключении в тюрьме Ландсберг после провала путча 1923 года, Морис будет помощником Гитлера.
Не совсем ясно, когда Морис и Гитлер узнали о еврейском прадеде Мориса. В соответствии с некоторыми утверждениями, слухи о его еврейском происхождении стали витать с 1919 года, в то время как по другим сведениям это осознание наступило гораздо позже. С одной стороны, учитывая долгую службу Мориса Гитлеру и партии, не особенно удивительно, что Гитлер стал защищать Мориса, даже если член СС номер два был, в соответствии с логикой гитлеровского режима, на одну восьмую евреем.
Однако с другой стороны решение Гитлера было удивительным, поскольку его заступничество за Мориса произошло после длительной, глубокой и горькой ссоры двух друзей, произошедшей от неспособности Гитлера примириться с тем фактом, что его племянница Гели Раубаль и Морис влюбились друг в друга. К тому времени, когда он станет помогать Морису против Гиммлера, для Гитлера было бы легче не возобновлять связь с ним и не защищать, чем делать это. И тем не менее он не только дарует Морису специальное изъятие из правил в пику Гиммлеру, но также пригласит Мориса и его жену в свои апартаменты.
Поддержка Мориса Гитлером раскрывает природу его антисемитизма по другой причине: в 1939 году с началом войны Гитлер неожиданно прекратил все контакты с Морисом. Он также отказался увидеться с ним, когда Морис попросил встречи в конце 1941 года. Эта неожиданная перемена точки зрения со стороны Гитлера столь же значительна, как и его прежняя поддержка Мориса. Если бы он продолжил взаимодействовать с Морисом и поддерживать его на протяжении Второй мировой войны, то было бы простительно преуменьшить важность того факта, что Гитлер прежде поддерживал близкого товарища, у которого был один еврейский прадед. Однако изменение отношения на противоположное с началом войны предполагает, что еврейское происхождение Мориса было важным для Гитлера с тех пор, как он узнал про него. Пересмотр Гитлером отношения к Морису во время середины 1930-х предполагает, что это было частью более широкого изменения точки зрения со стороны Гитлера. Это поднимает вопрос — мог ли быть радикальный, основанный на биологии антисемитизм Гитлера изначально метафорическим и затем стал буквальным только накануне Второй мировой войны. Однако, начиная примерно с 1922 года, поведение Гитлера сильно подсказывает, что геноцид уже был его предпочитаемым «окончательным решением» проблемы — что делать с евреями Европы. Его взаимодействие с такими лицами, как Морис, наводит на мысль, что — до тех пор, пока он полагал, что было непрактично проводить в жизнь геноцидное «окончательное решение» — он был готов помогать евреям, которые ему нравились лично. Веря в течение многих лет, что у него нет иного выбора, кроме как принять в качестве альтернативы не геноцидные решения для очищения Германии от еврейского влияния, имело смысл защищать некоторых евреев, к которым он или его соратники были близки.
Гитлер также всячески старался помогать Эдуарду Блоху, еврейскому доктору умершей матери Гитлера и его собственному семейному доктору с детства, который жил в Линце в Австрии. После германского вторжения в Австрию в 1938 году Гитлер присвоит Блоху особый статус (Sonderstatus), который позволит доктору продолжать жизнь в Линце более или менее невредимым. Как и в случае с Морисом, не видя Блоха в течение многих лет, было бы гораздо легче не вступаться за него, чем защищать его.
Гитлер также лично позволил многим евреям-ветеранам из его полка времён Первой мировой войны эмигрировать. Более того, у жены учёного геополитика Карла Хаусхофера отец был евреем, что, похоже, не беспокоило Гитлера, когда он обратился к Хаусхоферу за помощью в развитии его идей геополитики и «жизненного пространства». Также не похоже, чтобы его беспокоило то, что Рудольф Гесс, его ближайший помощник с середины 1920-х, был близок к старшему Хаусхоферу — которого он видел почти как фигуру отца — и был другом сына Хаусхофера. В действительности, Гитлер признается Гессу, что у него имелись сомнения относительно антисемитизма того. Как напишет Гесс Карлу Хаусхоферу 11 июня 1924 года, когда Гитлер и он были заключены в крепости Ландсберг, он понял, что убеждения Гитлера были гораздо менее прямолинейными, чем он представлял прежде: «Я не думал, например, что он пришёл к своей нынешней позиции по еврейскому вопросу только после серьёзной внутренней борьбы. На него снова и снова нападали сомнения, что он, в конце концов, может быть не прав». Письмо Гесса наводит на мысль, что изначально Гитлер не был уверен относительно природы своего биологизированного, расового, бескомпромиссного антисемитизма, который мог лишь постепенно трансформироваться из метафизического в буквальный, потенциально геноцидный между 1919 и серединой 1920-х.
Также трудно понять, что означает эпизод, происшедший в 1930-х годах, после того, как племянник Гитлера, наполовину ирландец Вильям Патрик, приехал в Берлин. Разочарованный холодным приёмом дяди, Вильям угрожал раскрыть прессе семейные секреты, если ему не дадут работу лучше и он не получит больше привилегий. Это событие привело Гитлера к тому, что он тайно попросил своего адвоката Ганса Франка проверить утверждения о его еврейском происхождении. Сегодня ясно, что слухи о том, что дед Гитлера по линии отца был евреем, равно как и слухи о происхождении его семьи от чешских или венгерских цыган, были необоснованны. Однако важным моментом здесь является не то, был ли Гитлер еврейского происхождения. Скорее, это то, что Гитлер чувствовал себя вынужденным просить Ганса Франка проверить слухи, что предполагает то, что какое-то время он был не уверен — правда ли они.
К лету 1920 года мало что указывало на то, что Гитлер полностью сформировал своё мнение о природе своего антисемитизма или выработал свой предпочитаемый вариант окончания антиеврейской кампании. В это время он использовал антисемитизм как инструмент, чтобы разобраться в проблемах мира, в той традиции, что была придумана за 2500 лет до того на берегах реки Нил.
Экстремальную риторику его зарождавшегося антисемитизма следует рассматривать в контексте трудностей, с которыми Гитлер и NSDAP столкнулись весной 1920 года. В то время, когда партия просто не смогла сделать себя адекватно слышимой, Гитлер должен был найти способ выделить себя и свою партию на оживлённом рынке политики правого крыла в Баварии. Его разновидность антисемитизма, таким образом, стала его инструментом для отличия себя от множества других антисемитских ораторов и политиков в Мюнхене.
Гитлер смог произвести сенсацию в городе предложением более радикального и образующего единое целое варианта знакомого экстремального антисемитизма. Чем больше он представлял свою позицию как бескомпромиссное суждение, чем более экстремально он выражал свой антисемитизм, тем больше он увеличивал свой шанс быть услышанным и продвинуть свою версию антисемитизма посреди оживлённого рынка правых политиков в Мюнхене. Таким образом, это желание быть услышанным и быть отличимым раздувало радикализацию его антисемитизма. В то время его целью для NSDAP было не получить поддержку большинства; это просто стремление для партии быть более различимой, чем её соперники на крайне правом фланге. С этой целью он, похоже, настраивал свою антисемитскую риторику методом проб и ошибок, развивая дальше те идеи и лозунги, которые получали наибольшее одобрение от восприимчивых аудиторий — и наибольшее освистывание слева, тем самым запуская усиливающийся сам по себе цикл радикализации его антисемитской риторики.
Вскоре Гитлер найдёт способ представить себя даже более эффективно для увеличения своей привлекательности.
Глава 8. Гений
К началу осени 1920 года Вольфганг Капп был пережитком прошлого, однако Карл Майр всё ещё держался за него. Бывший армейский начальник Гитлера 24 сентября 1920 года сел за стол, чтобы написать неудачливому путчисту: «Мы продолжим нашу работу. Мы создадим организацию национального радикализма — принцип, между прочим, не имеет ничего общего с национальным большевизмом». Майр также хотел гарантировать, что Капп будет знать личность человека, которого он тщетно пытался послать к нему в марте: «Некий господин Гитлер, например, стал движущей силой». Майр подчеркнул, что он был «в контакте с ним ежедневно на протяжении более 15 месяцев».
Майр, конечно же, сильно преувеличил частоту своих контактов с Гитлером, что было своекорыстно. Это служило для представления себя более значительным, чем он в действительности был в новой роли, которую обрёл в предыдущий месяц. К тому времени, когда он сочинял своё письмо Каппу, Майр больше не был на военной службе, поскольку в начале июля он покинул рейхсвер. Похоже, что это не было добровольно, но что он был уволен в результате неповиновения, которое он выказал по отношению к генералу Арнольду фон Моль. В действительности давление на него, видимо, было оказано не только со стороны Моля.
Звезда Майра начала светить менее ярко уже в марте — потому ли, что его пропагандистская работа рассматривалась как неэффективная, либо же вследствие политических разногласий между Майром и другими — причина остаётся неясной. Какова бы ни была причина, оппозиция ему чрезвычайно выросла после провалившегося путча Каппа. 25 марта 1920 года один из его противников на воинской службе в Мюнхене написал рейхсминистру обороны Отто Гесслеру жалобу на Майра. Написавшим письмо был Георг Ден, прежде возглавлявший гражданский отдел штаб-квартиры комплектования личным составом рейхсвера в Мюнхене и который был теперь генеральным секретарём баварской секции либеральной Немецкой Демократической партии (DDP), одной из партий, которые затем сформировали правительство Баварии. Ден предупреждал министра об офицерах в Мюнхене, которые были ненадёжны и готовы подорвать конституцию. Наихудшим из офицеров, доказывал Ден, были те, что заняты «военной пропагандой», главным образом Карл Майр и граф Карл фон Ботмер.
Письмо Дена поучительно не только в том, что оно проливает свет на уход Майра из армии, но также и для понимания характера людей Военного Окружного Командования 4 в Мюнхене. Оно даёт дополнительное свидетельство политической неоднородности армии в Мюнхене. Ден информировал Гесслера, что офицерский корпус был разделён на двуе группы: на тех, кто подобно Майру, поддерживали путч, и тех, кто мог не быть республиканцами всей душой, но кто примет служение Веймарской республике. Сам Ден был живым доказательством неоднородности рейхсвера в Мюнхене: офицер, который был евреем по рождению, но перешёл в протестантство. Во время войны рождённый евреем офицер и археолог служил в полку Гитлера, где он подружился с Фрицем Видеманом, командиром Гитлера. К концу войны он служил, как и Майр, в Оттоманской империи. Интернированный в конце войны в Турции и заразившийся малярией, Ден вернулся в Германию весной 1919 года. После падения Мюнхенской Советской республики он возглавил гражданский отдел штаб-квартиры рекрутирования рейхсвера в этом городе.
Дена продолжали уважать в офицерском корпусе в Мюнхене, несмотря на его заметное положение в DDP и на его еврейское происхождение. Это очевидно из того факта, что он был одним из восьми авторов из полка Гитлера в Первой мировой войне, чьи военные воспоминания были опубликованы в ноябре 1920 года выходившим раз в две недели журналом Das Bayerland («Бавария»). Ден также будет одним из авторов официальной истории полка Гитлера, опубликованной в 1932 году. Он переживёт Холокост, поскольку покинет Германию, когда это ещё было возможно, и поселится в Кито, столице Эквадора. Тот факт, что офицеру, еврею по рождению и должностному лицу либеральной Немецкой Демократической партии, было доверено возглавлять учреждение по набору в армию в Мюнхене в то же самое время, когда Гитлер служил под командованием Майра, является напоминанием об относительной неоднородности послереволюционного рейхсвера в столице Баварии и тем самым о невозможности Гитлеру быть просто суммой индивидуальных частей послереволюционного рейхсвера в Мюнхене.
С тех пор как Майр перестал пользоваться благосклонностью в армии и поэтому покинул рейхсвер, он подыскивал себе новое пристанище. Однако он не просто искал группу, которая примет его. Он искал организацию, которую он захватит, как он полагал. Его личные качества не подразумевали быть ведомым. Как проявилось в той манере, в какой он вербовал и учил своих пропагандистов, он не желал быть управляемым; скорее, он сам хотел быть дирижёром. Покинув армию, он, таким образом, оборвал все свои оставшиеся связи с Баварской Народной партией (BVP) и вскоре после этого вступил в Национал-социалистическую Немецкую Рабочую партию ((NSDAP). Преувеличение Майра в его письме Кару о частоте его контактов с Гитлером следует рассматривать в этом контексте. В этом письме Майр пытался донести послание, что с того момента, как он вступил в NSDAP, он взял на себя всё управление и контроль. Он писал: «Я с июля был занят стараниями сделать движение сильнее. Я организовал некоторых очень способных молодых людей».
Майр видел будущее NSDAP в том, что она под его влиянием станет своего рода новой Национал-социалистической Ассоциацией (Nationalsozialer Verein), которая существовала на стыке столетий с целью привлечь людей рабочего класса в национальный либеральный лагерь. Ассоциация пыталась сделать это, адресуясь к их социальному недовольству, которое было вызвано растущим социальным неравенством, царившим тогда в Германии.
Однако вскоре после сочинения письма Каппу Майр осознал, что его вера в то, что он может управлять NSDAP таким же образом, как он дирижировал пропагандой для армии, была иллюзорной. Вскоре он начал осознавать то, что какое-то время уже шло полным ходом, но что он не смог понять или принять: а именно, что Гитлер освободился от Майра, и у него нет никакого интереса более быть его марионеткой. По словам Германна Эссера, который как и Гитлер, работал для Майра и вступил в нацистскую партию, Майр к его величайшему разочарованию пришёл к пониманию, «что Гитлер не был готов работать для него». Он вынужден был заключить, что в то время, как Гитлер пытался использовать его как помощника, его бывший протеже не желал быть под его влиянием. Майр с трудом понял, что вопреки его намерениям NSDAP не было продуктом ни рейхсвера, ни его самого. Его растущее понимание того, что ведущие члены партии отказались быть дирижируемыми им, увенчается его решением в марте 1921 года покинуть NSDAP. После этого он никогда снова не встретит Гитлера.
Постепенное осознание Майром своей неспособности сформировать NSDAP в соответствии с его желаниями шло рука об руку с разочарованием в политических целях партии. Вопрос был не в том лишь, что NSDAP отвергла его политические цели. Скорее, Майр начал сомневаться в своих собственных правых идеях. Как результат, он начал двигаться к политическому центру, в конечном счёте оказавшись в руках социал-демократов (СДПГ). С этого времени он станет пытаться подорвать репутацию Гитлера и NSDAP на страницах близкой к СДПГ газеты Münchener Post, тесно сотрудничая с бывшим лидером баварской СДПГ Эрхардом Ауэром и снабжая его сведениями о политическом правом фланге.
Сдвиг Майра влево сделает его предателем в глазах многих офицеров, которые станут соответственно порочить его. Они станут с насмешкой говорить о капитане Майре как о «маленьком человечке, выглядящим слабаком, темнокожем, черноволосом», с «носом явно в форме динара», в котором они обнаружат еврейские черты. С этого момента они станут упоминать бывшего отеческого ментора Гитлера как «Майр-Коэн». В 1923 году Майр назовёт себя «республиканцем по рассудку» — другими словами, политическим «обращенцем», кто головой, но не сердцем полностью, был с республикой. На следующий год он не будет больше просто «республиканцем по рассудку». Он вступит в СДПГ, а также в Reichsbanner («Знамя Рейха») — прореспубликанскую ассоциацию ветеранов, связанную с СДПГ. В Reichsbanner он наконец найдёт группу, которая захочет быть руководима им. В конце 1920-х прежний наставник Гитлера будет регулярно писать для Das Reichsbanner («Газета Чёрно-Красно-Золотого Знамени Рейха»), еженедельного органа организации. Майр станет близок к национальному руководству Reichsbanner и станет заместителем главного редактора журнала ассоциации. В своей деятельности он будет страстным оппонентом и критиком NSDAP. Майр будет также движущей силой в деле восстановления дружеских отношений ветеранов Reichsbanner с союзами французских ветеранов, в результате которых его сделают почётным членом одного из них, Federation nationale.
В 1933 году из страха гнева своего бывшего пропагандиста, который теперь обитал в рейхсканцелярии, Майр убежит во Францию, страну, где он в 1913 году провёл два месяца до Первой мировой войны, готовясь к экзаменам на звание франко-немецкого переводчика. Вместе со своей женой, Штеффи, дизайнером-графиком, он станет жить в пригороде Парижа, с трудом зарабатывая на жизнь преподаванием немецкого языка. После падения Франции в 1940 году он будет арестован, интернирован на юге Франции, затем его будут держать в заключении в подвале Главного Управления безопасности Рейха в Берлине, прежде чем переведут сначала в концентрационный лагерь Заксенхаузен, а затем в Бухенвальд. Там офицера, который выпустил в 1919 году джинна из бутылки, заставят работать в Веймаре на заводе боеприпасов «Густлофф», который управлялся эсэсовцами. Британская бомба убьёт его во время воздушного налёта 9 февраля 1945 года.
Одна из причин, по которой Гитлер не хотел быть управляемым Майром, была прагматичной: он начал использовать популярное стремление немцев к новому типу лидера, гения, что позволит ему представить себя более эффективно и таким образом расширить свою привлекательность. Однако на пути его попытки оседлать эту волну стоял Карл Майр.
Увлечённость гениями в концепциях Запада началась со спора на французской сцене искусств в конце семнадцатого столетия. Французские мыслители спорили друг с другом о том, возможно ли превзойти то, что создали мастера древности с помощью гениев, которые будут способны изобрести новые формы артистического выражения, лучше подходящие для настоящего времени. К восемнадцатому веку жажда гениев перешла в социальный мир. Возникающий новый, просвещённый средний класс теперь полагал, что гении будут способны помочь им в их стремлении к культурной гегемонии, личной автономии и высвобождении от власти старого порядка. Гении, как считалось, имели чрезвычайные способности для оригинальности и творчества и потому были способны разрушить матрицы прошлого. Пока все другие будут возиться с проблемами, гении создадут совершенно новые ответы или даже радикально преобразуют задаваемые вопросы.
Гений, в соответствии с этой концепцией, — это тот, кого не следует учить, как достичь личной независимости и созидательности, или как быть лидером. У гениев есть природные качества, с которыми они рождены и которые они развивают и воплощают в жизнь, когда вырастут. Скрытый смысл и подтекст немецкого термина Bildung[8] — это отражение этой веры немцев в природные качества, которыми обладают люди. В то время как английский термин education основан на идее индивидуума, выводимого из невежества другими, слово Bildung выражает веру в способность индивидуума к самоформированию. Так что гении — это совершенная и чистая форма индивидуумов с прирождённым даром оригинальности и созидательности. Вкратце, у гениев внутри бог. И будучи таковыми, они не должны придерживаться общепринятых условностей публичной речи или даже логики. Гении создают нечто новое, что будет на пользу каждому и что они не обязаны оправдывать; гениям нужно только провозгласить это. Также для гениев нет нужды в компромиссах, поскольку полагается, что компромиссы ослабляют то, что создали гении. Более того, для гениев нет нужды придерживаться правил или даже общепризнанных правил морали, потому что они создают новые правила и принципы морали, которые заново определяют, что есть добро и что есть зло. Как выразил это Ницше в своём наиболее плодотворном произведении «Так говорил Заратустра»: «То, что всё вообще есть добро и зло — это его создание».
В восемнадцатом и в девятнадцатом веках термин «гений» чаще всего применялся к людям искусства. Поскольку оригинальность и нарушение условностей являются самой сутью гения, существовало стремление к типу человека искусства, который является enfant terrible[9], кто в результате этого стремления мог делать почти что угодно. К началу двадцатого столетия восторженное стремление к гению стало настолько распространённым и настолько вошедшим в практику в немецких школах, что образованный средний класс чествовал Гёте и Шиллера, две величественных фигуры в немецкой литературе, поэзии и драме конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века, как знаковые фигуры гениев. Между тем, Хьюстон Стюарт Чемберлен прославлял Вагнера как наиболее выдающегося «гения» девятнадцатого века.
Чемберлен представлял своего тестя как оригинального артиста, определившего столетие, — другими словами, как человека, чьё влияние перешло границы мира искусства и вошло в политику, социальную теорию и философию. Неудивительно, что к 1920-м годам, чтобы подняться от поражения, стремление немцев к гению перешло в желание решительно нового типа политика и лидера, который был бы гением и, таким образом, истинно одарённым, неподдельным, новым и оригинальным. Этот гений будет в глубине души не политиком, но артистом, который, как это выразил Чемберлен, будет проводить не политику, но «искусство управления государством» (Staatskunst). Не существует английского слова, которое полностью передаёт значение этого термина. Ближайший английский термин, statecraft, обозначает умелую профессиональную деятельность, в то время как Staatskunst рассматривает управление делами государства как созидательную и оригинальную артистическую деятельность. Гении, как верили, имели уникальную способность видеть и понимать архитектуру мира, который был скрыт за фальшивыми фасадами, равно как и способностью снимать с мира ложные внешние признаки.
В Германии после Первой мировой войны стремление к лидерам, которые были бы гениями, не было ограничено ни крайне правым политическим флангом, ни основным право-консервативным, антиреспубликанским, «желающим обратно нашего кайзера Вильгельма», спектром общества. У про-республиканского, прогрессивного, оптимистичного среднего класса тоже было это стремление, поскольку члены этого класса искали новые фигуры, появляющиеся снизу, так как, следуя идеям времени, происхождение человека не играло роли в появлении гения. Другими словами, стремление к гению подпитывалось совместным и освободительным желанием, чтобы он пришёл снизу, основываясь на вере семнадцатого и восемнадцатого веков в существование личностей с врождёнными исключительными качествами, которые не могут быть наследованы, равно как которым невозможно обучить. Про-республиканский средний класс Германии видел в этом освободительном и всеобщем элементе гения воплощение демократизации, направленной против старого порядка.
Таким образом, это было желание не Вильгельма III, но совершенно нового типа лидера, который отражал всеобщее стремление к новому созидательному и оригинальному политическому лидеру — гению. Друзья и враги старого режима одинаково высмеивали как «эпигонов», плохих и слабых подражателей политиков, которые основывались на моделях предвоенных лидеров. Даже многие люди на правом фланге верили, что к прошлому нет возврата. Прошлое могло быть блестящим, но прошлое — это прошлое, а будущее требовало новых ответов, даже если будущее вдохновлялось прошлым. Разумеется, не существовало консенсуса в том, как должно выглядеть будущее. Однако существовало почти единодушие в том, что гении помогут проложить путь в будущее.
Это пересекающее социальные границы томление по гению создало для Гитлера уникальную возможность, поскольку то, как он смог представить себя, близко примыкало к политическим и культурным представлениям о «гении», как богоподобном спасителе. Таким образом, не был неуспехом разрыв с существовавшим до 1918 года политическим порядком Вильгельма, который создал условия, давшие подъём Гитлеру. Скорее, это был радикальный разрыв с тем порядком, который, не делая неминуемым подъём национал-социализма, создал возможность для использования его Гитлером. Поскольку повсеместно верили, что гении создаются природой, не воспитанием, Гитлер не мог рассматриваться как произведённый Карлом Майром, или кем-то ещё, что касается этого. Скорее, он должен был представлять себя как некую личность, которая была сформирована полностью без какого-либо внешнего вклада.
Сказав это, будет справедливо предположить, что отеческий наставник Гитлера Дитрих Экарт поддержал того в том, чтобы видеть себя гением. Кумир Экарта Отто Вайнингер создал противопоставление между гением и евреями, рассматривая «гения» как высшее выражение мужественности и не-материального мира, при этом видя евреев как чистейшую форму женственности. Для Экарта целью гения было очистить мир от предположительно вредного влияния иудаизма.
Трудно установить точную дату, когда Адольф Гитлер начал рассматривать себя как гения, или представлять себя таковым. Провозгласить открыто «Я гений» сделало бы его источником насмешек. Такое заявление было бы также менее эффективно, чем оставить это его пропагандистам — описывать его как «гения».
Он начал обсуждение этого вопроса в речи уже 17 апреля 1920 года, когда заявил: «Что нам нужно — это диктатор, который также является гением, если мы вообще хотим снова подняться в мире». Только гораздо позже он открыто отметит, что рассматривает себя как этого гения. Например, в Mein Kampf он раз за разом ссылается на гения таким образом, что это явно подразумевается — он говорит о себе. Далее, в 1943 году он заметит одному из своих секретарей, что причина, по которой он решил не иметь детей, было то, что жизнь для детей гениев всегда была трудной.
Вполне правдоподобно, что когда Гитлер произносил свою речь 17 апреля, он видел себя готовящим почву для кого-то другого, кто бы это ни был. Однако, даже более правдоподобно и вероятно, что через само действие призвания гения для спасения Германии Гитлер понял, что вождём и диктатором может и должен быть он сам.
Вся суть гения в том, что те, кто обладают этими качествами, не являются общепризнанными фигурами, но возникают как будто бы из ниоткуда. 17 апреля Гитлер явно не говорил о вышестоящей личности, долженствующей стать спасителем Германии. Более того, он сам обладал всеми характеристиками, которые люди обычно ассоциируют с гениями: он был человек без родословной и без высокой степени формального образования, в душе человек искусства, но имеющий страсть к политике. Он желал не имитировать и восстановить потерянный и разрушенный мир, но создать совершенно новую, непобедимую Германию, которая будет противостоять ударам по своей системе во все будущие времена. Подобным образом он представлял себя как независимого, энергичного мыслителя. Он предпочитал вещать людям, нежели чем говорить с людьми, и рассматривать политику не как совещательную деятельность, но как акт представления — вкратце, скорее провозглашать, чем вовлекать.
В самом деле, с того времени, как он вступил в DAP/NSDAP, Гитлер старался изо всех сил сделать так, чтобы ни его партия, ни он сам не играли вторую скрипку для кого бы то ни было. Будь это в его борьбе с первым национальным председателем DAP Харрером или в его отказе в слиянии с другими группами на протяжении 1920 года, Гитлер ясно дал понять, что он твёрдо верил в то, что DAP/NSDAP должна скорее вести, чем быть ведомой. Так что сложно представить то, как Гитлер стал бы воспринимать себя как просто приглашающего кого-то ещё, когда он призывал гения спасти Германию, поскольку гении могли прийти только снизу, поскольку он не позволял DAP/NSDAP быть второй в любой другой группе, и поскольку он обладал всеми характеристиками, какие люди обычно ассоциировали с гением в то время.
Трудно сказать, призвал ли сначала Гитлер гения и диктатора для спасения Германии, и только лишь делая это, осознал, что он в действительности говорит о ком-то подобном ему; или же он сначала понял, что он удовлетворяет всем критериям гения, и затем использовал это понимание как инструмент подогнать ситуацию под себя. Подобным же образом невозможно сказать, искренне ли Гитлер начал верить, что он был гением (хотя последующие примеры поведения подтвердили бы, что это было так), или же он начал демонстрировать себя в качестве гения только по тактическим соображениям. В любом случае, ранняя заявка Гитлером на роль гения и диктатора предполагает, что его высказанная цель — быть пропагандистом для новой Германии — была необходимой уловкой в то время, когда заявление о том, что он сам может быть этим гением, стала бы выглядеть нелепой.
Гитлер также использовал идею, популяризованную Хьюстоном Стюартом Чемберленом, что в случае Германии и других тевтонских наций для обеспечения свободной и независимой жизни тевтонская нация нуждается в движении вперёд как «чистая раса» — основанная по существу не на биологической реальности, но такая, что ещё нуждается в формировании через действие самосоздания. Неотъемлемой логикой требования Чемберлена было то, что только гений будет способен осуществить последнее. Более того, помещая себя в традицию гения, Гитлер — каковы бы ни были его истинные намерения — помещал себя в наследие того, как гении воспринимались. Это может объяснить, как люди, которые не были радикальными антисемитами, могли всё же очаровываться Гитлером и поддерживать его, весьма подобно тому, как они восхищались Чемберленом и чествовали его как гения, в то же время не принимая всерьёз некоторые из его доводов.
Одной из причин, почему Чемберлен был настолько успешен как автор, было то, что от гения ожидали, что он будет enfant terrible. Он говорил множество возмутительных вещей в своей книге, которые, в глазах многих, не отвлекали от её предположительно оригинальной и позитивной сути. Например, Теодор Рузвельт в обзоре «Основ» Чемберлена резко возражал антисемитизму автора и тем не менее отметил, как много мир может узнать от Чемберлена о состоянии мира и о будущем тевтонских наций. Это была та традиция рассматривать гениев как блестящих и созидательных дилетантов, что станет прокладывать дорогу к тому, как многие люди будут реагировать на Гитлера в предстоящие годы. Люди верили, что гении в процессе создания чего-то нового могут время от времени быть увлечены, в результате чего они могут говорить вещи, которые не следует воспринимать серьёзно или буквально, и это не должно отвлекать от сути их творения.
Независимо от того, когда точно Гитлер начал видеть себя как гения, он обыгрывал в 1920 году свои речи, придерживаясь ожиданий того, как действовал бы новый гениальный вождь, представляя себя скорее как художника-ставшего-политиком, нежели как профессионального политика или лидера, рождённого с привилегиями.
В этом Гитлер использовал намёк от Вагнера, своего любимого мастера всех времён. В действительности артистическое влияние, которое оказывал Вагнер на презентации Гитлера, было гораздо более важным, чем воздействие его политических идей на мышление Гитлера. Например, концепции антисемитизма у Гитлера и у Вагнера были более различающимися, чем они были схожими. Не углубляясь в антисемитизм Вагнера, Гитлер предпочитал вдохновляться тем, как ставились оперы Вагнера, которые он посещал так часто, как мог. Оперы ставились как артистические синтетические произведения, Gesamtkunstwerke, объединявшие во взаимодействии звук, образ, слово и пространство для создания спектаклей, полных очаровывающей гармонии. В конечном счёте Гитлер станет сотрудничать с архитекторами, художниками света, кинорежиссёрами и многими другими для создания спектаклей, увековеченных в фильмах Лени Рифеншталь о партийном съезде в Нюрнберге 1934 года и об Олимпийских играх 1936 года, которые содержат такие эффекты, как слияние образа и голоса Гитлера, постановку десятков тысяч сторонников перед ним и использование световых куполов. Пока же Гитлер ставил свои речи как устные постановки. Это было необычно в визуальном мире католической Южной Баварии с её местными традициями представлений, в центре которых были изображения Святого Семейства и святых, как на фасадах барочных зданий, так и в церквях. До лета 1923 года Гитлер непреклонно отказывался фотографироваться.
Со своим предпочтением слова перед образом в его ранние годы, равно как и с запретом изображений (Bilderverbot), Гитлер отталкивался от протестантской традиции, идущей от Реформации и разрушения большей части интерьера прежних католических церквей. Культ гения также в основе своей был протестантским явлением. Но речи Гитлера не были эквивалентом искренних проповедей в протестантских церквях, лишённых почти всех орнаментов. Скорее, они были устными спектаклями, в которых в местах совершения действа произносились речи, по всему городу расклеивались плакаты, оповещающие о событиях, и вся атмосфера, в которой они происходили, были столь же важны, как сам голос Гитлера. Другими словами, несмотря на свой Bilderverbot, Гитлер быстро овладел использованием визуальной образности для поддержки и улучшения своих устных представлений.
Например, Гитлер редко станет произносить речи на открытом воздухе, поскольку он осознал, что для него гораздо легче наполнить внутренние пространства своим голосом. Внутри он мог контролировать, как разносится голос, и мог также контролировать всё остальное, создавая гармонию из своего голоса, пространства и визуализации — всё направленное на создание ошеломляющего совместного впечатления.
Он также тщательно координировал то, как его выступления рекламировались по всему Мюнхену. Большие красные плакаты, которые партия помещала на специальных рекламных колоннах, популярных в немецких городах в то время, немедленно привлекали внимание людей. Гитлер позже станет утверждать, что он выбрал красный, потому что «это наиболее раздражающий [цвет] и такой, что наиболее вероятно приведёт в ярость и спровоцирует наших оппонентов, и, таким образом, сделает нас заметными и запоминающимися для них, так или иначе».
Устные спектакли Гитлера были отличающимися от обычных политических событий Мюнхена. Как результат, люди начали стекаться на его речи, среди них многие из растущего числа недовольных и разочаровавшихся. Это были люди, которые с политической точки зрения «сидели на заборе», не решив ещё, присоединяться ли к движению политического протеста, и какое направление выбрать. Сложной задачей для любой политической группы было привлечь внимание потенциальных сторонников на сбивающем с толку, быстро меняющемся и фрагментированном политическом рынке. И именно речи Гитлера, то, как он представлял их, смогли выполнить именно это. Нет надобности говорить, что не все среди разочарованных, кто посещал речи Гитлера, стали новообращёнными приверженцами NSDAP. Однако увеличивающееся число слезло со своих заборов и вступило в ряды сторонников партии. Речи Гитлера в 1920 году были тем, что привело партию в движение и превратило её в значительное социальное протестное движение.
Своим голосом Гитлер смог привлечь и удерживать внимание больших толп людей. К 1920 году он отшлифовал использование своего голоса; ушли в небытие дни слегка неуклюжего, но всеми любимого одиночки времён Первой мировой войны. В частной жизни Гитлер был склонен говорить мягко — однако на сцене его голос превращался в нечто иное. Конрада Хайдена, который, несмотря на то, что он был пылким оппонентом Гитлера, посещал его речи в начале 1920-х, впечатлил голос Гитлера как «нечто неожиданное. Между этих скромных, узких плеч у него были лёгкие. Его голос был самим воплощением силы, твёрдости, власти и воли. Даже когда спокоен, это был гортанный гром; когда возбуждён, он ревел как сирена, предвещающая неумолимую опасность. Это был первый рёв неодушевлённой природы, однако сопровождаемый гибкими человеческими нотками дружелюбия, ярости, или презрения». Как вспоминала Ильзе Проль, будущая жена Рудольфа Гесса, о первой речи Гитлера, которую она посетила в 1920 году, «там было только 40 или 60 человек. Но возникало впечатление, что он обращался ко всей Германии».
Где-либо ещё в Германии Гитлеру, возможно, было бы труднее привлечь того же рода внимание, какое он получил в Южной Баварии. Как это сформулировал ранний биограф Гитлера, Эрнст Дойерляйн — франконец по рождению, который провёл много лет своей взрослой жизни в Мюнхене — «проворный язык» был качеством, вызывавшим большое восхищение в Южной Баварии. «Способность „растолковать“ вызывает особенное одобрение в баварской глубинке. Чем более воодушевлён оратор, тем более уважаем он будет среди своих современников, — писал Дойерляйн. — У людей имеется сильная барочная черта, одобрение грубого веселья и простоватой комедии. Тот факт, что вот тут есть простой солдат, который знает, как говорить о вещах, с которыми обыкновенно имеют дело власти — это было сенсацией».
Способности Гитлера выступать были очень важны для NSDAP, потому что такие события в послевоенном Мюнхене выполняли двойную функцию: как места для выражения политических убеждений и как средство развлечения для поколения без доступа к удобствам электронных медиаресурсов. Люди посещали политические события в пивных залах Мюнхена, чтобы избежать скуки сидения по домам и глазения из окон. Талант Гитлера как оратора и актёра приносил обещание того, что NSDAP будет бенефициаром любой будущей консолидации среди радикальных правых Мюнхена, в ситуации, когда было трудно распознать незначительные политические отличия различных городских правых группок. В самом деле, для этого Гитлер вложил большую часть своей энергии, произнося в 1920 году столько речей, сколько возможно.
В тот год Гитлер был главным оратором на двадцати одном мероприятии DAP/NSDAP, многие из которых имели место не только в Хофбройхаус, но также в пивных залах некоторых других городских пивоварен — включая Бюргерброй, Мюнхнер Киндлькеллер, Вагнерброй и Хакерброй — и привлекали аудитории, варьировавшиеся по количеству участников между 800 и 3500 человек. Наиболее популярное событие года было по теме, лежавшей в основе политизации и радикализации Гитлера. Это была протестная акция, проводившаяся в Мюнхнер Киндлькеллер против условий мира Версальского договора, в частности, против потери района Западной Германии Eupen-Malmedy в пользу Бельгии, и угроза потери Верхней Силезии на востоке. Мероприятие привлекло от 3000 до 3500 человек. Гитлер также принял участие в по меньшей мере семи дискуссиях, последовавших за речами на митингах других политических групп в Мюнхене. Более того, он произнёс шестнадцать речей за пределами Мюнхена.
Численность присутствовавших на речах Гитлера обеспечивает лишь ограниченное ощущение его популярности, поскольку мероприятия привлекали также в больших количествах политических оппонентов, которые пытались помешать его выступлениям. Таким образом, невозможно выразить в числах поддержку, которую Гитлер получил в 1920 году. Однако сам факт того, что он привлекал большие количества как сторонников, так и противников, является великолепной мерой его всё возрастающей известности. Это играло на руку Гитлеру, поскольку привлекало внимание публики к NSDAP, которое в ином случае могло бы уйти к другим политическим группам со сравнимыми политическими идеями.
Его речевые баталии были чрезвычайно большой нагрузкой. Он говорил на мероприятиях, которые начинались в 7:30 или в 8:00 вечера на протяжении от двух до трёх часов, иногда дольше, без микрофона или громкоговорителей в местах с зачастую плохой акустикой. Вначале Гитлер даже не говорил с использованием заметок; только в 1921–1922 годах он начал приносить на свои выступления систематизированные тезисы. После одного или двух часов речей он часто останавливался, чувствую физическую слабость. Столь частое произнесение речей имело негативные последствия для его тела, пища была всё ещё относительно скудной в Мюнхене — как результат, Гитлер, равно как и большинство людей в Мюнхене, часто действовал на полупустой желудок. Чтобы выдержать своё марафонское мероприятие и для поддержки энергии, прежде чем начать речи, он часто мешал сырое яйцо с сахаром в цилиндрическом металлическом сосуде и залпом выпивал смесь прямо перед своей речью.
Одна из причин, по которой Гитлер произносил столь длинные речи, была прагматической: он хотел убедиться, что партийные мероприятия, на которых он говорил, будут по характеру более представлениями, чем рассудочными действиями. Он хотел обращаться к людям, не разговаривать с ними. Традицией того времени было то, что оратор мероприятия произносит речь, за которой следуют продолжительные дискуссии. Гитлер полагал, что ничего хорошего дискуссии не принесут, и что они могут выйти из-под контроля и привести к скандалу. Следовательно, он обеспечивал произнесение речи как можно дольше, чтобы оставалось мало времени для дискуссии между концом его речей и временем закрытия в 11:00 вечера.
После окончания своих речей Гитлер всё ещё находился в возбуждённом состоянии какое-то время и чтобы успокоиться, общался со своими самыми близкими товарищами. После многочасовых речей он умирал с голоду. Если митинг оканчивался до 11:00 вечера, внутренний круг членов партии шёл пешком в Sterneckerbrau, чтобы там поужинать. В противном случае они все шли домой к члену партии и оставались там до поздней ночи, что было легче выполнить Гитлеру, чем его товарищам, поскольку в отличие от него у них была нормальная дневная работа, и они не могли, как он, допоздна лежать в кровати. Когда он находился вместе только с близкими партийными товарищами, он расслаблялся. Как вспоминал один из них, «Гитлеру нравилось приятно проводить время, смеяться, и он показывал своё полное довольство, хлопая по коленям». Подобным образом вспоминала Ильзе Проль, будущая жена Рудольфа Гесса: «Когда сидели вместе с Гитлером, мы вместе смеялись, мы шутили вместе. Мы были очень близки, нам нравилось смеяться».
Во время партийных мероприятий и его поздних ужинов привычки Гитлера в еде и питье соответствовали таковым у людей вокруг него. В то время как он никогда не курил, он тогда, в отличие от более поздних времён, всё ещё ел мясо и пил алкоголь. Его любимым блюдом был Tiroler Grostl, жаркое из картофеля, говядины и яиц, которое он поглощал с тёмным пивом, всегда им предпочитаемым по сравнению со светлым или пшеничным. В течение мероприятия, во время речей и после них, Гитлер выпивал две-три пинты пива. Однако он поглощал это количество в течение нескольких часов, и пиво, которое он пил, было слабым вследствие продолжавшегося дефицита продовольствия в Мюнхене. Даже тогда наркотиком Гитлера был не алкоголь — это был акт произнесения речи. Как заключил в 1942 году доклад разведки США, основанный на интервью с близко знавшими Гитлера людьми, «он, возможно, счастлив и спокоен только тогда, когда довёл себя разговорами до точки обморока от изнурения».
Ко второй половине 1920 года ораторствование и занятия политикой стали для Гитлера всем. Это было для него теперь больше, чем работа. Это было призвание. Это стало для него тем, что питает жизнь. Поскольку он оказался неспособным поддерживать человеческие отношения среди равных на продолжительный период жизни или заполнять свои дни работой в нормальной профессии — вкратце, поскольку он был неспособен жить того вида жизнью, которой наслаждаются почти все остальные — у него буквально не было ничего больше, чтобы придать системность и значение его жизни. Как это выразил Конрад Хайден, «у других есть друзья, жена, профессия; у него были только массы, к которым он обращался».
Следовательно, прогрессивная радикализация Гитлера не была приводима в действие лишь чисто политической тактикой. Другими словами, она не приводилась в движение только попыткой быть отличимым на оживлённой арене правой политики в Мюнхене. В этом также присутствовал личный элемент. Так же, как наркоман сделает что угодно, чтобы завладеть субстанцией — источником наркотического подъёма, вероятно, Гитлер приобрёл наркотическую зависимость к реагированию, получаемому им во время его речей, что усиливало его желание получить больше. Поскольку он получал самые большие отклики на наиболее вопиющие и экстремальные идеи, выражаемые им, он продолжал, усиливал и дальше развивал эти идеи в последующих речах.
Диалектическое взаимодействие между Гитлером и его аудиторией не ускользнуло от внимания его товарищей. Германн Эссер вспоминал: «Сначала Гитлер обращался к массам неосознанно, а затем осознанно. Но в действительности это массы сформировали Гитлера». В соответствии с Эссером «[Гитлер] обладал чувствительностью к [тенденциям]; он мог ощущать их, когда бы он ни выходил, и как следствие, это массы сформировали его; тут имело место взаимодействие [между Гитлером и его слушателями]».
Близко к традиционным понятиям о том, что делает гения — вера в индивидуума, у которого есть оригинальный взгляд на природу мира и который открывает взору устройство лучшего мира — Гитлер, говорил Эссер, не давал в своих речах текущих комментариев о повседневных политических событиях. Вместо этого, то что он говорил, принимало форму деклараций о природе вещей.
Обычным штампом его речей было рассматривать проблемы исторически. Для него вопросы национальной безопасности, понимание текущего затруднительного положения Германии и нахождение ответов на вопросы могли пониматься только исторически. Для Гитлера история была определяющим фактором в национальном самоосознании и в понимании соперников и союзников, равно как и никогда не иссякающим источником разъясняющих аналогий. Это была и память государств, и объект для изучения, чтобы понять правила государственного управления и международных дел. Это было средство для распознавания законов человеческого развития. Он всегда думал и будет думать исторически. И как оратор, и как политик, а впоследствии как диктатор, Гитлер изначально и прежде всего был человеком истории.
Теория Гитлера о том, как история оживляет политику и искусство государственного управления, исходила из его подхода к гению. Целью обращения к истории было не копировать и воспроизводить прошлое, но действовать как источник вдохновения для создания чего-то нового. Другими словами, Гитлер видел полезность истории в понимании настоящего и в определении будущих проблем. Когда в будущем он станет вешать картины с Фридрихом Великим и устанавливать бюсты Бисмарка в штаб-квартирах своей партии или в рейхсканцелярии, это будет означать только то, что он воодушевляется ими, а не то, что хочет быть Бисмарком или Фридрихом Великим. То же самое было верно в его отношении к Оливеру Кромвелю, вождю республиканского движения во время Английской гражданской войны семнадцатого века. Не подтверждая публично влияния на него Кромвеля, в частной обстановке он заявлял, что воодушевляется англичанином, восхищается им как самоназначенным диктатором, создателем Королевского военно-морского флота, и как противником парламентаризма, всеобщего избирательного права, коммунизма и римского католицизма.
Речи Гитлера 1920 года следовали общему шаблону, который определялся его подходом к истории: он изображал блестящее прошлое Германии, прежде чем нарисовать картину её жалкого настоящего. Затем он описывал причины, как он их видел, того, как первое стало вторым, следовал к определению средств борьбы с этой деградацией и затем заканчивал обещанием надежды на будущее.
Таким образом, Гитлер не определял себя лишь тем, против чего он выступал, и его цели не были ограничены поиском отмщения. Не был он и нигилистом. Примечательным образом его речи скорее были полны бактериологических метафор, чем — как это было столь популярно везде на правом политическом фланге Германии — упоминаний о том, как победоносную Германию ударили кинжалом в спину, подобно тому, как убивающий дракона герой Зигфрид из средневекового эпоса «Песнь Ниббелунгов» был предательски убит своим заклятым врагом Хагеном фон Тронхе. В то время как возможно отомстить за удар кинжалом в спину, такое невозможно сделать против бактерии. Борьба с бактерией, которая вела к деградации тела или метафорически — государства и общества — не требовала мести. Скорее Гитлер представлял точку зрения, что путём уничтожения бактерии, которая привела её к плачевному состоянию, Германия восстановится и впоследствии будет иммунной к новым инфекциям и станет способна жить хорошей и самостоятельной жизнью. Таким образом, Гитлер проповедовал разрушение как средство достижения цели, всегда определяя конечные цели в позитивных терминах. Именно это обещание «солнца свободы» сделает Гитлера привлекательным для поколения идеалистичных молодых немцев, которые достигли совершеннолетия между 1920-ми и 1940-ми годами.
Борьба с деструктивными силами настоящего и создание лучшего и обнадёживающего будущего были двумя сторонами одной медали не только для Гитлера, но также и для многих из его товарищей национал-социалистов. Готтфрид Федер, например, не только нападал на то, что он видел как разрушительные силы иудаизма и финансов, но также предлагал видение «нового города» как прототипа для немецкого образа жизни, который станет ядром для новой Германии. Его целью было основание новых городов по всей стране с числом жителей примерно 20 000 в каждом, которые в свою очередь будут сооружены из ячеек в приблизительно 3500 обитателей. Федер доказывал, что эти города будут лишены недостатков жизни в большом городе, таких как детская бедность, большое количество дорожно-транспортного травматизма, и распространение болезней и нищеты.
Повторяющейся темой речей Гитлера в 1920 году было то, что Германия будет способна снова жить под «солнцем свободы» только если будут усилены национальная солидарность и вера в собственные возможности. Далее, это золотое будущее может быть достигнуто, только если будет побеждён баварский сепаратизм, установлено бесклассовое государство рабочих, отменены условия мира по Версальскому договору и уничтожены крупный финансовый капитал и «процентное рабство». Гитлер снова и снова будет возвращаться к одной и той же теме: необходимости для Германии извлечь уроки из мощи Британии и Америки. Ненависть Гитлера к англо-американскому миру была неотъемлемой частью его политизации и радикализации в Мюнхене после Версальского договора. Это было чувство, которое хорошо отыгрывалось на его слушателях, поскольку оно широко разделялось среди других ультраправых групп в Мюнхене. Например, оратор от Немецкой Народной Федерации Защиты и Сопротивления (German Völkisch Protection and Defiance Federation) гневно говорил на мероприятии 7 января 1920 года — на котором также был Гитлер в качестве приглашённого оратора — о «громадных еврейских банках и миллиардерах, таких как Морган (Америка) и Ротшильд (Англия), которые образовали секретное общество». Оратор заявил, что «завещание Моргана ясно показывает его убеждение в том, что Германия должна быть уничтожена, чтобы Америка оставалась конкурентоспособной».
Как результат растущей популярности и известности Гитлера, NSDAP начала привлекать внимание за пределами Мюнхена — возникла ситуация, которую он пытался использовать. В 1920 году он выступал общим числом одиннадцать раз в местах за пределами городских границ, но всё же внутри орбиты Мюнхена, в попытке усилить заметность партии в регионе и способствовать установлению отделений партии за пределами столицы Баварии. Делая это, Гитлер, по сути, стал разъездным «агентом по продажам» для партии.
Первое отделение NSDAP за пределами Мюнхена было основано в близлежащем Розенхайме. 18 апреля 1920 года Теодор Лаубок, местный старший служащий национальной железнодорожной компании, Reichsbahn, основал местное отделение NSDAP, включавшее изначально четырнадцать членов. Как было и в случае с исходной ячейкой DAP в Мюнхене, железнодорожники доминировали в партии в Розенхайме. Гитлер и Лаубок сразу же поладили друг с другом. Гитлер теперь часто приезжал в Розенхайм, чтобы навестить Лаубока, его жену Дору и их сыновей, или же Лаубоки приезжали в Мюнхен и встречались с Гитлером в одном из пивных залов города. Из своих поездок Гитлер посылал им открытки.
Единственный раз, когда Гитлер выступал вдали от дома в первой половине 1920 года, это когда он был приглашённым оратором на митинге Немецкой Народной Федерации Защиты и Сопротивления (German Völkisch Protection and Defiance Federation) в Штутгарте 7 мая. Однако во второй половине 1920 года он начал регулярно обращаться к слушателям за пределами Южной Баварии. Например, он пересёк южную границу Германии из-за национальной выборной кампании в Австрии. Во время этой поездки, которая длилась с 29 сентября по 9 октября, Гитлер произнес общим числом четыре речи по следам кампании. В электоральном смысле поездка в страну его рождения была полным провалом: только 24 015 человек во всей Австрии голосовали за национал-социалистов. Во время поездки и в течение последующих визитов в Австрию в следующие годы Гитлер сблизился с вождём австрийских национал-социалистов Вальтером Риэлем. Хотя Риэль впоследствии заявлял, что сыграл роль Иоанна Крестителя для мессии Гитлера, трудно видеть, как он мог бы осуществлять какое-либо существенное влияние на Гитлера во время коротких и редких поездок того в Австрию.
Заключительная часть ораторского тура Гитлера в Австрию привела его в Вену, город, который он будет ненавидеть до конца своей жизни как место его величайших унижений. Находясь там, он решил, что может также воспользоваться случаем для посещения человека, которого он не видел много лет. Он пришёл к маленькой квартире и позвонил.
Когда обитательница квартиры, двадцатичетырёхлетняя незамужняя женщина с черными стянутыми в узел волосами, работавшая клерком в публичной страховой компании, открыла дверь, она не сразу узнала стоявшего перед ней человека. Она не видела его в течение долгих двенадцати лет, с тех пор как её мать умерла от рака груди, когда она была ещё ребёнком. Так что ей потребовалось какое-то время, чтобы понять, что незнакомец у её двери — это её брат Адольф. «Я была настолько удивлена, что просто стояла и смотрела на него», — будет позже вспоминать Паула Гитлер об этом моменте.
Так же, как и для её брата, формирование личных взаимоотношений с другими людьми не было лёгким для Паулы. Брат и сестра схожим образом провели много лет как одиночки. Однако в отличие от Адольфа она старалась поддерживать с ним контакт. Раньше, в 1910 и в 1911 годах, она писала ему в Вену несколько раз, но никогда не получала ответа. К 1920 году Паула даже не знала, жив ли он ещё. Так что при его неожиданном возвращении у неё были смешанные эмоции. «Я сказала ему, что мне было бы легче, если бы у меня был брат», — вспоминала она позже об этой встрече. Однако Гитлер сумел очаровать свою маленькую сестру, говоря ей: «Но у меня самого ничего не было. Как я мог бы помогать тебе?» И затем повёл её по торговым местам Вены, покупая ей новое облачение. В конце концов, её чувства были отметены в сторону в видах перспективы не быть больше одинокой старой девой: «Мой брат был почти подарком небес. Я привыкла быть совсем одной в мире». Во время своего визита в Вену Гитлер также встретился со своей сводной сестрой Ангелой, которая в то время была управляющей кафетерия еврейского студенческого сообщества в Венском университете.
Вера Паулы в то, что она, наконец, снова обрела своего брата, станет правдой только частично. Гитлер будет поддерживать контакт с ней в последующие годы, но этих контактов будет мало, и они будут редкими. Много лет спустя, в 1957 году, Паула скажет об отношении Адольфа к ней и к их сводной сестре в годы между 1920 и смертью Гитлера в 1945 году следующее: «В его глазах мы, сёстры, слишком завидовали своему брату. Он предпочитал окружать себя незнакомцами, которым он мог платить за их услуги».
Ещё меньший интерес, чем к сестрам, Адольф Гитлер проявлял к своему сводному брату Алоизу. Алоиз эмигрировал в Англию перед войной и женился на ирландке, родившей ему сына. (Этот его сын, племянник Гитлера Вильям, в 1930-х угрожал Гитлеру раскрыть секреты их семьи). Затем Алоиз покинуть их. Он переехал в Германию и женился снова, фактически став многожёнцем. Тюремное дело Гитлера из крепости Ландсберг, куда он будет заточён после провалившегося путча в ноябре 1923 года, наводит на мысль, что он даже не допускал существование своего сводного брата, поскольку в деле упоминаются только его сёстры в Вене.
В 1921 году, через год после посещения Адольфом своих сестёр в Вене, Алоиз, не видевший его более двадцати лет, прочтёт о нём в газетах. Хетте, его вторая жена, станет убеждать его связаться со своим сводным братом. В конце концов Алоиз сдастся, написав в городское регистрационное бюро в Мюнхене, попросив дать ему адрес Адольфа и послав тому письмо. Однако Адольф не ответит ему непосредственно, вместо этого попросив свою сводную сестру Ангелу ответить Алоизу по его поручению. Он явно не имел интереса к своему сводному брату.
Отношения Гитлера с его сёстрами и братом выявляют, кем он был. Это раскрывает и его личность, и генезис его политических идей. Единственными членами семьи, к кому он будет какое-то время проявлять неподдельный интерес, будут Ангела и, в весьма нездоровом стиле, её дочь Гели.
Причины, лежащие за недостатком у Гитлера интереса к большинству членов его семьи и его неспособность формировать долгосрочные отношения, следует искать в мире психологии и в его ментальном характере. Каково бы ни было их происхождение, они указывают на суть его личности. И всё же, несмотря на его неспособность создавать длительные искренние взаимоотношения с другими людьми, он был социальным животным. Хотя он и был одиночкой в различные периоды в своей жизни, он никогда не был отшельником. Его стиль поведения в течение многих лет показывает человека, который нуждается в людях вокруг себя, равно как и в их одобрении.
Гитлер был человеком, находящимся в постоянном поиске новой суррогатной семьи и человеческой компании. Люди, знавшие его хорошо, будут рассказывать разведке США в 1940-х годах: «Он ложится спать как можно позже, и когда его последние друзья покидают его уставшими в два или в три часа утра, а то и позже, то это выглядит как будто бы он боится быть один». Однако трагедия Гитлера состояла в том, что он мог функционировать только в вертикальных, иерархических отношениях — как ведомый, что он делал в полковом штабе своей воинской части во время войны, или на верхушке иерархии. Он был неспособен к горизонтальным человеческим взаимодействиям, то есть среди равных ему. Подобным же образом он был неспособен поддерживать межличностные близкие отношения в течение длительных периодов времени.
Его неспособность формировать горизонтальные взаимоотношения и поддерживать близкие человеческие отношения, соединенные с его потребностью в одобрении и в социальных контактах, имели непосредственное влияние на его стиль руководства. Это делало невозможным какое бы то ни было совместное обсуждение, направленное на исследуемые политические вызовы и на решение проблем государственного управления. Так же, как Гитлер не хотел вступать в дискуссию со своими слушателями после окончания его речи, он будет не хотеть заниматься (и будет неспособен это принять) политикой как искусством компромисса и заключения сделок. Единственным видом политики, к которой он был способен, была политика представления, с ним как главным действующим лицом.
Категорическое нежелание Гитлера и неспособность его к компромиссу были не только выражены в его личном поведении, но также стали заклинанием его речей. Например, 27 апреля он сказал среди «громких аплодисментов» на митинге NSDAP тем вечером в Хофбройхаус: «Пришло время, наконец, начать сражение против этой расы. Тут не может быть более компромиссов, потому что это будет фатально для нас самих».
Сектантский политический стиль Гитлера, в соответствии с которым каждый истинный компромисс был мерзким делом, был не только выражением его радикальных политических взглядов. Это было также отражением его личности, поскольку любой компромисс, который не просто тактический по своей природе, должен быть основан на принятии противоположной стороны как равной, что Гитлер делать был неспособен. Так что на политической арене он будет способен действовать только как вождь сектантской группы, стоящей за пределами конституционного политического процесса или как диктатор в пределах формальной структуры.
Причина, по которой семейная подоплёка Гитлера проливает свет на происхождение его политических идей, состоит в том, что четверо братьев и сестёр Гитлер проявляли чрезвычайно различные предпочтения, политические и прочие. При таких обстоятельствах политизация и радикализация Гитлера, возможно, не могли не быть почти неминуемым результатом его воспитания в семействе Гитлер. Во-первых, его две сестры приняли Вену, в то время как его нелюбовь к космополитичному городу Габсбургов была и личной, и политической. Паула, в частности, будет любить Вену всю её жизнь. Более важно то, что Паула была преданной католичкой и будет глубоко религиозна до конца своей жизни, в то время как Адольф вероятно порвал с религией к тому времени, как он занялся политикой. Более того, в 1920 году, в отличие от своей сводной сестры Ангелы, он был бы наиболее невероятным кандидатом для управляения еврейским студенческим рестораном. Вдобавок его сводный брат Алоиз был сторонником монархии Габсбургов, в то время как начальной точкой политического развития Адольфа было страстное отрицание империи Габсбургов.
Так что братья и сёстры Гитлер не вели параллельных жизней в развитии своих политических убеждений. Существовал только очень непрямой путь от воспитания Гитлера к политику-в-процессе-создания образца 1920 года. Что делает ясным его отношения с братом и сёстрами, так это то, что в отличие от столь многих других поднявшихся во власть или ставших диктаторами, в случае Гитлера непотизм[10] не стал играть заметную роль.
В декабре 1920 года Гитлер мог оглянуться на двенадцать месяцев, что вывели его и DAP/NSDAP из безвестности и катапультировали его к местной славе. В начале года он был некто, кто уже был достаточно силён, чтобы вытолкнуть из партии её председателя. Однако он всё ещё был в очень большой степени младшим у Антона Дрекслера. Теперь, к концу года, он, не Дрекслер, был звездой партии. NSDAP всё более выглядела как его партия, чем Дрекслера.
Хотя Гитлер продолжал настаивать, что он был только пропагандистом партии, его оттеснение на второй план Карла Майра, и, что более важно, его воззвание к гению и диктатору для спасения Германии наводят на мысль, что он был неискренен в утверждении, что лишь призывал кого-то другого. Поскольку он определённо не призывал или не продвигал какую-либо из известных фигур, остаются варианты, что либо он уже видел себя в качестве этого гения, либо вскоре придёт к выводу, что сам соответствует запросу.
Говорили, что к концу 1920 года Дрекслер уже делал Гитлеру предложение поста председателя партии, которое он отверг. Если это правда, то его отказ не следует рассматривать как поддержку той идеи, что Гитлер сам видел себя только пропагандистом для кого-то ещё и что у него не было собственных амбиций. Если бы он принял председательство в партии в то время, то был бы на коротком поводке исполнительного комитета партии. Ни стиль руководства гения, ни личность Гитлера не допускали командной работы, особенно в комитете, где некоторые члены испытывали — как это станет очевидным в 1921 году — серьёзные опасения относительно его личных качеств и идей управления. Если председательство в партии действительно предлагалось ему, то это должно было представиться Гитлеру как чаша с ядом. Чтобы стать вождём типа гения, каким его личность стремилась быть, он должен был ждать возникновения такой ситуации, что позволит ему стать вождём на его собственных условиях.
Глава 9. Поворот Гитлера на Восток
16 декабря 1920 года у Гитлера были гораздо более неотложные проблемы, чем раздумывать о том, как лучше всего иметь дела со своими сестрами и братом, или как планировать будущее Национал-социалистической Немецкой Рабочей партии (NSDAP) в долгосрочной перспективе. Поздно тем вечером Гитлер, Германн Эссер и Оскар Корнер, будущий заместитель председателя партии, узнали, что была неминуема продажа графу Карлу фон Ботмеру и его партнёрам газеты Völkischer Beobachter («Народный наблюдатель»), как к тому времени называлась Münchener Beobachter («Мюнхенский наблюдатель») Рудольфа фон Себоттендорфа. Это, безусловно, были плохие новости для NSDAP.
Себоттендорф, бывший председатель Общества Туле, отчаянно старался какое-то время продать газету и её издательский дом, Eher Verlag, который был в больших убытках. К лету 1920 года дела дошли до того, что бывший председатель глубоко антисемитского общества даже пытался продать газету Центральной Ассоциации Немецких Граждан Иудейской веры.
Пока газета всё ещё была в руках Себоттендорфа и его партнёров, это был де-факто орган Немецкой Социалистической партии (DSP), но она была также благожелательно предрасположена к другим националистическим («völkisch») партиям. Эта ситуация не была идеальной для NSDAP, поскольку партия тогда концентрировалась на попытках победить радикальных правых Мюнхена, но газета по меньшей мере обеспечивала её позитивным освещением. Если, однако, Völkischer Beobachter была бы забрана Ботмером, который также вёл пропагандистские курсы Гитлера в 1919 году, то она стала бы органом баварских сепаратистов. Она, следовательно, не станет более поддерживать NSDAP и, скорее всего, станет нападать на неё.
Следующие двадцать четыре часа продемонстрировали исключительный талант Гитлера разрешить совершенно неожиданным способом кризис, который он не предвидел, и выйти из него более сильным и победоносным. Вечером 16 декабря NSDAP не владела газетой; она стояла перед угрозой того, что наиболее симпатизирующая партии городская газета обернётся против них; и у неё определённо не было средств для покупки газеты. К следующему вечеру партия Гитлера станет владеть своей собственной, выходящей дважды в неделю газетой, и, таким образом, у неё будет свой собственный рупор, который сделает гораздо более лёгким делом для NSDAP быть услышанной и извлечь выгоду из любой будущей консолидации на радикальном правом фланге в Мюнхене.
Ночью 17 декабря Гитлер, Эссер и Корнер спешили через город в западную часть Мюнхена, чтобы увидеться с Антоном Дрекслером, председателем NSDAP. Они прибыли к его квартире в 2:00 после полуночи. В течение следующих нескольких часов они разрабатывали планы, как взять контроль над Völkischer Beobachter. Затем, пока на улице всё ещё было темно, четверо направились на север по узким улицам округи рабочего класса, где жил Дрекслер, в сторону элегантных улиц Нимфенбурга, где они разбудили раздражённого Дитриха Экарта и заставили его подняться с постели в 7:00 утра.
Как только Экарт понял, почему Дрекслер, Гитлер, Эссер и Корнер стояли у его порога, он мгновенно приступил к действиям. Партия должна была достать 120 000 марок к полудню, чтобы быть способной перебить Ботмера в покупке Völkischer Beobachter. Но у партии не было состоятельных доноров, к которым можно было бы обратиться. Единственным жившим в Мюнхене человеком, желавшим пожертвовать деньги NSDAP для покупки газеты, был Вильгельм Гутберлет, доктор и протестантский мигрант из сельской местности северного Гессена, который вступил в партию в предыдущем месяце. У него был вклад в бумагах на 10 000 марок, и в октябре он предлагал Дрекслеру половину имевшегося у него вклада даром.
Единственный способ для NSDAP быстро изыскать необходимые деньги был следующий: заложить Экарту его собственность и имущество, что обеспечит половину суммы, и обратиться к своему другу Готфриду Гранделю в Аугсбурге за займом на оставшееся. Обращение в банк за займом, похоже, не рассматривалось как жизнеспособное решение, возможно потому, что никакой банковский заём не мог быть получен так быстро. Более того, для группы людей, одержимых идеей неприятия процентного рабства, стать должником банка не было бы наиболее желательным выбором. Дрекслер и Экарт затем отправились на встречу с генералом Францем Риттером фон Эпп. Генерал весной 1919 года основал свою собственную милицию, «Добровольческий корпус Эпп» (Freikorps Epp), который был одним из наиболее жестоких среди «белых» сил, положивших конец Мюнхенской Советской республике. Впоследствии соединение Эппа было включено в рейхсвер в Мюнхене, где он представлял реакционную часть политического спектра.
Обращение к Эппу оказалось успешным: Дрекслер и Экарт получили заём в 60 000 марок из фондов рейхсвера, доступных Эппу, обеспеченных собственностью и имуществом Экарта в качестве залога. Не сохранилось никаких записей их разговора, но похоже, что точка зрения Дрекслера и Экарта была сфокусирована более на сохранении Völkischer Beobachter от попадания в руки сепаратистов, чем на создании позитивного обстоятельства для NSDAP.
Гитлер между тем поспешил на поезде в Швабию разыскать Гранделя, который владел химическим заводом в Аугсбурге и который в августе основал отделение NSDAP в городе. Гитлер быстро вернулся с гарантией займа в кармане на оставшуюся сумму денег для покупки газеты.
С возвращением Гитлера в Мюнхен всё было готово для покупки Völkischer Beobachter. В офисе нотариуса сделка была заключена. В результате способности Гитлера быстро соображать в предыдущий вечер и стремительно реагировать на новые ситуации NSDAP, или, если быть более точным, Национал-Социалистическая Ассоциация Рабочих, теперь владела своей новой газетой и была в выигрышном положении, чтобы стать ведущей группой среди радикальных правых в Мюнхене.
Как показывает та трудность, с которой встретились старшие члены NSDAP при быстром поиске денег, двери в верхние слои Мюнхена всё ещё оставались закрытыми для Гитлера. Только однажды в 1920 году ему удалось получить доступ в городской истэблишмент, благодаря своему интересу к искусству, не к политике. Его интерес к оперному сценическому дизайну обеспечил ему приглашение на виллу Клеменса фон Франкенштайна, бывшего главного администратора Мюнхенского Королевского театра. Однако, как вспоминал его друг Фридрих Рек, Франкенштайн через некоторое время пожалел о своём приглашении Гитлера.
Когда Рек, сын прусского консервативного политика, который поселился в Мюнхене, прибыл на виллу Франкенштайна, слуга сообщил ему, что кто-то прорвался часом ранее. Рек вошёл в комнату с мраморными стенами, наполненную гобеленами, где собрались люди, и обнаружил, что кто-то — это Адольф Гитлер. «Он пришёл в дом, где никогда не был раньше, одетый в гетры, мягкую широкополую шляпу и держа в руке хлыст для верховой езды, — записал Рек в своём дневнике об этом случае. — Ещё там была колли». Гитлер выглядел совершенно неуместно. Он напоминал «ковбоя, сидящего на ступенях барочного алтаря в кожаных бриджах, шпорах и с кольтом на боку». По словам Река, «Гитлер сидел там, представляя собой стереотип метрдотеля — в то время он был более худой и выглядел несколько голодающим — одновременно и под впечатлением, и скованный присутствием настоящего, живого господина барона; благоговеющий, не осмеливающийся полностью усесться в своём кресле, но примостившийся более или менее на краешке своими худыми чреслами; не беспокоящийся вовсе, что в сказанных ему хозяином вещах было изрядно невозмутимой и элегантной иронии, но нетерпеливо хватающийся за слова, подобно как собака бросается за кусками сырого мяса». При этом Гитлер постоянно стегал «свои ботинки хлыстом для верховой езды».
Затем Гитлер приступил к действиям. Он разразился «речью. Он говорил и говорил, бесконечно. Он проповедовал. Он втолковывал нам как дивизионный капеллан в армии. Мы ни в коей мере не противоречили ему и не вступали в дискуссии каким бы то ни было образом, но он начал кричать на нас. Слуги подумали, что на нас напали, и вбежали защищать нас».
Нисколько не удивительно, что автор дневника не был очарован Гитлером, поскольку Рек и его еврейская любовница тогда жили вместе. Все остальные присутствовавшие также не чувствовали себя в восторге от присутствия Гитлера. «Когда он ушёл, — писал Рек, — мы сидели тихо, смущённые и вовсе не позабавленные. Было чувство смятения, подобно тому, как в поезде вы неожиданно обнаруживаете, что разделяете купе с больным психозом. Мы долго сидели, и никто не говорил. Наконец, Кле [т. е. Клеменс фон Франкенштайн] встал, открыл одно из огромных окон и впустил в комнату весенний воздух, теплый от южного ветра. Не то чтобы наш зловещий гость был нечистым и испортил воздух в комнате так, как это столь часто случается в баварской деревне. Но свежий воздух помог изгнать чувство подавленности. Не то чтобы в комнате побывало нечистое тело, но нечто другое: нечистая сущность чудовищности».
Даже хотя в 1920 году правившие Баварией создали условия, позволившие Гитлеру и NSDAP преуспевать, социальный мир богатых и влиятельных в то время оставался недостижимым для Гитлера. Как выражает поведение Гитлера в доме Франкенштайна, он был неподходящим в обществе верхнего класса Мюнхена и не смог войти в контакт с членами городского истеблишмента. Их нежелание открыть свои двери Гитлеру создало огромную финансовую проблему для него и для партии. Хотя NSDAP удалось приобрести газету Völkischer Beobachter, финансовые проблемы партии не прекратились. Когда речь шла о получении щедрых пожертвований, Мюнхен продолжал оставаться запретной территорией для Гитлера и NSDAP.
Во всяком случае, финансовые заботы партии увеличились. Она не только должна была найти деньги для оплаты займов, полученных для покупки газеты и Издательства «Эер», она также была теперь обязана оплачивать огромные долги, которые накопил издательский дом перед своей продажей. И она должна была находить деньги для ежедневной работы партии и поддержки Гитлера на плаву.
В последующие месяцы NSDAP добудет большинство своих денег в форме пожертвований по 10 марок от своих рядовых членов. Однако к досаде Готтфрида Гранделя она никогда не получит достаточно денег, чтобы вернуть ему заём. Летом 1921 года Рудольф Гесс всё ещё должен будет говорить своей кузине Милли, что в то время как члены партии с чрезвычайно ограниченными средствами были щедры в пожертвованиях денег для NSDAP, партия совершенно потерпела неудачу в получении больших пожертвований. На некоторое время Гитлер сам часто должен был полагаться финансово и материально на добрую волю людей с ограниченными средствами, таких как Анна Швайер, его соседка, у которой была лавка овощей и фруктов на Тирштрассе, или как его сосед Отто Гар и его жена, Каролина, которые регулярно снабжали его яйцами.
После покупки Völkischer Beobachter Гитлер и Экарт определённо ходатайствовали о поддержке у состоятельных лиц. Однако в Мюнхене эти двое просто не смогли пойти далеко. По свидетельству Германна Эссера, Адольфа Дреслера, который вступил в NSDAP в 1921 году, и женщины, работавшей в штаб-квартире партии, NSDAP получала существенную финансовую поддержку в Южной Баварии в свои начальные годы только от небольшого числа лиц, главным образом от доктора, издателя, бизнесмена и зубного врача. Предположительно, врачом был Вильгельм Гутберлет, протестантский мигрант из северного Гессена; бизнесменом, похоже, был Готтфрид Грандель из Аугсбурга; издателем, почти определённо, был Юлиус Фридрих Леманн, в то время как зубным врачом был Фридрих Крон, прежде живший в Эльзасе и в Швейцарии, и переехавший в Южную Баварию только в 1917 году. Впоследствии, фройляйн Доэрнберг, о которой известно только то, что она была другом мюнхенского врача-женщины; балтийская баронесса, жившая в Мюнхене (наиболее вероятно, вдова Фридриха Вильгельма фон Зайдлиц, бывшего одним из членов Общества Туле, казнённых в последние дни существования Советской республики); и кузен Дитриха Экарта, живший за пределами Мюнхена, который тоже щедро давал деньги партии. Гитлер также должен был полагаться на добрую волю Йоханнеса Дингфельдера, врача, который был главным оратором в тот вечер, когда партия объявила свою платформу, и на господина Фолль, владельца магазина канцелярских принадлежностей в Мюнхене. Партия часто была настолько без средств, что господин Фолль ходил из дома в дом по своим друзьям и знакомым с просьбой о пожертвованиях, пока Гитлер ждал в квартире своего благодетеля до поздней ночи, надеясь, что Фолль вернётся с достаточным количеством денег для выпуска следующего номера газеты Völkischer Beobachter.
Так как в Мюнхене деньги было трудно достать, вскоре после приобретения Völkischer Beobachter Экарт и Гитлер снова отправились в Берлин. Будучи в столице Германии перед войной, Экарт имел там гораздо лучшие связи, чем в Мюнхене. В Берлине, в отличие от баварской столицы, он мог открывать двери в дома некоторых из богатых и могущественных. В последующие месяцы и годы он и Гитлер станут возвращаться в Берлин довольно часто для продолжения добывания таких денег, какие они не были способны получить в Мюнхене. Эти двое, похоже, были особенно успешны в этих стараниях со старшими лицами одной из ведущих ультранационалистических организаций Германии, Пангерманской Лигой. Более того, в 1923 году они получат крупное пожертвование от Рихарда Франка, берлинского торговца кофе.
Во время одного из своих первых визитов в Берлин Экарт представил Гитлера Хелене и Эдвину Бехштайн, владельцам производства пианино под тем же именем. Эти симпатизировавшие пангерманизму люди станут двумя наиболее лояльными сторонниками Гитлера в последующие годы. Это через них он получил свой первый доступ в общество верхнего класса. Каждый раз, как он будет ездить в Берлин, он станет навещать Бехштайнов в их элегантной вилле восемнадцатого века в районе Берлин-Митте. С ними, и с Хеленой в особенности, он разговаривал не только о политике. За чаем они станут разговаривать о своей общей любви к Вагнеру и о жизни в общем. Со временем Хелена начнёт обращаться с Гитлером скорее как с сыном, нежели как с политическим посетителем. В 1924 году она на самом деле скажет полиции: «Я хотела бы, чтобы Гитлер был моим сыном». Даже хотя политика редко была в центре их разговоров, Бехштайны снова и снова станут открывать свои «сундуки», чтобы дать деньги партии и Гитлеру лично.
По возвращении в Мюнхен Экарт продолжал знакомить Гитлера с людьми, которые как он полагал, будут иметь интерес для него. Однако в отличие от Берлина, те, кому Экарт представлял Гитлера в Мюнхене, были преобладающим образом из городских консервативных кругов людей искусства. Например, Экарт свёл вместе Гитлера и фотографа Хайнриха Хоффманна, который сделал ту фотографию на похоронах Айснера, на которой мог быть изображён Гитлер. Нельзя установить, познакомил ли Экарт Хоффмана и Гитлера уже ранее или же только в 1923 году. Как бы там ни было, в 1923 году двое начнут очень сближаться, настолько, что это в ателье Хоффманна Гитлер впервые встретил Еву Браун, свою любовницу и будущую жену, которая работала у Хоффманна. Одной из многих вещей, что были общими для этих двоих, было то, что каждый хотел служить хозяевам по обеим сторонам политического водораздела. Многие фотографии, на которых Хоффманн снял Айснера и других революционных вождей, составили книгу по названием «Год баварской революции в иллюстрациях» (Ein Jahr bayerische Revolution im Bilde), изданную в 1919 году тиражом 120 000 экземпляров.
Поскольку к 1921 году Гитлер со своим обаянием не смог попасть в дома богатых и влиятельных людей в столице Баварии, его путь к успеху станет проходить в стороне от салонов высшего общества Мюнхена, вместо этого пролегая через наполненные дымом пивные залы и рестораны города. А с газетой Völkischer Beobachter, NSDAP теперь могла нести своё послание прямо в дома своих сторонников.
Одним из немедленных изменений, видимых в линии, взятой Völkischer Beobachter после того, как она стала официальной, выходящей дважды в неделю газетой NSDAP, был её подход к турецким делам. Прежде она не проявляла много интереса к Малой Азии. Во всяком случае, она сообщала в негативном ключе о состоянии дел в Анатолии, даже хотя (или потому, что) её предыдущий владелец, Рудольф фон Себоттендорф, был гражданином Оттоманской империи. С покупкой газеты NSDAP всё это изменилось мгновенно, и Турция стала такой же заметной темой, какой она уже была в газетах и журналах по всему политическому спектру Германии.
Турецкие дела весьма занимали умы немцев после Первой мировой войны. Хотя либеральное и левое общественное мнение горячо обсуждало судьбу армян в руках оттоманских властей во время войны, что в результате привело к 1,5 миллионам смертей, Турция имела важное значение для правых по другой причине: они восхищались и черпали вдохновение из отказа Турции принять карательные условия Севрского договора (мирного договора между державами-победительницами в Первой мировой войне и Оттоманской империей), поскольку они рассматривали его как имеющий тот же характер, что и Версальский договор. Они также восхищались неповиновением, проявляемым новым лидером Турции, Мустафой Кемалем Ататюрком, и его поднимающимся политическим движением против оккупации Турции союзниками, и пропагандировали, что немцам следует брать вдохновение у Ататюрка, как наилучшим образом реагировать на державы-победительницы Первой мировой войны.
Теперь, когда NSDAP владела Völkischer Beobachter, газета начала прославлять «героизм» Турции и представлять страну как ролевую модель противостояния державам-победительницам в Первой мировой войне и как устанавливающую государство, у которого немцы многому могут научиться. Например, 6 февраля 1921 года газета заявляла: «Сегодня турки являются наиболее молодой нацией. У немецкой нации однажды не будет иного выбора, кроме как обратиться к турецким методам с таким же успехом».
Турция интересовала ранних национал-социалистов не только из-за действий Кемаля после войны, но также потому, что поразительное число людей, вращавшихся в орбите партии — включая прежнего отеческого наставника Гитлера, Карла Майра, и Рудольфа фон Себоттендорфа — недавно подвергались прямому турецкому воздействию. Самым старшим из первых национал-социалистов с непосредственным опытом в Малой Азии был Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, который служил вице-консулом Германии в Эрзеруме в восточной Анатолии во время войны. Служа в Эрзеруме, он был свидетелем этнической чистки армян с геноцидными последствиями. Он был настолько шокирован тем, чему был свидетелем, что посылал срочные телеграммы в посольство Германии в Константинополе в надежде повернуть вспять анти-армянскую политику.
Через пять лет после свидетельствования ужасного положения армян Шойбнер-Рихтер был представлен Гитлеру. Вскоре после их первой встречи в конце 1920 года они стали близки. В конечном счете, Шойбнер-Рихтер станет, возможно, наиболее важным советником Гитлера по политике в иностранных делах. Даже хотя он появился на сцене примерно в то же время, когда партия приобрела Völkischer Beobachter и начала представлять Турцию как источник вдохновения для Германии, собственный отрицательный опыт Шойбнер-Рихтера в Эрзеруме делает его маловероятным источником восхищения, проявляемого ранними национал-социалистами по отношению к Турции. Вместо этого он был гораздо более важен в консультациях Гитлера по русским делам, когда взгляд того обратился на Восток в 1920 и 1921 годах.
Поглощённость Шойбнер-Рихтера русскими делами была личностной. Родившийся как Макс Эрвин Рихтер в Риге за пять лет до рождения Гитлера, он вырос среди балтийских немцев в то время, когда этнические немцы доминировали в верхних эшелонах военной и гражданской службы Российской империи. Его опыт взросления как балтийского немца в царской империи во времена увеличивавшихся социальных и политических волнений станет доминировать в его жизни и над его действиями до его последнего часа. В этом будущий советник Гитлера по международной политике был типичным продуктом балтийских провинций бывшей царской империи. Однако за пределами этого в Максе Рихтере было мало чего типичного. В действительности, после его внешнего вида — он был почти лыс и носил усы — в советнике Гитлера по международной политике не было ничего обычного.
В 1905 году Рихтер сражался в подразделении казаков против революционеров во время Русской революции того года. Вскоре после этого он иммигрировал в Германию, поселившись в Мюнхене в 1910 году. Спустя год, в 1911, Макс Эрвин Рихтер превратился в Макса Эрвина фон Шойбнер-Рихтера, когда он женился на аристократке старше его более, чем в два раза, Матильде фон Шойбнер. Для того, чтобы получить её имя и самому стать аристократом, он должен был в 1912 году устроить своё легальное усыновление тёткой жены. Во время Первой мировой войны Шойбнер-Рихтер вступил добровольцем в армию Баварии, точно как и Гитлер. После службы на Западном фронте он был переведён в Оттоманскую империю, где его использовали как вице-консула в Эрзеруме, хотя он и не был дипломатом.
Впоследствии, после секретной миссии на лошадях в Месопотамию и Персию и короткой службы в качестве офицера разведки на Западном фронте, Шойбнер-Рихтер был отправлен политическим отделом Главного штаба армии со специальной миссией в Стокгольм, чтобы наладить контакты с антибольшевистскими группами в царской империи. Его работа для Главного штаба армии свела его с возможно наиболее могущественным человеком в Германии после кайзера Вильгельма, генералом Эрихом Людендорфом, который сделал Шойбнер-Рихтера своим протеже. К концу войны Шойбнер-Рихтеру была поставлена задача основать антибольшевистскую секретную службу в оккупированной немцами Балтике. В начале 1919 года его жизнь чуть было не прервалась преждевременно, когда силы большевиков арестовали его в Латвии во время гражданской войны, которая шла в регионе, и революционный трибунал приговорил его к смерти. Только вследствие давления, оказанного министерством иностранных дел Германии на вождей латвийских большевиков, смертный приговор не был исполнен и ему было разрешено вернуться в Германию. Шойбнер-Рихтер затем обосновался в Берлине, вращаясь в völkisch [националистических] кругах, равно как и среди балтийских немцев и в «белых» русских эмигрантских кругах, и принял участие в капповском путче.
После того, как путч провалился, Шойбнер-Рихтер, равно как и многие другие балтийские немцы и «белые» русские эмигранты, многие из которых были аристократами, бывшими чиновниками высокого ранга и офицерами, присоединился к исходу в Баварию, где баварское правительство под предводительством Густава фон Кара обеспечило им убежище. Мюнхен теперь стал центром монархистских эмигрантов в Германии. На своём пике в 1921 году «белое» эмигрантское население в Мюнхене насчитывало 1105 человек. Число балтийских немцев-эмигрантов, товарищей Шойбнер-Рихтера, также быстро увеличивалось. К 1923 году приблизительно для 530 балтийских немцев Мюнхен стал приютившим их домом.
В столице Баварии Шойбнер-Рихтер усилил свою деятельность, направленную на восстановление монархии в России и Германии. С середины июня до конца октября 1920 года он возглавлял миссию на Крымский полуостров в ошибочной уверенности, что «белые» войска всё ещё на подъёме в регионе. К концу октября он был снова в Мюнхене. Там он сблизился с членами своего студенческого братства в Риге, «Рубениа», которые, как он, иммигрировали в столицу Баварии. Одним из них был Альфред Розенберг, который к тому времени вступил в NSDAP и получил в ней известность, и который должен будет стать одним из ведущих идеологов партии. Это Розенберг представил Шойбнер-Рихтера Гитлеру в ноябре 1920 года.
Вскоре после их первой встречи Шойбнер-Рихтер посетил выступление Гитлера. Впечатлённый и речью, и их встречей, балтийский немецкий искатель приключений вскоре после этого вступил в партию и начал консультировать Гитлера в то самое время, когда всё чаще Гитлер стал говорить о России. Однако влияние Шойбнер-Рихтера на него всё ещё было в будущем, и он не был ответственен за начальный поворот Гитлера к Востоку. В действительности речи Гитлера уже были полны упоминаний о России к тому времени, когда Шойбнер-Рихтер впервые посетил какую-то из них. Например, 19 ноября 1920 года Гитлер заявил, что Советский Союз[11] неспособен накормить даже свой народ, несмотря на то, что это аграрное государство, «до тех пор, пока большевики правят по указке евреев». Он говорил своим слушателям, что Москва, Вена и Берлин все были под еврейским контролем, заключая, что преобразование не произойдёт ни в одном из этих мест, поскольку евреи были слугами международного капитала.
Растущий интерес Гитлера к Востоку тогда какое-то время развивался. Например, в соответствии с докладом полиции, в своей речи 17 апреля 1920 года в Хофбройхаус он «сообщал о России, которая была разрушена экономически, о 12-часовом рабочем дне там, о еврейском кнуте, о массовых убийствах интеллигенции и т. д., за что был вознаграждён сильными аплодисментами». К середине 1920-х Гитлер начнёт рассматривать Россию как естественного союзника Германии против власти англо-американского мира. Будучи глубоко анти-западным, но ещё не анти-восточным, он говорил своим слушателям 21 июля 1920 года: «Наше спасение никогда не придёт с Запада. Нам следует добиваться альянса [немецкий термин Allianz обозначает в действительности нечто даже более сильное, чем английское слово alliance] с националистической, антисемитской Россией. Не с Советами […] это там, где правят евреи […]. Московский Интернационал не поддержит нас. Скорее, он поработит нас навечно». Неделей позже он поднял тему возможности альянса с Россией, «если иудаизм будет свергнут [там]».
Речи Гитлера теперь выказывали растущий интерес не только к Востоку, но также к антибольшевистскому антисемитизму. Однако в отличие от, например, принца Георга Баварского и мюнхенского архиепископа Михаэля фон Фаульхабера, он не побуждался в первую очередь страхом большевистского вторжения. Его растущий интерес к России был совершенно иной природы. Он подпитывался геополитическими соображениями, относящимися к начальной политизации и радикализации Гитлера, равно как и его целью создания Германии, которая станет достаточно сильна внутренне и внешне, чтобы устойчиво выживать в быстро меняющемся мире. Смещение его интересов было не от озабоченности антикапиталистическим антисемитизмом в сторону антисемитизма антибольшевистского. Скорее, это было от смещения фокуса с национальной экономики, как ключевого вопроса реформирования Германии, на геополитические соображения.
В соответствии с его размышлениями, должно быть «слияние» (Anschluss) с Россией, потому что Гитлер в то время думал, что Германия не выживет сама по себе. Он делал вывод: чтобы быть достаточно сильными и иметь одинаково устойчивое положение с Британией и Америкой — т. е. с «абсолютными» врагами Германии — Германия и Россия должны стать союзниками и партнёрами. Основная озабоченность Гитлера была связана с англо-американской властью, не с большевистской. Однако на данный момент решение Гитлера по созданию Германии, которая будет столь же сильна, как и наиболее сильные империи мира, не было связано с захватом новых территорий. Его целью было не приобрести Lebensraum, «жизненное пространство», а объединить силы с Россией.
Подтекстом заявления Гитлера в его речи 21 июля 1920 года было то, что с помощью постоянного и длительного союза с Россией Германия получит безопасные восточные границы; она будет иметь доступ к пищевым и природным ресурсам от Рейна до Тихого океана; и что совместная военная, политическая и экономическая мощь в объединённых России и Германии была бы такой, что она станет на равных с Британской империей и Соединенными Штатами.
Предположительные большевики-евреи России заботили его не потому, что он опасался неминуемого большевистского вторжения, но потому, что по его мнению они стояли на пути германо-российского альянса. И даже хотя его антисемитизм был антибольшевистским в том смысле, что он уравнивал иудаизм с большевизмом, иерархия внутри антисемитизма Гитлера оставалась нетронутой: его антибольшевизм имел вторичное значение по отношению к антикапитализму. Фокус его антисемитизма теперь лежал на представлении большевизма как заговора еврейских финансистов, чем на предупреждении в стиле Готтфрида Федера о процентном рабстве. Как прояснил Гитлер в своей речи 19 ноября 1920 года, он верил, что большевики-евреи были ничем иным, как слугами международного капитала. Для Гитлера антибольшевистский антисемитизм продолжал быть функцией его антикапиталистического антисемитизма, даже хотя он теперь упоминал большевизм более часто, чем делал это в прошлом. В отличие от прошлого, он теперь концентрировался больше на том, как еврейские банкиры использовали большевизм в качестве инструмента для управления и нейтрализации рабочего класса, чем на том, как они эксплуатировали людей через начисление процентов.
Обращение взора Гитлера на Восток и восприятие антибольшевистского антисемитизма более серьёзно произошли в то время, когда Альфред Розенберг и Дитрих Экарт стали иметь важное значение в его жизни. Розенберг, приятель-однокашник Шойбнер-Рихтера по братству «Рубениа», станет одним из ведущих идеологов партии. Гитлер скажет о нём в 1922 году: «Он единственный человек, к которому я всегда прислушиваюсь. Он мыслитель».
Хотя Шойбнер-Рихтер и Розенберг и разделяли в целом общие политические взгляды, последний, в отличие от первого, определённо не был лихим искателем приключений. Даже многие другие национал-социалисты находили Розенберга невозможным и не имеющим никакого обаяния. В последующие годы за спиной Розенберга и Гитлера люди из окружения Гитлера станут сравнивать Розенберга с «недокормленным газовым светом» из-за его бледного лица без какого-либо выражения и его холодной, безжизненной и саркастической личности, равно как и его очевидной неспособности воспринимать красоту и прекрасные вещи в жизни; их другие описания включали «кусок льда» и «человек без эмоций, холодный, как кончик собачьего носа», чьи «бледные тусклые глаза смотрели в твоём направлении, но не на тебя, как если бы тебя там не было вовсе».
Балтийский немец с родословной от немцев, эстонцев, латышей и гугенотов, Розенберг — который вырос как подданный царя Николая II, учился в Москве во время войны и испытал в Москве правление большевиков — покинул Россию в 1918 году. После пребывания в Берлине он сделал своим домом Мюнхен. Однако пройдёт еще какое-то время, прежде чем он впишется в южную Германию, поскольку он говорил по-немецки с сильным русским акцентом. Даже в то время, когда Розенберг работал для Völkischer Beobachter, Германн Эссер должен был редактировать его статьи, поскольку его немецкий не был похожим на речь носителя немецкого языка. Подобно столь многим другим ведущим фигурам ранних лет национал-социализма в Мюнхене, Розенберг был протестантом и не происходил из Верхней Баварии.
Он встретил Гитлера ещё осенью 1919 года и вскоре после этого вступил в NSDAP. Через несколько месяцев Розенберг стал играть важную роль в партии, даже хотя он не мог предложить ей какой-либо материальной помощи, потеряв всё, когда иммигрировал в Германию. Оказавшись в Мюнхене, он был вынужден полагаться на питание в благотворительных столовых, в которые он должен был приносить свою собственную ложку, и квартировал бесплатно с вышедшим на пенсию военным доктором, что было устроено через комитет беженцев.
Розенберг имел значение для NSDAP из-за своего интеллектуального влияния на Гитлера. Если мы поверим свидетельству Хелены и Эрнста Ханфштэнглей, которые стали близки к Гитлеру зимой 1922–1923 гг, Гитлер, по крайней мере вначале, выражал большую веру в Розенберга и обращался к нему особенно по вопросам, связанным с большевизмом, арийской расой и тевтонизмом. По словам Эрнста Ханфштэнгля, желание Гитлера выполнить свою антисемитскую программу «любой ценой» было результатом влияния Розенберга.
Главной заботой Розенберга был антисемитский антибольшевизм. Более того, его самая первая политическая речь, произнесённая, пока он был всё ещё в Эстонии, накануне его отъезда в Германию, была о связи, которую он видел между марксизмом и иудаизмом. Для Розенберга русский большевизм не был движением славян, но скорее одним из примитивных и разрушительных азиатских нашествий кочевников, ведомых евреями. Однако в то время как Розенберг ссылался на предположительно еврейский большевизм более часто, он тем не менее верил, что еврейский большевизм в сущности связан с еврейским капитализмом. Для него большевизм и еврейский финансовый капитализм шли рука об руку. Например, 1 мая 1921 года он написал в Völkischer Beobachter, что «еврейская фондовая биржа объединилась с еврейской революцией».
Розенберг верил в существование еврейского заговора, заявляя, что еврейские большевистские вожди ответственны перед еврейскими финансистами. В своей написанной в 1922 году книге Pest in Russland! («Чума в России!») он доказывал, что в России, в конечном счёте, заправлял еврейский финансовый капитализм: «Если понимать капитализм как энергичную эксплуатацию масс совсем небольшим меньшинством, то тогда никогда не было более капиталистического государства в истории, чем еврейское Советское правительство с дней октября 1917 года». Он также верил в то, что президент Вудро Вильсон был просто марионеткой в руках еврейских банкиров — которые, как он думал, также управляли фондовыми биржами Нью-Йорка, Лондона и Парижа — равно как и вожди большевиков в России. По Розенбергу еврейские лидеры, встречаясь в масонских ложах, разрабатывали планы захватить мир. Он видел еврейское влияние повсюду, веря в вездесущность еврейского духа. В брошюре, написанной им в 1923 году, он призывал человечество освободиться от «евреизации мира».
Это та форма представления антисемитизма, которая, насколько это касается Розенберга, не была истребительной по характеру, но которая представляла большевизм находящимся в руках финансовых капиталистов, что позволила Гитлеру более полно интегрировать антибольшевизм в свою собственную изначально антикапиталистическую форму антисемитизма.
Хотя в конечном счёте это изменится, Розенберг всё ещё выражал про-русские чувства в ранние годы его взаимодействия с Гитлером. 21 февраля 1921 года Розенберг опубликовал статью в Auf gut Deutsch, которая доказывала, что «Русские и немцы — самые благородные народы Европы; […] они будут зависеть друг от друга не только политически, но также и с культурной точки зрения».
Другие идеи, происходившие из царской России, иногда попадали к Гитлеру косвенным путём, через Дитриха Экарта, на которого сильно влияли множество личных контактов, что были у него с тех пор, как первые русские «белые» эмигранты появились в Мюнхене. Уже в марте 1919 года он утверждал в Auf gut Deutsch, что «у немецких политиков едва ли есть другой выбор, чем войти в союз с новой Россией после устранения большевистского режима». В феврале 1920 года он заявлял, что русские люди, подавляемые еврейскими большевиками, были естественными союзниками Германии. «То, что Германия и Россия зависят друг от друга, не подлежит какому-либо сомнению», — писал Экарт, делая акцент на необходимости для немцев связаться с «русским народом» и поддерживать его против «нынешнего еврейского режима» в России.
На Экарта, как и на многих других людей среди националистически настроенных (völkisch) правых в Германии, оказывали влияние «Протоколы сионских старцев» — поддельное описание заговорщической международной организации, посвятившей себя установлению еврейского мирового правления. «Протоколы» едва ли имели какое-либо влияние в Германии предвоенной и военного времени. Однако, когда российские эмигранты привезли с собой копии в Германию после войны, они были переведены на немецкий язык и быстро приобрели известность в правых кругах.
Трудно определить меру роли Альфреда Розенберга и Дитриха Экарта в повороте Гитлера на Восток. Его сдвиг к Востоку определённо начал происходить в то время, когда балтийские немцы и «белые» русские эмигранты впервые появились в Мюнхене. Однако трудно сказать, было ли появление Розенберга и других на сцене основной причиной поворота Гитлера на Восток и к антибольшевистскому антисемитизму; или же его интерес к Розенбергу и, соответственно, к Шойбнер-Рихтеру был результатом сдвига в его мышлении в сторону Востока. Другими словами, трудно сказать, произошёл ли культурный перенос идей на спинах миграции в Баварию Розенберга и других эмигрантов из России, или эволюция радикальных правых идей в России и в южной Баварии шли в связи друг с другом. Вкратце, трудно определить, имелись ли специфические русские корни в национал-социализме и в мышлении Гитлера.
Что делает почти невозможным сказать, был ли сдвиг к заговорщическому антисемитизму, ассоциируемый с Розенбергом и русскими правых убеждений, делом рук Розенберга и его партнеров, это то, что их идеи не были ни новыми, ни ограниченными Россией. Такие чувства, выражавшиеся после Первой мировой войны, существовали прежде и кочевали из страны в страну перед войной. Таким образом, определённо возможно найти немецкое доморощенное воплощение антисемитизма, которое выглядит очень сходно с таковым у правых русских. Тем не менее, в случае Гитлера трудно прийти к какому-либо иному заключению, чем сказать, что это через Розенберга и других среди втекающей волны балтийских немцев и «белых» русских Гитлер явно подвергался идеям преувеличенного заговорщического антисемитизма.
Более важно то, что через этих эмигрантов Гитлер был свидетелем существования прямо перед его глазами симбиозной немецко-русской группы, что снабдило Гитлера воодушевлением в его поиске ответа на проблему — как создать Германию, которая никогда снова не проиграет большую войну. В то время он не проявлял каких-либо явных анти-славянских чувств; его расизм всё ещё принимал довольно избирательную форму. Казалось, что на него больше влияет наследие близких отношений немецких и русских консерваторов, относящееся к дням Екатерины Великой, немецкой женщины, которая правила Россией в конце 18 столетия, чем антиславянские чувства, с которыми он встретился в довоенной Вене.
Гитлер едва ли столь явно обратился бы к Розенбергу и Шойбнер-Рихтеру, как он это сделал, если бы их идеи не дополняли его ранее существовавших идей. Подобным образом, к этим двоим едва ли Гитлер продолжал бы относиться как к имевшим чрезвычайную важность, если бы он прежде уже полностью развил свои идеи о Востоке и о восточных евреях.
Русское влияние на Гитлера имело значение в той мере, в какой он столкнулся с балтийскими немцами и «белыми» русскими и их идеями в то время, когда старался усовершенствовать и пересмотреть ответ, найденный им в 1919 году на вопрос — как выстроить жизнеспособную Германию. Оба его полученных из первых рук впечатлений от тесного немецко-русского сотрудничества в Мюнхене и культурный перенос из России в Германию заговорщических антибольшевистских идей подпитывали его поворот на Восток и его растущий интерес к антибольшевистскому антисемитизму. В этом смысле существовал сильный русский элемент в эволюции Гитлера и национал-социализма.
В лице Розенберга и Экарта у Гитлера были советники, которые сделали рациональный факт немецко-русского сотрудничества способствующим возрождению Германии и России и которые подчёркивали важность антибольшевистского антисемитизма. В лице Шойбнер-Рихтера у Гитлера был советник, который в отличие от Розенберга и Экарта был человеком действия и который не просто разрабатывал, но и внедрял политику. Таким образом, это посредством Шойбнер-Рихтера он увидел, как идеи, отстаиваемые Розенбергом и Экартом, переносились в реальность, и Шойбнер-Рихтер помогал Гитлеру переводить его собственные идеи в действия — важное умение для любого честолюбивого лидера, но имевшее особенную важность для Гитлера, потому что он считал очень ценным силу воли и действие. Например, в своей речи 1 января 1921 года он сказал:
Эта борьба не будет возглавляться большинством, завоеванным партиями на парламентских выборах, но единственным большинством, которое, с тех пор как оно существует на этой земле, формировало судьбы государств и народов: большинство силы и более значительной воли и энергии; вызвать эти силы, не заботясь о числе людей, убитых как следствие. Быть истинным немцем сегодня означает быть не мечтателем, но революционным, это означает не быть удовлетворённым всего лишь научными заключениями, но воспринять эти заключения со страстным желанием превратить слова в действия.
После своего возвращения с Крымского полуострова и незадолго до его первой встречи с Гитлером Шойбнер-Рихтер основал общество Aufbau («Реконструкция»), тайную, базирующуюся в Мюнхене группу немцев и «белых» эмигрантов, которые станут очень активны в конце 1920 и в первой половине 1921 года. Направленное почти в равной степени против большевизма, евреев, Веймарской республики, Британии, Америки и Франции, оно ставило своей целью свергнуть большевистский режим в России и сделать великого князя Кирилла Романова главой новой прогерманской монархии. Более широко, целями Aufbau были восстановление монархии и в России, и в Германии, а также одержание победы над еврейским доминированием.
Технически Шойбнер-Рихтер был первым секретарём Aufbau, но де-факто он возглавлял группу. Его заместителем был Макс Аманн, старший сержант штаба полка, в котором служил Гитлер в Первую мировую войну. Гитлер вскоре завербует Аманна на должность управляющего директора NSDAP. Таким образом, двое людей, которые фактически руководили Aufbau, были также ведущими национал-социалистами и были близки к Гитлеру.
Однако членские составы NSDAP и Aufbau были коренным образом различны, особенно поскольку мало кто из членов партии мог позволить себе вступить в Aufbau. Предполагалось, что члены Aufbau должны финансировать деятельность, направленную на свержение советского режима, и потому должны были заплатить для вступления 100 000 марок, а затем ещё 20 000 марок ежегодных взносов. Вследствие секретности группы и скудности сохранившейся документации мало что известно о её членах. Формально она возглавлялась бароном Теодором фон Крамер-Клетт, который направлял деньги в Aufbau из различных бизнесов, которыми владела его семья. Её вице-президентом был Владимир Бискупский, высокопоставленный бывший русский генерал. Различные другие «белые» офицеры и должностные лица, которые переместились в Мюнхен после путча Каппа, также были её членами, включая Фёдора Винберга, который, находясь ещё в Берлине, переиздал «Протоколы сионских старцев». Винберг также редактировал русскую газету в Мюнхене «Луч света», в которой он доказывал, что евреи и масоны представляли зло, поскольку они хотели уничтожить христианство и взять власть над миром.
Шойбнер-Рихтер не только представил Гитлера обществу Aufbau и русским эмигрантам; в марте 1921 года он также представил его человеку, который, намеренно или нет, будет способствовать подъёму Гитлера к национальной известности: генералу Эриху Людендорфу, самому могущественному военному начальнику Германии во второй половине Первой мировой войны.
Во время Германской революции 1918–1919 гг. Людендорф покинул Германию переодетым и как можно незаметнее переехал в Швецию, которая обеспечила ему безопасное убежище. Окончательно вернувшись, он был вовлечён в капповский путч. Летом 1920 года он присоединился к исходу правых экстремистов в Мюнхен, где жила его младшая сестра. Столица Баварии была и гостеприимна, и неприятна для него: баварский консервативный политический истэблишмент обеспечивал Людендорфу безопасное убежище таким же образом, как он принял других правых экстремистов с северной Германии, даже хотя тот же самый истэблишмент почитал заклятого врага Людендорфа — Руппрехта Баварского. Оказавшись в Баварии, он обратился к своему протеже Максу Эрвину фон Шойбнер-Рихтеру, который стал главным планировщиком его деятельности. Шойбнер-Рихтер также представил Людендорфа членам Aufbau, равно как и Гитлеру. Поскольку к 1921 году Шойбнер-Рихтер тесно работал и с Людендорфом, и с Гитлером, то это через него был заключён судьбоносный союз между прежде самым могущественным генералом Германии и Гитлером.
Это союз будет стимулироваться совместным пониманием того, что они нужны друг другу. Гитлеру требовался значительный националистический лидер с национальным статусом, который возьмёт его под своё крыло и поможет ему тоже стать национальным лидером. Людендорф между тем будет видеть в Гитлере энергичного молодого человека, который был выдающимся оратором и который будет способен обращаться к людям за пределами его собственной доступности.
Пока же, однако, образование этого альянса всё ещё было в будущем. В первой половине 1921 года, чтобы консолидировать и увеличить поддержку NSDAP в Мюнхене и южной Баварии, Гитлер ещё больше увеличил свои появления перед публикой. В своих речах он старался быть как можно более провокационным, пытаясь найти пределы того, что было допустимо законом делать и говорить, до такой степени, что 24 февраля 1921 года, через год после объявления Гитлером платформы партии в Хофбройхаус, Рудольф Гесс выразил своей матери удивление, что «Гитлер всё ещё не в тюрьме». В начале июля Гесс написал своей двоюродной сестре Милли, что Гитлер притворяется для политической выгоды, сопоставляя личность, которую видят люди во время речей Гитлера, с тем Гитлером, которого он знал в остальное время: «Тон Гитлера в его речах не каждому по вкусу. Однако он доводит массы до точки, где они слушают и приходят снова. Нужно приспосабливать инструменты к материалу и Г[итлер] может изменять манеру своей речи. Мне особенно нравится слушать, когда он говорит об искусстве». Ранее в тот год он уже говорил своей кузине, что «внешне грубый человек внутри мягкий, что очевидно проявляется в том, как нежно он обращается с детьми, и в его жалости к животным».
Весь тот шум, который произвёл Гитлер в 1920 и в начале 1921 года, а также приобретение газеты Völkischer Beobachter, окупились впечатляюще хорошо: членство в NSDAP увеличилось десятикратно между началом и концом 1920 года, и к середине 1921 года добавилась ещё тысяча, доведя количество членов NSDAP примерно до 3200 человек. С началом распространения партии по южной Баварии NSDAP медленно меняла своё лицо. Она всё ещё была преимущественно городской партией, но к концу 1920 года почти каждый четвёртый из её членов был не из Мюнхена. С распространением партии за пределы Мюнхена было небольшое увеличение членов из среднего класса. И было некоторое уменьшение в числе членов партии, которые были протестантами, из-за даже ещё меньшей доли протестантов в населении южной Баварии за пределами Мюнхена. Тем не менее, протестанты всё ещё оставались самой большой группой в NSDAP — более, чем один из трёх её членов был протестантом. И в своём представлении о себе NSDAP также оставалась партией, которая удовлетворяла требованиям рабочих. Как писал Рудольф Гесс своей двоюродной сестре Милли: «Более половины всех членов — это люди физического труда, что гораздо большая доля, чем во всех других немарксистских партиях. Будущее Германии в первую очередь зависит от того, сможем ли мы вернуть рабочего к национальному идеалу. В этом отношении я вижу наибольший успех в этом движении — вот почему я сражаюсь в их рядах».
Партия всё еще оставалась политически весьма разнородной, поскольку многие люди в столице Баварии всё ещё старались найти опору в послевоенном мире и ещё не перестали держаться меняющихся политических убеждений. Например, Хайнрих Грассль, человек в возрасте после сорока лет, был одновременно членом NSDAP и либеральной DDP. Он оставит NSDAP только тогда, когда партия будет взята под контроль Гитлером.
В сравнении со всем населением Мюнхена количество членов партии Гитлера всё ещё было очень маленьким. Существенно менее 0,5 процентов населения Мюнхена вступило в партию к лету 1921 года. И всё же, несмотря на свои начальные проблемы в 1920 году раскрытия своего политического послания, NSDAP в конечном счёте к середине 1921 года смогла стать главным бенефициаром консолидации раздробленного радикального правого фланга.
Возможно, существовали две главные причины успеха в выходе NSDAP в первые ряды после консолидации. Одной было то, что партия пошла своим путём, отказываясь играть вторую скрипку с кем бы то ни было и отказываясь объединить силы с равными партнёрами. Другой было то, что она выставляла себя лучше, и была громче и занимательней, чем её соперники. Человеком, ответственным за всё это, был прежде всего и более всего Адольф Гитлер.
В течение почти двух лет, что прошли с момента его неожиданного прозрения накануне его пропагандистских курсов с Карлом Майром, Гитлер старался найти ответы на то, как следует реорганизовать Германию для выживания в быстро меняющемся мире. Он не рассматривал свою роль как просто предложение практических советов или содействие в переупаковке стремлений других людей в более привлекательном виде. Скорее, в том духе, что ожидался от «гения», он стремился предложить откровения о скрытой архитектуре мира и о природе вещей, представляя их как новый завет для новой Германии. Провозглашая их на квази-религиозном языке, он декларировал, что эти меры были необходимы для спасения от невзгод прошлого и настоящего.
«Майн Кампф», равно как и последующие произведения и заявления пропагандистов Гитлера, станут изображать это, как если бы новый завет новой Германии был явлен Гитлеру очень рано, в его годы обучения и бедствующего художника в Вене. Позже было популярно верить, что «новый завет» пришёл к нему в упакованном виде, либо во время революции или же после неё. Говорили, что Гитлер просто присвоил этот готовый «новый завет», претендуя на то, что это его откровение, когда в действительности он просто заменил этикетку на «завете», написанном другими, и затем функционировал с ним до конца жизни.
Хотя, провозглашая «новый завет» Германии, он, конечно же, в изобилии заимствовал у других, он не ограничивал себя ни производством идентичных копий идей людей, окружавших его, ни оставаясь неизменно верным им. Он подбирал и выбирал из богатой палитры мыслей, доступных ему, чтобы рисовать, стирать и перерисовывать своё видение для Германии. Это видение стало источником не одного «нового завета», но нескольких конкурирующих и изменяющихся его воплощений. Гитлер был поразительно гибок в изменении своего «нового завета», когда его идеи казались недостаточными для объяснения мира.
Гитлер изначально фокусировался на обеспечении макроэкономического обвинения западного капитализма и финансового капитала. В то время раса имела значение для него настолько, насколько это позволяло ему создать двойственность между еврейским и не-еврейским «духом», что определяло бы, будет ли страна иметь блестящее будущее или будет оттеснена на путь окончательного упадка и смерти. Что за этим последовало, было не только поворотом на Восток, но также поворотом от макроэкономической к геополитической силе как средству для понимания и объяснения мира. В результате Гитлер стремился установить постоянный союз с Россией (рассматривая страну как восточного соседа Германии и таким образом игнорируя само существование Польши), чтобы поставить Россию и Германию на все времена на такое же основание, как англо-американский мир. Попутно антибольшевистский и заговорщический антисемитизм стал более важным, чем это было прежде. Однако иерархия его антисемитизма оставалась нетронутой в том, что он всё ещё видел антибольшевистский антисемитизм как функцию антикапиталистического антисемитизма.
При написании и переписывании своего «нового завета» судьба Гитлера была впечатляюще трансформирована. Летом 1919 года он был талантливым, но бедствующим незначительным пропагандистом рейхсвера в Мюнхене. К началу лета 1921 года он был де-факто вторым в руководстве партии, которая была у всех на устах в Мюнхене. В своём подъеме к известности в NSDAP он пренебрёг обычным путём к власти внутри политических партий, который обычно наполнен закулисными сделками, компромиссами и ударами в спину. Скорее, общераспространённая одержимость идеей гения в то время позволила человеку с беспощадной волей к власти и талантом реагирования на непредвиденные события вознестись почти на самый верх. Более того, харизматический театрализованный, нежели рассудочный, стиль политики Гитлера идеально подходил для мелкой партии, которая хотела стать услышанной в городе, где существовало много соперничающих групп на крайнем правом фланге политики.
Гитлер теперь стоял перед новой проблемой: по пути трансформирования судьбы NSDAP он сделал себе много врагов не только вне партии, но также внутри её. К началу лета 1921 года его враги внутри партии стали составлять заговор против него, и он встал перед неминуемой угрозой. На кону были и его собственная судьба, политический успех, и его «новый завет».
Часть III. Мессия
Глава 10. Баварский Муссолини
«Адольф Гитлер — предатель?» — таким был заголовок анонимной листовки, которую множество членов Национал-социалистической Немецкой Рабочей партии (NSDAP) печатали и распространяли летом 1921 года. Листовка, целью которой было нейтрализовать Гитлера и его роль в политике, была столь же бескомпромиссной, как любая критика, которую политические левые направляли на него. Она обвиняла его в том, что им управляют «зловещие люди в тени в Берлине». В ней также высказывалось мнение, что он был марионеткой в руках еврейских заговорщиков, которые использовали его для раскола партии и для её ослабления изнутри. Дополнительно она представляла Гитлера мегаломаньяком, который неспособен воспринимать других людей как себе равных и обвиняла его в том, что он возбуждается и сердится каждый раз, когда кто-либо спрашивает о его прошлом. Ему также был навешен ярлык сторонника кайзера Карла, последнего императора Австрии, что было особенно странным обвинением, учитывая свидетельство его продолжительной оппозиции династии Габсбургов. В то же время Германа Эссера, который продолжал быть одним из самых близких сотрудников Гитлера, обвинили в том, что он шпион социал-демократов.
Выпуск антигитлеровской листовки говорил об эскалации борьбы, которая назревала внутри партии в течение месяцев. В её основе было несогласие относительно будущего направления развития NSDAP, а также относительно роли, которую Гитлер мог бы играть в нём. Распространение листовки также отмечало окончание постепенного разлада между Дрекслером и Гитлером о будущей стратегии партии. В то время как Гитлер поддерживал революционный, насильственный путь, Дрекслер защищал правовой, парламентский. Хотя весной Дрекслер поддерживал слияние с другими национал-социалистическими группами в Германии, Австрии и Чехословакии, и он продолжал отстаивать тесное сотрудничество с Социалистической партией Германии (партией, которая однажды оттолкнула Гитлера, когда он желал вступить в неё). По контрасту, Гитлер яростно противился любому такому ходу, твёрдо веря в то, что NSDAP должна идти своим собственным путём.
Борьба между двумя людьми достигла максимума в июле 1921 года, когда за спиной Гитлера Дрекслер добился расположения Отто Дикеля, главы Немецкого Промышленного Объединения (Deutsche Werkgemeinschaft), базировавшейся в Аугсбурге националистической (völkisch) группы, и пригласил его выступить в Мюнхене. Гитлер в это время был в Берлине в продолжительной поездке для сбора средств. (Вопрос о том, покинул ли Гитлер Мюнхен на несколько недель для того, чтобы продемонстрировать, что партия не будет способна функционировать без него, остаётся нерешённым).
Дикель, школьный учитель, родившийся в Гессене, который уже взрослым переселился в Баварию, был автором книги, которая призывала к возрождению стран Запада по отношению к остальному миру. Его аргументация была основана на комбинации национализма, экономического социализма и антисемитизма. Популярный подход Дикеля обеспечил то, что его речь в Мюнхене стала немедленным успехом, в результате чего Дрекслер пригласил его стать постоянным оратором для NSDAP. Дрекслер, между тем, принял приглашение прибыть в Аугсбург 10 июля для обсуждения с Дикелем и вождями базировавшейся в Нюрнберге Немецкой Социалистической партии будущего сотрудничества между NSDAP, Deutsche Werkgemeinschaft и Немецкой Социалистической партией.
Когда Эссер связался с Гитлером в Берлине и рассказал ему, что происходило в Мюнхене и о предстоящей встрече Дрекслера в Аугсбурге, Гитлер поспешил сорвать её. Его появление на митинге превратилось в фиаско. Дикель разобрал программу партии по пунктам и раскритиковал название партии как вводящее в заблуждение и громоздкое, в то время как Гитлер постоянно прерывал его, причём всё это было напрасно, поскольку присутствовавшие члены руководства NSDAP были впечатлены концепцией Дикеля и его качествами вождя и не стали поддерживать Гитлера. Гитлер бросился прочь с митинга — и вышел из партии на следующий день.
Нет полной ясности в том, покинул ли Гитлер партию в уверенности, что для него в NSDAP всё было потеряно, или же это было ничем иным, как умным ходом и рискованным предприятием. Каковы бы ни были его намерения, он триумфально вышел из кризиса, который был вызван его выходом из NSDAP. Без Гитлера партия потеряла своё положение. Дикель просто был не способен заменить его. Кризис выявил, что с момента своего вступления в партию осенью 1919 года Гитлер постепенно стал де-факто её вождём. Теперь, летом 1921 года, наконец, возникла ситуация, которая позволила ему забрать власть на своих собственных условиях.
По следам выхода Гитлера из партии его наставник Дитрих Экарт начал оказывать влияние в его поддержку, что привело к повороту на 180 градусов Дрекслера и других членов его исполнительного комитета, который теперь послал Экарта к Гитлеру убедить Гитлера вернуться в партию. В ответ Гитлер отправил список требований к руководству NSDAP, которые должны были быть выполнены до того, как он вернётся. Он не выбирал слова. Он ожидал, что ему будет дан, как он выразился, «пост 1-го председателя с диктаторскими полномочиями». Другим его условием было то, что штаб партии останется в Мюнхене навсегда и что не будет изменения в наименовании партии или её платформы на следующие шесть лет. Он также требовал, чтобы немедленно были прекращены связи NSDAP с Дикелем.
29 июля Дрекслер представил требования Гитлера и поставил их на голосование на внеочередном митинге партии. Благодаря повороту на 180 градусов в позиции Дрекслера этот день стал триумфом для Гитлера. Из присутствовавших 554 членов все, кроме одного, проголосовали в пользу его заявки. Гитлер был теперь, наконец, новым вождём партии. Дрекслер был сделан почётным пожизненным председателем партии.
Правопреемство от Дрекслера к Гитлеру отмечало более, чем смену караула, и означало более, чем смену политики. Хотя прежде партия отвергла парламентскую демократию, в то же время защищая внутреннюю демократию в себе самой, теперь демократия в NSDAP была мертва. В то время как до сих пор руководство партии (Parteileitung) NSDAP функционировало как исполнительный комитет, в котором председатель партии был первым среди равных, вождь партии теперь стоял над Parteileitung и имел, как требовал Гитлер, диктаторские полномочия. Спустя полтора года после выталкивания из партии её сооснователя Карла Харрера Гитлер смог оттеснить в сторону также и другого основателя партии. Устранением или оттеснением одного за другим тех, кто в партии был старше его или конкурировал за власть с ним, он проявил замечательное умение политической манипуляции в стиле Макиавелли. Впоследствии он ловко добавит много таких соперников к своим сторонникам.
Гитлер теперь был лидером и диктатором NSDAP с возможностью развернуться для придания партии новой формы в соответствии со своими желаниями. Он вышвырнул Отто Дикеля из партии. Макс Аманн, его бывший начальник по фронтовому полку военного времени, был поставлен заведовать финансами партии и внутренней организацией, с намерением установить в партии тот же тип организационной структуры, как в штабе полка Листа — единственный функционирующий организационный порядок, который он знал из первых рук. Гитлер сказал Аманну, что он срочно нуждается в нём, потому что предыдущий штаб партии был некомпетентным, а опасность большевистской революции неминуема.
В это время усилилось положение тех, кто, подобно Гитлеру, имел военное прошлое и кто всегда равнялся на него. То же было верно в отношении тех его сторонников, кто сожалел, что они были слишком молоды, чтобы служить в войну. С этой целью была основана эвфемически названная «Гимнастическая и спортивная секция» как её собственная военизированная организация, лояльная Гитлеру. Вскоре она будет переименована в Sturmabteilung («Штурмовое отделение»), или SA. Большинство первых членов SA было моложе двадцати пяти лет, и почти все моложе тридцати. Вновь основанная SA, таким образом, внесла свой вклад в молодой имидж NSDAP, особенно в сравнении с другими партиями на правом политическом фланге.
В результате захвата NSDAP Гитлером партия разделилась. Многие её члены остались в оппозиции к направлению, в котором новый вождь старался вести NSDAP. По инициативе Йозефа Берхтольда, который помогал Гитлеру найти жильё на Тирштрассе, они основали «Свободную Национальную Социалистическую Ассоциацию». Однако они вели проигранную битву; к следующему году новая группа была настолько слаба, что Берхтольд вновь вступит в NSDAP, которая к тому времени будет под твёрдым управлением Гитлера.
Готтфрид Грандель, друг Экарта в Аугсбурге, чей заём позволил NSDAP приобрести Völkischer Beobachter, также вёл тщетную борьбу. Встревоженный триумфом Гитлера, он писал Экарту: «Мне нравится Гитлер, и я ценю его, но его стремление к абсолютной власти тревожит меня». Он добавлял: «Это плохо кончится, если он не сойдёт с этой дорожки и не позволит другим разделять власть. Нам следует иметь в виду, что насилие и назначение на посты по знакомству отпугивают лучших товарищей и наносят ущерб лучшим силам, и таким образом оказывают поддержку менее желательным элементам». Грандель убеждал Экарта поставить Гитлера обратно в один ряд с остальными. Однако у Экарта не было намерений делать это, поскольку поэт-драматург начал видеть в Гитлере воплощение главного персонажа своего величайшего успеха, пьесы «Пер Гюнт».
Пьеса Экарта была адаптацией оригинальной драмы Генрика Ибсена, в которой главный герой, по имени которого названа пьеса, покидает свою родную норвежскую деревню, намереваясь стать «королём мира». В пьесе Ибсена Гюнт эгоистичен и коварен, и разрушает и свою душу, и тело, прежде чем вернуться домой в крахе и стыде. В версии Экарта по контрасту Пер Гюнт — главное действующее лицо, чьи проступки полны героизма, потому что они делают вызов миру троллей, которые для Экарта символизировали иудаизм. Благодаря благородным целям своих действий Гюнт возвращается к чистоте и невинности юности в финальной сцене пьесы Экарта. Эта новая концепция персонажа была создана под влиянием Отто Вайнингера, который сам писал о Пер Гюнте. Это Пер Гюнт — антисемитский гений, который нацелен на изгнание женственности и, таким образом, иудаизма из мира.
Послание Экарта к Гитлеру было таковым, что он должен стремиться стать Пер Гюнтом Германии, ему не следует тревожиться относительно применения насилия и нарушения существующих норм. Этот вид нарушения будет оправдан концом, которому он служит, и в конечном счёте всё будет прощено. Во введении к изданию «Пер Гюнта», которое он дал Гитлеру меньше чем через два месяца после того, как тот стал вождём NSDAP, и на котором было написанное от руки посвящение его «дорогому другу Адольфу Гитлеру», Экарт написал: «Идею [Гюнта] стать королём мира не следует воспринимать буквально как „стремление к власти“. За этим скрыта духовная вера, что он, в конечном счёте, будет прощён за все свои грехи». Как подчёркнуто в его введении, миссией Пер Гюнта и Германии в целом было истребление троллей в мире: «[Это] в природе германцев, что означает в более широком смысле способность самопожертвования, что мир излечится, и найдёт свой путь назад к чистой божественности, но только после кровавой войны уничтожения против объединённой армии „троллей“; другими словами, против змеи Мидгарда, опоясывающей землю, подлого воплощения лжи».
Гитлер был более чем счастлив стать реальным Пер Гюнтом Германии. Для соответствующего преобразования своего публичного образа он поставил своих доверенных лиц в Völkischer Beobachter. Экарт стал её главным редактором, а Розенберг его заместителем, в то время как Германн Эссер работал непосредственно под их началом в качестве редактора, ответственного за макет газеты. С приходом к жёсткому контролю над газетой NSDAP и над её издательством людей Гитлера, они немедленно приступили к созданию образа Гитлера как гораздо большего, чем председатель партии — как некоего божественного лица, избранного. Розенберг и другие начали изображать Гитлера как мессию, Розенберг также обозначал Гитлера на страницах Völkischer Beobachter как «вождя Германии». Между тем в ноябре 1922 года Traunsteiner Wochenblatt, еженедельная газета из города, в котором Гитлер служил зимой 1918–1919 года, ждала то время, «когда массы народа поднимут его вверх, как своего вождя, и дадут ему своё обязательство верности и повиновения, несмотря ни на какие препятствия».
Поскольку Гитлер согласился с представлением себя как мессии и поскольку в 1922 году баварские газеты начали говорить о нём как о «баварском Муссолини», в то время, как Германн Эссер публично делал то же самое на мероприятиях NSDAP, то было бы немыслимо доказывать, что в то время Гитлер продолжал видеть себя как просто подготавливающего почву для кого-то другого.
Несомненно то, что Гитлер не планировал тщательно свой захват NSDAP в том виде, в каком это произошло. Однако он не был подобен примадонне, расстроенным, пассивным участником, который время от времени неожиданно выказывает приступы гнева и который почти случайно стал вождём партии. Его политический талант лежал в определении целей в очень широких терминах и в его способности ждать возникновения ситуаций, которые позволят ему придвинуться ближе к реализации этих целей. Широкая природа его целей позволяла Гитлеру большую степень гибкости в использовании и реагировании при возникновении возможностей. Более того, у него был редкий инстинктивный политический талант знать, когда поставить всё на одну карту.
Несущественно то, что Гитлер часто не предвидел политических событий, на которые он откликался. Он в этом не нуждался, так как его инстинкт и навыки снабдили его высочайшей способностью принимать решения и формировать политику, основанную на неполной информации. Другими словами, его талант состоял в том, как он отшлифовывал свою способность реагировать на непредвиденное и справляться с неизвестным, когда возникали различные варианты действий. Тут Гитлеру помогала его склонность подходить к проблемам исторически, так как его общий подход к искусству политики состоял в том, чтобы рассматривать исторические тенденции и брать их как определяющий побудитель его действий.
Базируясь на своём основном убеждении о природе реальности и об исторических тенденциях, Гитлер начинал овладевать проблемой предсказания в политике, искусством быть способным прогнозировать за пределы известного. В отличие от первой половины 1919 года он теперь знал, как справляться с наиболее трудной из задач в политике — иметь дело с неопределённостью среди вариантов выбора, и отсюда как действовать без определённости, основанной на своей оценке любой данной ситуации. Другими словами, у Гитлера была способность действовать в ситуациях огромной неопределённости с инстинктом делать правильный ход. Вот почему его предпочтение определения целей в широком смысле, нежели чем детальное планирование и стратегии, было для него не проблемой, но благословением. Это позволяло ему иметь максимум гибкости в обращении неожиданных и незапланированных ситуаций в свою пользу. Это не вопреки, но вследствие его реагирующего стиля политики, совмещённого с талантом прогнозировать за пределы известного вопреки неполноте информации, Гитлер был высоко успешным политическим оператором.
Гитлер также развил превосходное чувство нужного момента времени в политике. Инстинктивно он знал, что если вы планируете всё и действуете слишком рано и слишком негибко, вы потерпите неудачу; также, что если вы ждёте слишком долго и не реагируете на события без промедления, то вы станете пленником событий. Его подход к политике, и ключ к его успеху как политика и впоследствии в качестве государственного деятеля, возможно, лучше всего выражены в ответе, который он даст адмиралу Эриху Редеру 23 мая 1939 года, когда тот задал ему вопрос о его планах: было три вида секретов о его планах на будущее. Первым были секреты, которые он рассказал бы ему, если бы рядом никого не было; второй — это секреты, которые он будет хранить в себе; в то время как «третий — это проблемы будущего, которые я не продумываю до конца». У Гитлера также была привычка говорить членам свое свиты, что многие проблемы не требуют быть решёнными преждевременно, заявляя: «Когда время созреет, дело будет улажено так или иначе».
Значение разговоров Гитлера с Редером и членами его свиты в том, что они выявляют то, что он определял проблемы и их решения только в общем виде и оставлял их решение на будущее, была ли проблема в том, как захватить власть над партией, или, например, как решать вопросы большой политики. Тут нам становится понятно, почему невозможно провести прямую линию между широко определёнными целями политики Гитлера, как они были поставлены в начале 1920-х, и реализацией многих из этих целей в начале 1940-х. Последнее представляет именно тот вид «проблем будущего», которые Гитлер отложил в сторону, чтобы обдумать их только тогда, когда ему будет необходимо обратиться к ним.
Был ли «еврейский вопрос» тогда «проблемой будущего», который он ещё пока не решал? Одна возможность — это то, что мировая война и геноцид были «только» среди разнообразия потенциальных вариантов будущего, которые могли возникнуть из рождающихся идей Гитлера, как он определил их в начале 1920-х. Основываясь на этой возможности, что сделал бы Гитлер относительно «еврейского вопроса» и когда, зависело бы от хаотической структуры Третьего Рейха, накопительной радикализации национал-социалистической политики в 1930-х и 1940‑х, развивающейся международной ситуации и инициатив, предпринимаемых ответственными лицами второго и третьего уровня, которые будут черпать вдохновение из широких политических целей Гитлера, как они были определены в начале 1920‑х. Однако другая возможность — это то, что еврейский вопрос имел такую важность для Гитлера, что он составлял вопрос другого рода — такой, который он не стал бы откладывать до 1930-х и 1940-х, чтобы вычислить своё предпочтительное «окончательное решение» его. Оставляя в стороне этот вопрос, не может быть сомнения, что в большинстве областей политики Гитлер много не занимался предварительным планированием. В самом деле, в одном из своих монологов в военной ставке во время Второй мировой войны он подтвердил, что дела часто развивались тем образом, который он одобрял, но не планировал осознанно заранее. Например, 31 января 1942 года он объяснял, что он основывал SA и SS постепенно, не зная о существовании итальянских фашистских военизированных групп, и был удивлён, когда увидел, что они развивались подобным образом:
Ничто из этого не родилось из долгосрочного видения! SS развивались из маленьких групп в семь или восемь человек. Самые отъявленные хулиганы были объединены в эскадрон! Всё это появилось в действительности совершенно непреднамеренно и пошло путём, который точно соответствует тому, что произошло в Италии.
Гитлер добавил, что Муссолини сам действовал подобным образом: «Дуче сказал мне однажды: Фюрер, когда я начал борьбу против большевизма, я не имел понятия, как всё это будет происходить».
В NSDAP Гитлер использовал свои новые диктаторские полномочия для сокращения влияния любой группы людей, которая когда-либо пыталась использовать его просто как инструмент для продвижения своих собственных интересов. И он станет продолжать рассматривать их как потенциальных будущих претендентов на его власть. Однако он выкидывал людей из партии, как он это сделал в случае Дикеля, только когда не существовало перспективы, что он сможет трансформировать их в свой собственный инструмент. Более типично, как он сделал в случае Дрекслера, Гитлер станет передвигать людей на позиции с малой или никакой реальной властью, что позволит им спасти репутацию.
Чаще он продолжал вежливо обращаться с теми, с кем он порвал отношения или к кому он испытывал неприязнь, поскольку ему не нравилось открыто противостоять людям, с которыми он был знаком. Например, в марте 1935 года издатель Юлиус Фридрих Леманн, не понимая, насколько сам он был отвергнут Гитлером, будет порицать вождя NSDAP в письме, написанном на смертном ложе, однако очевидно никогда не доставленным предполагаемому получателю. Леманн упрекал его за то, что «твоё собственное сердце слишком мягкое и доброе к старым товарищам, даже когда у них были недостатки». Подобным же образом Франц Пфеффер фон Саломон, который станет возглавлять SA во второй половине 1920-х, отметит, что «Гитлер не отделял себя от кого бы то ни было, когда их вышвыривали. „Я не могу“, говорил он, и предоставлял другим заниматься этими делами, когда их было невозможно избежать — у него был определённый „комплекс лояльности“».
Во многих случаях нежелание Гитлера проводить чистку своего окружения в сталинском стиле будет ему дорого обходиться. Например, Фриц Видерманн, его командир в Первую мировую войну, который станет служить Гитлеру в качестве одного из его помощников в мирные годы Третьего Рейха, будет предлагать свои услуги британской разведке и властям США, после того как Гитлер порвал с ним. Вовсе не из-за недостатка попыток со стороны Видерманна его предательство на вершине славы Германии после триумфов 1940 и 1941 годов не свалит Гитлера, это было из-за того, что британцы и американцы не примут предложения Видерманна.
В большинстве случаев оставление «двери открытой» помогало Гитлеру. Это позволяло ему обращаться к людям, когда он нуждался в их помощи. Это особенно относилось к случаю с пангерманцами и членами Общества Туле — другими словами, с теми, кто поддерживал видение партии Карла Харрера как тайного общества в противоположность к соперничавшему собственному видению Гитлера.
Таким образом, после того, как он стал вождём NSDAP, Гитлер продолжал ездить в Берлин для получения денег от сторонников пангерманизма. Он также с удовольствием принимал деньги от Леманна. За пределами этого он держал дистанцию от них, даже хотя издатель раз за разом всячески старался поддерживать его. Гитлер гораздо меньше интересовался Леманном, чем последний был заинтересован в нём; однако вследствие его постоянной вежливости к Леманну легко переоценить значимость таких людей, как Леманн, для Гитлера. Это была того же рода обманчивая вежливость, которую Гитлер будет выражать к баронессе Лили фон Абегг, что приведёт к тому, что аристократка пожертвует свой дом в Мюнхене в пользу NSDAP, даже хотя за её спиной Гитлер станет язвительно говорить про неё: «Её муж прыгнул в озеро Кёнигзее, что не удивительно». Гитлер будет говорить своим товарищам в военной ставке в феврале 1942 года: «Я сделал бы то же самое! У неё было только двое поклонников, один из них умер, а другой сошёл с ума!»
Юлиус Фридрих Леманн был наиболее важной движущей силой Пангерманской Лиги в Мюнхене, и он также был одним из наиболее важных членов Общества Туле во времена его расцвета. Родившийся в 1864 году в Цюрихе у немецких родителей и бывший гражданином Швейцарии, Леманн, пока рос, был одним из многих протестантских не-баварцев, которые сделали Мюнхен своим домом и кто стал поддерживать зарождающуюся DAP/NSDAP. Он основал свой собственный издательский дом в столице Баварии, и затем в марте 1920 года он вступил в партию, в то же время также оставаясь членом консервативной Немецкой Национальной Народной партии.
Сдержанная реакция Гитлера на Леманна определённо не была результатом их различных взглядов на антисемитизм, поскольку отношение издателя к евреям несомненно соответствовало юдофобии Гитлера. Даже жена Леманна, Мелания, несмотря на свои собственные националистические взгляды, была испугана одержимостью своего мужа антисемитизмом. 11 сентября 1919 года она написала в своём дневнике, что только что прочла «в свободное время книгу против евреев — Judas Schuldbuch („Книга вины и долгов Иуды“)», добавляя: «Юлиус как раз работает так много в области антисемитизма. Я нахожу эти односторонние обличительные речи ужасающими. Я вижу, что да, чрезмерная власть иудаизма должна быть обуздана, так, чтобы их доминирование в прессе не разрушало наших людей, но я просто не могу это выносить, и это противоречит моему сокровенному чувству справедливости — делать евреев ответственными за наши текущие невзгоды и за всё, что было вызвано нашей германской слабостью и недостатком патриотизма и национальной гордости. […] Для Юлиуса и для меня представляет трудность в отношении этого вопроса, что у нас нет полного согласия. Он нападает со всей предвзятостью и безразличием авангарда на противника».
Леманн — чей издательский дом специализировался на медицине, расовой гигиене, расовой теории, антисемитизме, а также на военно-морских и военных областях — определённо думал, что книги, которые он публиковал, будут представлять большой интерес для Гитлера. Сегодня в Библиотеке конгресса в Вашингтоне, округ Колумбия содержатся приблизительно 1200 сохранившихся книг из личной библиотеки Гитлера, которая к 1945 году состояла примерно из 16 000 наименований, включая четыре книги, опубликованные Леманном до 1924 года, на которых имеется написанная от руки дарственная надпись Гитлеру. Невозможно сказать, сколько всего книг Леманн послал Гитлеру до этого года. Однако сохранившиеся экземпляры книг, которые Леманн дал ему, равно как и другие, которые Гитлер либо купил сам, либо они были даны ему другими людьми, проявляют читательские предпочтения Гитлера между концом Первой мировой войны и его попыткой переворота в ноябре 1923 года и тем самым проливают свет на его эволюционирующие политические идеи.
Гитлер регулярно посылал вежливые, но формальные записки Леманну, благодаря его за посылаемые им книги, но сохранял дистанцию. В середине 1920-х он всё ещё обращался к нему формально как «Высокоуважаемый господин Леманн!» Похоже, что Гитлер в своей комнате на Тирштрассе оставлял непрочитанными большинство книг, которые Леманн посылал ему. Действительно, большинство книг, полученных им от Леманна или других людей до 1923 года, не имеют ни пометок, ни вида изрядно зачитанных книг. Из четырёх сохранившихся книг, посланных Леманном, только первые тридцать страниц книги Гуго Кершнаве — сборника военных мемуаров австрийских ветеранов Первой мировой войны — несут видимые следы того, что они были прочитаны, хотя три остальные книги были более политическими по сути и включали наиболее известную книгу по расовой теории, опубликованную на немецком языке в двадцатом веке: Rassenkunde des deutschen Volkes («Расовая наука немецкого народа») Ганса Гюнтера. Если Гитлер читал посылаемое ему Леманном, то это, скорее всего, были военные мемуары и военно-морские календари, чем книги по радикальной теории. Например, Гитлер писал ему в 1931 году: «Моя сердечная благодарность Вам за присланные последние издания Вашего издательского дома, некоторые из которых я прочитал с большим интересом. Статистические сборники всегда имеют для меня особенную ценность, как в этом случае „Справочник по военно-воздушным силам“».
Единственный раз, когда, похоже, Гитлер написал Леманну длинное письмо, это когда 13 апреля 1931 года, полагая, что он находится под атакой со стороны Пангерманской Лиги, надеялся, что издатель вмешается от своего имени. «Если я стал выступать против деятельности Пангерманской Лиги или её прессы, то это сделано просто по причине того, что я не желаю сидеть за одним столом с этими силами в будущем, которые при первом удобном случае и благоприятной возможности предадут меня столь бесчестным образом». Он добавит: «Но у меня всё ещё имеется слабая надежда, что даже в Пангерманской Лиге возможно всё же есть несколько человек, которые могут подвергнуть сомнению точность, полезность и благопристойность Deutsche Zeitung [газеты Пангерманской Лиги]».
В течение 1930-х, хотя Леманн и он жили в одном городе, и несмотря на то, что его партии в то время почти всегда недоставало денег, у Гитлера не было интереса в общении с человеком, который был, возможно, его самым большим финансовым спонсором в Мюнхене в начальные годы NSDAP. Когда Леманн писал Гитлеру письмо на смертном одре 12 марта 1935 года, он ссылался на личную встречу, которая у них была в 1923 году, в таких словах, которые указывают на то, что личное взаимодействие между Гитлером и им было необычным событием: «12 лет назад Вы нанесли мне визит в моём издательском доме, и я использовал эту возможность тогда обратиться к Вам лично». Отсутствие регулярных встреч Гитлера и наиболее значительного мюнхенского издателя книг по правой расовой теории было бы чрезвычайно странным, если бы у Гитлера не было презрения к людям, которых он соотносил, по праву или ошибочно, с видением партии Харрера. Однако его старание держать Леманна на дистанции могло также иметь другую причину.
Странным образом, но до написания Mein Kampf Гитлер никогда не проявлял какого-либо настоящего интереса к расовой теории. Для него раса была интересна только как инструмент, с помощью которого создаётся противопоставление между евреями и «ариями». Это позволяло ему говорить о вредном влиянии евреев в распространении финансового капитализма и большевизма практически таким же образом, как Чемберлен говорил о расе. Гитлер не выказывал большого интереса к «чёрной» или «жёлтой» расам.
В отличие от более поздних изданий книги Ганса Гюнтера Rassenkunde des deutschen Volkes («Расовая наука немецкого народа»), которые имеются среди сохранившихся книг Гитлера в Библиотеке Конгресса, издание 1923 года книги Гюнтера, которое Леманн дал Гитлеру, не несёт видимых следов того, что книга была исчерпывающе прочтена. Гюнтер, литературный филолог из Фрайбурга в юго-западной Германии, ставший социальным антропологом, впервые опубликовал «Расовую науку» в предыдущем году. Книга, включавшая более пятисот иллюстраций, изображает в графических деталях расовую иерархию с нордической расой наверху, и приписывает характеристики, равно как и телесные черты, каждой расе. В будущем идеи Гюнтера нанесут глубокий отпечаток и на Гитлера, и на политику, относящуюся к «расовой чистоте», проводившуюся Третьим Рейхом, включая результирующий Холокост. Однако пока её воздействие на Гитлера было ограниченным, даже хотя в угоду тем людям в партии, что были одержимы расовыми идеями, книга Гюнтера была включена в список из сорока одной книги, что были перечислены как рекомендованные для чтения, на обратной стороне членского билета NSDAP, напечатанного в 1923 году. В то время, когда Гитлер поддерживал альянс с русскими монархистами и присоединился к взгляду на арийскую традицию, который оставлял место для греческих и римских традиций, идеи Гюнтера имели для него ограниченную привлекательность.
Ещё меньше интереса Гитлер проявлял к работам по нордическому оккультизму и мистицизму. Иногда сторонники давали ему книги по оккультизму или другие печатные произведения, в которые они вписывали посвящения, содержавшие ссылки на оккультизм. Например, на его день рождения в 1921 году Бабетт Штайнингер, доктор, специализировавшаяся на болезнях лёгких, вступившая в NSDAP в самом начале, дала ему копию Nationalismus («Национализм») бенгалийского писателя Рабиндраната Тагора, в которую она вписала слова: «Iogare, wodan wigiponar. Господину Адольфу Гитлеру, моему дорогому Арманскому брату». Обращаясь к Гитлеру как к её «Арманскому брату», она равнялась на австрийского оккультиста Гвидо фон Листа.
Мы не можем знать, как много из книги Тагора прочёл Гитлер. Однако та страница в книге, что обсуждает «проблему расы» явно была прочитана, поскольку на ней есть маленькая дыра, отремонтированная и снова покрытая. Что бы Гитлер ни извлёк из обсуждения расы бенгалийского писателя, факт, что Штайнингер дала книгу Гитлеру, наводит на мысль, что люди, лично знавшие в 1921 году Гитлера, не ассоциировали с ним в то время расизм Гюнтера. «Но с начала нашей истории Индия всегда ясно видела свою проблему — расовую проблему», — писал Рабиндранат Тагор. Тагор полагал, что различные расы должны найти способ жить друг с другом. «[Индия] искала способы сосуществования для различных рас, возможность сохранять реальные различия там, где они существуют, и, тем не менее, находить взаимопонимание. Это взаимопонимание было найдено нашими чтимыми святыми людьми, такими как Нанак, Кабир, Чайтанья и другими — которые проповедовали тождество Бога всем расам Индии».
В дополнение к книге, которая была опубликована в 1921 году как часть серии про алхимию, Каббалу (еврейская эзотерическая идея), масонство, ведьм и дьяволов, Гитлеру значительное количество изданий об оккультистских и других идеях дали энтузиасты доисторического германского прошлого. Однако он не озаботился изучением рун и доисторических языческих культов, и он не стремился к возрождению древнего германского прошлого. Гитлер верил, по крайней мере вначале, скорее в арийскую теорию, чем в специфическую нордическую традицию. Его арийство влекло за собой веру в превосходство европейцев, которое, как упоминалось ранее, было основано на эллинской и римской традициях. Его отрицание нордических культов было также эстетическим, поскольку в сфере искусств он также видел себя в традициях Греции и Рима. Гитлер любил искусство эпохи Возрождения, и он любил оперы Верди почти так же сильно, как он обожал оперы Вагнера.
В Mein Kampf Гитлер станет набрасываться на людей, интересующихся оккультизмом и мистицизмом: «В целом даже тогда, а также и в последующее время, я должен был снова и снова предостерегать о тех странствующих народных грамотеях, чьи позитивные достижения всегда равны нулю, но чьё самомнение едва ли может быть превзойдено». Его нападение на одержимых доисторической Германией следует рассматривать как напористую атаку на Общество Туле и на тех, кто пытался внедрить концепцию Туле при строительстве DAP/NSDAP: «Столь же мало, как бизнесмен, деятельность которого в течение сорока лет методично разрушала большое дело, подходит на роль основателя нового, так и такая группа древних старцев (которые в то же самое время обесценили великую идею и омертвили её) подходит для лидерства нового и молодого движения!» Гитлер продолжал:
Характеристикой большинства этих личностей является то, что они изобилуют старым германским героизмом, что они пируют в смутном прошлом, каменных топорах, копьях и щитах, но что по природе своей они такие величайшие трусы, каких только можно вообразить. Для тех же людей, что размахивают старыми германскими тщательно имитированными жестяными мечами и носят выделанные медвежьи шкуры с рогами быка, покрывающие их бородатые головы, всегда проповедуют для настоящего времени только борьбу посредством духовного оружия и быстро ретируются при виде любого громилы-коммуниста. У последующих поколений будет мало поводов для прославления их героического существования в новом эпосе.
Интерес Гитлера к германскому прошлому был чрезвычайно избирательным и носил скорее исторический, чем квази-религиозный характер. Например, в Mein Kampf он станет прославлять «германскую демократию», то есть выборы вождя с высочайшей властью в сравнении с парламентской демократией западного типа.
Несмотря на ограниченный интерес Гитлера к некоторым из присланных ему книг, он тем не менее был книгочеем. Его страстью с поры взросления в деревенской Австрии было чтение. Он не проявлял интереса к художественной литературе, предпочитая историю, военное дело, искусство, архитектуру, технологию и инженерное искусство, до некоторой степени философию и превыше всего энциклопедические статьи. Как выразился Эссер, основной интерес Гитлера в чтении был в «современной политической истории того времени. […] В действительности, никаких произведений идеологической природы, но исторические интерпретации. Например, он никогда не занимался произведениями социо-революционеров, Маркса, Энгельса и так далее». Вдобавок, «Он очень пристрастился к чтению исторических произведений. Он приобрел для себя все работы о Фридрихе Великом, затем о принце Ойген [Евгении]. Затем всё по военной истории Первой мировой войны. […] Я также полагаю, что у него был [Леопольд фон] Ранке. И у него был Шопенгауэр». Гитлер также старался прочитать всё, что он мог достать про Вагнера. Свидетельство Эссера подтверждает, что до 1923 года интерес Гитлера к расизму и социальному дарвинизму был ограниченным: «Он также не читал Дарвина. Только впоследствии он познакомился с Дарвином. Это всё произошло после 1923 года. До того это всё было по истории. Военная история и историческая тематика».
Книги из личной библиотеки Гитлера в Библиотеке Конгресса, которые были опубликованы до его вступления в DAP и те, которые он, скорее всего, приобрёл сам, подтверждают, что его основной интерес был в истории и искусстве. Они включали историю Французской революции, историю фортификации Страсбурга, книгу о встрече немцев с Ренессансом в Италии, архитектурные планы для муниципального театра Кракова, путеводитель по искусству Брюсселя и сборник карикатур на Бисмарка. Кроме того, у Гитлера была книга, опубликованная в 1900 году, которая сейчас принадлежит университету Брауна, об истории Траунштайна в девятнадцатом веке, которую предположительно он купил во время своей службы в городе зимой 1918–1919 года. Из книг, хранящихся в Библиотеке Конгресса, сборник карикатур, похоже, читался больше всего, в то время как из книг по оккультизму и по расовой теории, которые были даны Гитлеру между его вхождением в политику и 1923 годом, выглядят так, как если бы они лежали на полке нечитанными.
Его ранняя антибританская враждебность, между тем, также нашла своё выражение в другой из его книг, «Книга вины Англии в порабощении мира в 77 стихотворениях» (Englands Schuldbuch der Weltversklavung in 77 Gedichten) Адолара Эрдманна, опубликованную в 1919 году. Другим индикатором предпочтений Гитлера книг по истории и по текущим делам состоит в том факте, что между 1919 и 1921 годом он брал различные книги по истории, политическим и социальным идеям и антисемитизму в библиотеке с правым уклоном в Мюнхене. Он также брал на время книги у своих товарищей, склоняясь к книгам по истории Французской революции и о Фридрихе Великом.
Гитлер редко читал книгу от корки до корки. Вместо того, чтобы стараться понять текст в его собственных терминах и во всей его сложности, он пролистывал работы по философии и политическим идеям, ища подтверждения своих возникающих идей, новых вдохновений, или фразы, которые выразили бы его идеи лучше, чем он мог это делать ранее. У него был ум пытливого самоучки. Заманчиво посмеяться над стилем чтения Гитлера, хотя его техника в одинаковой мере обычна среди людей с более мягкими политическими идеями.
Каковы были результат и назначение его стиля чтения? Он был предназначен прежде всего и более всего для подтверждения его существовавших прежде идей. Его чтение вдохновлялось склонностью к подтверждению. Он погружался в книги и выходил из них, чтобы искать идеи, подтверждающие его убеждения, в то же время игнорируя или преуменьшая значимость противоречащих идей. Это объясняет, почему Гитлер так же, как люди на противоположном конце политического спектра станут обращаться к работам Иммануила Канта, Фридриха Ницше и других философов для оправдания конкурирующих мировоззрений, у которых мало общего, если оно вообще имеется. И вот почему так трудно измерить относительную важность влияния на Гитлера печатных изданий, с которыми он был знаком. В то время как достаточно легко найти отзвуки работ различных писателей и мыслителей в его речах и статьях, гораздо труднее различить влияния, которые на самом деле сформировали Гитлера, от тех, к которым он впоследствии обратился, ища подтверждения.
Тем не менее, было бы слишком просто видеть только стремление найти подтверждение в его чтении. В действительности произошёл ограниченный сократический диалог между Гитлером и его идеями, с которым он был связан. Даже хотя он отбрасывал большинство противоречащих свидетельств во время чтения, он тем не менее натыкался на новые идеи, которые вначале он часто сохранял на периферии своего сознания. Когда и если политический контекст, в котором он оперировал, менялся, он иногда возвращался к тем идеям в поисках вдохновения — как наилучшим образом реагировать на новую ситуацию. В 1924–1925 годах это станет верным для работ Ганса Гюнтера о расе в то самое время, когда природа расизма Гитлера фундаментально изменилась.
Как показывает книга, данная ему в середине апреля 1923 года, к весне того года Гитлер всё ещё верил в то, что альянс между немцами и русскими славянами решит стратегическую проблему Германии, и, соответственно, он не выказывал того вида расизма по отношению к славянам, который станет для него столь важным в середине 1920-х. Он гораздо более верил в то, что такой альянс станет бороться с тем, что он видел как вредное влияние евреев. Как указывает посвящение, написанное 10 апреля на книге её автором Николаем Снесаревым, он и Гитлер недавно встречались. Снесарев был шестидесятисемилетним бывшим журналистом русской националистической газеты «Новое время» и бывшим членом городской Думы Санкт-Петербурга. В изгнании он стал одним из ведущих сторонников великого князя Кирилла, обосновавшегося в Кобурге претендента на русский трон.
Книга, которую Снесарев дал Гитлеру, Die Zwangsjacke («Смирительная рубашка»), заявляла, что «Фашизм предлагает первую реалистическую возможность для европейской цивилизации спастись от своего неминуемого крушения». Однако Снесарев доказывал, что не осталось времени ждать триумфа фашизма во всей Европе, и он писал, что в краткосрочной перспективе только альянс между Германией и Россией сможет спасти Европу: «Объединённая Германия и объединённая Россия. Не начало ли это осуществления величайшей и и наиболее гуманной мечты нашего времени — объединение двух самых молодых, но также и самых энергичных народов нашего старого мира?»
Взаимоотношения Гитлера и Николая Снесарева были лишь самой последней главой в попытке Гитлера, Шойбнер-Рихтера и других первых национал-социалистов выковать постоянный альянс с русскими националистическими монархистами для защиты от «коммунистов и еврейского интернационала». Например, Владимир Бискупский, сопредседатель Aufbau, равно как и лидер пан-российской Военной Лиги Русского народа, видел в Гитлере изумительно «сильного человека» и развивал тесные связи с ними. Кроме того, Фёдор Винберг, «белый» активист русского Aufbau, который переиздал «Протоколы сионских старцев» после своего прибытия в Германию, проводил продолжительные встречи и личные дискуссии с Гитлером летом и осенью 1922 года. Гитлер, между тем, осенью 1922 года поддерживал притязания великого князя Кирилла на русский трон и в благодарность за это получил большие суммы денег от Кирилла (см. илл.14). Гитлер, его товарищи и великий князь Кирилл стали настолько близки друг к другу, что жена Кирилла, великая княгиня Виктория Фёдоровна, останавливалась в доме Шойбнер-Рихтера в ночь путча Гитлера в ноябре 1923 года.
Гитлер также продолжал публично высказываться о России в хвалебном духе. Например, в своей речи 4 августа 1921 года он сказал: «Война оказалась особенно трагичной для двух стран: Германии и России. Вместо того, чтобы войти в естественный союз друг с другом, оба государства заключили показные альянсы себе в ущерб». На следующий год, через день после его 33-летия, он призвал русских «стряхнуть своих мучителей» (т. е. евреев), после чего Германия сможет «стать ближе» к русским.
Чем дольше Гитлер был под влиянием Шойбнер-Рихтера и чем больше он взаимодействовал с русскими монархистами, тем больше он говорил о необходимости противостоять угрозе большевизма. Например, статья на первой странице в Völkischer Beobachter, опубликованная 19 июля 1922 года и подписанная «руководство партии», представляла NSDAP как вовлечённую в антибольшевистскую борьбу. «Германия стремится к большевизму гигантскими шагами», — говорилось в ней. Руководство партии под предводительством Гитлера заявляло — немцы должны понять, что «следует сражаться сейчас, если хочешь жить». Они изображали борьбу с «еврейским большевизмом» как борьбу, в которой решается вопрос жизни и смерти, подобно тому, как Дитрих Экарт призывал Пер Гюнта и немцев вести смертельную схватку с троллями мира.
Сдвиг Гитлера к заговорщическому антисемитизму под влиянием Экарта, Розенберга, Шойбнер-Рихтера и других эмигрантов из царской России получил подпитку в 1922 году после публикации немецкого перевода книги Генри Форда «Международный еврей» (The International Jew). Опубликованная изначально на английском языке в четырёх частях между 1920 и 1922 годами, The International Jew была написана американским промышленником, основавшим автомобильную компанию Ford. Мысли Форда питались как доморощенными западными традициями антисемитизма, так и русскими идеями о мировом еврейском заговоре. Мысли, выраженные Фордом, не отличались существенно от тех, с которыми был до этого знаком Гитлер. Однако книга Форда важна, поскольку она обеспечила Гитлеру подтверждение, пришедшее из самого сердца Америки, идеи, созревавшей в его сознании с первого дня его политизации и радикализации, и усовершенствованной влиянием Розенберга, Шойбнер-Рихтера и Экарта: а именно, что еврейский финансовый капитализм составляет самую суть центральной проблемы, стоящей перед миром. Если подробнее — что еврейские финансисты были за кулисами всемирного заговора с целью порабощения мира, в котором еврейский большевизм был частью. Таким образом, Генри Форд стал символом антисемитизма для Гитлера.
Как сообщала в декабре 1922 года газета New York Times, «Стена за столом Гитлера в его частном офисе украшена большим изображением Генри Форда». Газета также сообщала, что в вестибюле офиса было множество копий немецкого перевода книги The International Jew. На следующий год Гитлер скажет журналисту из Chicago Tribune в ответ на вопрос о его мыслях относительно возможного выдвижения Форда на пост президента США, что он хотел бы отправить некоторое количество своих отрядов SA в Чикаго и в другие главные города США, чтобы помочь Форду в его избирательной кампании. Даже во время Второй мировой войны Гитлер в своих монологах в своей военной ставке всё ещё будет обращаться к работе Генри Форда по антисемитизму.
Примерно в то время, когда Генри Форд стал важен для него, и когда в целом он надеялся получить американскую поддержку, Гитлер начал несколько снижать и скрывать свой антиамериканизм. Например, в одной из своих речей он размышлял: «Если бы Вильсон не был бы мошенником, он не стал бы президентом Америки». Когда в 1923 году NSDAP подготовила сборник речей Гитлера для опубликования в виде книги, то ссылка на Америку была убрана из этой речи. Теперь в ней было следующее: «Если бы Вильсон не был бы мошенником, он не стал бы президентом демократии». Когда спустя десять лет книга была переиздана, цитата полностью исчезла из речи.
К осени 1922 года дела пошли в самом деле очень хорошо для Гитлера и NSDAP. Он был её неоспоримым главой. Под его руководством партия распространялась по всей Южной Германией и начала также вторгаться в центральную Германию и другие регионы страны. Особенно большой триумф он пережил в октябре, когда Юлиус Штрайхер, один из сооснователей Немецкой Социалистической партии, у которого было огромное количество сторонников в Нюрнберге, Франкония, перешёл в NSDAP. Штрайхер привёл за собой столь много новых членов, что членство в партии удвоилось.
Снижая накал своего антиамериканизма, посредством аккуратных тактических компромиссов, и очаровывая — а не уничтожая — тех, кого он оттеснил на второй план или чьи идеи он находил неинтересными или бесплодными, Гитлер начал увеличивать свою привлекательность. Тем временем он продолжал работу по установлению постоянного немецко-русского союза. И казалось, что дела идут по его плану. Через два дня после объединения сил Штрайхера с Гитлером Бенито Муссолини отправился в свой «марш на Рим». Спустя неделю он был премьер-министром Италии. Среди сторонников Гитлера было чувство возбуждённого ожидания — если Муссолини смог привести к власти фашизм в Италии, то Гитлер вскоре будет способен сделать то же самое в Баварии.
Однако NSDAP всё еще не смогла решить свои финансовые проблемы. Мюнхен оставался весьма недоступным местом для получения Гитлером и его партией больших пожертвований. Даже хотя общая политическая ситуация была благоприятна для роста NSDAP, царило чувство разочарования от неудачи убедить достаточно большое число состоятельных людей в Мюнхене оказать партии поддержку и дать ей денег для роста. Гитлер и внутренний круг членов NSDAP поэтому обратились к отчаянным мерам в попытках добыть деньги за границей, надеясь извлечь выгоду из того, что Рудольф Гесс проводил зимний семестр 1922–1923 гг. в Цюрихе и начал регулярно общаться с Ульрихом «Улли» Вилле на вилле Шонберг. Это был большой особняк, в котором Рихард Вагнер жил в 1850-х годах и который был на расстоянии пешей прогулки от центра Цюриха и от Цюрихского озера.
Вилле был влиятельным должностным лицом и фигурой на правом политическом фланге в Швейцарии. Он был братом фотографа Рене Шварценбах-Вилле, сыном Ульриха Вилле старшего, который командовал швейцарской армией в Первой мировой войне, и другом отеческого наставника Гесса Карла Хаусхофера. Улли Вилле неоднократно поддерживал ультраконсервативные и радикальные правые группы в Германии, налаживая связи с Хайнрихом Классом, бывшим лидером Пангерманской Лиги, и с Альфредом фон Тирпицем, чья жена была родственницей жены Вилле, а также с другими членами Немецкой Национальной Народной партии.
Потеряв большую часть своих денег в военных облигациях Германии во время войны, Вилле не был в состоянии помочь ослабить финансовые заботы движения Гитлера. Однако его сестра Рене была замужем за Альфредом Шварценбах, богатым предпринимателем, который сделал состояние в шёлковой промышленности. Таким образом, Гесс устроил приезд в Швейцарию и переговоры с Рене и её мужем в их поместье в окрестностях Цюриха 1-го ноября 1922 года для Дитриха Экарта и Эмиля Ганссера, фармацевта из Берлина, бывшего главным собирателем денег партии за границей, и который, как и столь многие из первых ведущих национал-социалистов, был протестантом.
Не осталось подробных записей об этом визите. Но поскольку Ганссер и Экарт год спустя вернутся в Цюрих для повторного визита и на этот раз приведут с собой самого Гитлера, то будет верным утверждать, что их встреча со Шварценбахами была весьма удачна для национал-социалистов с финансовой точки зрения.
Записи 1922 года трёх визитёров в гостевой книге поместья Шварценбахов являются свидетельством того, почему руководство NSDAP полагало, что ему срочно нужны дополнительные фонды. Гесс и Ганссер просто вписали свои имена, но Экарт вписал свою «Песню бури» («Sturmlied»), призывавшую всех, живых и мёртвых, отомстить врагам Германии с её известной последней строкой: «Германия, проснись!» Примечательно, что он добавил к песне фразу «В решающий год, 1922». Экарт и его товарищи в руководстве NSDAP явно жили в предвкушении неминуемого захвата Баварии в итальянском стиле под предводительством баварского Муссолини, Адольфа Гитлера, который затем распространится на остальную Германию.
Глава 11. Немецкая девушка из Нью-Йорка
Когда прошло Рождество 1922 года, стало ясно, что в отличие от ожиданий Дитриха Экарта, выраженных в гостевой книге Шварценбахов, 1922 год не будет «годом решения». Однако в Новый Год произошло событие, которое, не вызывая политической трансформации, было чрезвычайно важным для Адольфа Гитлера, поскольку оно обеспечит его домом вдали от дома. И оно обнаружит, кто в Мюнхене откроет для него свои двери и кто в лучшем случае просто будет рассматривать его как политический инструмент, посредством которого можно продвигать свои собственные интересы.
Событие случится в тот день в начале 1923 года, когда Гитлер сядет на трамвай, шедший из Швабинга, артистического района Мюнхена, в центр Мюнхена. В трамвае он повстречался с Эрнстом Ханфштэнглем, германо-американским торговцем репродукциями искусства и выпускником Гарварда, который в 1921 году вернулся в Германию, и с его женой Хеленой. Эрнст Ханфштэнгль был взволнован тем, что он, в конце концов, обрёл шанс представить свою жену Гитлеру. Выпускник Гарварда впервые встретил вождя NSDAP после речи, произнесённой Гитлером в ноябре, когда он представился Гитлеру. Ханфштэнгль был чрезвычайно впечатлён мастерским управлением Гитлера своим голосом и его великолепным применением намёков, издевательским юмором и иронией во время его речи. По возвращении домой Ханфштэнгль не говорил ни о чём другом, кроме как о своём знакомстве с Гитлером, возбуждённо рассказывая своей жене об этом «искреннем, притягательном молодом человеке». С тех пор он и Гитлер встречались несколько раз. Хелена пылко пригласила объект восхищения своего мужа прийти в их квартиру по адресу Гентцштрассе 1 на обед или ужин, как ему будет удобнее.
Гитлер был весьма счастлив принять это приглашение. С его первого визита к Ханфштэнглям, где он сразу почувствовал себя как дома, он приходил в их квартиру более или менее ежедневно. Сама частота визитов Гитлера в их трёхкомнатную съёмную квартиру даёт нам увидеть то, чего ему недоставало в его жизни. К началу 1923 года Гитлер возможно и нашёл политическую обитель, но за пределами этого он всё ещё был обособленным человеком, каким он был в 1919 году, который страстно пытался найти суррогатную семью в Мюнхене.
Если бы он прежде нашёл «дом» и если бы городские средние и высшие слои общества открыли свои двери ему, то трансформация Гитлера в часть жизни Ханфштэнглей без сомнения была бы более постепенной. Но он не нашёл ни того рода дома, где он мог бы просто быть самим собой, ни истинного социального взаимодействия со средним и высшим слоями общества Мюнхена. Единственным другим «суррогатным» домом, какой он нашёл, был дом Гермины Хоффманн, пожилой вдовы учителя и одного из первых членов партии, жившей в пригороде Мюнхена, которую он часто навещал и к которой он обращался — пользуясь нежным южно-немецким уменьшительным для слова мать — как к своей «Mutterl (мамочке)».
Несмотря на последующую славу Эрнста Ханфштэнгля, которая будет произрастать из книг и статей, что он напишет о своём общении с Гитлером, его жена была гораздо более важна эмоционально для Гитлера. Во время своих визитов Гитлер чувствовал притяжение к двадцатидевятилетней блондинке, стройной и высокой — выше, чем сам Гитлер — которая видела себя как «немецкая девушка из Нью-Йорка». Для Гитлера она была, как он будет впоследствии вспоминать, «настолько прекрасной, что рядом с ней всё другое просто исчезало», в то время как для Хелен вождь NSDAP был «пылким мужчиной», который, как она будет вспоминать позже в своей жизни, «имел восхитительную привычку открывать свои большие голубые глаза и использовать их».
Родившиеся и выросшие в Нью-Йорке, немецкие родители Хелен всегда говорили с ней на немецком языке. Даже хотя она и настаивала, что её чувства были «чувствами немки, не американки», у неё была смешанная идентичность. Она говорила, что порой думала на немецком, а порой на английском. Для всех в Мюнхене она была просто die Amerikanerin (американка). Так что это с «американкой» — которая, подобно Гитлеру, была немкой из-за границы и которая также сделала Мюнхен своим домом, не принадлежа по-настоящему к нему — он чувствовал себя непринуждённо. Был ли он сексуально увлечён Хелен или нет — её квартира начала быть его домом в Мюнхене.
Когда она готовила ему обеды в импровизированной кухне, которую она с мужем соорудила за кустарной перегородкой в вестибюле их квартиры, или когда Гитлер растворял ломтики шоколада в своём черном кофе, Гитлер и Хелен лучше узнавали друг друга. Временами он разговаривал с ней о своих планах на будущее для партии и Германии. Или он просто тихо сидел в углу, читая или делая заметки. В других случаях он разыгрывал в реалистичной манере случаи из своего прошлого, проявляя свой дар и любовь к драме, или просто играл с двухлетним сыном Хелен, Эгоном, к которому он вскоре стал очень привязан, поглаживая его и выказывая ему свою привязанность. Каждый раз, когда он приходил в её квартиру, Эгон подбегал к двери поприветствовать «дядюшку Дольфа».
Для Хелен Гитлер был не восходящей звездой и оратором политической партии, а «худощавым, застенчивым молодым человеком с отрешённым взглядом в его очень голубых глазах», который одевался бедно в дешёвые белые рубашки, черные галстуки, поношенный тёмно-синий костюм с несочетающейся тёмно-коричневой кожаной жилеткой и дешёвые чёрные туфли, который за пределами её квартиры надевал «бежевый плащ, неподходящий для носки», и «мягкую, старую серую шляпу». Это была характеристика, которая была бы немедленно распознана другими женщинами, знакомыми с рядовым Гитлером. Словами Ильзе Проль, будущей жены Рудольфа Гесса, которая тоже описывала Гитлера как «скромного», и «он был очень, очень вежливым, это в нём было австрийское».
В одном из их многих разговоров Гитлер признался Хелен, что ребёнком он хотел стать проповедником: что он оборачивался передником матери как стихарём, взбирался на табуретку в кухне и изображал произнесение долгих проповедей. Возможно, не понимая этого, он открывал Хелен Ханфштэнгль не только то, что он прослеживал истоки своего стремления говорить с массами людей в своё раннее детство, но то, что он, в конечном счёте, предпочитал говорить людям, нежели чем разговаривать с людьми. Очевидно, что с раннего возраста он рассматривал коммуникацию с другими людьми как односторонний процесс. Как наблюдала Хелен, даже когда присутствовали только она и её муж, и говорил Гитлер, то он расхаживал туда и обратно. Ей представлялось, что у Гитлера «тело должно двигаться в соответствии с его мыслями — чем более напряженной становилась его речь, тем быстрее он двигался».
Гитлер рассказывал Хелен о своих отношениях с его родителями, но никогда не упоминал своих сестер и брата, даже об их существовании. И он только изредка рассказывал о времени до своего переезда в Вену. Он не сердился, когда она спрашивала его о его прошлом — в отличие от того, как он реагировал на подобные вопросы людей в партии. Однако даже хотя он был счастлив разговаривать о своём отрочестве в Австрии и о своей жизни с момента переезда в Мюнхен, он по-настоящему не разговаривал с ней о своих переживаниях в Вене. Упоминания о его пребывании в австрийской столице случались только в его частых тирадах против евреев города. В 1971 году она заметила: «Он был действительно очень уклончив в разговорах о том, что он действительно делал [в Вене]». Хелен полагала, что что-то личное должно было произойти с Гитлером в Вене, за что он проклинал евреев и о чём он не мог или не хотел разговаривать: «Он взрастил это — эту ненависть. Я часто слышала его тирады относительно евреев — абсолютно личное, не просто политическое».
Хелен Ханфштэнгль вполне могла быть права. Он не только не хотел разговаривать с кем-либо о своих годах в Вене, но он также продолжал скрывать реальную дату своего переезда в Мюнхен. Все свидетельства подтверждают, что Гитлер не прибыл в Мюнхен до 1913 года. Однако в статье для Völkischer Beobachter от 12 апреля 1922 года он заявлял, что переехал из Вены в Берлин в 1912 году. То же самое заявление он сделал во время судебного процесса над ним, последовавшего за провалившимся переворотом в 1923 году.
Гитлер не просто сделал одну и ту же ошибку дважды, поскольку в кратком наброске биографии, который он включил в написанное им письмо Эмилю Ганссеру, главному сборщику денег для партии за границей, он сделал идентичное заявление. И он сделает это снова в 1925 году в заявлении австрийским властям, прося освободить его от австрийского гражданства. Никогда не было окончательно понято, почему Гитлер добровольно сместил на год раньше дату своего прибытия в Мюнхен.
Хотя Хелен была эмоционально ближе к Гитлеру, чем её муж, Эрнст также становился всё более важен для Гитлера в течение 1923 года. Он познакомил его с американскими песнями колледжей и футбольных команд Гарварда, которые Гитлеру понравились. По словам Эрнста, восклицание «Sieg Heil», использовавшееся впоследствии на всех съездах и политических митингах нацистов, было прямым копированием техники, использовавшейся группами поддержки в американском футболе. Более того, Эрнст Ханфштэнгль предлагал для политического движения Гитлера свой опыт в бизнесе, равно как и впечатления об Америке. Например, Эрнст проявил особенный интерес к Völkischer Beobachter и убедил Гитлера увеличить газету до размера американской страницы.
Ни происхождение его семьи из Мюнхена, где он вырос как ребёнок и юноша, ни время, проведённое на другой стороне Атлантики, не сделали его естественным, почти неизбежным новообращённым для движения Гитлера. Его родители, дружившие с Марк Твеном, имели космополитичное мировоззрение. Причина, по которой он в первую очередь был привязан к Гитлеру, имела мало общего с чувством вины за то, что он оставался в Соединённых Штатах во время Первой мировой войны или со стремлением компенсировать потерю своего брата во войне. В действительности Эрнст Ханфштэнгль в Америке чувствовал себя дома. Он был женат на «немецкой девушке из Нью-Йорка», провёл предыдущее десятилетие в тесном общении с американским высшим обществом и был наполовину американцем по рождению: его мать была американка. Более того, другой его брат, Эдгар, столь же потерявший брата в войну, как и Эрнст, был после войны одним из основателей мюнхенского отделения либеральной Немецкой Демократической партии.
В Гарварде «Ханфи», как его знали в то время, был центром университетской общественной жизни, очаровывая и развлекая своих соучеников и их семьи своими остроумными и забавными историями и музыкальными представлениями. В результате этого он получал приглашения в их дома, в том числе и в Белый Дом, благодаря дружбе со своим классным товарищем Теодором Рузвельтом младшим. Покинув Гарвард, он принял на себя американское отделение семейного бизнеса по торговле репродукциями произведений искусства на Пятой Авеню.
В 1917 и 1918 годах было время, когда Ханфштэнгль в самом деле не смог бы покинуть Соединённые Штаты и отправиться в Германию, даже если бы он это пожелал сделать. В то время после вступления Америки в войну вследствие связей его семьи с Германией художественный бизнес на Пятой Авеню был конфискован и в конце концов продан. И всё же, даже после войны, Ханфштэнгль не вернулся в Германию сразу, как только он законно мог это сделать.
Во время своего пребывания в Америке после войны Ханфштэнгль не проявлял чувства вины за то, что он оставался на западной стороне Атлантического океана во время войны, и нет признаков того, что он полагал, что предал своего брата, павшего в Первой мировой войне. Вместо того, чтобы поспешить обратно в Германию после войны, Эрнст Ханфштэнгль основал свой новый процветающий собственный бизнес на Пятьдесят Седьмой улице, прямо напротив Карнеги Холл. В послевоенном Манхэттене он наслаждался обслуживанием знаменитых, богатых и влиятельных людей Америки, включая Чарли Чаплина, Дж. П. Моргана младшего и дочь президента Вудро Вильсона, а также обедая в клубе «Гарвард» с Франклином Д. Рузвельтом, кандидатом в вице-президенты в 1920 году, и с другими. Только спустя три года после войны Ханфштэнгль наконец решил вернуться в Германию.
Если вкратце, то в недавней истории Ханфштэнгля и его семьи было мало того, что поставило бы его на дорожку, ведущую в объятия Гитлера. Более того, чем отстраняться от политики США, их идеалов и институций, он был социально так близок, как это возможно, к американскому политическому истэблишменту Республиканской партии и Демократической партии — хотя он предпочитал первую второй.
Вернувшись в Мюнхен, вместо того, чтобы посвятить себя отмщению за смерть во время войны своего брата, он изучал историю и работал над сценарием фильма с восточноевропейским еврейским писателем Рудольфом Коммером, которого он знал со времени своего пребывания в Нью-Йорк Сити и который, подобно ему, вернулся в Европу и теперь жил в южной Баварии. Очевидно, что Ханфштэнгль не начал бы общаться с Гитлером, если бы он нашёл суть его идей глубоко отталкивающими. Но учитывая его послужной список и его характер и личность, похоже, что он был привлечён движением Гитлера прежде всего потому, что оно предлагало ему эмоциональное возбуждение и дух приключений в городе и в политическом окружении, которое он должен был ощущать как провинциальную деревню после лет, проведённых в Гарварде и в Нью-Йорк Сити.
Историческая роль Ханфштэнгля также не состоит в открывании дверей для Гитлера в высшее общество Мюнхена, поскольку его способность открывать двери для Гитлера в истэблишмент города была ограничена. Он сам был лишь маргинальной его частью, что очевидно из факта, что после более чем десятилетия, проведённого в Америке, он говорил на немецком с германо-американским акцентом. И он вряд ли мог обратиться к своему брату в либеральной Немецкой Демократической партии и попросить его устроить для Гитлера представление мюнхенскому высшему обществу.
Скорее Эрнст Ханфштэнгль помог Гитлеру войти в маленькую американскую и германо-американскую общину в Мюнхене, устраивая встречи с таким людьми, как Вильям Байярд Хэйл и германо-американский художник Вильгельм Функ. Как и Ханфштэнгль, Хэйл был человеком Гарварда, и он был европейским корреспондентом для прессы Хёрста. После своей работы в военное время в качестве немецкого пропагандиста Хэйл был подвергнут остракизму в Соединённых Штатах и, таким образом, жил, выйдя в отставку, в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. И по свидетельству Ханфштэнгля это в салоне Функа Гитлер встретил принца Гвидотто Хенкель фон Доннерсмарк, высшего аристократа из Верхней Силезии, у которого мать была русская. Один из самых богатых людей Германии, чьё родовое гнездо находилось в части Силезии, перешедшей к Польше, он теперь жил в Роттах-Эгерн на Тегернзее в предгорьях Альп.
Единственной мюнхенской видной семьёй, кому Ханфштэнгль, похоже, представил Гитлера, была семья Фридриха Аугуста фон Каульбах, бывшего директора Академии Искусств Мюнхена и широко известного художника, который умер в 1920 году. Даже вдова Каульбаха, Фрида, едва ли была урождённой баваркой. Датчанка из Копенгагена, она путешествовала по миру в качестве виртуоза игры на скрипке, и когда влюбилась в Каульбаха, который был на двадцать один год её старше, она сделала Мюнхен своим домом. В 1925 году одна из их дочерей, Матильда фон Каульбах, выйдет замуж за Макса Бекманна, который в глазах национал-социалистов станет символом изготовителя «дегенеративного» искусства.
Несмотря на всевозможные старания своего друга, Гитлер оставался большей частью отрезанным от социальной жизни местного верхнего и верхнего среднего классов Мюнхена, и, таким образом, в 1923 году ему не удалось приобрести новых и состоятельных покровителей в высшем обществе Мюнхена.
Семейство Ханфштэнглей, между тем, стало центром общения для множества товарищей Гитлера, которые, подобно ему и Ханфштэнглям, не были рождены в Германии или жили за границей многие годы. Хелен вскоре стала особенно близка к новой невесте Германа Геринга, которая впервые встретила Гитлера в октябре 1922 года и стала женой главы SA в декабре. Рождённая в Швеции Карин Геринг, чья мать была ирландкой и у которой также были немецкие предки со стороны отца, проводила много времени в компании «немецкой девушки из Нью-Йорка» или в квартире Ханфштэнглей, или в присутствии их соответственных мужей в курительной и барной комнате под гостиной (в которую можно было попасть через откидной люк в полу) в доме Геринга в одном из предместий Мюнхена.
Поразительно то, что в первые годы NSDAP австрийский немец Гитлер общался со столь многими этническими немцами, которые выросли за границей, смешиваясь с германо-американцами, швейцаро-немцами, немецкими русскими и даже с немцами-египтянами. Им восхищались многие люди из скромных кругов в Мюнхене, которые чувствовали себя жертвами социальных или экономических перемен, жившие в городе протестанты, католики, хотевшие порвать с интернационализмом своей церкви, и юные идеалистические студенты. Баварский истэблишмент между тем не видел в нём ничего, кроме талантливого инструмента, который они надеялись использовать для конституционных соглашений в пользу Баварии. Они не предвидели, что наоборот, Гитлер может ими воспользоваться.
Гитлер предпочитал компанию своей новой приёмной семьи, а не компанию своей семьи истинной. Так, в конце апреля 1923 года он вовсе не был рад неминуемому визиту своей сестры Паулы в Мюнхен. Даже хотя она покинула Австрию в первый раз в своей жизни, чтобы увидеться с ним, он делал всё, что мог, для минимизации времени, проводимого с ней. Удобным образом в его комнате на Тирштрассе не было места, чтобы ей разместиться. Так что он спросил Марию Хиртрайтер, которую он знал с тех пор, как пятидесятилетняя владелица канцелярского магазина вступила в партию вскоре после него самого, не могла бы Паула остановиться у неё на время пребывания в Мюнхене.
Хотя Гитлер не был особо озабочен визитом своей сестры, он сообразил, что визит Паулы обеспечит ему отличное прикрытие для посещения Дитриха Экарта, который скрывался в Баварских Альпах. Бегство его отеческого наставника в горы было обусловлено публикацией очернительской поэмы о Фридрихе Эберте, президенте Германии. За это Экарт заслужил ордер на арест от Верховного Суда Германии (Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich), располагавшегося в Лейпциге. Со времени своего бегства из Мюнхена Экарт скрывался высоко в горах рядом с Берхтесгаденом, на германо-австрийской границе, в нескольких милях к югу от Зальцбурга, под фальшивым именем: Д-р Хофманн.
Так что Гитлер предложил своей сестре, которая не знала о его скрытом мотиве, что они предпримут поездку в горы. Когда они 23 апреля 1923 года направились на юг в сторону Альп в красном автомобиле с откидным верхом, который тогда был у Гитлера, то с ними были Хиртрайтер, чьей обязанностью было сопровождать Паулу, и Кристиан Вебер как помощник Гитлера и водитель. Оказавшись в Берхтесгадене, двое мужчин оставили женщин исследовать и наслаждаться курортом, сказав, что им надо отправиться на встречу в горах и что они вскоре вернутся.
Гитлер и Вебер направились в горы. Как первый вспоминал в 1942 году, он жаловался Веберу о восхождении: «Вы полагаете, что я буду взбираться в Гималаи, что я неожиданно превратился в горную козу?» Но вскоре они пришли в маленькую деревню Оберзальцберг, деревню фермеров, гостиниц и летних домов преуспевающих людей. Они прошагали по направлению к пансиону Мориц, где Экарт остановился под своим фальшивым именем. Гитлер постучал в дверь комнаты Экарта, зовя «Дидль!» Экарт открыл дверь в своей ночной рубашке, взволнованный при виде своего друга и протеже.
Визит Гитлера к Экарту в горы высоко над Берхтесгаденом, который длился несколько дней, стал его первым знакомством с Оберзальцбергом. Оберзальцберг станет его альпийским убежищем, любимым местом, в которое он станет удаляться, находясь во власти, перед принятием больших решений. Впоследствии он скажет: «В самом деле, это благодаря Дитриху Экарту я оказался здесь». Поездка Гитлера повидать Экарта — равно как его визиты к Ханфштэнглям — также даёт свидетельство того, кто на самом деле имел значение в его жизни: не его настоящая семья, но человек, которого он рассматривал как фигуру отца, и «Немецкая девушка из Нью-Йорка» — тогда как когда у него была возможность провести время со своей сестрой, он покидал её. И вдобавок он использовал Паулу, чтобы иметь возможность увидеть человека, с которым он на самом деле хотел провести время, Дитриха Экарта.
К этому времени Гитлер чувствовал себя как никогда близким к Экарту. И всё же их отношения претерпевали болшую трансформацию. Гитлер недавно заменил Экарта Альфредом Розенбергом на посту главного редактора Völkischer Beobachter, в результате чего Розенберг стал главным идеологом NSDAP. Понижение в должности Экарта было прежде всего следствием осознания того, что Экарт просто не подходил для задачи ведения каждодневных дел. В 1941 году Гитлер скажет: «Никогда я не дал бы ему возглавлять большую газету. […] В один день она была бы опубликована, в другой не была бы». Однако Гитлер всё ещё будет говорить о нём с восхищением и добавит относительно руководства большой газетой: «Я тоже не был бы способен делать это; мне повезло, что у меня есть несколько человек, кто знает, как это делается. Дитрих Экарт также не мог бы возглавлять Reichskulturkammer (Палату Искусств Рейха), но его таланты бесконечны! Это было бы, как если бы я попытался заняться фермерством! Я не смог бы делать это».
Тем не менее, между Гитлером и Экартом во время одного из последующих визитов Гитлера в горы тем летом возникло напряжение, поскольку каждый думал, что другой поставил себя в глупое положение из-за женщины. По словам Экарта, Гитлер ставил себя в неудобное положение тем, что не мог скрыть того, сколь сильно ему нравилась блондинка шести футов роста, жена хозяина гостиницы. В её присутствии его щёки краснели, дыхание прерывалось, а глаза сверкали, в то время как он нервно расхаживал или крутился вокруг неё, подобно достигшему половой зрелости мальчику. Явно раздражённый неодобрением Экарта, Гитлер за его спиной в свою очередь насмехался над ним, говоря, что Экарт «стал старым пессимистом» и «дряхлым слабаком, влюбившимся в эту девушку Аннерль, которая на тридцать лет его моложе». Гитлер также был очень раздражён тем, что Экарт не одобрял того, что он представлял себя политически как «мессия» и сравнивал себя с Иисусом Христом, и был в бешенстве от сомнений Экарта в том, что успешный баварский путч может превратиться в успешную национальную революцию. Экарт заявлял: «Предположим, мы даже добьёмся успеха в захвате Мюнхена при помощи путча; Мюнхен — это не Берлин. Это не приведёт ни к чему, кроме окончательного провала». Ответ Гитлера был таков: «Вы говорите о недостатке поддержки — это не причина медлить, когда придёт время. Начнём выступление, затем сторонники найдутся сами».
Вследствие ненадёжности Экарта в оперативных делах и, несомненно, по причине временного раздражения от него, Гитлер начал пытаться руководить партией без его прямой помощи. Например, он обратился к берлинскому торговцу кофе Рихарду Франку в надежде, что Франк сможет помочь ему улучшить печальные результаты его кампании по сбору денег в Мюнхене. Берлинский предприниматель свёл его с Альфредом Куло, главой Баварской Федерации Промышленников. Однако Гитлер не смог найти общий язык с промышленником Куло на устроенной им встрече, вследствие антимасонских и антисемитских позиций NSDAP. Услышав их условия предоставления малопроцентного займа, Гитлер ответил: «Оставьте себе свои деньги!» — и покинул комнату. Как он вспоминал в 1942 году: «Я понятия не имел, что все они были масонами! Как часто после этого я должен был выслушивать, как люди говорят мне: „Ну, если бы только Вы прекратили всю антиеврейскую агитацию“».
Потерпев неудачу раздобыть необходимые средства в Мюнхене, Гитлер ещё раз попытался использовать Экарта в качестве политического оператора, пока они оба и их соратники продолжали жить в ожидании политического кризиса, которым они могли бы воспользоваться для осуществления захвата Баварии и Германии в стиле Муссолини. Так что Гитлер и Эмиль Ганссер взяли Экарта с собой в поездку в Цюрих в августе 1923 года в надежде, что семья Вилле сможет снова помочь партии, и веря, что присутствие Экарта произведёт нужное действие в этом предприятии.
Даже несмотря на то, что Улли Вилле собрал несколько десятков швейцарских бизнесменов, членов немецкой колонии, а также швейцарских офицеров с правыми взглядами, чтобы 30 августа встретить вождя NSDAP на вилле Шонберг, и обращение Гитлера к его швейцарской аудитории, и его встреча на следующий день с родителями Вилле оказались провальными. Гитлер, Экарт и Ганссер вынуждены были вернуться в Баварию с пустыми руками.
По всей вероятности, миссия Гитлера в Швейцарию провалилась из-за недостаточности общего в политической основе между ним и партнёрами принимавших его швейцарских хозяев. Тем не менее, Гитлер и Ганссер обвиняли поведение Экарта вечером и недостаток социальной обходительности. Как это выразил Ганссер: «Люди там почти что были склонены к новой идее, если бы Дитрих Экарт не напился в первые же часы и не стучал кулаком по столу, и не действовал как слон в посудной лавке. Эти баварские методы здесь неуместны».
Неудача в Швейцарии усилила веру Гитлера в то, что как политический оператор Экарт стал обузой. И всё же он не обращался с ним таким же образом, как с теми, кто стоял на его пути. Харрер был отброшен, Дрекслер был оттеснён в сторону, в то же время с ним продолжали обходиться с внешней вежливостью. Экарта, между тем, просто удалили от оперативных дел по необходимости, вследствие его пристрастия к спиртному, а также его неорганизованности. Тем не менее, эмоционально и интеллектуально Гитлер оставался близок к Экарту, несмотря на их ссору летом, и продолжал в то лето навещать его в горах. Более того, то, как станет говорить Гитлер об Экарте во время Второй мировой войны, показывает, что их отношения не были только лишь политической природы. Это также была эмоциональная связь, чего никогда не было между Гитлером и его сестрой. Например, в ночь с 16 на 17 января 1942 года Гитлер будет вспоминать: «У Дитриха Экарта было так приятно, когда я навещал его на Франц-Йозеф-Штрассе».
Политический кризис в Германии принял резкий поворот к худшему с тех пор, как Экарт написал в гостевой книге Щварценбахов в декабре 1922 года, что пришёл «решающий год». В январе французские и бельгийские войска оккупировали Рурскую область, промышленное сердце Германии, из опасений, что Германия прекратит выплачивать репарации. Этот ход, безусловно, привёл к обратному результату, поскольку иностранная оккупация области укрепила решимость немцев противостоять французам и бельгийцам. То, что последовало, были условия, подобные гражданской войне, длившиеся несколько месяцев. Немецкое правительство тем временем печатало всё больше и больше денег для оплаты репараций и пытаясь наладить экономику страны, тем самым неумышленно производя гиперинфляцию. К лету экономика Германии и её денежная система были в свободном падении.
Вынашивая планы, как наилучшим образом извлечь выгоду как личную, так и для своей партии из ухудшающегося политического кризиса, Гитлер всё меньше и меньше обращался к другим людям за советом в оперативных и тактических делах, всё более полагаясь на свой внутренний инстинкт, а также на своё изучение истории. Продолжая избегать политического стиля, основанного на искусстве компромисса и заключения сделок, он был совершено счастлив совершать лицемерные тактические компромиссы. Другими словами, он охотно делал и говорил что угодно для достижения своих политических целей. Компромисс для него никогда не был подлинным, но всегда только средством. Благодаря своему манихейскому мировоззрению, своей экстремистской личности и природе своих конечных политических целей, Гитлер, в отличие от других политиков, никогда не был удовлетворён компромиссами. Его конечной целью была полная трансформация Германии. Поскольку он полагал эту трансформацию вопросом жизни или смерти, то любой компромисс для него мог быть только тактической и временной природы.
Тактически у Гитлера был поразительный талант представления себя таким образом, который заставлял людей, придерживавшихся противоположных политических взглядов, верить, что он поддерживал их. Например, монархисты думали, что глубоко в своём сердце он был монархистом, в то время как республиканцы полагали, что в действительности он был убеждённым республиканцем. Тот факт, что сохранившиеся книги из личной библиотеки Гитлера включают книгу с множеством пометок о социалистической монархии как государстве будущего, даёт основания полагать, что он искренне пытался понять, какую роль в будущем должны иметь монархии, если они вообще иметь какую-либо роль. Однако публично он не оглашал своё мнение по этому вопросу, но, как вспоминал Германн Эссер, оставался неопределённым касательно своих предпочтений. Таким образом, он позволял монархистам верить, что он поможет им вернуть монархию, в то время как другие думали, что он поможет им основать социалистическое и националистическое государство. Например, в речи 27 апреля 1920 года Гитлер заявлял: «Выбор теперь не стоит между монархией и республикой, но нам следует двигаться к той форме государства, которая в любой данной ситуации является наилучшей для народа».
Странная смесь резких и неопределённых заявлений Гитлера и в начале 1920-х, и впоследствии, всегда будет оставлять открытым вопрос — что было истинным в отличие от тактических заявлений с его стороны. Это позволит людям переносить их собственные идеи на него. Гитлер ухитрился сделать себя холстом, на котором каждый мог нарисовать свой собственный образ него. Как результат, люди несовместимых идей и убеждений станут поддерживать его, даже хотя их образы него сильно различались. Это в свою очередь позволит ему подняться в последующие годы. По пришествии к власти это обеспечит дымовую завесу, за которой он сможет преследовать цели, что часто были отличными по характеру от тех, которые, как думали люди, они поддерживали, идя за ним. Вкратце, он смог представить себя таким образом, который гарантировал, что у каждого есть свой собственный Гитлер, тем самым уполномочивая его преследовать свои собственные политические цели, которые, например, позволяли и монархистам, и их противникам рассматривать Гитлера как одного из их рядов.
Для Гитлера в 1923 году имело чрезвычайное значение не антагонизировать монархистов. NSDAP была крайне мала сама по себе, чтобы быть чем-то иным, кроме как организационной оболочкой или структурой протестного движения. Более того, партия должна была полагаться на добрую волю баварских монархистов и других в политическом истэблишменте, чтобы не быть запрещёнными, как это уже недавно было в Пруссии и в Гессене. Если его партия желала использовать быстро ухудшающуюся политическую ситуацию в Германии и возглавить национальную революцию, то Гитлер должен был попытаться на некоторое время посадить NSDAP на спину более сильного политического движения. Соответственно, ему потребуется сталкивать вождей этого движения друг с другом, и делая это, сокрушить и устранить их тем же самым способом, каким он смог удалить Харрера и Дрекслера от руководства своей собственной партией. Очевидным выбором для Гитлера было идти к власти на спинах баварских и прусских консерваторов.
Объединение сил с монархистами, которые были закоренелыми баварскими сепаратистами и противниками объединённой Германии, конечно же, было для него проклятием. Но сотрудничество с консервативными элементами, мечтавшими о восстановлении баварской монархии, которая будет оставаться в пределах более националистической Германии, тактически было приемлемо. Как вспоминал Эссер, Гитлер не оспаривал их по простой причине — он хотел получить поддержку патриотических союзов, действующих в Баварии. Те союзы де факто были скрытыми военизированными организациями, предназначенными обойти как условия Версальского договора, так и роспуск отдельной Баварской армии, созданной по следам послевоенной революции в Баварии.
Получение поддержки консерваторов Баварии и Северной Германии стало бы внушительным вызовом, не в последнюю очередь потому, что истэблишмент Баварии был глубоко расколот в своём отношении к NSDAP. Чтобы завоевать политический истэблишмент Баварии в качестве сотрудничающей стороны, Гитлер, таким образом, станет представлять себя как человека, который из патриотического долга сделает за них ставки. Поскольку преобладающее большинство членов баварского истэблишмента всё еще имело по меньшей мере монархистские симпатии, Гитлеру пришлось всячески стараться, чтобы не казаться противником монархии. Насколько они знали, будущее баварской монархии всё ещё висело в воздухе. Даже хотя Людвиг III умер в конце 1921 года, ожидалось, что его сын, Руппрехт Баварский, в конце концов провозгласит себя королём, когда политические обстоятельства будут подходящими, поскольку с формальной точки зрения Людвиг никогда не отрекался от трона.
Что помогло Гитлеру, так это то, что увеличивающееся число людей в политическом истэблишменте Баварии, включая многих из тех, кто не уступил демократии, ошибочно думали, что они могут использовать вождя NSDAP как пешку в своей собственной игре. Например, граф Гуго фон Лерхенфельд, который сменил Густава фон Кара на посту баварского премьер-министра в сентябре 1921 года, твёрдо поддерживал парламентскую демократию. В действительности, граф Лерхенфельд хотел сформировать коалиционное правительство из Баварской Народной партии (BVP) и Социал-Демократической партии (SPD). Конечная неудача формирования альянса произошла не вследствие непреодолимого несогласия относительно демократии. Скорее, насколько это имело отношение к BVP, это было результатом нежелания SPD принять то положение, что суверенитет должен прежде всего оставаться у Баварии. Когда годом позже правительство Лерхенфельда потерпело крах, было сформировано более консервативное правительство под руководством ещё одного технократа, Ойгена Риттера фон Книллинг. Тем не менее главным занятием правительства Книллинга было возвращение власти обратно в Баварию, не упразднение демократии, и для этого правительство было готово использовать Гитлера, если это потребуется.
Как показал визит в Мюнхен американского дипломата в ноябре 1922 года, баварские политики и технократы тогда полагали, что Гитлер является лишь полезной пешкой в их игре. Капитану Трумэну Смит, помощнику военного атташе посольства США в Берлине, было сказано получить впечатление из первых рук об «этом человеке Г[итлере]» во время его исследовательской поездки в Мюнхен, однако целью баварского политического истэблишмента не было упразднение конституции. Скорее, целью было «пересмотреть Веймарскую конституцию так, чтобы дать [баварскому] государству больше независимости» и таким образом вернуть Германию к того рода федеративной системе, которая существовала перед войной.
Должностные лица, с которыми встречался Трумэн Смит, объясняли, что у баварского истэблишмента по существу очень отличные идеалы и цели от тех, что есть у национал-социалистов, и что поддержка Гитлера была, следовательно, не более, чем средством для достижения цели. Более того, чиновники баварского министерства иностранных дел проинформировали Смита, что хотя национал-социалисты были настроены враждебно к баварскому правительству, некоторые из их целей могут быть перенаправлены к выгоде баварского истэблишмента. Смиту также было сказано, что национал-социалистов можно использовать для отвлечения рабочих от крайне левых, и тем самым обуздать их.
Смиту — во время пребывания в Мюнхене посетившему митинг национал-социалистов, на котором Гитлер выкрикивал среди неистовых возгласов одобрения «Смерть евреям» — было также сказано, что «Гитлер не настолько радикален, каким он представляется по его речам». Один из чиновников баварского министерства иностранных дел, с которым встретился атташе, был того мнения, что «за кулисами [национал-социалисты] являются благоразумными людьми, которые лают громче, чем они кусаются». Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, между тем, информировал Смита, что «Гитлер добился секретного соглашения с баварским правительством относительно того, что партия может и не может делать в пределах Баварии».
Как показывает информация, доступная Смиту, уловка Гитлера на некоторое время сработала поразительно хорошо. И всё же перед ним стояли два главных вызова: ему всё ещё нужно было продемонстрировать, что он может разыгрывать членов баварского истэблишмента друг против друга, и таким образом сокрушить их столь же легко, как он смог ввести их в заблуждение и заставил их поверить, что они в действительности играли им. Более того, он должен был иметь дело с важным и могущественным меньшинством лиц в истэблишменте, которых он не смог одурачить и заставить поверить в то, что он их пешка.
Например, баварский министр внутренних дел, Франц Ксавьер Швайер, последовательно видел в Гитлере серьёзную и неконтролируемую опасность. Ещё весной 1922 года Швайер обдумывал вопрос о принятии решительных мер против вождя NSDAP. 17 марта 1922 года Швайер пригласил лидеров BVP, консервативной Партии Центра, либеральной Немецкой Демократической партии, Независимых социал-демократов и социал-демократов на встречу для обсуждения Гитлера. На собрании Швайер на своём швабском наречии жаловался о бандитизме сторонников Гитлера на улицах Мюнхена. Гитлер, говорил он, вёл себя «как хозяин столицы Баварии, в то время как в действительности он был человеком без гражданства». Швайер тогда поделился с собравшимися лидерами партий информацией о том, что он рассматривает вопрос о высылке Гитлера из Баварии. В то время, как Хелен Ханфштэнгль, «немецкая девушка из Нью-Йорка», была готова поддерживать его более вероятно, чем члены местного истеблишмента Мюнхена, шаг Швайера представлял серьёзную угрозу для Гитлера. Он стоял перед крайним риском того, что его политическая карьера рассыплется, как карточный домик.
Глава 12. Первая книга Гитлера
В конце концов Гитлер прослышал о планах министра внутренних дел Франца Ксавьера Швайера выкинуть его из страны. Угроза неминуемого ареста и депортации настолько обеспокоила его, что он несколько дней не возвращался домой в свою комнату на Тирштрассе, скрываясь в квартире своего телохранителя Ульриха Графа. В результате, однако, Гитлер был избавлен от высылки в Австрию вследствие поддержки, которую он получил с неожиданной стороны: от вождя социал-демократов Эрхарда Ауэра. Либеральный политический соперник Гитлера раскритиковал предложение Швайера, доказывая, что высылка из Баварии вождя Национал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP) было бы недемократичной и что в конечном счёте Гитлер был слишком незначительной фигурой, чтобы представлять опасность. Ироническим образом попытке Гитлера устроить заговор для прихода к власти вскоре будет брошен ещё один спасательный круг, скорее, благодаря трагической недооценке его социал-демократами, чем поддержке «Ячейки порядка», основанной BVP и её союзниками в 1920 году.
Перед лицом неприятностей Гитлер не сдался. Он не опустил голову, а интенсифицировал свои усилия оказаться наверху в ходе углубляющегося политического кризиса. В течение лета и осени 1923 года он выискивал способы отшлифовать своё умение ещё более эффективно, чем прежде. Он оценил текущее положение и пришёл к заключению, что должен радикально изменить свою тактику, так, чтобы он, а не кто-либо ещё, возглавил национальную революцию, когда ситуация созреет. Показательно, что его амбиции и мегаломания настолько возросли к 1923 году, что, едва избежав депортации как политического активиста без гражданства, он, тем не менее, полагал, что это он может и должен возглавить национальное и националистическое революционное движение. Также показательно, что к тому времени его политические таланты достаточно развились, чтобы обеспечить ему возможность самокритично оценить, что пошло не так и привело его на грань депортации, и таким образом извлечь урок из своих оперативных и тактических ошибок.
Одним источником вдохновения в том, как двигаться вперёд, была статья, появившаяся в вышедшем 1-го сентября издании Heimatland, газеты народной милиции (Einwohnerwehren) Мюнхена. Статья побуждала её читателей вдохновляться не только примером Италии, но также и Турции, в том, как устроить успешный националистический переворот. Написанная Гансом Тробст, офицером в возрасте тридцати одного года, который провёл предыдущие двенадцать лет на воинской службе — сначала в регулярной армии, затем в Добровольческом корпусе (Freikorps) и совсем недавно в кемалистских силах во время турецкой войны за независимость — она извлекала уроки для Германии из ответа Турции на Севрский договор. Турция, как и Германия, была на проигравшей стороне в Первой мировой войне и летом 1919 года была принуждена подписать договор в Севре, в пригороде Парижа, который был столь же карательным, как и тот, что вынуждена была подписать Германия примерно в то же время в Версале. Но, в отличие от правительства Германии, турецкое кемалистское руководство впоследствии отказалось выполнять договор.
Как доказывали издатели Heimatland в своём редакционном одобрительном комментарии к статье Тробста, Германии следует взять пример из кемалистского ответа на соглашение после Первой мировой войны: «Судьба Турции поразительно подобна нашей собственной; у Турции мы можем научиться, как мы могли бы улучшить дела. Если мы хотим стать свободными, то у нас нет иного выбора, кроме как так или иначе подражать примеру Турции». Тробст вернулся в Германию в начале предыдущего месяца. Вместо того, чтобы отправиться обратно домой в свой родной Веймар в центральной Германии, он направился в Мюнхен побыть некоторое время со своим братом. В столице Баварии он встретился с генералом Эрихом Людендорфом, который тогда координировал деятельность многих ультранационалистов в городе. С Людендорфом он придумал написать серию из шести статей для Heimatland, которые преподадут турецкие уроки для Германии.
Идеи, высказанные в статье от 1 сентября, явно перекликались с идеями, которые Гитлер сам выразил в речи в ноябре 1922 года, когда он говорил о примерах, что показали для Германии и Ататюрк, и Муссолини. Когда Гитлер прочитал статью, он страстно захотел встретиться с Тробстом. Так что Фриц Лаубок, секретарь Гитлера и сын основателя первого отделения NSDAP за пределами Мюнхена, написал Тробсту 7 сентября 1923 года следующие слова: «Однажды мы тоже должны будем сделать то, что испытали Вы в Турции, чтобы стать свободными», и что Гитлер хотел встретиться с Тробстом на следующей неделе на час в офисе Völkischer Beobachter на Шеллингштрассе.
Гитлер не желал иметь лишь общую беседу с Тробстом; он надеялся получить детальные и работоспособные идеи о том, как произвести успешный переворот, что объясняет, почему он хотел, чтобы на встрече присутствовали вожди SA (Sturmabteilung, «штурмовые отряды»). Лаубок подчеркнул в письме к Тробсту, насколько важным полагал Гитлер беседовать напрямую с участником «событий в Турции». К огромному разочарованию Тробста, предполагаемое собрание в конце концов не произошло, поскольку Тробст уже покинул Мюнхен и отправился на север Германии к тому времени, когда Лаубок отправил письмо.
Даже хотя встреча Тробста и Гитлера не осуществилась, статьи Тробста имеют чрезвычайно большое значение. Они не только выявляют некоторые источники вдохновения Гитлера в течение осени 1923 года, когда он пытался понять, как лучше всего привести себя к власти. Они также чрезвычайно важны в пролитии света на происхождение Холокоста, поскольку одна из статей Тробста, опубликованная 15 октября 1923 года, предоставляла уроки для «национального очищения» Германии по примеру Турции, основываясь на геноциде армян в 1915 году:
Рука об руку с основанием объединённого фронта должно идти очищение нации. В этом отношении обстоятельства в Малой Азии были такими же, каковы они здесь. Кровососами и паразитами на теле турецкой нации были греки и армяне. Их следовало истребить и обезвредить; в противном случае вся борьба за свободу была бы подвергнута опасности. Мягкие меры, которые всегда показывала история, в таких случаях не будут эффективны. И соображения о так называемых «общепринятых» или «благопристойных» элементах, или каковы бы ни были эти ключевые слова, были бы принципиально неверными, потому что результатом был бы компромисс, а компромисс это начало конца. […] Почти все из тех с чуждым происхождением [Fremdstammige] в районе сражений должны были умереть; их число никак не менее 500 000. […] Турки обеспечили доказательство, что очищение нации от чуждых ей элементов в огромном масштабе возможно. Это не была бы [настоящая] нация, если бы она не была способна иметь дело с временными экономическими трудностями, происходящими от этого массового изгнания!
Странно то, что хотя в этой статье Тробст изложил план того, как Германия могла бы избавиться от своих собственных «кровососов и паразитов» — что каждый понял бы как ссылку на евреев Германии — Гитлер публично не рассматривал его слегка закамуфлированное предположение, что евреи Германии должны встретить ту же судьбу, что и армяне во время Первой мировой войны.
В действительности единственный известный раз, когда Гитлер прежде упомянул армян — во время разговора с одним из своих финансовых спонсоров, Эдуардом Аугустом Шаррером, в конце декабря 1922 года — он вовсе не пророчил, что евреи встретят судьбу армян, хотя упоминание это произошло в контексте угрозы, которую он сделал в отношении евреев. Напротив, Гитлер сравнил судьбу Германии с судьбой армян, доказывая, что евреи всё больше и больше берут в свои руки контроль над Германией. По словам Гитлера, Германия разделит судьбу армян и станет увядающей беззащитной нацией, если только немцы не защитят себя от евреев:
Еврейский вопрос требуется решить в стиле Фридриха Великого, который использовал евреев там, где он мог получить выгоду от них, и удаляя их оттуда, где они могли бы быть вредными. […] Должно быть решение еврейского вопроса. Это будет лучше всего для обеих сторон, если это будет решение, обусловленное благоразумием. При отсутствии этого будет только две альтернативы: либо немецкий народ станет напоминать таких людей, как армяне или левантийцы; или же будет кровавый конфликт.
Только в 1939 году, в преддверии Второй мировой войны, когда Гитлер пытался разгадать, как очистить от людей территорию на Востоке, которую он намеревался завоевать, он подхватит предложение Тробста в 1923 году относительно армян. 22 августа 1939 года, когда руководители вооружённых сил, общим числом приблизительно пятьдесят генералов и других высокопоставленных офицеров, будут собраны в его альпийском убежище, чтобы быть проинформированными о неминуемых военных планах Гитлера, он обратится к судьбе армян во время Первой мировой войны:
Поэтому в настоящее время только на Востоке я развернул мои формирования «Мёртвая голова» с приказом безжалостно и без сострадания посылать на смерть многих женщин и детей польского происхождения и языка. Только таким образом мы можем получить жизненное пространство, в котором мы нуждаемся. Кто, в конце концов, сегодня говорит об уничтожении армян? […] Польша будет лишена населения и заселена немцами. Мой пакт с поляками был задуман просто для выигрыша времени. Что касается остального, господа, то судьба России будет точно такой же, какую я провожу теперь в случае Польши. После смерти Сталина — он очень больной человек — мы сокрушим Советский Союз. Затем там начнётся рассвет германского правления на Земле.
Точка зрения Гитлера в 1939 году была такова, что Германия сможет выйти из ситуации посредством такого же обращения с населением, живущим на территориях, намеченных для немецкой колонизации, как Оттоманская империя обращалась с армянами во время Первой мировой войны. Другими словами, задавая вопрос «кто в конце концов сегодня говорит об уничтожении армян,» он доказывал, что даже если и будет публичный протест относительно поведения немцев на Востоке, то он вскоре будет забыт.
Отсутствие публичного рассмотрения Гитлером предположения Тробста может быть расценено как показатель того, что в 1923 году не было очевидного интереса или желания со стороны Гитлера определить конечную фазу для меньшинств, на которые он нацеливался, или, по меньшей мере, решение этой проблемы посредством геноцида ещё не было приоритетным в его повестке. В самом деле, заявление, сделанное в адрес Шаррера предполагает, что, несмотря на своё упоминание «кровавого конфликта», его предпочтение было в пользу «решения, диктуемого разумом» по примеру антиеврейской политики Фридриха Великого.
Даже упоминание о «газовой дезинфекции» евреев, которое Гитлер сделает в конце Mein Kampf, не демонстрирует в нём намерения совершить геноцид и само по себе таковым не является. Он заявит: «Если в начале войны и во время войны двенадцать-пятнадцать тысяч этих иудейских разрушителей нации были бы подвергнуты воздействию отравляющего газа, такого, какой вытерпели в поле сотни тысяч наших самых лучших немецких рабочих всех классов и профессий, тогда бы жертвоприношение миллионов на фронте не было бы напрасным». Здесь он говорит о чём-то совершенно отличном от истребления евреев в Европе во время Холокоста посредством газовых камер. Скорее, он предлагал, что евреев Германии следует терроризировать и привести в покорность, нежели убивать, подвергнув несколько тысяч их воздействию горчичного газа.
Однако, как указывает письмо Улли Вилле, посланное Рудольфу Гессу в предыдущем году, Гитлер и Гесс явно уже по крайней мере забавлялись с возможностью антиеврейского решения посредством геноцида к тому времени, когда Тробст опубликовал свою статью об армянском уроке для Германии. 13 ноября 1922 года, во время заграничной учёбы Гесса в Цюрихе, Вилле — который в начале Первой мировой войны выражал равное восхищение евреями Германии и германским милитаризмом — написал ему, что он находит антисемитизм NSDAP нецелесообразным и контрпродуктивным: «Верить в то, что вы можете истребить (Ausrotten) марксизм и евреев при помощи пулемётов, — это фатальная ошибка». Он добавил: «Они не являются причиной недостатка национальной гордости в народе. Наоборот, марксизм и евреи были способны приобрести столь скандальное влияние среди немецкого народа именно потому, что у народа Германии уже не было достаточно национальной гордости». Письмо более интересно тем, на что ссылается Вилле, чем его собственным отношением к евреям. Несомненно, он не стал бы говорить Гессу, что пытаться истребить евреев пулемётами было ошибкой, если бы Гесс до этого не говорил Вилле, что национал-социалисты рассматривают эту идею. Таким образом, то, что Гитлер публично не проявил интереса к предположению Тробста, не следует принимать за доказательство того, что он не чувствовал себя воодушевлённым им, в особенности поскольку его заявления своим генералам 22 августа 1939 года будут близко напоминать некоторые из идей, выраженных Тробстом. В действительности, как стало очевидно в его интервью, которое Гитлер дал каталонскому журналисту позже в 1923 году, его предпочтительным «конечным» антиеврейским решением к 1923 году уже был геноцид.
Однако его главной целью в тот год было понять, как организовать успешный переворот, вот почему первая статья Тробста возымела самое непосредственное влияние на него. Когда одетый в длинное чёрное пальто и чёрную шляпу из мягкого фетра с широкими опущенными полями Гитлер гулял по улицам Мюнхена с хлыстом в руке со своей немецкой овчаркой по кличке Вольф; когда он проводил время в своём любимом кафе «Хек» на Хофгартен; когда он посещал еженедельные собрания внутреннего кружка руководства NSDAP в старомодном кафе «Ноймайр» на Виктуалиенмаркт; или когда его угощали кофе, выпечкой и последними слухами на другом конце города в канцелярском магазине Квирина Дистля и его жены, двух его поклонников, — он анализировал, как изменить свою тактику, чтобы ускорить пришествие национальной революции и возникнуть в качестве её вождя.
Одной из его проблем было то, что множество людей в Мюнхене, что были в общем позитивно предрасположены к его политическим идеям, выражали сомнения, что Гитлер действительно был правильным человеком, чтобы вести их. Например, Готтфрид Федер — старейшая фигура в партии, кто познакомил его с полагаемым вредом от «процентного рабства» — думал, что политические шансы партии были подорваны стилем работы Гитлера. 10 августа 1923 года Федер писал Гитлеру: «Я действительно должен сказать Вам, что нахожу анархию в Вашем управлении расписанием чрезвычайно пагубной для всего движения». Более того, некоторые из людей, которых Ганс Тробст встретил в Мюнхене в течение лета, сомневались, есть ли что-то у Гитлера, кроме пустых слов, не подкреплённых действием. Например, тем летом Тробст случайно услышал, как служанки его брата говорят: «Когда же Гитлер наконец начнёт? Должно быть, он тоже получил деньги от евреев, если он всегда только говорит». У жены издателя Юлиуса Фридриха Леманна также были свои сомнения. Как она записала в своём дневнике в начале октября: «Теперь мы больше, чем когда либо, ждём спасителя. Здесь в Мюнхене многие полагают таковым Гитлера, вождя национал-социалистов. Я знаю его слишком мало и на данный момент невысокого мнения о нём».
Как подразумевает эта запись в дневнике, самое большое препятствие, что должен был преодолеть Гитлер, было не существование сомнений относительно него среди некоторых людей, хорошо знавших его. Скорее, это было то, что Гитлер был всё ещё слишком мало известен. Это, полагал он, был единственный самый большой фактор, тормозивший его. Если даже жена одного из его самых лояльных сторонников в Мюнхене полагала, что она в действительности не знает его, главу NSDAP, он не мог надеяться стать «спасителем» Германии. Если Гитлер не только хотел проповедовать обращённым в его веру в Мюнхене, он должен был разительно изменить свою тактику. Он срочно нуждался в рекламировании своего образа среди консерваторов и популистов на правом фланге по всей Баварии и по всей Германии, чтобы в конечном счёте обеспечить возможность стать их Муссолини.
До того времени жизнь Гитлера большей частью оставалась загадкой. Если только его не принуждали, он никогда не говорил публично о себе. За исключением краткого упоминания своего вступления в партию в речи, произнесённой им 29 января 1923 года, он не сообщал ничего о своей жизни в своих речах. Только в малом количестве частных писем — в полиции и в заявлениях в суде, и в двух статьях для Völkischer Beobachter в ответ на то, что он воспринял как клеветническое утверждение о нём, где-то сделанное — он предоставлял детали о своей жизни.
Пока же большинство людей даже не знало, как выглядит Гитлер, и никогда не было опубликовано ни одной его фотографии — более того, он ввёл Bilderverbot, запрет на фотографирование него и распространение фотографий. Даже большинство из посещавших его речи видело его только на расстоянии. В мае 1923 года немецкий сатирический журнал Simplicissimus даже высмеивал это, публикуя серию глупых рисунков и карикатур, изображающих внешность Гитлера (см. фото 19). Если мы можем поверить Конраду Хайдену — который впервые встретился с Гитлером, когда Хайден был главой группы демократических про-республиканских студентов университета, противостоявших NSDAP, а затем как журналист — Гитлер боялся быть узнанным и убитым, потому отказывался фотографироваться. Как результат, даже весной и летом 1923 года Гитлер всё ещё мог смешиваться с людьми в Мюнхене и в южной Баварии без того, чтобы его опознали. Во время Второй мировой войны он станет вспоминать, как его развлекало во время посещений Дитриха Экарта в горах «прислушиваться к дебатам о Гитлере, что вели люди во время еды […] Не существовало никаких изображений меня. Если только вы не знали меня лично, вы не знали бы, как я выгляжу. Те дни, когда никто не узнавал меня, были для меня самым прекрасным временем. Как мне нравилось путешествовать везде по Рейху в то время! Все полагали, что я кто-то другой, но только не Гитлер».
Стратегия Гитлера создать свой публичный образ, не используя каких-либо фотографий, срабатывала хорошо до тех пор, пока он действовал исключительно в Мюнхене и его окрестностях. Хотя он планировал свои мероприятия до 1923 года и добивался своего стиля политики с помощью визуальных образов, он должен был полагаться на своих сторонников, что они расскажут своим друзьям и знакомым о зрелище его речей, и надеяться, что в следующий раз они тоже захотят испытать это. В самом деле, люди посещали его речи потому, что им был любопытен его голос более, чем его лицо. Такой подход позволил Гитлеру превратиться из господина Никто в местную знаменитость. Но этого было недостаточно для превращение его в баварского Муссолини. В течение лета 1923 года он неожиданно изменил свою точку зрения. Казалось, что он осознал, что если никто не знает, как он выглядит, то он не может быть символом, или, по крайней мере, лицом национальной революции, которую он полагал неминуемой. Потому он перешёл от одной крайности к другой, поручив Хайнриху Хоффманну сделать его фотографии и затем отпечатать тысячи почтовых открыток со своим изображением, в результате чего фотографии Гитлера появились по всему Мюнхену к осени 1923 года (см. фото 22 и 23).
Гитлер и его партия теперь старались изобразить Гитлера как молодое и энергичное лицо — будущее — стоящее рядом с генералом Людендорфом, который, как надеялись многие люди на радикальном правом фланге, возглавит национальную революцию. В течение следующих двадцати лет, до тех пор, когда Гитлер неожиданно восстановит в 1943 году Bilderverbot, Хоффманн и его товарищи пропагандисты станут тщательно режиссировать фотографирование и киносъемки Гитлера, что превратит его в икону. Результирующая иконография была столь мощной, что она доминирует над нашим образом Гитлера до настоящего времени.
Радикальная переработка Гитлером своего публичного образа в предвидении неминуемой национальной революции пошла гораздо дальше, чем отмена его предыдущего Bilderverbot. В попытке усилить свою позицию среди консерваторов в остальной части страны он решил опубликовать подборку своих речей в форме книги — сборника речей, вычищенных от отрицательных упоминаний Соединённых Штатов, что было нацелено на презентацию себя аудитории консервативных читателей. Гитлер также решил написать автобиографический очерк своей жизни, который предварит его речи в книге, чтобы убедить в том, что он был ожидаемым спасителем Германии. Написав девятистраничный набросок, он дал его для копирования и редактирования своему близкому товарищу Йозефу Штольцинг-Черни — журналисту австрийского происхождения и национал-социалисту, который также будет помогать Гитлеру в доведении до кондиции Mein Kampf.
Очерк — который образует первую опубликованную биографию Гитлера — рассказывает о жизни Адольфа Гитлера с его лет в Вене до 1923 года. Он повествует о том, как его жизненный опыт в качестве чернорабочего в Вене обеспечил его откровениями о природе политики и о том, как может быть спасена Германия. Он утверждал, что Гитлер полностью развил все свои основные идеи к тому времени, когда ему исполнилось двадцать лет. Поскольку книга была нацелена на консервативных читателей, она старалась продемонстрировать, как жизненный опыт Гитлера научил его тому, что рабочие и буржуазия нуждаются быть собранными вместе под одной крышей. Для него они все были рабочие: одни использовали свои руки, другие свою голову. Очерк также доказывает, что все немцы, как внутри, так и вне нынешних границ страны, должны быть собраны под одной крышей. Он прославляет идеализм и жертвенность немцев как антитезис деятельности «международного еврейского корыстолюбия». И в нём даётся обещание немцам, как фигурально, так и буквально, вернуть цвета довоенного Германского Рейха — черный, белый и красный: «Мы вернём немецкому народу старые цвета в новой форме».
Биографический очерк также рассказывает историю о том, как Гитлер был необычайно храбрым солдатом на Западном фронте и всё же в своих чувствах был олицетворением неизвестного солдата Германии. В согласии с тем, что Гитлер напишет в Mein Kampf, он представляет его время в Пазевалке в конце войны как момент, трансформировавший его в вождя, и рассказывает историю предполагаемой попытки его ареста красногвардейцами, а также его службу в качестве «офицера по образованию» в 1919 году. Далее, он ложно представляет Гитлера как одного из семи основателей NSDAP. Он завершается отчётом о росте движения между 1919 и 1923 годами, доказывая, что высвобождение для Германии было близко, поскольку Гитлер будет спасителем нации.
Поскольку написание восхваляющего его биографического очерка им самим едва ли прошло бы хорошо у традиционных консерваторов, Гитлер решил, что более подходящим будет найти консервативного писателя, у которого не было предшествующего вовлечения в национал-социализм, кто согласится одолжить своё имя для очерка и заявит, что это он составитель и комментатор речей. Другими словами, Гитлер написал автобиографию, но хотел опубликовать её как биографию под чьим-то другим именем так, чтобы прорекламировать информационный материал о себе в предвосхищении национальной революции. Если найти консервативного писателя, желающего представить себя автором первой из всех опубликованных биографий Гитлера, то это отплатилось бы вдвое: бесстыдный акт самопродвижения Гитлера был бы скрыт, и в то же время было бы создано впечатление, что он уже получает широкую поддержку среди традиционных консерваторов.
Так как с помощью Эрвина фон Шойбнер-Рихтера Гитлер и Эрих Людендорф всё чаще обменивались мнениями о необходимости инициировать национальную революцию, то Гитлер обратился к отставному генералу для помощи в отыскании автора для своей книги. Людендорф был рад оказать услугу и свёл Гитлера с молодым человеком, которого хорошо знал: Виктором фон Кёрбером.
Голубоглазый и светловолосый молодой аристократ отлично отвечал всем требованиям. Кёрбер был героем войны и писателем, чувствовавшим себя привлечённым обещанием нового консерватизма, который перебросит мостик между консерватизмом старого стиля и национал-социализмом. Моложе Гитлера на два года, он происходил из аристократической протестантской семьи в Западной Пруссии, одном из форпостов немецкого консерватизма. Он вырос на острове Рюген в Балтийском море, где его отец служил губернатором округа, и впоследствии избрал карьеру профессионального солдата и офицера в элитных войсках. В 1912 году Кёрбер тренировался в качестве одного из первых лётчиков-истребителей в вооружённых силах Пруссии. Однако, поскольку его истинной страстью была литература, то перед Первой мировой войной он покинул армию и в столице Саксонии Дрездене начал новую карьеру поэта, драматурга и художественного критика. Он также много путешествовал по Европе. Во время войны он вновь поступил на военную службу, служил сначала на Западном фронте, а затем был переведён в главный штаб военно-воздушных сил в Берлин, где возглавлял департамент прессы. В 1917 году он был демобилизован по причине здоровья и вернулся в Дрезден, прежде чем переехать в Мюнхен весной 1918 года.
Весной 1919 года он покинул город после установления в нём Советской республики и вступил во Вторую Морскую бригаду (Вильгельмсхафен), дивизион Леттов-Форбек, где он отвечал за пропаганду. В начале мая он был среди войск, которые положили конец Советской республике. Именно в это время Кёрбер начал рассматривать большевизм как глобальную опасность, что продолжит быть его основной заботой на многие предстоящие годы.
Даже хотя он покинул вооружённые силы в июле 1919 года, следующей весной он участвовал в злополучном капповском путче. Тем временем антисемитизм Кёрбера усиливался, как свидетельствует письмо, написанное им брату весной 1922 года: «В настоящее время расовые исследования продвинулись достаточно далеко, чтобы определить и доказать то, как международное еврейство через своих людей целенаправленно стимулировало разложение немцев». Кёрбер жаждал претворить свой антисемитизм в жизнь: «Неделями я пытался найти работу, — говорил он своему брату. — Везде предпочитали увольнять, нежели нанимать. Кроме того, само по себе очень трудно найти что-либо подходящее. Работа пропагандиста для национальной партии, антисемитизм, который здесь сильно расцветает, были бы подходящими. Но эти должности редкие и притом плохо оплачиваются».
Однако позже в тот год его судьба начала улучшаться. Он на несколько месяцев ездил в Финляндию с антибольшевистской миссией для изучения того, как финны победили русских зимой 1918–1919 гг. и приобрели национальную независимость. После его возвращения из Скандинавии в столицу Баварии в середине октября 1922 года он начал работать корреспондентом для трёх финских газет. Тем не менее, как он жаловался своему брату, дела всё ещё обстояли скверно, и не только потому, что финские газеты, для которых он писал, ненадёжно платили ему: «Мы здесь просто разрушаемся физически. Какой смысл всей тяжкой работы, всего статуса, чести и славы. Еврейство хочет разрушить всю интеллигенцию и средний класс, как в России. [Народ] мчится к своему собственному уничтожению! Мы всеми силами работаем, чтобы сорвать маску с еврейства».
Хотя ему не заплатили за некоторые из его статей, его новая работа оправдалась для него политически. В результате своей работы иностранным корреспондентом он завязал контакт с Людендорфом, которого он прежде встречал во время войны и которым восхищался с оптимизмом молодости. Как и Ульрих фон Хассель — консерватор, написавший манифест о будущем консерватизма после Первой мировой войны — Кёрбер верил, что к старому консерватизму возврата нет. Он полагал, что следует обратиться к социальному вопросу. И он был того мнения, что рабочий и средний классы могут посеять семя, из которого вырастет новая и омолодившаяся Германия. Таким образом, Кёрбер видел в развивающемся сотрудничестве Людендорфа с Гитлером реализацию мечты о консерватизме нового вида, который оживит Германию. Трудно было представить лучшего консервативного писателя, чем Кёрбер, в качестве фасада книги Гитлера.
После того, как Людендорф познакомил Гитлера с Кёрбером в своём доме и сделка между ними относительно книги Гитлера была заключена, молодой аристократ и вождь NSDAP встречались лицом к лицу ещё только два раза. Книга появилась той осенью под названием Adolf Hitler, sein Leben, seine Reden («Адольф Гитлер. Его жизнь и его речи»). Поскольку книга была в продаже только несколько недель до того, как она была запрещена и конфискована, её воздействие было гораздо более ограниченным, чем Гитлер надеялся и ожидал, несмотря на то, что она и была отпечатана тиражом в семьдесят тысяч экземпляров. И всё же книга имеет меньшее значение в плане действительного воздействия на консерваторов в Германии, чем свет, который она проливает на то, каким Гитлер видел себя осенью 1923 года, и на то, как он старался улучшить свой образ в то время, чтобы стать национальным лидером правого крыла в политике, а не политическим активистом без гражданства, вынужденным жить под угрозой депортации, как это было ранее в том году.
Книга опровергает то представление, которое Гитлер время от времени признавал своими словами, что до написания Mein Kampf он видел себя только как «барабанщика», который призывал других и не имел амбиций вести Германию в будущее. В своём автобиографическом очерке он вложил в уста Кёрбера своё собственное определение, что он был «вождём наиболее радикального подлинного национального движения». Далее, автобиографический очерк описывал его как «архитектора» (Baumeister), который «строит могучий собор Германии». И он призывал людей вручить власть ему, как человеку, «кто и готов, и подготовлен вести борьбу Германии за освобождение».
Как свидетельствует более ранний призыв Гитлера к гению стать новым вождём Германии, было бы странно доказывать, что он просто хотел играть роль «барабанщика» для какого-то другого, нового гения. Так как в соответствии с идеями времени гении были не общепризнанными фигурами, но людьми с прошлым и историями жизни, очень похожими на его, то почему бы ему хотеть быть «барабанщиком» для личности, как он сам, а не быть этой личностью самому? Более того, сам факт того, что в 1921 году Гитлер принял положение вождя NSDAP на том условии, что ему будут даны диктаторские полномочия, указывает на человека, который не желал быть просто пропагандистом для кого-то другого.
Книга Гитлера 1923 года демонстрирует, что не только другие люди видели в нём «мессию», но и — как уже показала размолвка с Дитрихом Экартом летом — он сам так считал. В его автобиографическом очерке постоянно используется библейский язык, доказывая, что изданная под именем Кёрбера книга должна «стать новой библией сегодняшнего времени, так же, как „Книга немецкого народа“!» В ней также используются такие термины, как «святой» и «спасение». Более важно то, что она прямо сравнивает Гитлера с Иисусом, уподобляя заявленный момент его политизации в Пазевалке воскрешению Иисуса:
Этот человек, предначертанный к вечной тьме, который в течение этого часа вынес мучения на безжалостной Голгофе, который страдал телом и душой; один из наиболее несчастных среди этой толпы сломленных героев: глаза этого человека будут открыты! Спокойствие будет возвращено его перекошенным чертам. В исступлённом восторге, который даруется только умирающему пророку, его мёртвые глаза будут наполнены новым светом, новым блеском, новой жизнью!
Временами Гитлер прежде сравнивал и себя, и свою партию с Иисусом или описывал Иисуса как свой образец для подражания. В других ситуациях Гитлер также не давал повода сомневаться в том, что он уже видел себя спасителем Германии. Не только в преддверии Второй мировой войны и во время конфликта, когда он переживёт несколько попыток ликвидировать его, Гитлер поверит сам, что он охраняется «провидением». Но он рассматривал себя избранным «провидением» уже в 1923 году, как стало очевидно во время одного из уикендов в сентябре и октябре, которые он и Альфред Розенберг провели с Хелен Ханфштэнгль в летнем доме Ханфштэнглей в Уффинге на Штаффельзее, в маленькой живописной деревне у подножия Альп. Во время этих уикендов с хозяйкой дома Розенберг и Гитлер проводили время любимым образом последнего: в его красном Мерседесе они исследовали замки и деревни, лежавшие у подножия Альп, даже хотя Гитлер никогда не выучился водить машину сам. Если мы можем поверить свидетельству Хелен, он сказал ей в одном случае, когда его автомобиль оказался в канаве, но они не были ранены: «Это будет не единственный случай, который оставит меня невредимым. Я пройду через них все и добьюсь успеха в моих планах».
Причина, по которой Гитлер, несмотря на то, что он видел себя как мессия и спаситель Германии, тем не менее, время от времени претендовал на роль просто «барабанщика» для кого-то другого, совершенно проста. Он вынужден был пытаться совершить невозможное: с одной стороны, он желал разрекламировать свой собственный национальный образ посредством публикации книги и изданием изображающих его фотографий и тем самым поставить себя в положение, из которого он мог возглавить национальную революцию. С другой стороны, он был зависим от поддержки как от консерваторов баварского политического истэблишмента и Людендорфа, так и от консерваторов севера, и он хотел прийти к власти на их спинах. Вкратце, он старался напрямую продать себя консервативным кругам Германии и пытался создать впечатление, что его поддержка среди них уже была больше, чем она была в действительности, в то же время стараясь избежать антагонизма с их вождями.
Поскольку у Людендорфа, равно как и у других консервативных лидеров в Баварии и на севере, были свои собственные политические амбиции, и они видели в Гитлере инструмент, который они могли использовать для своих собственных целей, Гитлер в течение лета и осени 1923 года должен был делать вид, что он охотно играет эту роль. В нескольких сохранившихся письмах, которые Людендорф написал Кёрберу как до, так и после приближавшегося путча, он всесторонне размышляет о различии между «национальным» и «völkisch» видениями Германии. Письма также пространно обсуждают наследие Бисмарка. Однако вождь NSDAP не фигурирует в них. Отсутствием упоминания Гитлера письма показывают, что Людендорф рассматривал его просто как инструмент для продвижения своих собственных планов.
Следовательно, Гитлер не мог открыто утверждать, что он видел себя в качестве гения и мессии, хотя он говорил своим доверенным лицам уже в 1922 году, что он сам хотел возглавлять Германию. Публично он вынужден был рекламировать себя в качестве барабанщика. И всё же неизвестная первая книга Гитлера, опубликованная под именем Виктора фон Кёрбера, представляла Гитлера и Людендорфа как равновеликих вождей. Биографический очерк в ней утверждал, что Германия политически пробуждается: «Генерал Людендорф и Гитлер встанут рядом! Два великих вождя [Kampfführer] из прошлого и настоящего! Военный вождь [Feldherr] и человек из народа [Volksmann] […] Руководство непобедимого вида, от которого немецкий народ по праву ожидает лучшего будущего!» Это было настолько далеко, насколько мог зайти Гитлер в то время, преподнося себя в качестве спасителя Германии и мессии, потому что Людендорф «видел в Гитлере, которого он не воспринимал серьёзно», — как вспоминал Виктор Кёрбер, — «популярного барабанщика для массового движения против коммунизма».
То, как Гитлер написал и пустил в ход свою первую книгу под именем другого писателя, равно как и множество других его действий между вступлением в DAP и осенью 1923 года, показывает умного, знающего и коварного политического деятеля в процессе становления. Образ Гитлера, который выходит на передний план, опровергает то, что он был примитивной, свирепой и нигилистической тёмной простейшей силой. Скорее, он был человеком с возникающим глубоким пониманием того, как работали политические процессы, системы и публичная сфера. Его изучение в военное время техники пропаганды снабдило его пониманием важности создания политически полезных и эффективных повествований, что поможет ему проложить свой путь к власти.
Его эпизодическое настаивание на том, что он «барабанщик» для кого-то другого, равно как и его прежнее показное нежелание принять пост вождя NSDAP, следует рассматривать в ключе западных традиций и ожиданий, ведущих начало от эпохи Рима, в соответствии с которыми будущий вождь делает вид, что его не интересует власть, даже если он всё время ищет способы, как получить её. Они делают это как по тактическим причинам, так и для соответствия популярному мнению о том, что если кто-то слишком сильно рвётся к власти, то ему не следует доверять. Как известно, Юлий Цезарь отверг корону римского императора трижды. Вильям Шекспир, который в Германии начала двадцатого века был столь же популярен, как и в своей родной Англии, в пьесе «Юлий Цезарь» вложил в уста одного из убийц Цезаря, когда его спросили, подтверждение этого: «Клянусь, что трижды, и он трижды отталкивал ее, с каждым разом все слабее, и, когда он отталкивал, мои достопочтенные соседи орали.[12]»
Убийца ясно даёт понять, что отказ Цезаря был противоположным тому, чего он пытался достичь:
Я видел, как Марк Антоний поднес ему корону; собственно, это была даже и не корона, а скорее коронка, и, как я вам сказал, он ее оттолкнул раз, но, как мне показалось, он бы с радостью ее ухватил. Затем Антоний поднес ее ему снова, и он снова оттолкнул ее, но, как мне показалось, он едва удержался, чтобы не вцепиться в нее всей пятерней. И Антоний поднес ее в третий раз, и он оттолкнул ее в третий раз, и каждый раз, как он отказывался, толпа орала, и неистово рукоплескала, и кидала вверх свои пропотевшие ночные колпаки, и от радости, что Цезарь отклонил корону, так заразила воздух своим зловонным дыханием, что сам Цезарь чуть не задохнулся; он лишился чувств и упал; что касается меня, то я не расхохотался только из боязни открыть рот и надышаться их вонью[13].
Написание автобиографии и затем издание её как биографии под чужим именем в комбинации с речами, которые он произносил, под своим собственным именем, помогло Гитлеру в его стремлении создать политически полезную легенду. Это подготовило почву для вождя нового типа. Ещё не называя его открыто этим вождём, это хитрым образом создало восприятие публикой пробела, который только он мог заполнить, потому что призыв к «гению» исключал любого с давно установившимся публичным образом. Вкратце, Гитлер, как коварный политический оператор, использовал свою книгу 1923 года для эксплуатации того способа, каким работали политическая система Германии и публичная сфера, чтобы систематично построить место для себя. Однако его возникающие таланты как интригующего политического оператора подпитывали его мегаломанию, результатом чего стала преждевременная попытка захвата власти. Как вскоре он жёстко узнает, он всё ещё был, скорее, учеником в политике, чем мастером, каким себя представлял.
Между тем последующая жизнь Виктора фон Кёрбера будет идти параллельно жизни Карла Майра, прежнего политического наставника Гитлера, который станет близким другом Кёрбера. Оба они были близко связаны с возвышением Гитлера — и были до некоторой степени ответственны за него — однако оба станут к нему враждебно настроены. Они оба станут вести проигранную битву в своей попытке закрыть ящик Пандоры, который открыли, помогая Гитлеру, окончив свои жизни в нацистском концентрационном лагере.
В 1924 году Кёрбер начнёт прозревать в отношении национал-социализма и в конечном счёте порвёт и с Гитлером, и с его партией. Как напишет Кёрбер в 1926 году кронпринцу Вильгельму, старшему из сыновей кайзера Вильгельма II, с которым он дружил: «Движение Гитлера в таких жутких и постыдных обстоятельствах, что не может быть никаких сомнений в том, что с ним практически покончено. Это во многих отношениях прискорбно. Это прискорбно для людей, чья вера была предана».
В тот же самый год военизированный Jungdeutscher Orden («Орден молодых немцев»), членом которого он не был, отправит Кёрбера на девять месяцев во Францию наладить контакт с ассоциациями французских ветеранов и озвучить вопрос поиска возможности возобновления дружественных отношений. В конце 1920-х он будет отстаивать франко-германскую политическую и экономическую интеграцию как ядро объединения Европы, что он станет полагать единственным путём для Европы, чтобы быть способной стоять на равных позициях с Соединёнными Штатами и таким образом выжить. В конце 1920-х и в начале 1930-х он станет регулярно писать для венского ежедневного Neues Wiener Journal, а также для газет либерального еврейского издательского дома Ullstein, в которых он будет предостерегать о большевизме и германском сотрудничестве с русским большевизмом, так же как и против национал-социалистов, в ком он распознает «гитлеровских большевиков». Для него большевизм и национал-социализм Гитлера будут двумя сторонами одной монеты. Уже весной 1931 года он будет считать «современное движение Гитлера величайшей опасностью, какую когда-либо видело наше Отечество».
В следующем году он будет доказывать, что если Гитлер придёт к власти, то окончательное падение Германии станет неминуемым.
Начиная с 1927 года и до бегства Майра во Францию в 1933 году, Майр будет навещать Кёрбера в Берлине каждую неделю. Два человека, которые оба играли столь важную роль в жизни Гитлера, будут сидеть за круглым столом в квартире Кёрбера и обмениваться информацией, работать вместе над политическими статьями и сотрудничать по инициативам, направленным на установление франко-германского примирения.
После 1933 года Кёрбер будет передавать секреты о планах Гитлера следовавшим друг за другом британским военным атташе, предупредив в 1938 году Британию о неминуемой войне. Он будет убеждать британское правительство поддерживать консервативное немецкое движение сопротивления, которое в соответствии с его убеждением выросло среди прочих причин вследствие негуманного обращения с евреями и угрозы войны. Подобно Фрицу Видерманну — командиру Гитлера во время Первой мировой войны, который станет служить в качестве одного из его личных адъютантов до 1938 года, когда он пойдёт против Гитлера и предложит свои услуги британцам и американцам — Кёрбер станет поддерживать восстановление монархии с кронпринцем Вильгельмом во главе неё.
После «Хрустальной ночи» Кёрбер, который раскаивался в своём фанатичном антисемитизме, спрятал еврейского газетного магната и издателя Германна Ульштайна в своей квартире и помог ему иммигрировать в Англию. Кёрбера арестуют на следующий день после провалившегося покушения на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года, и он проведёт остаток войны в тюрьме гестапо и концентрационном лагере Заксенхаузен. В конце войны он вернётся на остров Рюген, но в конечном счёте сбежит из советской оккупационной зоны Германии на Запад, став главным редактором Europaische Illustrierte, а также пресс-шефом администрации Плана Маршалла во французской оккупационной зоне Германии. В начале 1950-х он будет вовлечён в инициативы на высшем уровне, нацеленные на европейскую интеграцию, до того, как переедет в 1957 году на Лазурное Побережье, а затем в Лугано в Швейцарии из-за плохого здоровья жены. Разочарованный «общим культурным упадком» Европы, Кёрбер со своей женой Ивонной эмигрирует в Иоханнесбург в Южной Африке, где будет жить по соседству со своим лучшим другом, британским офицером, и его немецкой женой до того как умрёт в конце 1960-х.
Глава 13. Путч Людендорфа
Театральный и пагубный напор Гитлера с целью рекламирования своего национального образа в предвидении неминуемых радикальных политических трансформаций Германии произошёл только в самый последний момент, поскольку к октябрю 1923 года делались конкретные шаги для осуществления путча примерно 9 ноября. Однако решение свергнуть правительство Германии не было сделано в Мюнхене, в Уффинге-ам-Штаффельзее, или в любом другом месте, посещавшемся Гитлером. Оно было сделано в Москве. 4 октября Политбюро Коммунистической партии России определило, что Германия созрела для революции. Даже хотя вожди Коммунистической партии Германии (KPD) не были совершенно в этом уверены, они не возражали Москве. Например, Хайнрих Брандлер, вождь KPD, опубликовал статью в «Правде», официальном органе Коммунистической партии России, заявляя: «Старые вожди среди нас верят, что это будет не трудной, но полностью выполнимой задачей — захватить власть».
12 октября Центральный комитет KPD формально одобрил решение, сделанное в Москве. Оно определило, что 9 ноября будет провозглашено, что вся власть перешла к новому Правительству Рабочих и Крестьян. Поскольку KPD была частью коалиционных правительств и в Тюрингии, и в Саксонии, в которой Брандлер представлял департамент премьер-министра Эриха Цайгнера, то члены правительств двух земель Германии теперь замышляли принести мировую революцию в Германию.
В ответ на ухудшение политического и экономического кризиса в Саксонии Центральный комитет 20 октября решил, что революция не может больше ждать до 9 ноября, но требует двигаться вперёд к следующему дню. План состоял в том, что комитет провозгласит всеобщую забастовку и тем самым вызовет революцию. Но революция оказалась мертворождённой, главным образом вследствие некомпетентности и дилетантизма. Например, решение комитета не было передано Вальдемару Розе, хотя предполагалось, что Розе будет служить военным главой революции в Германии. Через несколько часов коммунистическое руководство Германии поняло, что оно должно оставить свой план.
Попытку приступить к осуществлению коммунистической революции в октябре 1923 года не следует отметать в сторону как незначительную, потому что у неё не было поддержки большинства в Германии. Успех или неудача революций редко зависит от поддержки большинства. Как демонстрируют события в крупном городе на Севере Германии, Гамбурге, по меньшей мере попытка коммунистической революции могла вызвать гражданскую войну в Германии, если бы она выполнялась более эффективно и если бы связь между коммунистическими группами по всей Германии была улучшена.
Когда исходный приказ от 20 октября, но не последующее сообщение об отмене революции, достиг Гамбурга, коммунистические группы там утром 22 октября заняли тринадцать полицейских участков, устанавливая баррикады в районе Бармбек и укомплектовав их 150 людьми. Только через два с половиной дня и только после неоднократных обстрелов полицейскими, матросами и армейскими частями, что привело к смерти семнадцати полицейских и двадцати четырёх коммунистов, революционеры сдались.
Попытка революции в Гамбурге даёт почувствовать, что случилось бы, если бы подобные события произошли одновременно во всех главных городах Германии. Более того, потребовалось времени примерно в четыре раза больше, чтобы подавить коммунистический переворот в Гамбурге, чем потребуется, чтобы покончить с путчем, который произойдёт 9 ноября в Мюнхене — в тот день, что был изначально зарезервирован для коммунистической революции в Германии.
Коммунистические беспорядки в Германии следует рассматривать на фоне развития, происходившего с 1921 года, когда вся страна вошла в режим кризиса. Военные репарации, унижение от сокращения армии и флота, потеря территорий, французская оккупация Рейнской области и индустриального сердца Германии, Рура, а также пассивное сопротивление, которое поощряло правительство для борьбы с этим, и гиперинфляция, царившая в Германии — всё это поставило страну на грань. Последовал крах государственной власти в Берлине и повсюду. К середине октября правительство предприняло радикальные меры для взятия ситуации под контроль. Например, старая денежная единица была заменена новой, рентной маркой (Rentenmark), чтобы попытаться остановить инфляцию. Однако за короткое время введение новой денежной единицы усугубило кризис, поскольку оно привело к волне банкротств.
События, происходившие в Саксонии, Тюрингии, Гамбурге и в других местах — например, сепаратисты в Рейнланде провозгласили Рейнскую Республику — довели существовавший до того экономический, политический и социальный кризис до кипения, создав условия, которых ждали баварские «секционалисты» (баварцы, ставившие интересы Баварии превыше всего прочего) и национал-социалисты. И те, и другие рассматривали ситуацию как возможность представить себя спасителями от коммунизма, в том случае, когда они решат начать свой собственный переворот. С точки зрения баварского истэблишмента наконец-то возникла ситуация, обеспечивавшая очень реальный шанс изменить конституционное устройство Германии таким образом, который сделает баварцев снова хозяевами в своём собственном доме. Гитлер между тем надеялся, что подобно маршу Муссолини на Рим в предыдущем году станет возможным устроить марш из Мюнхена в Берлин с намерением освободить Германию. Поэтому он агитировал начать такой марш как упреждающий оборонительный ход. Как он говорил в октябре американскому журналисту, работавшему для агентства United Press, «Если Мюнхен не направится маршем на Берлин в подходящий момент, то Берлин пойдёт маршем на Мюнхен».
Что подпитывало эскалацию кризиса сверх того, так это гиперинфляция, державшая Германию в своих тисках осенью 1923 года. Она пожирала сбережения, часто буквально за ночь. Например, после того, как подруга Хелен Ханфштэнгль была вынуждена продать свою долю большой закладной, то на следующее утро со своего дохода она смогла купить только шесть булочек на завтрак. Как заключил 25 октября 1923 года Хайнрих Вольффлин, «Непосредственное будущее будет ужасным». Швейцарский историк искусства, преподававший в мюнхенском университете, отметил: «Цены растут не день ото дня, а от часа к часу». Дела изменились от плохого к худшему. 4 ноября Вольффлин докладывал: «Фунт говядины стоил вчера 99 миллиардов марок».
Возвращение в кресло главы баварской политики Густава фон Кара в конце сентября еще больше ухудшило ситуацию и сделало её более неустойчивой. На этот раз технократ правых убеждений не стал снова премьер-министром, а был назначен генеральным государственным комиссаром; другими словами, он занимал должность, сходную с постом диктатора во времена Римской Республики — т. е. у него была власть диктатора с ограничением по времени. Назначение Кара правительством Баварии было вызвано оккупацией промышленного сердца Германии в Руре французскими и бельгийскими войсками, когда в сентябре правительство Германии решило, что не имеет иного выбора, кроме как прекратить поддерживать сопротивление оккупации. В ответ на это решение правительство Баварии заявило, что условия, при которых дозволяется объявление чрезвычайного положения в соответствии со Статьёй 48 Конституции Германии, были выполнены. Баварское правительство, поддерживаемое Баварской Народной партией (BVP), затем назначило Кара генеральным государственным комиссаром, тем самым передав ему всю исполнительную власть, необходимую для восстановления порядка в Баварии. В теории власть, которая у него была, предназначалась для сохранения конституционного порядка в самом южном государстве Германии. Однако эта власть столь же легко могла быть использована для подготовки национальной революции.
Таким образом, осенью 1923 года Мюнхен был полон политическими деятелями правого крыла, которые строили планы ниспровержения политического status quo. Однако было поразительно, насколько нескоординированными были их соответствующие планы и как почти каждый переоценивал свои собственные силы и влияние.
Так же, как во времена своей службы премьер-министром, Кар верил, что он сможет контролировать различные националистические и консервативные группы Баварии. Далее, он думал, что сможет усадить вместе секционалистов и пангерманские силы под одним зонтом. В Гитлере он не видел ничего, кроме фигуры, которую он сможет использовать для продвижения своих собственных интересов. Ему не пришло в голову, что обращаясь с Гитлером как со своим инструментом, он открывает ящик Пандоры и больше не сможет контролировать его. Кар заплатит своей собственной жизнью за свой просчёт. В начале 1934 года приспешники Гитлера ликвидируют его.
Между тем Гитлер обманывал сам себя к осени 1923 года, поверив в то, что он был более, чем тактический инструмент в руках баварского истэблишмента. Он был уверен, что у него уже достаточно национальной известности и что он, вместе с отставным генералом Людендорфом, был достаточно силён, чтобы произвести революцию в Баварии и впоследствии распространить её по всей стране. Но он не смог понять, что было невообразимо, чтобы кронпринц Руппрехт Баварский и его сторонники могли бы объединить силы с заклятым врагом Руппрехта, Людендорфом.
Гитлер не слушал никаких получаемых им предупреждений о том, что цели баварского истэблишмента и Национал-Социалистической Немецкой Рабочей партии (NSDAP) были несовместимыми. Национал-социалистические активисты в северной Баварии, например, раз за разом слали письма в штаб партии в Мюнхене, описывая, насколько разнородными были правые политические группы и полувоенные организации в регионе, и заключая, что эти люди вряд ли будут поддерживать NSDAP. Когда из Мюнхена не было получено никакого отклика, один из них, Ганс Дитрих, отправился на поезде в Мюнхен. Целью его поездки было рассказать Гитлеру, что он не может полагаться на поддержку местной милиции и полиции Баварии. Но предупреждения Дитриха не были приняты во внимание, поскольку Гитлер убедил себя, что политический правый фланг стоит за ним единым фронтом. Проповедь Михаэля фон Фаульхабера 4 ноября должна была сказать Гитлеру о том, что у баварского истэблишмента политически не было с ним взаимопонимания, поскольку в своей проповеди архиепископ Мюнхена критиковал преследование евреев в Германии.
Когда по настоянию Вильгельма Вайсса, главного редактора правого еженедельника Heimatland, Ганс Тробст вернулся в Мюнхен в конце октября для поддержки планов, находившихся в процессе подготовки в «Союзе Оберланд» (Bund Oberland), как теперь назывался Добровольческий корпус Freikorps Oberland, он был удивлён, увидев, сколь много недоверия существовало между различными группами, готовившими путч. Как теперь должно быть понял ветеран Турецкой войны за независимость, Гитлер даже не контактировал ещё достаточно с большинством важных потенциальных путчистов. Когда Тробст прибыл в Мюнхен, в городе царил политический хаос.
Как результат растущей ненависти к федеральному правительству среди националистов и баварских секционалистских кругов в Мюнхене, различные поспешные планы — которые временами перекрывались, дополнялись, координировались, конкурировали или открыто противоречили друг другу — находились в процессе подготовки, ставя целью ниспровержение status quo в Германии. Существовали неопределённость и несогласие — не только между националистическими и секционалистскими группировками, но и внутри них — например, кто будет возглавлять движение, которое должно свергнуть политическую систему; подобным образом, они не могли согласиться с тем, что последует за этим свержением. Они даже имели разные мнения относительно существовавшего правительства Баварии — было ли оно частью проблемы или частью решения кризиса.
Как узнал Тробст вскоре после своего прибытия в Мюнхен, Вайсс вызвал его в Баварию, поскольку полагал, что среди этого хаотичного конкурирования идей и планов его присутствие усилит карты Вайсса и его соучастника капитана фон Мюллера, одного из батальонных командиров «Союза Оберланд». Вайсс и Мюллер информировали Тробста, что их план был свергнуть правительство, нежели принуждать его к сотрудничеству. Тробст был чрезвычайно воодушевлён перспективой кажущегося неминуемого овладения Баварией и в конечном счёте Германией, равно как и последующей войной с державами-победительницами в Первой мировой войне. Он надеялся, что этот кризис поможет восстановлению его офицерской карьеры.
Как сказали ему Вайсс и Мюллер днём 31 октября, они планировали путч на ночь с 6 на 7 ноября: люди из «Союза Оберланд» будут делать вид, что производят ночное учение и затем займут военные объекты в Мюнхене в 03:00. Двумя часами позже, ровно в 05:00 пять отрядов, назначенных для арестов, одновременно задержат Кара, премьер-министра Ойгена фон Книллинга, министра сельского хозяйства Йоханнеса Вутцльхофера и множество других политиков и руководителей полиции, препроводят их к 05:20 в казармы сапёров, потребуют немедленного подписания ими заявлений об отставке и в случае отказа сотрудничать казнят Вутцльхофера на глазах остальных спустя пять минут. Затем предполагалось, что Кар назначит Эрнста Понера, бывшего националистического начальника полиции Мюнхена, своим преемником, и новое правительство во главе с Понером будет сформировано в тот же самый день — включая также Людендорфа и Гитлера.
Через несколько часов после постановки задачи, когда на Мюнхен опустилась ночь, Вайсс, Мюллер и Тробст вместе посетили Фридриха Вебера, политического вождя «Союза Оберланд» и зятя пангерманского издателя Юлиуса Фридриха Леманна, чтобы поделиться с ним своим планом. Вначале суровый вождь Оберланда оставался неубеждённым в его достоинствах. С одной стороны, Вебер всё ещё не знал, что делать с Гитлером и его партией, и продолжал относиться с недоверием к вождю национал-социалистов; с другой, Вебер всё ещё думал, что он сможет привлечь Кара к поддержке путча и тем самым сделать правительство Баварии частью решения проблемы.
Но затем ситуация неожиданно повернулась в пользу для посетителей, когда внезапно без объявления показался Адольф Гитлер. Тробст заметил, что он выглядел нервным и явно «весьма недовольным». Как выяснилось, недоверие между вождями Оберланда и Гитлером было взаимным. Даже хотя в течение месяцев Гитлер пытался стать главой лагеря националистов в Мюхене и повсюду, он явно хорошо понимал, что его амбиции не соответствуют реальностям (пока что) и что у него всё ещё репутация пустых слов и ничего более. Также явно обеспокоенный, что окно возможностей для переворота более не останется открытым надолго, он решил, что он либо должен поднять ставки, либо проиграть всё. Он сказал Веберу и его посетителям: «Я едва ли знаю, что ещё говорить людям, которые приходят на наши митинги. Мне порядком надоел этот вздор».
Авантюра Гитлера поднять ставки окупилась. Как выяснилось, он и вожди Оберланда одинаково предпочли бы перейти к действиям раньше, но каждая сторона не была уверена в чувствах и намерениях другой. Когда они поняли, что все они желают одного — устранения существующего политического положения, и чем раньше, тем лучше — Гитлер изложил свой собственный план поздним вечером.
Недоверие между Фридрихом Вебером и Гитлером почти определённо было основано на нежелании последнего тесно взаимодействовать с Леманном и другими пангерманистами. Наследие неприязни Гитлера к Карлу Харреру и к тем, кто поддерживал концепцию Общества Туле для DAP/NSDAP, предотвратило более раннее сотрудничество и потому стояло на пути лучшего и более реалистичного планирования путча. Только в следующем году — 1924, когда эти двое будут в заключении вместе — Фридрих Вебер станет другом Гитлера.
Тробст получал удовольствие от возможности наконец наблюдать Гитлера вблизи, компенсируя пропущенную встречу с ним в сентябре. Он был возбуждён от того, что Гитлер присоединится к ним. Двумя днями спустя, в пятницу 2 ноября, Тробст снова столкнулся с Гитлером на встрече вождей Оберланд в офисе капитана фон Мюллера, который владел небольшой кинокомпанией в Мюнхене. Гитлер уговаривал их действовать без дальнейшей задержки, потому что, как Тробст рассказывал спустя три месяца, «у него самого [т. е. у Гитлера] едва ли оставались силы; его люди были готовы упасть духом, а финансы его партии были почти исчерпаны». К началу ноября Гитлер был ведом в равной мере мегаломанией и отчаянием. Тробст между тем не мог не чувствовать, что «Гитлер мотивировался какими-то личными интересами, потому что вдруг он заявлял: „Вам не следует думать, что я просто встану и уйду; сначала кое-что должно произойти!“» Как столь часто прежде и впоследствии, Гитлер представлял ситуацию, перед которой он стоял, как проблему «всё или ничего» и убеждал своих сообщников не придерживать свои ставки, а поставить все свои деньги на использование момента. И даже теперь старый страх Гитлера — снова стать никем, которому некуда пойти — проявлялся в его заявлениях, сделанных в тот вечер в офисе Мюллера.
Тробст понял, что Гитлер пытался манипулировать им, но он совершенно не имел ничего против, поскольку план вождя NSDAP «безупречно встраивался в наш собственный план, который был отшлифован в течение дня». То есть, Тробст и его сообщники не видели Гитлера своим вождём, но вместо этого безупречным средством достижения своих собственных целей. На Тробста, в частности, произвел впечатление талант красноречия Гитлера. «Слушать его было наслаждением, — вспоминал он спустя три месяца. — Образы и сравнения легко приходили к нему, и я неожиданно понял, что имел в виду Людендорф, когда он сказал, что в Гитлере мы имели самого блестящего и наиболее успешного агитатора Германии. Его образ „пьяной мухи“ на самом деле был блестящим: одурманенная муха, что лежит на своей спине и барахтается, и не может снова встать — той мухой было правительство Рейха в Берлине».
Гитлер всё ещё недостаточно верил Веберу, Тробсту, Вайссу и Мюллеру, чтобы открыть им то, что через два дня, в воскресенье 4 ноября, переворот, планировавшийся Эрихом Людендорфом, про-нацистским националистическим вождём Германном Крибелем и им самим, должен будет произойти во время открытия монумента тринадцати тысячам человек из Мюнхена, погибшим во время мировой войны, который был воздвигнут рядом с Военным музеем за Хофгартеном. В мероприятии будут участвовать все базировавшиеся в Мюнхене воинские части, полувоенные объединения и группы студентов, а также политическая элита Баварии.
План состоял в том, что после произнесения всех официальных речей Гитлер взбежит по ступеням музея и вступит в конфронтацию с правительством Баварии. Идея была такая: он спросит Кара, так чтобы все слышали, почему повсюду было невозможно купить хлеб, даже несмотря на то, что в пекарнях полно муки. Предполагалось, что в последующем хаосе Людендорф, Крибель и Гитлер обратятся к присутствующим военным и полувоенным группам, чтобы те арестовали правительство, и немедленно провозгласят новое правительство.
Но 4 ноября дела пошли по-другому: население Мюнхена отреагировало ни в том патриотическом духе, которое предполагало правительство, ни в духе, которого ожидали путчисты. Тробст был удивлён, сколь мало людей в Мюнхене вывесили флаги снаружи своих домов, несмотря на призывы сделать это. На мемориальном событии также публика выражала своё недовольство. Тробст слышал, как люди говорили: «Ну, если бы мёртвые слышали все эти речи, они бы в гробу перевернулись». Другие говорили: «Почему Кар наконец не даст хлеб каждому, вместо того, чтобы заниматься празднованиями всё время!»
Также, и это было более важно, Людендорф, к удивлению всех, не присутствовал. Либо намеренно, либо случайно, баварская государственная полиция не подвезла его на мероприятие, как было договорено. Будущим путчистам не пришло в голову, что поведение государственной полиции могло быть безошибочным показателем того, как баварская полиция относится к возможному путчу. Заговорщики, убеждённые в том, что у них до сих пор есть поддержка всех, кого надо, решили не оставлять своих планов переворота и снова сделать попытку на следующий день.
В ночь на воскресенье Тробст посетил спиритический сеанс в доме своей невестки Доротеи, которая в затемненной комнате пыталась вызвать духов и предсказать будущее. Однако в конечном счёте он решил не оставлять будущее на волю духов и провёл несколько будущих дней, уговаривая своих сообщников ударить как можно скорее, особенно потому, что экономическая ситуация принимала драматический поворот к худшему. 138 миллионов марок, за которые он купил билет на поезд из северной Германии в Мюнхен на предыдущей неделе, теперь ничего не стоили, когда фунт хлеба стоил уже 36 миллиардов марок. Даже хорошо одетых женщин видели просящими милостыню на улицах Мюнхена. Как вспоминал Тробст, некоторые из вождей Оберланд говорили Веберу: «Если они в скором времени не выступят, то станет невозможно отличить коммунистов от голодающих людей».
В среду 7 ноября Вебер вручил Тробсту билет на поезд и триллион марок и попросил по поручению Людендорфа, чтобы он немедленно отправился в Берлин, или «Новый Иерусалим», как Тробст нелестно называл столицу Германии из-за предполагаемой власти евреев там. Его задачей было вовлечь националистические круги города в путч в Мюнхене и тем самым способствовать распространению переворота в Берлин. Однако, когда он оказался в столице Германии, только один человек из правых, с кем Тробст встречался, проявил желание поехать с ним в Мюнхен. Как обнаруживает этот эпизод, Людендорф, Гитлер и их сообщники заблуждались относительно уровня поддержки их на национальном уровне.
8 ноября Гитлер посчитал, что пришло время немедленно ударить и начать свой путч. Примерно без четверти девять, не связавшись в достаточной мере с другими группами, которые, как он ожидал, будут участвовать в этом, Гитлер и его сторонники ворвались в целиком заполненный пивной зал «Бюргербраукеллер», в котором Кар произносил речь и в котором присутствовал почти весь баварский политический истэблишмент. Гитлер выстрелил из своего револьвера в потолок и заявил, что национальная революция началась.
Он представлял, что Кар поддержит возглавляемую национал-социалистами национальную революцию, если будет поставлен перед свершившимся фактом. И в самом деле, под влиянием разворачивающихся событий Кар и его главные помощники полковник Ганс Риттер фон Зайссер и генерал Отто фон Лоссов вначале выразили поддержку революции. Но в течение нескольких часов они отозвали свою поддержку и дали указания баварским государственным властям принять меры для подавления путча. Из «Бюргербраукеллер» начальник полиции Мюнхена Карл Мантель уже тщетно пытался предупредить государственную полицию Баварии о перевороте так, чтобы она могла предпринять немедленные действия против Гитлера. Власти действовали быстро для объявления NSDAP вне закона той же ночью. Путч провалился.
Как и следовало ожидать, Кар и другие хотели использовать Гитлера для продвижения своих собственных целей, а не быть использованными таким выскочкой, как он. В то время Гитлер едва ли был мессией для кого-либо среди политического и социального истэблишмента Мюнхена. Мелания Леманн, жена издателя Леманна, напишет Эриху Людендорфу, что это была «ошибка Гитлера неверно оценить, сколь близко Кар был связан с Партией Центра [т. е. с Баварской народной партией] и насколько могущественен он был».
Даже до решения Кара прекратить поддержку путча генерал Фридрих Кресс фон Крессенштайн, который во время Первой мировой войны спас еврейскую общину Иерусалима, выступив против приказа властей Оттоманской империи о депортации, и который теперь был заместителем командующего частей рейхсвера, базировавшихся в Баварии, приступил к действиям. Он издал указ о том, что любые приказы, исходящие от его начальника Отто фон Лоссова, следует рассматривать как недействительные и отданные под принуждением.
Хотя путч был колоссальным провалом, Гитлер, Людендорф и их сторонники не приняли поражения. Не желая выходить из игры без последней отчаянной попытки завернуть судьбу, они решили на следующий день устроить марш через центр Мюнхена к зданию бывшего Военного министерства в надежде посредством этого дать толчок руководству рейхсвера Баварии к участию в путче. В Мюнхене в тот день к Гитлеру присоединилось множество националистов. Даже Пауль Оештрайхер, педиатр, обратившийся в протестантство еврей и ветеран Добровольческого корпуса Бамберг, намеревался присоединиться к маршу, очевидно веря в то, что антисемитизм Гитлера не был в действительности расово мотивированным. Только по настоянию одного из своих коллег, озабоченного тем, как отреагируют национал-социалисты на присутствие человека еврейской крови в своей среде, он в последнюю минуту оставил свой план. Для Оештрайхера могло быть вполне безопасным присоединиться к мероприятиям того дня, поскольку в марше участвовал Эрих Блезер, который в соответствии с критериями нацистов образца 1930-х был «полуевреем», и тем не менее был членом и NSDAP, и SA. Несмотря на получение им, как ветераном путча, медали Ордена Крови, гестапо в 1938 году станет преследовать его мать, Розу, в результате чего она совершит самоубийство.
Несмотря на приток новых сторонников, Гитлер, Людендорф и их приверженцы так и не дошли до Военного министерства. Когда они двигались вдоль Резиденцштрассе и почти вступили на Одеонплатц, они неожиданно увидели перед собой подразделение государственной полиции Баварии под руководством Михаэля фон Година. Так же, как в случае его товарища из лейб-полка Антона фон Арко — убийцы вождя баварской революции Курта Айснера — Годин был так же готов предпринять меры против и Гитлера, и Айснера. Никогда не было выяснено, кто выстрелил первым, но последовала перестрелка, оставившая мёртвыми пятнадцать путчистов и четверых полицейских. Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, маршировавший совсем рядом с Гитлером, был среди убитых. Гитлер был утянут на землю умирающим Шойбнер-Рихтером, вывихнув Гитлеру руку, но спасши его жизнь. Его телохранитель Ульрих Граф затем закрыл его от выстрелов своим телом. Изрешечённый пулями, Граф чудесным образом выжил, чтобы рассказать о случившемся, но всю оставшуюся жизнь он должен был жить с пулями в своей голове, которые невозможно было удалить. Когда в конце концов выстрелы утихли, двое из людей Гитлера, молодой врач и санитар, подхватили с улицы травмированного вождя национал-социалистов, быстро отнесли его в задние ряды, посадили в один из открытых автомобилей, что следовали за их маршем, и уехали как можно быстрее.
Почти столетие спустя вследствие его долгосрочных последствий, путч выглядит как монументальное событие. Однако в действительности то, что произошло на Одеонплац, было совершенно локальным событием. Примерно в то же самое время, когда государственная полиция и путчисты обменивались выстрелами, подруга Гитлера Хелен Ханфштэнгль села на трамвай, идущий по Барарштрассе, всего в трёх кварталах к западу от Одеоплатц, полностью в неведении того, что происходит. Она провела в ожидании на железнодорожном вокзале Мюнхена двадцать минут и затем отправилась по железной дороге в Уффинг, не осознавая, что происходит где-то в центре Мюнхена, и не зная, что вскоре последует.
Доктор и санитар, которые увезли Гитлера в безопасное место, пытались убежать с ним в Австрию. Однако как раз на подъезде к Альпам их автомобиль сломался — событие исторических последствий мирового значения. Если бы Гитлер достиг австрийской границы, то не было бы судебного процесса, не было бы заключения, и более похоже на то, что он был бы сейчас не более чем подстрочным примечанием в истории.
Когда Гитлер обнаружил, что они были недалеко от Уффинг ам Штаффельзее, он предложил, что они спрячутся в лесу поблизости до наступления ночи, и затем под покровом темноты отправятся к дому Ханфштэнглей. Когда они, наконец, прибыли к дому и Хелен Ханфштэнгль открыла им свою дверь, то она впустила бледного и покрытого грязью Гитлера.
Гитлер провёл вечер и ночь в лихорадочном возбуждении, но в конце концов смог немного отдохнуть. Проснувшись на следующий день, в субботу 10 ноября, он решил, что должен продолжить своё бегство в Австрию. Поэтому он потребовал, чтобы санитар вернулся на поезде в Мюнхен и попросил Бехштайнов — берлинских владельцев фабрики пианино и близких приверженцев Гитлера, которые в то время были в Баварии — передать их автомобиль Максу Аманну, управляющему директору NSDAP, так, чтобы он смог приехать и забрать его, а затем перевезти через границу в Австрию. Так что в час своей величайшей нужды Гитлер решил положиться на двух Хелен, «немецкую девушку из Нью-Йорка» и свою ближайшую сторонницу из Берлина, чем на своих партнёров в Мюнхене. Следующие полтора дня он с нетерпением ждал прибытия автомобиля Бехштайнов. Неведомо для него, Бехштайны были на выезде в сельской местности, вот почему просьба Гитлера достигла их с большой задержкой. К полудню воскресенья Аманн наконец покинул Мюнхен на автомобиле — но так же сделала арестная команда, которой было приказано схватить Гитлера.
Гитлер между тем вышагивал туда-сюда по гостиной Хелен Ханфштэнгль, одетый в темно‑синий банный халат её мужа, поскольку он не мог больше надевать свой пиджак из-за вывихнутой руки. Он двигался то молча и угрюмо, то, выражая свою озабоченность судьбой своих товарищей по путчу, говоря Хелен, что в следующий раз он сделает всё иначе. Он всё больше и больше становился озабоченным, что нет информации о местонахождении автомобиля Бехштайнов и что он может не попасть в Уффинг вовремя, чтобы убежать через горы в Австрию.
Как раз после 5:00 пополудни зазвонил телефон. Это была свекровь Хелен, звонившая из своего дома поблизости. Она сказала Хелен, что её дом в этот момент обыскивается в поисках Гитлера, и что арестная команда в любую минуту проследует к дому Хелен. Хелен рассказала скверные новости Гитлеру, после чего тот полностью упал духом. Воздев руки и воскликнув: «Теперь всё потеряно — бесполезно продолжать!», он быстрым движением повернулся к шкафчику, на который он днём положил свой револьвер. Он схватил оружие и приставил его к своей голове. Однако в отличие от него Хелен сохраняла хладнокровие. Она спокойно шагнула вперёд и отняла у него оружие, не применяя никакой силы, спросив его — думал ли он, что делает. Как он может сдаться при своей первой неудаче? Она предложила ему подумать о всех его сторонниках, которые верили в него и в его идею спасения страны и которые потеряют всю веру, если он покинет их теперь. Гитлер при этих словах упал в кресло. Он обхватил свою голову руками, сидя неподвижно, в то время как Хелен быстро спрятала револьвер в банке с мукой.
Безотносительно того, в самом ли деле Гитлер серьёзно рассматривал совершение самоубийства, его поведение показывает, в сколь тяжелом состоянии духа он был после провалившегося переворота. Когда Хелен смогла успокоить его, она сказала, что он должен проинструктировать её — что следует сделать после его неминуемого ареста. Она записала в блокнот, что он хочет, чтобы сделали его сторонники и его адвокат. Думая быстро, он должен был упоминать тех, кто, скорее всего, не будет затронут и не будет арестован, а также придумать на ходу план — как его партия сможет избежать судьбы сдутого воздушного шарика после провалившегося путча.
Он сказал Хелен, что хочет, чтобы Макс Аманн позаботился о поддержании в порядке финансовых и деловых обстоятельств в партии. Альфред Розенберг должен был присматривать за печатным органом NSDAP, газетой Völkischer Beobachter, её муж должен был использовать свои заграничные связи для создания репутации газете. Рудольф Буттманн, националист, который подумывал о свержении революционного руководства Баварии зимой 1918–1919 гг. и который с тех пор всё больше и больше сближался с Гитлером, и давний сотрудник Гитлера, Германн Эссер, между тем были озадачены выполнением политических операций партии, а Хелен Бехштайн он просил продолжать её щедрую помощь партии. Гитлер затем быстро подписал приказы, после чего Хелен опустила блокнот также в банку с мукой.
Около 6:00 пополудни арестная команда прибыла к дому Хелен Ханфштэнгль. Солдаты, полицейские и полицейские собаки окружили дом, и Гитлер был арестован и помещён в тюрьму в близлежащем Вайлхайме, всё ещё одетый в темно-синий халат Эрнста Ханфштэнгля. Спустя час, и опоздав на час, Аманн, глубоко озабоченный судьбой шефа (der Chef), прибыл к дому Ханфштэнглей в автомобиле Бехштайнов. Даже хотя он и не прибыл вовремя, он успокоился и обрадовался, услышав, что Гитлер был «в безопасности». Аманн рассказал Хелен, что поскольку Гитлер не один раз в присутствии своих товарищей, вождей национал-социалистов угрожал убить себя, то он боялся, что его босс может совершить самоубийство.
Вскоре Гитлер был переведён в крепость Ландсберг, современную тюрьму приблизительно в сорока милях к западу от Мюнхена. Это не была военная крепость, поскольку термин крепость в этом контексте просто обозначает тюрьму для людей, обвинённых в государственной измене. В Ландсберге он сначала был взят под обеспечивающий арест и впоследствии ожидал слушания своего дела. Вскоре после его прибытия его обследовал доктор, делая заметки о вывихнутой руке Гитлера и также о врождённом дефекте, «крипторхидизм с правой стороны» — то есть неопущение правого яичка. Врождённый дефект Гитлера станет предметом популярной издевательской песенки в Британии, «У Гитлера только одно яйцо». (До сих пор остаётся неясным, как новость об этом нашла дорогу в Британию). Возможно, что врождённый дефект объясняет, почему на всю оставшуюся жизнь Гитлер неохотно раздевался даже перед доктором и почему многие годы он не желал входить в интимные отношения с женщинами. Например, в начале 1920-х он проводил так много времени с Дженни Науг, подобно ему, австрийской эмигрантке в Мюнхене, что все думали, что у них романтическая связь. За спиной Гитлера люди говорили о Дженни как о его невесте. Они даже праздновали Рождество 1922 года друг с другом. И тем не менее непохоже, что их отношения стали больше, чем невинными и романтическими.
Гитлеру в Ландсберге казалось, что всё потеряно. Сначала он отказался дать показания и объявил голодовку, во время которой он потерял 11 фунтов. Казалось, что он боялся возврата к существованию в качестве господина Никто. Несмотря на свою национальную кампанию ранее в том году для рекламирования своего национального имиджа, для большинства немцев Гитлер оставался безликим.
Более того, в глазах публики только что произошёл «путч Людендорфа», вовсе не «путч Гитлера». Например, в далёкой Рейнской области Йозеф Геббельс записал в своё дневнике через день после события: «В Баварии националистический переворот. Людендорф снова вышел на авансцену». То, как люди разговаривали или писали о Гитлере между 9 ноября и началом его судебного процесса в конце февраля, также демонстрирует, что, несмотря на его усилия превратиться в глазах публики из барабанщика в вождя, он не рассматривался даже в качестве движущей силы путча, не то что в роли будущего вождя Германии.
Например, в декабре 1923 года Мелания Леманн пришла к выводу, что если бы путч был успешным, то для Гитлера была бы создана должность, «которая дала бы ему возможность доказать, что он был способен добиться чего-то выдающегося». Её муж выразил подобную точку зрения в письме к Густаву фон Кару: «В Гитлере я видел человека, который благодаря своим блестящим талантам в определённых областях был предназначен стать тем „барабанщиком“, которого у Германии нет, как однажды заявил Ллойд Джордж. По этой причине я бы предпочёл дать ему пост, который позволил бы ему использовать его выдающийся дар на службу отчизне».
Зимой 1923–1924 гг. едва ли кто-то верил, что Гитлер, если у него есть какое-либо политическое будущее, станет вождём Германии. Как записала в своём дневнике 25 ноября 1923 года Мелания Леманн, она надеялась, что Гитлер в конце концов вернётся и будет работать «под руководством кого-то более великого, чем он». Ганс Тробст также видел Гитлера в феврале 1923 года не как «вождя, но как великолепного агитатора», который вымостит путь «для кого-то даже более великого, чем он».
Гитлер был в депрессии в течение недель, но в новом году он начал видеть свет к конце туннеля. Как заключил психологический доклад о нём от 8 января 1924 года, «Гитлер полон энтузиазма относительно мысли о более великой, объединённой Германии и у него живой темперамент». В частности, смерть 21 января вождя русских большевиков Ленина подняла его настроение. Он теперь ожидал неминуемого крушения Советского Союза. Политическая цель, о которой он так часто разговаривал с Эрвином фон Шойбнер-Рихтером, наконец-то казалась близкой: постоянный альянс между националистической (völkisch) Германией и монархистской Россией. Как написал Шойбнер-Рихтер в статье, опубликованной 9 ноября 1923 года, в тот день, когда он был убит, «национальная Германия и национальная Россия должны найти общий путь в будущее, и […] поэтому необходимо, чтобы националистические (völkisch) круги обеих стран встретились сегодня».
Спустя пять дней после смерти Ленина начался судебный процесс над Гитлером в Народном Суде в Мюнхене, который собрался в здании Центральной пехотной школы на улице Блютенбург в центре Мюнхена. Во время процесса, который продлится до 27 марта, Гитлер был одним из десяти обвиняемых, только один из которых родился в Мюнхене. Из оставшихся девяти ни для кого Южная Бавария не была родиной. Во время судебного процесса дела стали оборачиваться в его пользу. За пять недель, которые продолжался его процесс, провалившийся переворот в ретроспективе превратился из путча Людендорфа в путч Гитлера. В действительности судебный процесс был для Гитлера гораздо более изменившим его судьбу, чем станет публикация Mein Kampf, поскольку обеспечил его национальной сценой, с которой он мог озвучить свои политические идеи. До времени неудачного путча он стоял, в особенности за пределами Мюнхена, в очень большой степени в тени Людендорфа, сколь бы сильно Гитлер ни старался продвинуть свой национальный имидж путём публикации своей книги и отменой запрета на фотографирование его. Люди, которые поддерживали путч осенью 1923 года, рассматривали Людендорфа как своего будущего вождя, а Гитлера как только помощника генерала. Посредством судебного процесса Гитлер был преобразован из этого помощника и местного трибуна в личность, которой он хотел быть всё время, фигуру с национальной известностью (см. фото 26 и 27).
Как он достиг этого? Гитлер умно использовал свои появления в суде, чтобы представить себя в традиции Кемаля Паши и Муссолини, доказывая, что так же, как они сделали в Турции и в Италии, он совершил государственное преступление для того, чтобы принести «свободу» Германии. Похоже, что только когда начался его судебный процесс, он вдруг понял, какую возможность процесс дал ему.
Вначале он пытался использовать свои появления в зале суда, чтобы привлечь внимание к соучастию баварского истэблишмента и его сообщников в планах по свержению правительства. Однако у всех остальных были собственные интересы минимизировать их собственное участие и назначить Гитлера козлом отпущения, преувеличивая роль, которую предположительно играл вождь NSDAP. В конечном счёте Гитлер воспользовался версией событий, которую все остальные пытались рассказать, поскольку это позволило ему представить себя как гораздо более центральную фигуру, чем он был в реальности. Вот почему сегодня события 9 ноября 1923 года известны как «путч Гитлера», а не «путч Людендорфа», как современники вначале называли переворот. Поскольку Гитлер блестяще использовал сцену, которая была предложена ему в ходе судебного процесса, он стал общеизвестен по всей Германии. Люди во всей стране были покорены заявлением Гитлера в зале суда, что после его неминуемого осуждения и тюремного заключения он начнёт точно с того же места, где он был принуждён остановиться 9 ноября. Он добавил: «Армия, которую мы сформировали, растёт день ото дня; она растёт ещё быстрее с каждым часом. Даже теперь у меня есть гордая надежда, что однажды придёт час, когда эти необученные [неукротимые] отряды вырастут в батальоны, батальоны в полки и полки в дивизии, […]: и наступит примирение в том вечном последнем Суде, Божьем Суде, перед которым мы готовы предстать. Затем из наших костей, из наших могил прозвучит голос того суда, который один имеет право нас судить». Гитлер говорил судьям: «Вы можете тысячу раз объявить нас виновными, но Богиня, которая возглавляет вечный Суд истории, с улыбкой разорвёт в клочья обвинение народного обвинителя и вердикт этого суда. Потому что она оправдает нас».
Насколько судебный процесс Гитлера изменил его публичный образ и национальный имидж, можно проследить по дневнику Геббельса. В то время как в ноябре при освещении в своём дневнике путча он упоминал только Людендорфа и восхвалял Ленина после его смерти, он упомянул «Гитлера и национал-социалистическое движение» в первый раз в своём дневнике только 13 марта 1924 года, отметив, что был покорён комбинацией «социализма и Христа» в национал-социализме, его отрицанием «материализма», а также его «этическими основами». В течение следующих девяти дней, пока продолжался суд над Гитлером, каждая запись в его дневнике упоминала Гитлера, поскольку Геббельс пытался узнать как можно больше о Гитлере в этот период времени.
20 марта 1924 года к концу четвёртой недели судебного процесса над Гитлером и всего лишь через неделю после упоминания его в своём дневнике в первый раз, Геббельс характеризовал Гитлера как мессию в словах, сходных с теми, которые он станет использовать более или менее последовательно в течение последующих двадцати одного года. Он славил Гитлера как «идеалиста, полного энтузиазма», как человека, «который даст немецкому народу новую надежду» и чья «воля» найдёт дорогу к успеху. 22 марта 1924 года Геббельс записал, что он не может не думать о Гитлере. Для него в Германии не было никого, подобного Гитлеру. Он был для Гитлера «самым пламенным [glühendster] немцем».
История попытки переворота Гитлера — это безрассудство, мегаломания и впечатляющий провал. Его стратегия рекламирования своего национального имиджа была умной; но затем дела пошли не как было задумано. Его попытка возглавить баварскую революцию, которая должна была бы быть перенесена в Берлин, провалилась от начала до конца. Он думал совершить самоубийство, даже если он и не довёл это до конца. Однако в поражении он смог исполнить то, что не сумел сделать, когда полагал, что он на подъёме. Его кампания с фото и его книга, опубликованная под именем Кёрбера, случились слишком поздно, чтобы придать ему национальную известность вовремя для переворота. Однако его судебный процесс смог исполнить именно это. Он катапультировал его к национальной известности. В первый день процесса он был обвиняемым в процессе Людендорфа, который ко времени его приговора преобразился в «процесс Гитлера». Но с точки зрения Гитлера, его триумф был горькой радостью, поскольку он должен будет провести в заключении изрядное время.
1 апреля 1924 года он был приговорён к пятилетнему сроку заключения в крепости Ландсберг, где он будет спрятан от глаз и ушей публики. Все считали, что судебный процесс дал Гитлеру пятнадцать минут славы, которая со временем поблекнет, когда на популистском правом фланге политики возникнут другие выдающиеся фигуры.
Глава 14. Жизненное пространство
Пока Гитлер находился в заключении, его звезда, против всех ожиданий, не померкла. Вскоре он стал предметом легенд и восхищения. Люди начали рассматривать его как народного трибуна, заключённого за толстыми стенами крепости Ландсберг. Это тогда верхние слои общества Мюнхена начали проявлять к нему интерес. Например, Эльза Брукманн, которая никогда не встречала Гитлера до путча, теперь бомбардировала его письмами, книгами и посылками, полными еды и угощений, как делали и многие другие. К середине мая Рудольф Гесс, который был в заключении вместе с ним, сообщил, что Гитлер больше не выглядит истощённым. По словам Гесса, Гитлер выглядел действительно хорошо благодаря не только сну и упражнениям, которыми он занимался в заключении, но также почти постоянному притоку посылок, полных сладких пирогов, различных солений, сосисок и консервированных продуктов. Как вспоминал о своём визите в Ландсберг в начале 1920-х Курт Лудеке, один из наиболее пылких сторонников Гитлера, в заключении Гитлер процветал: «Он носил кожаные шорты и тирольскую куртку, воротник его рубашки расстёгнут. Щёки его горели здоровым румянцем, а глаза блестели; задира не был сломлен своим тюремным заключением. Наоборот, физически он выглядел лучше и казался счастливее, чем когда-либо я видел его. Ландсберг пошёл ему определённо на пользу!»
Эльза Брукманн также нанесла Гитлеру два визита. Впоследствии она станет вспоминать о первом то, что по пути в Ландсберг её сердце «колотилось при мысли о возможности лицом к лицу поблагодарить человека, который пробудил меня и так много других, и показал нам ещё раз свет в темноте и дорогу, которая приведёт к свету». В крепости Гитлер приветствовал её «в баварском костюме и в жёлтой льняной куртке». Она была поражена человеком в кожаных штанах. Для неё он был «простой, естественный, учтивый, с ясным взором!» В несколько кратких минут, которые она и Гитлер провели вместе, она передала приветствия от студентов, участвовавших в провалившемся путче, а также от Хьюстона Стюарта Чемберлена. Прежде чем уйти, она сказала Гитлеру, что «после освобождения его ожидает глубокая преданность — преданность до последнего вздоха».
В течение восьми минут, что были у Эльзы Брукманн с Гитлером в Ландсберге, было посеяно семя судьбоносных отношений, которые продлятся два десятилетия. Вслед за его досрочным освобождением с испытательным сроком 20 декабря 1924 года она станет регулярно приглашать его в свой салон и откроет двери в высшие круги Мюнхена, что доселе оставались закрытыми для вождя национал-социалистов.
Брукманн была лишь одним из многих посетителей, которые обеспечили то, что Гитлер не будет забыт, пока он находится взаперти в баварской глубинке. Он устраивал почти придворные приёмы в Ландсберге, поскольку судебный процесс и обвинительный приговор превратили его в загадочную политическую знаменитость. В целом 330 посетителей провели общим числом 158 часов и 27 минут с ним между временем его осуждения и его освобождением. Разумеется, некоторые из визитов были посещениями его адвокатов, но большинство не были: много визитов было совершено Хелен и Эдвином Бехштайнами, наиболее рьяными сторонниками Гитлера из Берлина, которые провели с ним почти восемнадцать с половиной часов. Хермин Хоффманн, вдова из пригорода Мюнхена, которую Гитлер назвал своей «матушкой» («Mutterl»), навещала его в целом семь раз; даже его любимая собака пришла навестить его, когда его квартирная хозяйка, Мария Райхерт, привела немецкую овчарку с собой. Другими посетителями были его политические партнёры; а также один из его прежних полковых командиров. Но Эрнст Шмидт заехал только однажды — не слишком большое число визитов для человека, который был настолько близок к Гитлеру во время войны и после неё. Примечательно, что много визитов было нанесено вновь обретёнными почитателями.
Даже сводная сестра Гитлера, Анжела, посетила его однажды, чтобы отпраздновать его именины 17 июня, в день Святого Адольфа. Управляющая еврейского студенческого кафетерия в Вене, Анжела вначале отказалась контактировать со своим братом после его ареста. Как записал в своих частных заметках в конце 1923 года Отто Лейболд, начальник тюрьмы Ландсберг, две сестры Гитлера «не желали получать новости из тюрьмы, потому что им не нравилось антисемитское поведение их брата, „величайшего немецкого антисемитского вождя“». Однако даже теперь Гитлер держался подальше от пангерманских светил, которые некогда были близки к Обществу Туле и к видению Карла Харрера для Национал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP). Несмотря на довольно частые визиты к своему зятю, Фридриху Веберу, который был в заключении вместе с Гитлером, Юлиус Фридрих и Мелания Леманн не встречались с Гитлером.
Сами по себе, разумеется, его посетители не были бы в состоянии удерживать Гитлера в центре внимания публики. Его растущая известность была результатом двух других факторов: во-первых, поразительной неспособности других популистских вождей правого толка занять место Гитлера. Как результат постоянных распрей и перебранок между их главных фигур, не появился никакой серьёзный претендент для объединения радикальных правых. И во-вторых, в крепости Ландсберг Гитлер написал ещё одну книгу, и на этот раз он не прятался за другим автором.
Время, проведённое Гитлером в Ландсберге, в самом деле было наиболее важным из-за того факта, что он начал работать там над книгой Mein Kampf, которая будет опубликована в двух томах в июле 1925 и в конце 1926 годов соответственно. Изначально он планировал выпустить книгу под наименованием «4 ½ года борьбы против лжи, глупости и трусости: сведение счётов» (4 1/2 Jahre Kampf gegen Luge, Dummheit und Feigheit: Eine Abrechnung) — ссылка и на его пребывание в DAP/NSDAP, и на его службу во время войны — но в конце концов он сократил название до Mein Kampf («Моя борьба»). Гитлер также решил не выражать своё разочарование теми, кто не поддерживал его или кто, по его мнению, предал его в ходе подготовки путча. В действительности единственным предметом, который не был освещён в Mein Kampf, был провалившийся путч, почти определённо потому, что он зависел от доброй воли тех, с кем он хотел посчитаться — другими словами, политической и социальной элиты Баварии — чтобы получить раннее освобождение из крепости Ландсберг. После освобождения Гитлер, скорее всего, не захотел бы рисковать снова попасть за решётку, так как он был всё ещё на испытательном сроке, или быть депортированным из Германии, поскольку у него пока не было подданства Германии. Кабинет министров Баварии на самом деле неопределённо обсуждал уже в апреле 1924 года, не следует ли депортировать Гитлера в Австрию.
Первый том Mein Kampf, объёмом более четырёх сотен страниц, состоит из автобиографического полувымышленного «образовательного романа[14]» (Bildungsroman) жизни Гитлера от его рождения в 1889 году до времени опубликования программы Немецкой Рабочей партии (DAP) в 1920 году. В нём он описывает, как впечатления его детства, отрочества и Первой мировой войны открыли ему, каким образом за кулисами сцены управляется мир. Делая так, он неявным образом изображал себя как пришедшего из низов гения, который обладает исключительными врождёнными качествами для понимания скрытой архитектуры мира. Он не использовал свою автобиографию для описания прошлых впечатлений жизни, как обычно делают автобиографы; вместо этого он использовал её как манифест того, что он намеревается сделать. Том 1 Mein Kampf задумывался как книга откровения. В нём Гитлер объяснял, как он преобразовал свои откровения в предписания того, как следует реформировать Германию и мир в целом. Он изображал себя как своего рода мужскую Золушку или как Сильного Ганса (персонаж одной из сказок Братьев Гримм), как мальчика из Браунау, который должен спасти Германию, найдя ответы на вопросы о том, как могло произойти 9 ноября 1918 года — дата, символизирующая как проигрыш Германии в Первой мировой войне, так и начало революции — и какие политические уроки должны быть извлечены из крушения Германии в ноябре 1918 года.
Даже несмотря на то, что драматизация своего образа является сутью политики, степень, до которой Гитлер в Mein Kampf лгал о своей жизни, совершенно поразительна. Его повествование временами почти что вымышленное по характеру. Однако его постоянная ложь имеет безупречный смысл, поскольку целью его было рассказать версию своей жизни, которая позволит ему извлечь из неё политические уроки, что будут поддерживать его политические убеждения в 1924 году. Так что Гитлер безжалостно переделал своё собственное прошлое, чтобы рассказать политически целесообразные истории. Например, он представлял себя как типичный продукт своего полка в Первой мировой войне для усиления политического послания, что война «сделала» его и произвела национал-социализм. Если бы он вынужден был допустить, что его — добросовестного солдата — люди в окопах воспринимали его как тыловую крысу (Etappenschwein), то история его впечатлений в Первой мировой войне была бы хуже, чем просто политически бесполезной.
Второй том, по контрасту, был более традиционным программным манифестом. В нём Гитлер главным образом представлял те же идеи, которые он развил в первом томе. Однако они были изложены в более детальном виде и приняли форму политических воззваний, более обычный жанр. Там также было больше уделено внимания международным делам, поскольку Гитлер писал второй том Mein Kampf в сентябре и октябре 1926 года, значительно позже своего освобождения из крепости Ландсберг. Он отправился в горы рядом с Берхтесгаденом, чтобы работать над книгой, и сочинил её в хижине рядом с гостиницей, в которой он навещал своего наставника Дитриха Экарта двумя годами ранее.
Экарт умер от сердечного приступа на второй день Рождества (26 декабря) 1923 года. При написании второго тома Mein Kampf Гитлер ощущал себя интеллектуально и эмоционально настолько близким к своему отеческому наставнику, который теперь лежал погребённым в соседней долине, что он посвятил том Экарту. И всё же Экарт не упоминается в Mein Kampf. Поскольку Экарт был мёртв, Гитлер мог также игнорировать настойчивое утверждение своего наставника, что евреи в действительности не были биологической расой, и что человеческое существование зависело от противопоставления арийцев и евреев. Одно не могло существовать без другого, полагал Экарт. Как он написал в Auf gut Deutsch в 1919 году, наступит «конец всех времён», если «еврейский народ исчезнет».
Существовала ещё более важная причина того, что Гитлер не упомянул Экарта в Mein Kampf. Тот факт, что его наставник объяснил Гитлеру мир в годы, последовавшие за Первой мировой войной, стал бы противоречить истории, которую старался рассказать Гитлер: то есть, историю молодого солдата, который благодаря своему внутреннему гению и своим собственным впечатлениям между 1889 и 1918 годом пережил прозрение в конце войны в военном госпитале в Пазевалке, и таким образом решил пойти в политику и спасти Германию.
Не является совпадением то, что в обоих томах Mein Kampf часто используются ссылки на Библию и библейские темы. Поскольку он не мог определять себя как «мессию» столь явно, как он это делал в книге, опубликованной под именем Кёрбера, в Mein Kampf он делал это в более скрытом виде.
Так же, как он делал это всегда с момента своей политизации и радикализации летом 1919 года, при написании Mein Kampf он не стремился просто найти политические решения проблем дня. Его целью скорее было определить, как Германия может быть сделана безопасной навсегда. В действительности, он постоянно использовал выражение «навсегда» в Mein Kampf. Например, во втором томе он обсуждал, как «однажды […] у нас сложится народ, состоящий из граждан, навсегда объединенных друг с другом и спаянных вместе узами общей любви, общей гордости и общего сознания своей непобедимости».
Книга Гитлера не была неудобочитаемой. Однако она была чрезвычайно многоречивой, в сути своей серией записей речей. В действительности Гитлер был оратором, не писателем, даже хотя в предыдущие несколько лет он утверждал, что он писатель каждый раз, когда его просили указать свою профессию. Другими словами, он явно имел стремление быть писателем, но таланты его были в области ораторского искусства. Без театрализованного действия и без поддержки силы своего голоса, многие из его глав воспринимаются как сухие. Даже читатели, поддерживавшие Гитлера, не проглатывали полностью книгу. Например, Йозеф Геббельс начал читать Mein Kampf 10 августа 1925 года. В тот день он записал в своём дневнике: «Я читаю книгу Гитлера Mein Kampf, и я потрясён этой политической исповедью». Тем не менее, будущему министру пропаганды Гитлера потребовалось несколько более двух месяцев, чтобы закончить читать книгу.
Даже хотя в Mein Kampf Гитлер в основном не раскрывает источники, на которых были основаны его идеи в книге, он не пытался претендовать, что все они были истинно оригинальными, и никогда не станет это делать в будущем. Например, в ночь с 21 на 22 июля 1941 года он заявит в своей военной ставке, что «каждое человеческое существо является продуктом своих собственных идей и идей других». Он не намеревался представлять свою книгу как докторскую диссертацию, но как политическую прокламацию или манифест. Едва ли было необычным делом для политиков и революционных вождей не снабжать ссылками свои произведения. Более важно то, что Mein Kampf была нацелена не на всеобщую читательскую аудиторию, а на проповедование для обращённых в свою веру. Он не пытался прежде всего завербовать новых сторонников. Его главной целью было обращение к своим сторонникам в то время, когда, находясь в заключении, он был и не в состоянии, и под запретом публично говорить для них, чтобы избежать оттеснения на обочину и замены кем-то другим. Его читатели были, таким образом, знакомы с основными идеями, из которых Гитлер вырабатывал определения и представления своих собственных политических убеждений. Было бы бессмысленно и избыточно для него в деталях выставлять источники, на которых он основывал свои собственные идеи.
По иной причине, нежели поддержание связи со своими почитателями, написание Mein Kampf могло иметь кардинальную важность для Гитлера: исследования и написание Mein Kampf при нахождении в заключении дали ему время обдумать и переосмыслить свои политические цели. В ночь с 3 на 4 февраля 1942 года он заявит, что только во время написания своей книги он полностью продумал множество вещей, которые он прежде распространял, не сильно размышляя о них. Это посредством постоянного размышления, добавил он, он получил ясность в отношении тех вещей, о которых до той поры лишь догадывался. Вот почему в ретроспективе Гитлер называл время, проведённое им в Ландсберге, как «университетское образование, оплаченное государством».
Находясь в «университете Ландсберг», Гитлер произвёл переоценку своих изначальных ответов в 1919 году и после него на вопрос, как может быть создана новая и жизнеспособная Германия. В процессе этого его ответы и тем самым его идеология радикально изменились. Именно в этом состоит реальное значение Mein Kampf. В то время как первый том вначале продавался очень медленно, а второй том вообще едва-едва, важность книги Mein Kampf в течение 1920-х состоит не в её влиянии на его читателей, а в том, как процесс написания книги фундаментально изменил идеи Гитлера и подкрепил его политическую метаморфозу.
Многое из того, что он выразил в Mein Kampf, разумеется, хорошо согласовывалось с тем, что он сказал в своих многочисленных речах между 1919 и 1923 гг. Первый том также включал обсуждение того, как должна проводиться политическая пропаганда, что было основано на уроках, извлечённых им из британской и германской пропаганды военного времени. Хотя это обсуждение было хорошо написано и излагало собственный подход Гитлера к роли пропаганды в политике, ничего в нём не стало бы удивительным для людей, знакомых с его речами.
Тем не менее, при написании своей книги Гитлер также извлёк три политических урока, которые были либо новыми для него, либо не бросались ему в глаза. Mein Kampf имеет значение в первую очередь из-за этих уроков. Одним уроком было то, что использование силы для достижения власти больше не было действенным. Как Гитлер будет вспоминать во время Второй мировой войны, новое государство к 1924 году стало слишком устойчивым и твёрдо контролировало основную часть оружия в стране. Как результат, он отныне станет следовать к власти легальным, парламентским путём, а не революционным.
Второй и третий уроки будут иметь даже более зловещие последствия. Он теперь отбросил ответы, которые прежде давал на вопрос о том, как построить новую Германию, что никогда снова не проиграет большую войну. Его новые ответы были основаны на теории Lebensraum (жизненного пространства) и на расистских идеях Ганса Гюнтера, автора книги «Расовая теория немецкого народа» (Rassenkunde des deutschen Volkes), которая станет наиболее влиятельной книгой по расовой теории в Третьем Рейхе.
Пока Эрвин фон Шойбнер-Рихтер и Ленин были живы, приобретение Lebensraum не играло какой-либо значительной роли в размышлениях Гитлера. Но после смерти Ленина стало ясно, что Гитлер ошибался в ожидании неминуемого распада Советского Союза. Вследствие этого осознания и понимания того, что русские монархисты не будут способны произвести путч в будущем, предшествующая стратегия безопасности Гитлера стала устаревшей. Не будет никакого германо-российского фашистско-монархического альянса. Вот почему в Mein Kampf он разработал радикально иной ответ на дилемму безопасности Германии: вместо того, чтобы образовать устойчивый альянс на Востоке, Германия должна будет приобрести, колонизировать и подчинить там новую территорию, так, чтобы стать гегемоном евразийского материка, и таким образом навсегда получить безопасность.
В соответствии с пониманием Гитлера международных дел, которые, как он полагал, претерпевают фундаментальные изменения, Германия нуждается в расширении. На языке, напоминающем германские милитаристские произведения из предшествующей Первой мировой войне эры, это был категорический вопрос национального выживания для страны: «Либо Германия станет мировой державой, либо вообще её не будет». Гитлер доказывал, что «немецкий народ может защищать своё будущее только как мировая держава», добавляя: «В эпоху, когда Земля постепенно делится между государствами, некоторые из коих заключают в себе почти целые континенты, нельзя говорить об устройстве в качестве мировой державы, политическая метрополия которой ограничена смехотворной площадью едва ли в пятьсот тысяч квадратных километров».
И в этом именно контексте он воспринимал термин Lebensraum. Это был термин, который развил профессор и наставник Рудольфа Гесса, Карл Хаусхофер, что охватывало то, что хотел выразить Гитлер, лучше, чем слово Bodenerwerb (приобретение земли), слово, которое он всё ещё использовал в своих черновых заметках к Mein Kampf от июня 1924 года. В действительности Гитлер не заинтересовался работой Хаусхофера и концептуальной системой взглядов, на которой основан термин профессора. Скорее, он был привлечён словом Lebensraum, потому что это давало имя чему-то такому, о чём он думал, когда пытался найти новый ответ на дилемму безопасности Германии: а именно, что государства должны иметь достаточно территории, чтобы быть способными прокормить своё население, предотвратить эмиграцию и быть достаточно сильными против других государств. Термин не появляется часто в Mein Kampf. Однако, он используется для ответа на главный вопрос книги Гитлера: как может быть решена дилемма безопасности Германии.
Как он писал в Mein Kampf, «[Национал-социалистическое движение] должно тогда, не придавая значения „традициям“ и предрассудкам, найти мужество собрать наш народ и его силу для марша вперёд по той дороге, которая ведёт из нынешнего ограничения нашего „жизненного пространства“, сферы жизни, и тем самым также навсегда освобождает нас от опасности исчезновения с этой земли или превращения в рабов для других наций».
Далее он писал: «Мы, национал-социалисты, однако должны пойти дальше: право на почву и территорию может стать обязанностью, когда упадок представляется угрозой для великой нации, если только она не расширит свою территорию. […] Мы берёмся за дело на том месте, где оно остановилось шесть столетий назад. Мы прекращаем вечное германское стремление на юг и на запад Европы и направляем наш взор к землям на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и переходим к территориальной политике будущего. Но если мы сегодня говорим о завоевании новых земель в Европе, то мы можем думать главным образом только о России и о граничащих с ней вассальных государствах».
Если безопасность Германии может быть достигнута только через приобретение Lebensraum на востоке, поскольку обещание восстановленной националистической России растворилось в воздухе, то Германия должна искать альянсы где-то в другом месте. Как Геббельс заметил в своём дневнике 13 апреля 1926 года, основываясь на своём прочтении Mein Kampf: «Италия и Англия — наши союзники. Россия хочет поглотить нас».
Основное преобразование того, как Гитлер рассматривал великие державы мира, также было результатом неожиданного сдвига в его отношении к Франции. В то время, как в первом томе Mein Kampf он едва ли упоминал соседа Германии на западе, во втором томе он очень часто обращался к Франции. В действительности упоминания Франции выросли почти на 1400 процентов. Франция теперь была представлена в свете фундаментальной угрозы безопасности Германии. Поскольку целью Гитлера было достижение паритета с англо-американским миром и поскольку он более не верил в германо-русский альянс, то для него было крайне важным, чтобы Германия стала гегемоном Европы. Так что мало удивительного в том, что враждебность Гитлера к Франции и России — двум странам, геополитически стоявшим на пути Германии стать гегемоном Европы — стала более заметной, чем это было прежде. Странным образом Польша — страна, которая будет непревзойдённой в жёсткости, с которой с ней будет обращаться Гитлер во Второй мировой войне — едва ли вовсе присутствует в Mein Kampf. Казалось, что в то время Польша едва ли существовала на его мысленной карте. Антиславянские чувства Гитлера не были очень глубокими — по крайней мере, не тогда — поскольку Польша не была главным игроком в международных делах и потому она не представляла в мыслях Гитлера угрозы национальной безопасности Германии. Польша будет иметь значение для него в будущие годы как источник территории и ресурсов, которые помогут сделать Германию достаточно большой, чтобы выжить в быстро меняющемся мире. Так что неудивительно, что накануне Второй мировой войны, когда Гитлер делился со своими генералами планами относительно Польши, его главной заботой было — как он сможет очистить территорию Польши от её обитателей таким же образом, как это делала Оттоманская Империя с армянами во время Первой мировой войны.
В Mein Kampf, в отличие от прошлого, Гитлер также проявил глубокий интерес к расовой теории. Вопросы расовой типологии до путча не были на первых местах в его повестке. Хотя копия книги Ганса Гюнтера «Расовая теория немецкого народа», которую Юлиус Фридрих Леманн послал ему в 1923 году, не несёт явных следов прочтения, Гитлер теперь близко занялся идеями Гюнтера о расовой типологии. Однако он без труда игнорировал то, что Гюнтер в действительности не верил в то, что евреи — это раса. Теперь уже не может быть несомненно установлено, откуда происходил новый интерес Гитлера к расовой теории. Однако это, несомненно, имеет важное значение в смысле временном, что он повернулся к идеям, которые позволят ему рассматривать славян как «недочеловеков» и определить восток как территорию для колонизации в тот самый момент, когда это было политически целесообразно так сделать. Этот момент пришёл, когда Гитлер начал верить в то, что германо-русский альянс более не был жизнеспособным, и потому искал нового решения дилеммы безопасности Германии. Это указывает на то, что геополитика была для него важнее расы; то есть, в попытках найти решение геополитических затруднений Германии, он хотел фундаментально изменить характер своего расизма. В этот момент времени расизм был попросту инструментом для Гитлера, чтобы реагировать на геополитические проблемы Германии так, чтобы обезопасить Германию на все времена.
Последовательность, в которой Гитлер писал различные главы двух томов Mein Kampf, несомненно подтверждает идею, что он изменил свой подход к расизму только после смерти Ленина, когда он более не верил в то, что его мечта германо-русского постоянного альянса когда-либо станет явью. Тогда как те разделы из его главы о «Народе и пространстве» (Volk und Raum) — главы из первого тома, которая недвусмысленно имеет дело с расой — что приняли исторический подход к объяснению характеристик евреев, были написаны уже в 1922 или в 1923 году, раздел, излагающий идеи Гитлера о расовой теории, был подготовлен только весной или в начале лета 1924 года. Это тут Гитлер представил идеи расовых типологий и иерархий; и это тут он обрисовал опасность расового смешения и пропел хвалу расовой чистоте. Также в двух частях было изменение в частоте обсуждения Гитлером предмета расы. Во втором томе Гитлер упоминал расу приблизительно на 40 процентов чаще, чем в первом томе.
Сравнение частоты использования терминов в двух томах несомненно выявляет его изменявшиеся главные заботы. Частота использования термина «пангерманский» (Alldeutsch*), например, который некогда имел столь центральное значение для Гитлера, упала на 96 процентов. Подобным же образом, когда Гитлер постепенно начал становиться менее озабоченным своим исходным антикапитализмом, ссылки на капитализм (Finanz*, Spekulat*, Wlrtschaft*, Borse*, Kapital, Mammon*, Zins*) упали на 49 процентов. Немного удивительно, что ссылки на евреев резко упали на 50 процентов (Jud*, «Jud*», «Antisemit*», «Zion*»). (Знак «звёздочки» означает, что любое слово, начинающееся с того, что стоит перед ней, будет включено в поиск. Например, «Zion*» будет включать «Zionismus,» «Zionisten,» и так далее).
Между тем нисколько не удивительно, что упоминания нации, национал-социалистического движения, государства, могущества, войны и расы увеличились по мере того, как Гитлер пытался постичь детали того, как должно быть устроено новое национал-социалистическое государство. «Национал-социализм» (Nationalsozialis*) и «движение» (Bewegung) поднялись на 102 процента, в то время как частота упоминания термина «государство» (Staat*) подпрыгнуло на 90 процентов. «Власть» (Macht*) поднялось на 44 процента. Количество упоминания для «раса» (Rass*) стало больше на 39 процентов, а для «война» (Krieg*) на 31 процент. Число для «нации» (Nation*) увеличилось на 27 процентов. «Народ» (Volk) выросло на 26 процентов. Совокупность для двух терминов «1918» и «Версаль» (Versailles) также резко возросло, на 179 процентов. Упоминания о «борьбе» (Kampf*) между тем остались и частыми, и постоянными.
Частота, с которой Гитлер упоминал различные страны, также значительно изменилась. Это не только то, что он неожиданно проявил интерес к Франции. Упоминания страны его рождения (Österr*, Wien*, Habsburg*) почти исчезли. Они упали на 90 процентов, в то время как упоминания Италии (Itali*) увеличились на 57 процентов. Как свидетельство его центральной озабоченности англо-американской мощью, упоминания Британии и Соединённых Штатов (Engl*, Britisch*, Angels*, Anglo*, Amerik*) выросло на 169 процентов, в то время как ссылки на «Запад» (Westen*) удвоились по частоте. Упоминания коммунизма (Marx*, Bolschew*, Sozialist*, Kommunist*) также удвоились, в то время как ссылки на Советский Союз выросли даже на ошеломляющие 200 процентов (Sowjet*, Russland*, Russ*), что отражало новую центральную озабоченность Гитлера теперь, когда альянс с монархической Россией больше не был возможным вариантом.
Стоит отметить окончательную разницу между двумя томами Mein Kampf: во втором томе своей книги Гитлер обращался к германскому мировому господству (Weltherrschaft), в то время как в первом томе он только обвинял евреев в стремлении к Weltherrschaft. Однако, он использовал термин только один раз в контексте Германии. Он заявлял, что если бы Германия меньше была страной индивидуалистов в прошлом, она могла бы достичь Weltherrschaft. Какого рода мировое доминирование он имел в виду, становится очевидно только, если посмотреть, как Гитлер использует термин где-либо ещё в Mein Kampf. К концу второго тома своей книги он говорит о Weltherrschaft Британии конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий. Другими словами, Гитлер доказывает, что если бы немцы вели себя более сходно с британцами в прошлом, то их страна могла бы стать равной Британской Империи. Таким образом, Mein Kampf не следует прочитывать как программу к единоличному правлению в каждом уголке мира. Скорее, её следует понимать как призыв к оружию для достижения паритета с величайшими империями мира.
Идеологическую и политическую эволюцию Гитлера между концом Первой мировой войны и серединой 1920-х, равно как и его идеологическую гибкость при случае и готовность изменять некоторые догматы его идей, не следует ошибочно принимать за оппортунизм. Также Гитлер не был демагогом, который просто давал выход своим чувствам разочарования, предвзятости и ненависти. Оппортунизм определённо играл огромную роль в его жизни в месяцы, последовавшие за концом войны. Даже после этого оппортунизм конкурировал с его политическими убеждениями, и так будет всегда. Гитлер станет делать всё что угодно, чтобы избежать одиночества. А его нарциссическая личность постоянно вела его к действиям, которые будут питать его грандиозное чувство своей собственной значимости и уникальности и его потребность в восхищении.
Тем не менее Гитлер встал к штурвалу NSDAP и для себя, и для дела, в которое он глубоко верил. С момента его политизации и радикализации летом 1919 года Гитлер искренне стремился понять мир и выступить с всесторонним планом того, как Германия и мир могут быть излечены от своих недугов. Его постоянное использование термина Weltanschauung [мировоззрение] — определяющего всестороннюю философскую концепцию того, что связывает мир вместе — является ясным признаком, что он намеревался разработать исчерпывающую, связанную и систематическую политическую систему. Тот факт, что его политические взгляды продолжали эволюционировать между 1919 и 1926 гг., не противоречит тому, что он стремился создать своё собственное Weltanschauung, это просто указывает на то, что Гитлер начала 1920-х всё ещё искал наилучшего ответа на вопрос о том, как должна быть преобразована Германия, чтобы выжить в быстро меняющемся мире.
Более того, его эпизодическая идеологическая гибкость и периодические неожиданные перемены в его политических идеях, как это выражено, например, в быстром изменении в его расизме в 1924 году, указывают, что существовало две части его мировоззрения. Первая часть составляла внутреннее ядро идей, которые были построены на иррациональных убеждениях, но которые были замечательно согласованными, если принять лежащие в их основе иррациональные исходные принципы. Взгляды Гитлера о евреях, о политической экономике и финансах, о природе истории и исторических переменах, о человеческой природе и социальном дарвинизме, о государственных системах, о необходимости сплотить все социальные классы и установить социализм на национальной основе, о необходимости строить государства, которые имеют достаточно территории и ресурсов, и о природе международной системы и геополитики в более общем плане — все они были частью этого внутреннего ядра. Всё, что было за пределами этого — включая идеи, что были очень важны для многих других национал-социалистов — было для Гитлера второй частью его мировоззрения. Они функционировали попросту как средство достижения цели, вот почему Гитлер был чрезвычайно гибок, когда имел с ними дело: он был готов менять их или даже заменять их чем-то иным в любое время, если этого требовала целесообразность.
С завершением написания Mein Kampf метаморфоза Гитлера из незначительного человека со всё ещё неопределёнными и переменчивыми политическими идеями в национал-социалистического вождя была завершена. Ко второй половине 1920-х Адольф Гитлер, который при власти почти поставит мир на колени, становился видимым. Например, вскоре после публикации второго тома Mein Kampf было введено приветствие национал-социалистов «Heil Hitler» [ «Да здравствует Гитлер»]. Однако термин «наци» ещё не стал общеупотребительным в отношении Гитлера и его сторонников. В ходу были другие определения, которые впредь выйдут из употребления. Например, в октябре 1926 года люди говорили о национал-социалистах как о «нацисоци» (Nazisozis). Также только после 1924 года члены SA (Sturmabteilung) и члены партии станут носить коричневые рубашки. До того члены SA носили импровизированную униформу, включавшую ношение ветровок и шерстяных лыжных шапок.
Из перспективы 1926 года — года публикации второго тома Mein Kampf — будущее Гитлера и судьба его идей зависели как от него самого, так и от выбора и решений миллионов немцев, которые в последующие годы станут обеспечивать его правление и будут вовлечены в преступления Третьего Рейха.
Трагедия Германии и мира в том, что Гитлер оказался в Мюнхене после Первой мировой войны и революции 1918–1919 гг. Если бы не политическая ситуация в послереволюционной Баварии, а также не полуавторитарное соглашение в марте 1920 года, то не было бы почвы, на которой расцвели бы он и NSDAP. Подобным образом, трагедия Германии и мира была в том, что между 1923 и временем, когда он пришёл к власти в 1933 году, Германия в целом не напоминала Баварию более близко. Мюнхен, в частности, оказался политически запретным местом для NSDAP. Хотя город и произвёл партию, NSDAP боролась за привлечение избирателей в столице Баварии. На протяжении конца 1920-х и в начале 1930-х трое из пяти избирателей в Мюнхене поддерживали либо BVP, либо социал-демократов, в то время как только один из пяти голосовал за NSDAP.
Благодаря организационной силе BVP, партия Гитлера никогда не станет сильнейшей партией в Баварии на свободных выборах. Демократия держалась в Баварии в 1933 году дольше, чем где бы то ни было еще в Германии. Вкратце, если бы не Бавария, то Гитлер вряд ли бы превратился в национал-социалиста. Но если бы остальная Германия была более сходна с Баварией, то вряд ли Гитлер когда-нибудь пришёл бы к власти.
Эпилог
Когда Гарвардский Музей Германского искусства — ныне приют для университетского центра европейских исследований — в середине 1930‑х заказал Льюису Рубинштейну написать фрески для своего входного холла, молодой американский художник решил, что он должен применить своё искусство для атаки на Гитлера и его осмеяния. Фрески еврейского художника с семейными корнями в Германии и в Польше изображали сцены из любимого оперного произведения диктатора «Кольцо Нибелунгов» Рихарда Вагнера. В центре своих фресок, как раз над главным входом в музей, Рубинштейн нарисовал Гитлера в образе Альбериха, злобного карлика и антагониста героев круга Кольца, главный среди которых Зигфрид.
Проходя каждый день мимо фресок Рубинштейна по пути в свой офис во время исследований материалов для этой книги, я часто останавливался, чтобы восхититься ими. Они умно перевернули нацистскую мифологию. Для немецких националистов Зигфрид стал символической персонификацией их страны во время Первой мировой войны. Например, наиболее известная оборонительная линия Западного фронта была названа «Линией Зигфрида». А распространённые послевоенные нападки правых на евреев, левых и либералов — то, что они предательским образом ударили в спину кинжалом победоносную Германию — было намеком на то, как сын Альбериха Хаген убил Зигфрида.
На фресках Рубинштейна не евреи и демократы теперь были трусливыми предателями Германии, а Гитлер и его сторонники.
И всё же, глядя на Альбериха Рубинштейна, я не мог не чувствовать, что фреска изображает Гитлера неверно. (См. фото 32). Представленный как карлик, который отрицанием любви превращает золото в волшебное кольцо, которое позволит ему править миром, Гитлер понижен до оппортуниста, для которого не имеет значения ничто, кроме вожделения власти и доминирования. Этот взгляд хорошо согласуется со взглядом наиболее известного биографа Гитлера времени сразу же после Второй мировой войны, Алана Буллока, и многих других с тех пор.
Рубинштейн и Буллок по крайней мере поняли, что Гитлер действительно имел значение. В последнее время в стране, которой он некогда правил как диктатор, Гитлер стал почти что пустым местом, поскольку новое поколение немцев понятным образом, но антиисторично, беспокоится, что придание особого значения Гитлеру может казаться примирительным и уводить от ответственности обычных немцев за ужасы Третьего Рейха. Сегодня обычным делом является как задавать вопрос, был ли Гитлер в действительности исторической «фигурой высочайшего значения», так и изображать его лишь как немного более, чем чистый холст, на котором другие немцы изображали свои желания и свои цели.
Как показывает эта книга, Гитлер был чем угодно, но не чистым холстом, который заполнялся коллективными желаниями немцев. И он не был и оппортунистом, для которого власть имела значение только сама по себе. Изучение его метаморфозы между 1918 и 1926 годами помогает нам понять, что подпитывало его, а также Третий Рейх, во время 1930-х и 1940-х.
В конце 1920-х и в начале 1930-х он станет использовать свой риторический стиль демагога, в той форме, в которой он развил его между 1919 и 1923 годами, чтобы использовать изменчивое и безнадёжное настроение публики во время Великой Депрессии. Это позволит Национал-социалистической Немецкой рабочей партии (NSDAP) быстро расти от имевшей поддержку только лишь 2,6 процентов населения до самой крупной партии в Германии. Гитлер не повторит свои тактические ошибки 1923 года. И на этот раз ему нужно будет конкурировать не с хорошо организованной консервативной партией — Баварской Народной партией (BVP) — а с другой: Немецкой Национальной Народной партией (DNVP), которая недавно была ослаблена приходом в ней к власти популистского бизнесмена Альфреда Гугенберга.
Становление Гитлера в послереволюционном Мюнхене дало рождение идеологии, которая обеспечит главный стимул для его действий между 1933 и 1945 годами. И развивающаяся динамика того, как он определял и преследовал политические идеи в 1919 и в последующие пять лет, станет центральной движущей силой прогрессировавшей радикализации как Гитлера, так и Третьего Рейха после 1933 года. Его намерение преобразовать Германию так, чтобы сделать страну устойчивой в быстро меняющемся мире, проистекало из его начальной политизации и радикализации летом 1919 года. Оно останется тем же самым до дня его смерти. Вся его политика при нахождении у власти была соответственно направлена к этой цели.
Гитлер оставался столь же неопределённым относительно некоторых из своих политических целей после 1933 года, каким он был, когда впервые обдумал их в начале 1920-х. Эта неопределённость поощряла импровизацию тех, кто работал для него, парадоксальным образом устанавливая чрезвычайно успешную систему политических операций не несмотря на, но именно из-за её гибкого и реагирующего характера. Во многих случаях это способствовало радикализации, поскольку его сторонники старались разгадать, что он хотел бы, чтобы они сделали, и соревновались друг с другом за его благосклонность, каждый стараясь предложить наиболее всестороннее и далеко идущее решение. В таких случаях — другими словами, когда люди пытались исполнять желания фюрера, которые оставались неопределёнными — его последователи, а не сам Гитлер, способствовали радикализации режима.
Однако в областях политики, которые для Гитлера лежали в центре переформирования Германии и обеспечения её выживания на все времена, он вовсе не был неопределённым. Тут он сам проводил прогрессирующую радикализацию своего режима между 1933 и 1945 гг. В отличие от многих популистов в истории, он не просто проповедовал, что надо сделать свою страну великой. Он всегда был личностью, которая желает понять природу вещей и превратить свое понимание сути вещей в политику. Когда речь заходила о двух областях политики, которые во время послереволюционного периода он определил как ключевые для преодоления первичных источников слабости своей страны — то есть, евреи Германии и территория Германии — то единственная гибкость Гитлера состояла в его готовности урегулировать вопрос на столь долгое время, как было необходимо, выбрав второе из наилучших решений, если его предпочитаемое решение (всё ещё) было труднодостижимым.
Две центральные цели политики в той форме, в которой он определил их в 1919 году, будут доминировать в его мышлении и политике на последующие двадцать пять лет. И они объясняют его готовность начать ещё одну мировую войну и приступить к геноциду. Этими целями были: полное удаление любого еврейского влияния из Германии и создание государства, у которого имеется достаточно территории, людей и ресурсов, чтобы быть геополитически на равных с наиболее мощными государствами в мире. Ко времени написания Mein Kampf стало ясно, что предпочитаемое Гитлером окончательное решение обеих проблем — предположительно губительного влияния евреев и недостатка территории у Германии — станут иметь последствия в форме геноцида.
Даже из перспективы 1924 года, когда Гитлер оставил идею постоянного альянса с восстановленной царской Россией в пользу жизнеспособной Германии, созданной захватом Lebensraum, эволюционная логика преследования своих целей уже была геноцидной. Просто невозможно представить, как его цели могли бы быть реализованы без применения по меньшей мере этнической чистки поляков, русских и других славян.
Безотносительно того, понимал ли полностью Гитлер геноцидное развитие логики его геополитических целей, не может быть сомнения, каким было его предпочитаемое окончательное решение «еврейского вопроса». Как показало письмо Улле Вилле к Рудольфу Гессу в конце 1922 года, к тому времени Гитлер и Гесс должны были уже подумывать об идее использования пулемётов для истребления евреев. Вдобавок в интервью, которое Гитлер дал каталонскому журналисту незадолго до попытки путча в 1923 году, он был даже более недвусмысленным: в ответ на утверждение Гитлера, что выполнение погромов в Мюнхене было бессмысленным, поскольку впоследствии евреи в остальной части страны всё ещё будут продолжать доминировать в политике и финансах, журналист спросил его: «Что вы хотите сделать? Убить их всех внезапно?»
Гитлер ответил: «Это, разумеется, было бы наилучшим решением, и если бы кто-то смог провернуть это, то Германия была бы спасена. Но это невозможно. Я смотрел на эту проблему со всех сторон: это невозможно. Вместо того, чтобы благодарить нас, как им следовало бы, мир набросится на нас со всех сторон». Он добавил: «Следовательно, остаётся только изгнание: массовое изгнание».
Ответ Гитлера является проясняющим в объяснении возникновения Холокоста, так как он делает совершенно ясным, что его предпочтением в 1923 году был геноцид, но что если прямой геноцид не был возможен, он проявит прагматизм и обратится ко второму из наилучших решений: массовому изгнанию. Что он имел в виду, когда говорил о массовых изгнаниях, становится очевидным из контекста времени, в котором имело место интервью. Так как радикальные правые в Мюнхене только что были подвержены влиянию статьи Ганса Тробста об «армянских уроках», то для «еврейского вопроса» ответ Гитлера едва ли мог означать что-то иное, кроме поддержки этнической чистки по образцу геноцида армян.
Достигнув власти, Гитлер вначале поощрял эмиграцию евреев. Однако его поддержку эмиграции следует понимать как третье из наилучших решений, обоснованным скорее тактическим прагматизмом, чем как свидетельство того, что он ещё не представлял себе предпочитаемое решение. Как сообразительный политический оператор, он также понимал, что временами он должен приглушить свой антисемитизм. Например, во время избирательной кампании 1932 года он едва упоминал евреев.
Тем не менее, как только он начнёт совместно осуществлять свои две основные политические цели — создание достаточно большой Германии путём захвата новых территорий на Востоке и удаление евреев из государства, которое он пытался создать (поскольку вредоносное влияние евреев, по его мнению, было основной причиной внутренней слабости Германии) — одна вещь становится ясной: у Гитлера больше не было какой-либо благовидной альтернативы либо прямому геноциду, либо этнической чистке с геноцидными последствиями. Изгнание не было практическим решением в военное время: просто не было страны, куда могли быть отправлены евреи. И в отличие от случая с армянами во время Первой мировой войны, вследствие реалий военной судьбы Германии в 1940-х, евреев нельзя было переместить из их основной зоны проживания в какие-то другие места под германским управлением.
Вполне может быть правдой то, что в техническом смысле физическое истребление евреев в Польше началось с решений, сделанных на месте, без ясных приказов из Берлина. Однако, они были сделаны только потому, что Гитлер вступил в войну, нацеленную на одновременные захват территории и устранение евреев, в таком контексте, в котором его предпочитаемое решение, вероятно, всегда было геноцидным, как была логика развития его действий и намерений. Более того, приказы, исходившие непосредственно от Гитлера, начали войну и прямо результировали в последующих приказах Гитлера, которые давали полномочия для заключения евреев Польши в гетто и концлагерях, равно как и выкашивание пулемётами евреев Советского Союза. Так что идея, что Холокост начался только во второй половине 1941 года — т. е. когда сотни тысяч евреев уже были убиты в Советском Союзе в ходе операции «Барбаросса» — не согласуется с фактами. Их убийство проистекало из желания Гитлера создать Германский Рейх не только с наличием достаточной территории, но такой, что был бы очищен от евреев тем способом, какой он представлял себе уже в 1922 и 1923 годах, как очевидно из контактов Гесса и его самого с Ульрихом Вилле и каталонским журналистом.
Когда началось систематическое убийство евреев в Польше, то не осталось реальной альтернативы для ответственных лиц на местах, кроме как выбирать геноцид вследствие решений, ранее принятых Гитлером. Другими словами, более ранние решения Гитлера направили его администраторов в Польше по пути, на котором единственными правдоподобным решением проблем, с которыми им прошлось встретиться, был геноцид. Так что любое мнение, что инициативы, приведшие к Холокосту, изначально пришли снизу, является иллюзией. Гитлер сам был в основе возникновения Холокоста.
Прогрессивная радикализация политики Гитлера и Третьего Рейха в целом была также прямым результатом его метаморфозы между 1919 и серединой 1920-х годов по другой причине. Вследствие своего нарциссизма и своего желания выделиться на оживлённом рынке Мюнхена в постреволюционной Баварии, Гитлер почти всегда старался быть более экстремистом, чем его конкуренты, чтобы привлечь внимание. Это запустило процесс прогрессивной радикализации, который будет подпитываться циклами подтверждения. В процессе дальнейшего развития идей в его речах, на которые люди больше всего реагировали, он делал свои идеи ещё более экстремальными, чтобы получить ещё больше отклика, таким образом, запуская самоусиливающийся цикл радикализации.
Жажда Гитлера всё большего внимания была в конечном счёте его собственным уничтожением. Она посеяла семена саморазрушения Третьего Рейха, даже хотя, разумеется, много других факторов помогали подгонять радикализацию нацистской Германии. Нарциссизм Гитлера и его усиление его поклонниками, равно как и циклы подтверждения, через которые он проходил, оставляли ему мало выбора, кроме как всегда идти к более экстремальным решениям. В этом смысле, Германия Гитлера была автомобилем без задней передачи и без тормозов, которая в некоторый момент неминуемо свалится с обрыва.
Ничто из этого не сказано для того, чтобы предположить, что если бы Гитлер смог уйти в Австрию после провалившегося переворота, или если бы, как Дитрих Экарт, он умер в 1923 году, то Германия не пошла бы по авторитарному пути в 1930-х и в 1940-х годах. В конце концов, в период между войнами либеральная демократия пала повсюду к востоку от Рейна и к югу от Альп, за примечательным исключением Чехословакии. А в других местах в Европе она часто лишь едва выжила. Подобным образом, ничего из этого не говорится для снятия ответственности с миллионов немцев, поддерживавших Гитлера и совершивших преступления нацистской Германии. Без них Гитлер остался бы никем. Однако история его становления выявляет критическое понимание: что пустота, оставленная крушением либеральной демократии в Германии и заполненная Гитлером, а не большинством других возникавших и конкурировавших с ним демагогов, многократно увеличила риск катастрофической войны и геноцида.
История метаморфозы Гитлера в равной степени о том, как делаются демагоги, и о том, как получается особенный, которого не следует принимать за представляющего всех демагогов. Это предостерегающий рассказ о том, что случается, когда чрезвычайная экономическая неустойчивость и крах, чувства недовольства, а также неминуемого национального и личного упадка, сходятся вместе. Это о том, как делаются новые радикальные вожди, когда либеральная демократия и глобализм находятся в большом кризисе и когда этот кризис превращается в тоску по сильной руке и вождям нового типа.
Как учит история, определённые структурные условия делают возможным возникновение демагогов. Однако история Европы в 1920-х и в 1930-х годах и мира на протяжении двадцатого столетия показывает, что демагоги приходят в различных вариантах. Их диапазон простирается от популистов с отсутствующими основными взглядами до идеологов различных политических убеждений. Они включают как рациональных, так и иррациональных деятелей. Они включают деятелей, чья личность всегда будет вести их к самым экстремальным решениям и которые никогда не знают, где остановиться, тем самым сея зёрна саморазрушения своего режима, а также и тех с умеренными качествами личности, чей режим может выживать десятилетия. Они также встречаются в диапазоне от тех, кто верит, что любой компромисс, кроме тактического, отвратителен, до тех, кто в конечном счёте полагает, что политика — это искусство компромисса. Фундаментальная проблема в предсказании того, какого рода станет возникающий демагог, состоит в общем стиле их демагогии, когда они впервые появляются на публичной арене. Их общий язык и стиль и их общее утверждение, что они аутсайдеры, могущие представлять истинные интересы народа, мешает видеть, какого вида демагогами они скорее всего станут. Вот почему существует тенденция невозможности предсказать, превратится ли некто в реинкарнацию Гитлера, Франко, Ленина, или в популиста образца конца девятнадцатого века, который, флиртуя с авторитаризмом, в конечном счёте умудряется противостоять его обольщению.
Вкратце, встречаясь с вновь возникающими демагогами, история может не быть способна сказать нам, пока не станет слишком поздно, указывает ли надпись на стене в направлении Гитлера, Альбериха или на совершенно другую личность. Тем не менее условия, которые подвергают опасности либеральную демократию и делают возможным возникновение демагогов, могут быть обнаружены достаточно рано, на них можно отреагировать, и таким образом обуздать, прежде чем они станут такими критическими, какими они были в 1920-х годах. В самом деле, мы должны обнаруживать их рано, до того, как они станут такими критическими, как во время метаморфозы Гитлера. В конце концов, национал-социализм рождён во время великого кризиса либерализма и глобализации конца девятнадцатого века. Коммунизм также был на подъёме в эту эру, и свирепствовал анархистский террор.
Ткань, что удерживала вместе глобализацию, общие нормы и зарождающуюся либеральную демократию, уже была разрушена популистами в десятилетия, последовавшие за крахом Венской фондовой биржи в 1873 году, даже хотя их конечные цели стремились быть весьма отличными от целей демагогов периода всемирной эры экстремизма между 1914 и 1989 годами.
И всё же это разрушение той ткани в конце девятнадцатого века сделало возможным возникновение демагогов в начале двадцатого столетия. Без разрушения ткани первого века мировой глобализации не было бы ни Хорти, ни Метаксы, ни Сталина, Муссолини, Гитлера, Хо Ши Мина, Франко, Тито или Мао.
Придёт ли однажды новый век тиранов, будет зависеть не только от нашей бдительности против будущих Гитлеров. Что более важно, это будет определяться нашей готовностью защищать и исправлять ткань либеральной демократии нашего нового века глобализации, прежде чем условия станут таковы, что будут расцветать подобные демагоги наихудшего вида.
Благодарности
Эта книга начала свою жизнь за двумя обедами, одним с Кристианом Зеегером в Берлине и другим с Робертом Ян Ван Пелт в Торонто. Это благодаря их вдохновению я приступил к поискам ответа на вопрос — как Гитлер стал нацистом и возник в качестве демагога.
Я не завершил бы эти поиски без интеллектуальной стимуляции, поддержки и поощрения моих друзей и коллег в Абердине и в Гарварде. Центр европейских исследований, Центр международных дел в Везерхеде и Лоувелл Хаус в Гарварде, а также департамент истории и центр глобальной безопасности и управления в Абердине стали почти интеллектуальным раем, насколько я могу представить.
Это благодаря огромной щедрости Фонда Фрица Тиссена, Британской Академии и школы богословия, истории и философии в Абердине я был способен написать мою книгу.
Я особенно признателен Ричарду Миллману, Ульриху Шлие, Джонатану Штайнбергу, Коре Штефан и Хайди Творек за чтение и комментирование рукописи этой книги. Также мне очень помогли отклики на некоторые из моих глав, которые написали Найалл Фергюсон, Карстен Фишер, Карин Фридрих, Роберт Фрост, Джэми Хале, Тони Хейвуд, Николь Джордан, Каролин Ланге, Мариус Мацциотти, Айэн Митчелл, Мишка Синха, Ники Штайн и Даниэль Циблатт.
Я безмерно благодарен за отклики, которые я получил в разговорах о моём исследовании в Гарварде, в Центральном Европейском университете, в университете Кембриджа, Эдинбургском университете, в университетах Абердина, Бонна, Фрайбурга, Майнца и Св. Андрея, в университетском колледже Дублина, на Празднике Осени фонда Фрица Тиссена, в посольстве Австрии в Париже, в Земельных центрах политического образования Гессена и Баварии, в Венской библиотеке, на Сенном фестивале, в городе Нюрнберг, в городе Штутгарт и на форуме Корбера в Гамбурге. Я также благодарен недавно умершему Франку Ширрмахеру за позволение мне опробовать некоторые из возникавших у меня идей о Гитлере в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Эта книга не могла бы быть написана, если бы не неутомимая работа двух моих выдающихся помощников по исследованиям, Мариуса Мациотти и Калум Вайта, так же как и все разговоры, происходившие у меня в течение многих лет с моим слушателем, доктором философии Коля Крогер. Я также извлёк огромную пользу от советов и помощи, полученных мною от столь многих людей, что их невозможно всех перечислить, среди них Флориан Байерль, Ханспетер Байссер, Эрменегильдо Бидезе, Роберт Биршнайдер, Джон Бирке, Харк Бом, Джулиан Боург, Норманн Домайер, Хенрик Эберле, Гельмут Эшвайлер, Аннет Фишер, Хал Фишер, Петер Фляйшманн, Астрид Фрайайзен, Бернхард Фульда, Детлеф Гарц, Юрген Генунайт, Роберт Герварт, Нассир Гхаеми, Кордула фон Годин, Манфред Гортемакер, Адриан Грегори, Томас Груббер, Франц Хазельбек, Герд Хайдеманн, Андреас Хойслер, Герхард Хиршфельд, Петер Холквист, Пауль Хозер, Михаэль Игнатьев, Альберт Якоб, Харольд Джэймс, Пауль Янковски, Хетер Джонс, Марк Джонс, Николь Джордан, Хендрик Кафсак, Мириам Катценбергер, Кевин Кеог, Свен Феликс Келлерхоф, Иоханнес Кемсер, Якоб Кивковиц, Сюзанн Клингенштайн, Михаэль Клофт, Михаэль Кофи, Флориан Краузе, Сильвия Краусс, Герд Крумайх, Каролин Ланге, Клаус Ланкхайт, Йорн Леонхард, Кристиана Лиерманн, Эберхард фон Лохнер, Арнульф Луэрс, Бирте Марквардт, Томас МакГрат, Чарльз Майер, Михаэль Миллер, Йорг Миллинер, Вильям Миллиган, Зонке Найтцель, Микаэль Нильсон, Муиреанн О'Циннайде, Мартин Оэштрайхер, Эрнст Пайпер, Ави Примор, Фольфрам Пита, Нэнси Рамаге, Ральф-Георг Ройт, Йоахим Рикер, Даниэль Риттенауэр, Хлое Росс, Томас Шмид, Максимилиан Шрайбер, Томас Шуте, Юджин Шеппард, Брендан Симмс, Ник Штаргардт, Томас Штэлер, Рейнаут Штегенда, Гвидо Треффлер, Пауль Тукер, Ховард Тисон, Бен Урванд, Антпине Винкине, Дирк Вальтер, Александр Ватсон, Сюзанн Ваннингер, Бернард Вассерштайн, мой тёзка и последователь Ганди Томас Вебер, Флориан Вайг, Калум Уайт, Андреас Виршнинг, Михаэль Вольфсон, Карл-Гюнтер Целле, Бенджамин Цильманн, и Моше Циммерманн.
Я также очень благодарен Имогену Рианонну Херрад, Гурмит Сингх, Хайди Творек и Рональду Граниери за перевод немецких цитат на английский язык.
Я ощущаю как большую привилегию то, что Клэр Александер и Салли Рили — мои книжные агенты. Очень особенная благодарность Мэтью Коттону и Лючиане О'Флаерти в Oxford University Press, Ларе Хаймерт в Basic Books, Кристиану Зеегеру в Propylaen, Хенк тер Боргу в Nieuw Amsterdam и их соответствующим командам за превращение моей рукописи в книгу и за многократное улучшение в процессе этого моей рукописи. Я хотел бы в частности поблагодарить Роберта Лабрие и Ирис Басс, которые предприняли геркулесов подвиг редактирования и правки.
Мои самые большие благодарности сохранены для моих чудесных жены и дочери. Эта книга посвящается Саре, моей жене, спутнику и наилучшему другу, с бесконечной любовью.