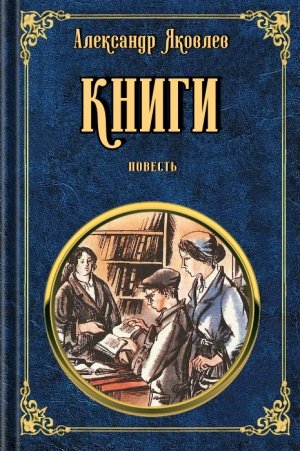
Александр Яковлев
КНИГИ
ПОВЕСТЬ
В школе с первого класса я сидел на задней парте, потому что был самым высоким. Как-то вдруг классе в третьем я заметил, что не разбираю того, что написано на доске. Я никому ничего не сказал, но мои скромные школьные успехи стали еще скромнее. Учительница упрекала меня в нерасторопности, медлительности и, наконец, в лени. А я не понимал, что со мною, почему я не могу быстро списать с доски задачи и упражнения, почему не вижу того, что видят все вокруг. Но ребята в нашем классе были хорошие, они мне все подсказывали к негодованию Веры Александровны.
Через год мама заметила, что я читаю, чуть не уткнувшись лицом в книгу, и отвела меня к врачу.
Пожилая грузинка-врач долго вертела мою голову под ярким светом лампы, а я вынужденно смотрел в упор на ее желтое, морщинистое лицо, с полоской черных усиков под носом. Наконец она опустила лампочку и повернулась к маме:
- Ну что ж, милая моя, близорукость, и сильная. Почему раньше не пришли? Теперь очки выпишу.
- Доктор, - спросила мама робко, - а отчего это у него?
- Читает, наверное, много. Много читаешь? - обратилась она ко мне.
- Да.
- Ну вот. Лежа читает, при плохом освещении читает - пожалуйте, результат. Помни, - снова повернулась она ко мне и погрозила пальцем, - читай меньше, гуляй на улице больше. Тогда и зрение улучшится, и дразнить не будут. Понял?
- Понял, - сказал я. - Большое спасибо. - И, мгновенно взвесив в уме, что важнее, решил, что читать меньше не буду.
Так в девять лет я вдруг осознал, что меня интересует пока в этом мире. Лишь первое время я стеснялся очков, а потом перестал замечать их, как и прозвище “очкарик”. Я был даже рад очкам, потому что глаза в них меньше уставали от чтения.
Это было безумное счастье - смотреть книги на длинных деревянных полках, листать их, находить вдруг пугающую или очень смешную строчку, перелистать книгу, заглянуть в конец, в начало, и потом едва дождавшись, когда библиотекарь запишет название книги в формуляр, бежать домой. А дома забраться с ногами в кресло и читать. Первая моя библиотека - библиотека маминой поликлиники - вначале казалась мне огромной. Потом я увидел, что это всего лишь маленькая комната, заставленная высокими, до потолка, стеллажами, на которых в невероятной тесноте стоят книги: толстые и тонкие, с картинками и без, те, что мне читать можно, и “а это пока рано”. Но не умея выразить словами, я ощущал величие и огромность этой комнаты. В ней я нашел свой мир.
То есть второй свой мир. Первый мир - комната в большой коммунальной квартире с длинным коридором, по которому пятилетний Юрочка, сын наших соседей, катался на велосипеде. В большой кухне стояло девять столов, на кухонной двери - расписание очереди уборки квартиры.
В коридоре висел черный телефон, к которому чаще всего подходила Александра Яковлевна, жившая напротив и обладавшая большим терпением, так как всегда без раздражения стучала соседям в дверь: “Вас к телефону! Подойдете?”
Мир этот был уютный и добрый. Можно было прийти в гости к Софье Александровне. У нее на стене висел ковер, на пианино стояли две вазы из красного камня. Был телевизор, первый телевизор в нашей квартире. Иногда ее муж стучал нам в стену, это значило, что мне надо к ним бежать, по телевизору показывают что-то интересное.
Надежда Сергеевна часто пекла пироги и непременно оделяла меня куском пирога, еще жарким, от него шел вкусный дух только что пропеченного теста и запах капусты или мяса, или это был сладкий пирог, и так пахло, что слюнки текли.
Старая и ворчливая Слава Романовна, такая старая, что у нее уже борода стала расти, не любила шума, не любила выходить на кухню. Она сидела в своей узкой, затемненной тяжелыми шторами комнате и читала газету “Известия” и журнал “Здоровье” (а Софья Александровна выписывала “Огонек”, в котором я любил смотреть картинки). Слава Романовна часто вела бесконечные длинные разговоры по телефону со своими знакомыми, вызывая справедливые нарекания других жильцов, которым тоже надо было звонить по телефону.
Читал я везде и всегда. День начинался с того, что, выпив кофе с молоком и дожевывая на ходу бутерброд с сыром, я совал в портфель книгу, недочитанную вчера, и бежал в школу. Я мог и не читать ее в школе (что было трудно), но расстаться с ней казалось невозможным.
И обыкновенно вскоре после начала урока я тихонько доставал книгу и быстро клал поверх учебника. И во время биологии, алгебры или физики можно было урвать немного страниц о капитане Немо или увлекательнейших приключениях сержанта Раска в Африке.
Бывало, что книгу замечали. Я вдруг видел рядом учительницу, которая под хихиканье ребят брала с парты книгу и говорила мне, слегка смущенному (ибо особого греха я в своем поступке не видел):
- Опять? Ведь таким путем ты из троечников не выберешься. Чтобы в последний раз это было!
А я не хотел выбираться из троечников (то есть хотел, но только для мамы), а больше всего я хотел, чтобы математика поскорее кончилась и мне вернули книгу, и я узнал бы, что будет дальше.
Что будет дальше? Этот вопрос мучил меня и гнал через страницы. Что за письмо? Поедет ли он? Кто тот незнакомец в широкополой шляпе? Найдет ли герой остров? Встретится ли с любимой? Кто придет к ним раньше, тот в шляпе или друзья?
Наконец все в порядке. Герой получил сокровище и невесту, злодей наказан. Можно закрыть книгу, вздохнуть с облегчением, посмотреть в окно, вымыть посуду (“Сколько раз можно повторять? Оторвись ты от книги!”), сделать уроки.
Но на тумбочке лежит другая книга, не менее, а может, и более интересная. И я вновь открываю книгу.
- А ты уроки сделал?
- Конечно, мама.
Мама целые дни работала. Я целые дни читал.
Я не просил марки, велосипед, мячи. Я просил книги.
Ехал ли я в метро, сидел ли в сквере, со мной всегда была книга. Я все более переселялся в тот, второй свой мир, изредка выходя из него, когда было уж действительно необходимо.
Мне было хорошо в моем мире. Здесь я был умным, сильным, красивым и чувствовал себя если не на равных, то, во всяком случае, не чужим в компании искателей приключений, партизан Отечественной войны и ученых.
А вот в мире реальном я чувствовал себя неутно. Меня того - умного, сильного, красивого - не замечали. все видели обыкновенного худого мальчика в очках, неловкого и застенчивого. Но ведь это был не я!
Я любил книги про войну. Их было в то время много, и почти все были для меня интересны. И у нас дома, в тумбочке, я нашел одну - “В Смоленских лесах” Линькова. Дело в том, что и сама война была еще где-то рядом.
Обычным было, когда безногие инвалиды на тележках катили по улице. Мама еще хранила “американские” платья, присланные в войну из далекой, пугающей Америки. В особом ящике буфета с документами и облигациями займов лежала бабушкина медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”.
По праздникам собирались родственники, и после того, как были съедены весь винегрет и колбаса, женщины начинали громко петь “Катюшу” или “Каким ты был, таким ты и остался”, а мужчины выходили на кухню покурить. Сидя на табуретках между тесно стоящими столами и плитами, они дымили папиросами, дым вился вверх, к развешанным под потолком для просушки простыням и рубашкам. Мужчины курили и иногда вспоминали войну.
Вслед за ними я вылезал из-за стола и спешил на кухню, чтобы послушать рассказы о том, как они бежали в атаку, переправлялись через реки, ели липовую кору…
Но они и не думали говорить о войне. Они ерошили мне волосы и говорили: “Иди, иди к маме. И скажи, чтоб чай накрывали”. Я бежал в комнату и думал, что, наверно, и мой отец воевал. Отца я не знал совсем, спросить у мамы стеснялся, но очень хотелось верить, что он такой же сильный, добрый и воевал на войне.
Во дворе мы не уставали играть в войну, мы были поочередно летчиками, танкистами, пехотинцами, партизанами. Мы сбивали “мессершмитты” и “хейнкели”, поджигали “тигры” и “фердинанды”, и пускали под откос вражеские эшелоны.
И тут в моей жизни произошло значительное событие. Я был принят в компанию Васьки Новикова. И только потому, что с самим Васькой был давно и хорошо знаком, иначе бы меня, слабака и очкарика, туда не взяли. Мальчишки в компании были крепкие, ловкие, смелые. Книг они не читали, но с ними я ощущал себя героем многих романов сразу.
В компании было несколько паролей, по которым все собирались в разных местах - за школой, во дворе дома номер два по Боброву переулку, под голубятней или на чердаке нашего дома, там бывали самые важные встречи. Ради этих встреч я забывал и про книги.
Игра наши состояли из сумасшедшей беготни по переулкам и запутанным проходным дворам, короткого обмена паролем и встреч на чердаке, где всегда немножко дух захватывало от таинственной пустынности его пространства. Там было пыльно, паутина и песок. Когда все собирались, Васька вел нас к двери, обитой войлоком так давно, что шляпки ржавых гаоздей можно было отковырять руками, открывал большой висячий замок (никто не знал, откуда у него ключ), и мы выходили в башенку на крыше. Стекол там не было, мы толпились у окна, с восторгом разглядывая бульвар, машины и людей далеко внизу. А еще были видны шпили высотных домов на Комсомольской площади и на Котельнической набережной и совсем рядом узорная луковка церкви архангела Гавриила. Нам никогда не надоедало рассматривать все это, потому что весной и осенью, или зимой, при солнце или когда шел дождь, все наши улицы, переулки, дома выглядели совсем по-разному. Однажды мы смотрели из башенки салют!
Встречаясь вечером во дворе, мы садились между высокими воротами и “Победой” Сергея Николаевича из семьдесят шестой квартиры, так что нас сразу было и не заметить, и разговаривали о разном. Тут мне представлялась возможность отличиться. Самый большой успех имел рассказ о капитане Бладе. Иногда мы пели песни, и самая наша любимая была: “В Джорджтаунском порту С какао на борту “Жанетта” поправляла такелаж…” Эта песня приносила в наш обычный московский переулок соленый воздух морских кораблей, везущих какао, хлопок и шерсть из далекой Автралии в дымный Лондон. И каждый представлял себя угрюмым Гарри…
Все это разом было прервано.
Однажды вечером, когда я прибежал домой и, на ходу стаскивая свитер, закричал: “Мама, я есть хочу!”, она не сказала как обычно: “Скорей раздевайся, гулена”, - а промолчала. Я стащил с головы свитер и увидел, что она сидит, сжав губы, и смотрит на меня. Мне стало тревожно.
- Алик, скажи мне, где ты сейчас был?
- Гулял.
- С кем гулял?
- С ребятами. Васька Новиков был, Петька и еще, ты их не знаешь.
- Зачем ты водишься с этой шпаной!.. Васька Новиков! Да ты знаешь, что он уже на примете у милиции, твой Новиков! Вчера соседка видела, как вы курили и пели дурацкие песни. Как тебе не стыдно! Мать из сил выбивается, с утра до вечера работает, чтобы тебя одеть, накормить, а тут… В общем, так: больше ты с Новиковым гулять не будешь! Недаром его из вашей школы выгнали! Теперь придешь из школы - садись за уроки. Выучил - возьми книгу, читай. А я приду с работы, тогда будем гулять…
Я не мог опомниться от несправедливости этого обвинения. Я только набирал воздуха, чтобы возразить, но поток маминого гнева трудно было остановить. Едва она умолкла, я попытался оправдаться:
- Мамочка! Но я не куурил!.. А выгнали Новикова неправильно… И зачем ты слушаешь соседку, она же ничего не понимает. И потом она врет, я не курил!
- Я сама знаю, кто врет, а кто нет. А вот сейчас по твоим глазам вижу, что ты мне говоришь неправду. Как тебе не стыдно!..
- И песни мы пели не дурацкие… - робко продолжал я.
- Все! Разговор окончен! Не сметь больше видеться с этим Новиковым!
Как я плакал тогда, как умолял ее разрешить выходить во двор. Все напрасно.
И я снова стал сидеть дома. Поначалу даже читать хотелось не очень, но постепенно таинственные острова, капитаны и приключения завладели мной. Я взял в библиотеке Жюля Верна.
Несколько раз в год к нам в гости приходила баба Глаша, мамина родственница. Приносила в подарок пачку вафель и триста граммов лимонной карамели.
И на этот раз, войдя в комнату, баба Глаша, как всегда, неторопливо сняла пальто, спустила на плечи большой черный платок и, пригладив седые масляные волосы, собранные на затылке в узел, прочно села на стул возле буфета. С этого стула она вставала только для того, чтобы уйти.
- Ну, родные мои, - говорила баба Глаша твердым, но ласковым голосом, - как живете? - А сама осматривала сначала мать, потом меня, потом комнату.
Мама ужасно суетилась с ее приходом. Она беспокоилась, все ли чисто у нас, и старалась незаметно стереть пыль с буфета, хотя баба Глаша на буфет даже и не смотрела. Мама спешила поставить чайник и немедленно выкладывала на стол все, что было вкусного в доме. И наконец, она покорно ожидала неизменных замечаний и поучений.
- Что медсестрой в “помощи на дому” ездишь, хорошо. Чай, все трояк или что там сунут в благодарность. Это хорошо. Клавка вон мается в своей конторе, а куда идти, не знает. Привет тебе от нее и Василия… Платье, гляжу, новое купила. Ничего. А пояс лакированный зачем? Сколько стоит? Два восемьдесят? Зачем же такие деньги на такое барахло? Ты что, большие тыщи получаешь? Так все деньги профукаешь на пояса да на брошки… Книжку-то вон твой читает, небось купила?.. Библиотечная? Ну ладно… А ты не слушай, не слушай, как я мать учу. С тобой я после говорить буду…
А я и не слушал, с головой погружаясь в книгу.
- Что читаешь-то?
- Жюля Верна.
Баба Глаша совсем не разбиралась в книгах, и мне не хотелось рассказывать ей, что читаю, хотя обычно я любил перессказывать прочитанное.
Лицо у тетки большое и как будто вылепленное из сдобного теста. Глаза темные и пронзительные, я боялся в них смотреть.
- Это в школе, что ли, задали?
- Нет. Просто интересная книга.
- Ты погляди на него! Парню всего одиннадцать лет, а он уже в очках ходит и все читает… Зачем шоколад купила? Мотаешь деньги! Ты ему лучше моркови покупай, для глаз полезно. …Мне вот шестьдесят восемь стукнуло, а я до сих пор без очков хожу. Что надо, все вижу.
- Баба Глаша, может, вы сейчас поговорите с Аликом? - вдруг сказала мама.
- А, ну да… Нет, больше не буду, напилась.
Она всегда так говорила после второй чашки, и мама всегда ее уговаривала выпить еще чашку. - Ну, ладно, налей последнюю. Покрепче, покрепче… - Так вот, Алик, ты уже большой. Должен понимать, что матери одной тебя растить трудно…
Я молча смотрел на нее. И когда только она уйдет!
- …Она целые дни работает, а ты один.
- Ну и что?
- Как “ну и что”? Свяжешься с фулюганами, курить начнешь. Это дело обычное. Мне мать уже все рассказала. Так вот, я договорилась, и тебя возьмут в интернат. Там тебе будет хорошо, а матери большое облегчение. ей тоже надо жизнь устраивать, молодая еще. Понимаешь?
Ошеломленный новостью, я лишь послушно кивнул головой.
А в понедельник утром мама отвезла меня в интернат.
Он находился неподалеку от Преображенского рынка в большом сером здании. И все там было какое-то серое. В спальнях серо-зеленые одеяла, в столовой - невзрачная серая горка каши на серой тарелке, в классах парты - не черно-коричневые, как у нас в школе, а серо-белые.
Ребята в интернате казались не то слишком тихие, не то забитые. Посматривали на меня с любопытством, но никто не подошел.
Мы посидели с мамой в коридоре, ожидая директора. А потом посмотрели друг на друга и…
Я вернулся в свою школу.
И опять, в точном соответствии с расписанием, чередовались алгебра и физкультура, русский язык и физика, биология и труд. Но как хорошо было по утрам говорить “Привет” Вовке Резникову, играть на переменках в “морской бой” с Гришей Амираджиби, даже слушать надоедливую Любку Бычихину.
Но, как и раньше, после школы я дни напролет просиживал дома.
Соседи наши не менялись. Все также Надежда Сергеевна угощала меня горячими пирогами, все так же Слава Романовна не уставала ворчать: “Алик, ну разве можно так топать! Ты ужасно громко топаешь!”
Софья Александровна очень одобряла то, что я много читаю. От нее я впервые услышал: “Вот станешь большим и прочитаешь “Войну и мир”.
И я представлял, какой это будет для меня важный этап в жизни - прочитать “Войну и мир”. По рассказам Софьи Александровны, которая говорила, что читает лишь “мир”, а “войну” всегда пропускает, я представлял себе большую книгу, в которой чередуются части разного цвета: синие - мир, а красные - война.
Ровное течение моей жизни было потревожено событием, которое произошло во втором мире. Внешнее течение жизни не нарушилось, никто ничего не заметил, но сам я понимал его значение, чувствовал что-то новое в себе.
Событие это - космос. Я вдруг обнаружил, что живу не на земле, в чем был ранее твердо уверен, а в космосе.
“Аэлита” была одной из первых прочитанных мною книг, но космос книжный и реальный никак не связывались у меня. После первого искусственного спутника полетели спутники с собаками Белкой и Стрелкой. Это было страшно интересно, но немного обидно. Я населил Луну и Венеру, и Марс разными человечками, они там жили, и вдруг - собаки, дворняжки. Собаки и человечки не совмещались, и я с грустью расстался с мыслью о населенных планетах.
А спутники тогда всех интересовали. “Вечерка” печатала объявления, что такого-то числа в такое-то время над Москвой будет виден пролетающий спутник. И вот жители нашей квартиры - Ефим Натанович, муж Софьи Александровны, я, дядя Боря с маленьким Юрочкой, который пищал: “Я тоже хочу спутник”, - мы выходили на Сретенский бульвар.
Выходили обыкновенно минут за десять до назначенного срока, но на бульваре уже стоял народ, толпившийся вокруг какого-нибудь громко вещавшего пенсионера. И, конечно, за две-три минуты до назначенного времени кто-нибудь поднимал панику: “Летит!” Знающие люди авторитетно объясняли, что это летит всего лишь самолет. Но вот наконец все, и знающие люди тоже, поднимали головы, приставляли к глазам бинокли и подзорные трубы (их было две на весь бульвар. Как мне хотелось в них посмотреть!) и замолкали. “Вот он! Летит!” - восклицал кто-нибудь, и поднимался гомон: “Летит! Спутник! Смотри, смотри, вон он!”
В первый раз я не мог поверить, что можно увидеть космический аппарат, просто стоя на Сретенском бульваре. Я признавал многие чудеса, но в это поверить никак не мог. И потому, выйдя впервые на бульвар, я пристроился к одному высокому дядечке (наша квартира, увы, была лишена биноклей), у которого на шее висел здоровенный “морской” бинокль. Мальчишек шныряло немало, и я подумал, что, пожалуй, если все они попросят посмотреть в бинокль, то мне времени уже не останется. Не будет же спутник висеть над бульваром полчаса. Я покрутился вокруг облюбованного мною дядечки и, решившись, тронул его за брючину: “Дяденька…” - “Чего тебе?” - “Когда будет спутник, дайте мне, пожалуйста, посмотреть в ваш бинокль”. Он щелкнул меня по лбу, что я покорно стерпел, и сказал: “Дам. Тебе первому дам”. Но ничего я в этот бинокль не увидел. Что-то туманное и фиолетовое. А когда я отдал бинокль толкающему меня в плечо мальчишке и, надев очки, поднял голову, то увидел далеко вверху быстро летящую яркую звездочку. Это и был спутник.
С того времени, услышав по радио голос Левитана: “Внимание. Внимание. Работают все радиостанции Советского Союза…”, - я уже знал, что наши запустили еще один спутник. Я садился у репродуктора и внимательно слушал до конца сообщение ТАСС. Потом спутники стали привычными, но все ахнули, когда полетел Гагарин. Что творилось на улицах! Музыка, все веселые, радостные, толпы вокруг автомашин, из радиоприемников которых разносятся всем уже известные, но все-таки необыкновенные слова о полете человека в космос. Да, Гагарин - это было посильнее “Аэлиты”.
Я любил наш дом, улицы, переулки, бульвар. После дождя на бульваре стоял запах белых цветков табака, а еще пахли земля, трава, листья. Удивительно хорошо и немного тревожно становилось на душе в эти минуты. Отчего?
- О чем ты думаешь, Алик? - Мама оторвалась от мясорубки и поправила фарш, вываливающийся из тарелки.
- Так. Ни о чем.
Это неправда. Но сказать, о чем я задумался, я не умел. И, чтобы мама больше не приставала, я открыл тумбочку и вытащил оттуда почти всю нашу библиотеку. “Акушерство”, “История СССР”, “Анна Каренина”. Я начал ее читать, но уже первые фразы не понравились, что-то тягучее. “Детство. В людях. Мои университеты” отложил после “Детства”, такая серая, невеселая жизнь вставала на шероховатых желтых страницах книги. А другую книгу, всегда стоявшую в глубине, я как открыл, так и зачитался. Читал вначале, сидя на корточках возле тумбочки, потом меня окликнула мама, и я пересел на кресло к окну и листал, и читал книгу до сумерек, пока строчки не стали сливаться. мама пришла с работы, зажгла свет и удивленно посмотрела на меня: “Все читаешь?”
Это была антология “Русские поэты XIX века”, первый том.
Я знал, конечно, что Пушкин, великий поэт, что есть Некрасов (“Дед Мазай и зайцы”) и Маяковский (“Что такое хорошо и что такое плохо” и по радио: “Я гражданин Советского Союза”). Но в тот день я открыл в своей второй стране океан поэзии.
Дома я не расставался с этой книгой. Первое время читал стихотворения, наугад открывая страницы, потом стал перечитывать те, что особенно нравились, и оказалось, что больше всего мне нравятся стихи Лермонтова.
Певучий “Парус” я сразу выучил наизусть. Меня пленили удивительная, светлая печаль этого стихотворения и гордая уверенность в будущей победе. “Бородино” и “Песню про купца Калашникова” я узнал и полюбил задолго до того, как мы начали проходить их на уроках литературы.
Не меньше, а может, и больше стихов меня захватила биография Лермонтова. Я примерял ее к себе, и лермонтовские одиночество и готовность любить оказывались моими. Я достал в библиотеке книги о детстве Лермонтова и роман Сизова, книжку Андроникова о лермонтовских рукописях, прочитал все их по нескольку раз, и далекий поэт стал вдруг необыкновенно близок и понятен.
Конечно, Лермонтов был самый лучший поэт. Я был уверен, что об этом знают не многие, но таил в себе эти мысли. Это было настолько мое, кровное, что нельзя было сказать словами.
Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной,
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! Все было ад иль небо в них.
Но “Героя нашего времени” я все откладывал. Мне так нравились стихи Лермонтова, что я боялся читать его роман, боялся, что он понравится мне меньше.
Летом мама отправила меня в пионерский лагерь под Звенигород. По приезде в лагерь, я дал себе слово, что вот теперь-то займусь спортом. Но, начав вместе с другими играть в баскетбол или прыгать в длину, я обнаруживал, что играю и прыгаю хуже всех мальчишек. И все это видели. Было стыдно, но, кроме стыда, во мне зрело убеждение, что физкультурные неудачи - это мой естественный недостаток, такая же моя принадлежность, как очки. В глубине же души я был уверен: стоит только мне захотеть и я буду играть лучше всех и прыгать дальше всех. Конечно, не так, как Боб Матвеев из первого отряда, но немногим уступая ему.
Как бы то ни было, спортом я так и не занялся и старался относиться ко всем спортивным мероприятиям со снисходительным пренебрежением, так как там на глазах у всех я неизменно сходил с вершины, на которой себя видел.
Жизнь и так была нескучная. После завтрака отряд шел на речку или в далекий Сальковский лес. Раза три-четыре ездили помогать в колхоз. После обеда и “мертвого”, совершенно пропащего часа можно было вволю читать.
Между тем в моем мире жить становилось все труднее. Мучил рассказ, прочитанный год назад в сборнике зарубежной фантастики. Он пришел на память, когда после отбоя я ожидал своей очереди рассказать какую-нибудь историю. Я вспомнил его, но пересказать ребятам не смог.
Вот о чем он. Однажды один человек вдруг не пошел, как всегда, на службу по асфальтовой дороге, а отправился, сам не зная почему, по узкой тропинке куда-то вдаль. Он долго шел и внезапно увидел, что впереди ничего нет. Небо, деревья, тропа, тропинка - все позади, а впереди ничего - пустота. И вдруг огромная рука осторожно взяла его, и он услышал голос, сказавший с укоризной: “Зачем же ты пошел по тропинке? Вернись домой и никому не говори о том, что видел”. Человек вернулся домой и повесился.
Рассказ этот произвел на меня оглушающее впечатление и вызвал обвал чувств и мыслей, с которыми я долго не мог справиться. Прежде всего поражала сама унизительная возможность того, что я и весь мир вокруг - всего лишь лаборатория для кого-то. Нет, этого быть не может, решил я. Но тут же подумал, что да, может. И это требует выбора: либо покорно подчиниться потоку обыденности, с ее буднями и согревающими сердце праздниками, с ее установившимся порядком, где мое место определено (“очкарик”, который все читает), либо постараться найти ту тропинку, которая приведет меня к познанию правды жизни.
Я не чувствовал в себе сил на то, чтобы выбрать второе, чтобы жить, зная, что все прожитые тобой годы и все, что тебе отведено прожить, все мысли, мечты, чувства, все твои дела, любовь, вся жизнь твоя и твоих детей, все это - лишь миг, лишь мгновение поставленного кем-то опыта, который этот кто-то может и прервать…
Лежа ночью в кровати, я холодел от этих мыслей, закрывался с головой одеялом, но не мог заснуть. Но я уже знал, что есть выбор и, если я стану сильным, то смогу избрать второе.
Громкая и бурная жизнь вокруг отвлекала меня от раздумий. В живой уголок привезли обезьянку. Наш отряд готовился к КВНу с первым отрядом. С легкой руки Миши Ковальчука мальчишки нашего отряда начали спорить по самым разным причинам на полдники, и многие уже проспорили полдники до конца смены. Старший вожатый Максим устроил трехдневный поход для первого и нашего отрядов. Это было страшно интересно, потому что мы зашли в такие дебри, что видели лису и лося, а на второй день набрели на поляну, сплошь усыпанную земляникой, так что все пятьдесят три человека как сели на траву, так и стали есть ярко-красные ягоды. Вообще-то здорово устали к концу, но было удивительно, особенно в ту ночь, когда все ходили купаться на реку, потом вернулись и забрались в палатки. Там пахло лапником и жидкостью от комаров. Я не пошел спать, а остался с вожатым первого отряда Толей у костра. Он рассказывал про Камчатку, про звезды, а еще там была Наташа… А потом какая-то ночная птичка села неподалеку от костра, и мы с ней долго пересвистывались. Потом выпала роса, и Толя отправил нас спать.
Наконец я взял тоненькую книжку, на обложке фигура офицера в сюртуке на фоне гор. Во время очередных футбольных битв нашего отряда с соседними, сидя на краю футбольного поля, начал читать и зачитался.
Одиночество, гордое одиночество Печорина, его нежность и страстное желание любить я почувствовал , понял. Но более всего мне понравилось властолюбие Печорина, его естественное превосходство над другими людьми. В этом я ощутил неожиданное сходство с ним. Примерно так же, как относился Печорин к обществу на водах, я относился к своим товарищам по пионерскому отряду № 2.
После романа Лермонтова я ничего больше не мог читать. Мне все казалось либо скучным, либо наивным, либо таким далеким от меня… в общем, все было не то. И теперь свободное время я проводил в зарослях сирени за домиком медсестер, а когда там ложились загорать медсестры, уходил к ограде лагеря, за живой уголок. Я садился, чтобы видеть поле за забором, и опять перечитывал полюбившуюся мне часть романа - “Княжну Мэри”. А потом, когда я уже все помнил и читать стало неинтересно, ложился в траву, клал рядом книжку и мечтал.И я был Печориным или Лермонтовым. Только не на Кавказе, а здесь, возле Звенигорода. Я гулял с княжной Мэри по солнечной березовой роще, срывая для нее бледно-фиолетовые лесные колокольчики с росинкой внутри и ранние орехи в зарослях орешника на спуске к реке. Я охотился в дальнем Сальковском лесу и, опустившись на мох, смотрел, как суетятся муравьи на гнилом еловом пеньке и как заползают они на ствол ружья, которое я прислонил к пеньку. Это я стрелялся с Грушницким у стен Саввинно-Сторожевского монастыря и видел, как его тело упало с высокого обрыва на берег Москвы-реки.
Так я жил в своем мире, лишь изредка выходя из него, чтобы принять участие в самом необходимом - утреннем построении, зарядке, походах в столовую четыре раза в день и разных мероприятиях.
Надо сказать, что в отряде в первые же дни я завоевал некоторый авторитет тем, что вечером после отбоя рассказывал разные приключения. Начали по очереди, каждый рассказывал, что помнил, а поскольку я помнил много и рассказывал интересно, на мне очередь остановилась. После “Лунного камня”, который я уложил в три вечера, я приступил к изложению Сименона. “Цену головы” я читал давно и помнил лишь основную канву. Недолго думая, я начал сочинять сам, импровизируя с ходу, и получалось неплохо. Сименона я рассказывал тоже три вечера, и их слушал даже вожатый Володя.
Благодаря своим вечерним историям я получил уважение ребят, но, к сожалению, не всех. Меня слушала лишь половина мальчишек, те, что спали в комнате нашего дома. А другая половина спала на веранде. Компания, сколотившаяся на веранде, была боевая, самостоятельная, нас они не признавали. Они вообще мало кого признавали, но ко мне относились особенно недоброжелательно. Я платил тем же, называя их про себя мартышками. Вражда наша медленно закипала и, наконец, забурлила открыто.
Я был дежурным по отряду и, следя за чистотой, сделал замечание Валерке Коптеву, он намусорил возле кровати. Валерка был маленького роста, но страшно задиристый. Он мне что-то не то ответил, я что-то не то ему сказал, он назвал меня очкариком, я в ответ шлепнул его по затылку. “Ну ладно, - пригрозил он мне, - будет тебе бенц”.
В тот день на всех построениях мне кто-то давал щелбан сзади, а когда я оборачивался, у всех были абсолютно невинные рожи. Только девочки хихикали. Это было страшно унизительно, но ничего поделать с этим я не мог, оставалось терпеть. Не жаловаться же Володе.
Я вспомнил Печорина. Я подумал, кто я и кто они? Я - это я, они - мартышки! И, видя ехидные улыбки на лицах Толика, Жорки, Мишки Курканцева и всей их компании, я стал усмехаться им в ответ. В тот день за обедом в меня бросили половиной котлеты. Я успел заметить, что бросил Жорка, толстый, грубый парень. “Идиот, - громко сказал я. - Жирная мартышка”. Тишина воцарилась за столами нашего отряда.
- Скорее доедайте, ребята, - торопил нам Володя. - А то на “мертвый час” опоздаем.
Отряд поел, вошел в дом, лег. Ребята спали или тихо болтали, мой сосед Миша Ковальчук слушал свой самодельный транзисторный приемник, а я, сжавшись под простыней, все думал, что же будет. Что что-то будет, я не сомневался. Я знал, что “мартышку” они мне не простят. Ворочаясь с боку на бок, я соображал, что, конечно, можно подойти к Толику, их вожаку. Он был высокий, симпатичный, очень сильный. Он был совсем не глупый, не то что Жорка. Мне очень хотелось с ним подружиться. но он меня не признавал. Можно подойти, как-нибудь подлизаться, и они меня не тронут.
Но тут же я понимал, что я-то им всего не прощу. Меня начинало колотить, когда я представлял их четверых, ненавидящих меня. И появись сейчас лучник Карла IX и спроси меня, как он спрашивал героя Вальтера Скотта: “Они?” - я ответил бы: “Они!” И все. Надежнее было бы, конечно, использовать гиперболоид, у Гарина ведь был ручной гиперболоид. И лишь только Жорка или Валерка подошли бы ко мне, я бы небрежно достал из кармана гиперболоид и… не знаю, что бы они делали. Их унижения я не хотел. Я хотел заставить их уважать себя.
После полдника было “кружковое время”. Юннаты пошли к кроликам и черепахам в живой уголок, юные техники - паять свои хриплые приемники, певцы и танцоры - в клуб, готовиться к концерту на закрытии лагеря, в общем, кто куда. Я направился с книжкой к сирени.
Едва я сел, как из-за кустов вышли они. Толик, Жорка, Мишка и Валерка.
- Ну что, очкарик, все читаешь, - начал Толик. Он говорил без злобы, и мелькнула мысль, что, может, ничего и не будет.
- Глазки побереги, - нарочно тоненько пропищал Валерка.
- Ну, кто мартышка? - выступил вперед Жорка. - Ну, повтори, повтори! Ну!
В груди у меня все заледенело. Но ненависть к тому тупому, что я видел в Жорке, опьянила меня. Я встал и, стараясь изобразить презрительную улыбку, сказал ему в лицо:
- Ты. Ты мартышка, идиот, болван…
Жорка сильно толкнул меня в грудь, и я упал, так как Валерка стал у меня за спиной на корточки. И они меня побили.
Было не больно, но обидно - страшно. И я никак не мог понять, почему, за что. То есть я понимал, и не понимал.
Не все в отряде знали, что было, а те, что знали, молчали. И я молчал. Ожесточение, возникшее в моей душе в тот вечер в кустах сирени, постепенно сошло. Но в эти заросли я больше не мог ходить.
Сидя на краю футбольного поля, я вновь перечитывал “Героя нашего времени” и все пытался понять, как же стать настоящим, сильным человеком. Может быть, нужно только найти такую книгу, в которой бы говорилось о самом-самом главном, о том секрете, зная который жить на свете легче легкого. А мне пока не везет.
В то лето в лагере я подружился с Кириллом. В третьей смене он спал на той же кровати, что и Миша Ковальчук, оба мы оказались неважными спорсменами. Кирилл - неуклюж, я - медлителен и неловок, и в ходе футбольных битв нашего отряда неизменно сидели на скамейке возле поля; наконец Кирилл как-то рассказал мне, что у него дома очень много книг, есть и иностранные про художников, с большими цветными иллюстрациями. Но я поразился, узнав, что его отец пишет книги. Оказалось, он доктор наук и пишет учебники по английскому языку. Таких людей я еще не знал.
Мы договорились встретиться в Москве.
Узел с вещами был не столько тяжелый, сколько неудобный. Туго связанные концы не позволяли как следует ухватиться, а когда я пытался взять одной рукой, а другой поддерживать снизу, узел оказывался очень тяжелым, руки быстро уставали. И потому я нес его то так, то эдак, часто меняя руки, останавливаясь на мгновение, и потом, поспешая за мамой, расталкивал прохожих.
Это было ужасно! Все смотрели на узел, на меня, начинали думать, что бы это значило, и понимали: мальчик везет вещи на продажу. Они смотрели на меня сочувственно. Только бы не встретить кого-нибудь из класса!
И пока мы шли к метро, и спускались по эскалатору, и пока ждали на перроне поезда, я не смел поднять глаз и только стискивал зубы, понимая, что все это надо вытерпеть - дома нет денег.
Мама, казалось, не замечала ничего. Она как будто легко несла синий чемодан, в котором были платья и ботинки, и даже на ходу оборачивалась ко мне: “Алик, тебе не тяжело? Устал?” “Нет, нет, - выдавливал я, стараясь не отставать. Но по тому, как мама поджимала губы, особенно независимо вскидывала голову, я видел, что и она чувствовала себя униженной.
Надо было ехать на метро до Сокольников, а дальше на троллейбусе или трамвае до Преображенского рынка, нашей конечной цели.
Людей в вагоне метро было много. И вдруг одна толстая тетка в шляпке и с зеленой сумкой, торопясь к выходу, споткнулась о чемодан.
- Что за безобразие! Понаставили барахла всякого, выйти нельзя!
Боже, как я возненавидел ее! Я готов был броситься на нее с кулаками, лишь бы она замолчала! Я обернулся к маме, вдруг побледневшей, с выступившими красными пятнами на щеках.
- Да! - закричала мама. - И поставили! Никому не мешают, только ей, видите ли, мешают!..
- Мама, не надо… Мама, не обращай внимания… - тихо повторял я…
Пассажиры смотрели на нас, переводя глаза с тетки на узел, на маму, на меня, опять на узел.
- Мама, ну пожалуйста…
- Отстань, Алик, не вмешивайся в эти дела!..
Наконец она вышла, и поезд тронулся.
День был холодный, но солнечный. Начало октября. Солнце не грело, а тихо светило откуда-то сбоку.
Мы шли от трамвая по солнечной стороне и молчали. Под ногами шуршали уже потемневшие, коричневые листья; временами с кленов и осин срывался желтый, оранжевый, пунцовый или красно-зеленый лист и, покружив в воздухе, опускался на землю.
В комиссионном я свлил узел возле стола приемщика и сказал, что подожду на улице. “Да, да” - рассеянно ответила мама. Она как будто равнодушно смотрела, как оценщик перебирает вещи, поднимая верх платья, потирая пальцами материю старого пальто и близко к носу поднося, как бы обнюхивая, ботинки. Она с готовностью подавала ему вещи и покорно убрала в чемодан две пары ботинок, на которые он, едва посмотрев, презрительно гмыкнул. Я видел через витрину, как он поворошил оставшуюся кучу вещей и начал заполнять квитанцию. “Вот и хорошо, - с облегчением подумал я. - Сдали”.
Ужасно унизительное сознание собственной бедности. Унизительно и чувство благодарности, когда надо было говорить “спасибо” за старые платья, брюки, ботинки. “Но что же делать, Алик, милый” - утешала меня мама, когда мы ехали в то воскресенье после большой уборки дачи Зои Владимировны. - Как иначе прожить? У тебя на зиму ботинок нет”. Я смирился.
На следующее утро я, как и всегда, проснулся с предчувствием чего-то хорошего. Не печалили несделанная задача по геометрии и то, что надо было возвращать Ленке Гальпериной “Двадцать лет спустя”, а мне было жаль возвращать хорошие книги.
Утром, когда день только проклюнулся и целехонький лежит перед тобой, ощущаешь себя сильным и легким, готовым ко всему, и так легко делается все. Я в пять минут умылся, оделся, достал из-под подушки завернутые мамой в газету сковородку с яичницей и чайник, поел и даже почистил ботинки. Нет, сегодня должен быть отличный день!
До зоологии я отдал Ленке книгу, а она мне - тетрадь по геометрии с треклятой задачей. Я успел не только переписать задачу, но и прочитать параграф с заданной теоремой. Оторвался только, когда отвечал Аркаша Блинов.
Странный человек Аркаша: с нами он нормальный, а с учителями робеет, стесняется чего-то, отвечает всегда тихо. Биологичка этого не любила.
- Ну что, Блинов, долго в молчанку играть будем? - повысила голос Ада Романовна. - Ты сказал “кошки”. Хорошо. Чем отличаются кошки от других млекопитающих?.. Ну? Погромче, чтобы тебя все слышали.
- Голосом… они мяукают, - тихо сказал Аркаша.
- Так, - вздохнула Ада Романовна.
Потом Аркаша уверял, что он слышад не “так”, а “как”, он клялся, что, стоя рядом, не мог ослышаться. А тогда он удивленно посмотрел на биологичку, на нас и мяукнул. Сначала тихо, потом погромче.
- Блинов! - вскочила со стула учительница. Голос ее, наверно, был слышен на улице. - Вон из класса! Я тебе за такие шуточки двойку в четверти выведу!
Класс лежал на партах от хохота.
На перемене мы по очереди изображали Аркашку и Аду, мяукали дикими голосами, пока не пришла завуч Екатерина Александровна. При ней стихал всякий шум. Мы утихли и решили, что Аркашу надо называть не “Блинчик”, а “кот Аркадий”. Мы - это наша компания, мушкетеры.
Все мы давно прочитали “Мушкетеров” Дюма - предмет моих заветных мечтаний - и разыгрывали роман на переменах. Роли распределились очень удачно: Гриша Амираджиби, немногословный, по мнению девочек, самый благородный и красивый, был Атосом. Володя Резников, или просто Резник, мягкий, уступчивый, с мелкими, очень правильными чертами лица и по-девчоночьи слабыми руками, - Арамисом. Ленка Гальперина внешне, к сожалению, не походила на миледи, потому что была черненькая и кудрявая, но решили, что миледи перекрасилась, дабы ее не узнали. В остальном Ленка была идеальным воплощением женского коварства и ума. Люба Бычихина в нашу компанию не входила, но ее позвали из-за сходства с госпожой Бонасье: белокура, миловидна, добродушна. Колосов сразу сказал, что будет д’Артаньяном, и мы не стали спорить, хотя, кроме силы, Саша ничем не блистал, а Портосом он быть не хотел. Меня назвали кардиналом, и я согласился. Роль невыигрышная, но зато Ришелье всегда в центре событий и от него многое зависит.
И вот на большой перемене, став у окна и отвернувшись от коридорной суеты, мы начинали.
- Ваше величество, - вполголоса говорил я, - госпожа Бонасье опасна уже тем, что она знает многое.
- Что же делать? - подхватил Колосов, который играл и за короля.
- Нас может выручить только миледи… Ленка, иди сюда! Итак, герцог Бэкингем с помощью госпожи Бонасье увез не только подвески королевы, но и планы наших крепостей. Вам необходимо вернуть их. Так мы отомстим за подвески!
Ленка иронически улыбнулась, чего я в ней не терпел, и сказала:
- Будет сделано, ваше преосвященство.
- Что я узнаю, - заговорил подошедший Гриша. - Наша прелестная миледи опять покидает Францию?
- Да, - небрежно бросила Лена. - Но вы, милейший граф, никогда не узнаете, куда и зачем я уезжаю!
Это было великолепно! Я загорелся и молил в душе о том, чтобы никто из наших одноклассников к нам не подошел, чтобы не прозвенел звонок…
- Одну минуту, господин Атос, - трогал я Гришу за плечо. - У меня для вас есть важное и срочное поручение.
- Вы, вероятно, ошиблись, монсеньор, - очень удачно отвечал он. - Я служу королю!
- В чем дело, ваше преосвященство? Может быть, д’Артаньян сумеет вам услужить?
- Я тоже ко всему готова, - вставила Люба, которая очень старалась попасть в тон, а у нее это редко получалось…
- Ребята! - возбужденно заговорил подошедший леша Казаков. - Вы смотрели вчера по телеку КВН? Там от МАДИ мой двоюродный брат выступал. В домашнем задании он жирафа изображал, помните? - Леша довольно засмеялся.
- Слушай, ты очень не вовремя! - сказал Гриша.
- Да ну его, - надулась Люба. - Все испортил.
- А что испортил? Чего вы тут?
- Ничего, ничего. Иди, - попытался я уговорить его, но он заинтересовался и, как всегда, чувствуя что-то интересное, но неизвестное, решил узнать, влезть. Мне стало скучно.
- Нет, правда, чего у вас?..
Конечно, если бы разыгрывали “Героя нашего времени”, он был бы Грушницким. А что? Гриша - доктор Вернер, Люба - княжна Мэри… Печорин - это я .
Нет, конечно, все это были пустые фантазии, правда, интересные, захватывающие фантазии. Так не хотелось выходить из них, покидать эфемерный, неопределенный, но и реальный мир, в котором все было ярче, красивее, понятнее, в котором среди кавказских снеговых вершин Печорин гулял с княжной Мэри и влюбленная княжна не могла понять его глубокую печаль, но при далеком топоте копыт Печорин вдруг превращался в д’Артаньяна; и уж тут-то княжна (или госпожа Бонасье) с радостью целовала своего верного рыцаря, но вдруг, заметив кинжал, сверкнувший в лунном свете, она кричала: “Спасайся!” - и звенели шпаги, и текла кровь, черная в ночной темноте, и лишь потом луна, вышедшая из-за туч, освещала недвижимое тело, женщину, напряженно смотрящую в даль, и быстро удаляющегося всадника…
- Алик, у нас завтра еды нет, - сказала мама.
- А деньги за вещи?
- Я вчера ездила, они еще не проданы. Сказали заехать дня через три.
Я молчал, потому что знал, о чем сейчас пойдет речь, и бессильная жалость прилила к сердцу.
- …Алик, я к тебе обращаюсь. Что делать?
- Ладно, пойдем в букинистический. Сколько тебе надо?
- Я не знаю… Котлет купить, масла, компота хорошо бы…
- Можно без компота.
- Ты с этими книгами совсем уж… Помешался на книгах!
- А если у Драбкиной занять?
- Я ей уже должна двенадцать рублей, и то она до пятнадцатого лишь согласилась ждать. Алик, - заговорила с ожесточением мама. - Ну что же делать? Рубля два обязательно надо.
- Хорошо. Я дам Игнатьева два тома и Тургенева “Избранное”.
- Может быть, Тургенева не надо?
Мама как будто пожалела Тургенева, но я знал, на что она нацеливается.
- Катаева я не дам.
- Алик, но тут мы бы сразу получили много, рублей пять. А потом бы выкупили его.
- Нет, лучше я обедать не буду, но Катаева не дам. “Белеет парус”, “Хуторок”, “Квадратура круга” - да как можно! Ни за что!
- Что дадут за Игнатьева? Сколько он стоит?.. Рубль и девяносто копеек. Да еще вычтут. Что я куплю на эти деньги? Ты посмотри на себя, худой какой…
Я смотрел на этажерку. где стояли мои сокровища. и решал.
- Ладно, возьми еще Итало Кальвино… - Незадачливые грабители, ленивые полицейские, чудаковатые ученые, и везде яркое солнце. море, желтый песок Неаполя или глухая ночь Рима с мерцающей рекламой. Эх, жалко, но что делать. - Игнатьев - рубль девяносто, Тургенев - семьдесят копеек, Кальвино - рубль десять, всего - три семьдесят, считай - три пятьдесят, на руки получишь два восемьдесят. Нормально.
- Ну хорошо. Ты пойдешь со мной?
- Да.
- Тогда быстро одевайся.
Книг у меня накопилось довольно много. Дарили знакомые, соседи, Серафима Петровна подарила этажерку с двумя стопами книг. В прошлом году мама поехала весной на дачу к одной врачихе мыть окна и полы, и я поехал. В чулане нашел много всяких книг, несколько мне было позволено взять.
И вот однажды, когда я в очередной раз решил переставить книги на этажерке, мама сказала, что надо что-то продать. Я огорчился, но не слишком. Книг было много, штук сто. Некоторые мне были неинтересны. Мы набрали полный чемодан книг и получили в букинистическом много денег. Книги позволили нам прожить две недели. Это было неожиданно и чудесно. К сожалению, за первым разом все чаще следовали другие.
И я узнал букинистические, приемщиков, продавцов, некоторых постоянных покупателей. Я изучил витрины магазинов и их прилавки и с одного взгляда определял, есть ли что новое, а что купили.
Сегодня мы решили поехать в новое место.
В толкотне и тесноте автобуса доехали до старого здания университета и пошли вдоль его высокой ограды. Накрапывал редкий дождик, но дышалось легко, и печаль из-за теряемых книг незаметно пропала.
В магазине напротив библиотеки Ленина мы не были ни разу. Он оказался совсем маленьким, узким, как пенал. Дверь выходила на здание библиотеки, а единственная витрина смотрела на Кутафью башню Кремля. Людей было немного. Я мельком посмотрел на прилавок, и меня аж в жар бросило. Там лежали, лежали рядом, я глазам своим не верил - “Три мушкетера”, “Грав Монте-Кристо” и “Королева Марго”.
- Ну что ты, - дернула меня мама за руку. - Иди, занимай очередь.
Я лишь кивнул ей на витрину.
- Боже ты мой… - выдохнула мама.
Я оглянулся, не обратил ли кто на нас внимания. Иначе все, кто есть в магазине, бросятся сюда и немедленно купят эти замечательные книги. Но никто на нас не смотрел. Подошла продавщица.
- Вам показать что-нибудь?
- Нет, нет, потом, - сдержанно ответила мама. - Мы… потом.
Очередь сдавать книги была смехотворно маленькой, три человека. Отойдя в сторону, устроили военный совет. Ясно, что купить надо, но что? Мама хотела “Королеву Марго”, я - “Трех мушкетеров”. О “Монте-Кристо” не говорили, он был в двух томах, новенький картонный переплет, наверняка больше двух рублей.
- Значит, Алик, ассигнуем полтора рубля, не больше!
- Хорошо. Давай только “Мушкетеров”, в?
- Ну ладно, “Мушкетеров”.
Мы получили два девяносто пять. Книга стоила девяносто копеек. Конечно, это было не совсем то, что я бы хотел, - Дюма в серии “Библиотеки приключений”, толстую красную книгу с множеством иллюстраций. У меня же в руках был потрепанный пухлый том в мягкой обложке. Но все равно это был Дюма! “Мушкетеры”! И, окрыленный удачей, я предвкушал, как дома сяду читать.
- Хоть не ходи с тобой, одно разорение, - говорила мама.
На обратном пути в продовольственном купили пачку пельменей и триста граммов медовых пряников. Это любимые мои пряники,и, представив, как вечером мы будем пить с ними чай, я еще больше обрадовался. Но ведь денег не было. Покупка пряников была расточительством, тем более что рядом продавались “комсомольские” пряники по девяносто копеек, а медовые стоили рубль двадцать.
- Мама, вместо пряников можно было купить сто граммов масла. А то пельмени есть, а масла нет.
- Да, верно, масла нет. Ну ничего, еще маргарин остался. А то у Драбкиной займем… Ты сегодня к Кириллу едешь?
- Да.
- Тебя там покормят, а я как-нибудь.
Тогда, в лагере, Кирилл пробыл одну смену, и то его взяли раньше. Понемногу облик Кирилла стал забываться, но в начале сентября он позвонил, мы поговорили, наши мамы поговорили, и я впервые в жизни самостоятельно поехал в гости, а потом стал часто ездить.
Кирилл походил на плюшевого медведя, большой, очень добродушный, с готовностью он подхватывал мои планы, был готов слушать любые фантазии, и мне было приятно ощущать некоторое свое превосходство. Читал я больше его, часто рассказывал о книгах, а когда надоедало, мы отправлялись гулять, шли в кино, и когда мы бежали по улице, радостно было чувствовать его локоть, видеть лицо. обращенное ко мне. “Мой друг Кирилл”, - говорил я в школе,и жизнь от этого была полнее и радостнее.
У Кирилла было все: отдельная комната с мягким диванчиком, шкафом, письменным столом и двумя книжными полками, уставленными вперемежку учебниками, альбомами для марок, журналами и книгами, в углу стоял велосипед, на подоконнике - большущий аквариум с тремя ярко-красными и одной черной рыбками; В большой гостиной висели и стояли несколько книжных полок, на них - керамика (это слово появилось недавно): глиняные вазы и фигурки, на скользком, как каток, яично-желтом полу лежал мягкий ковер, у стены стояло пианино, на стенах висели яркие эстампы, по мне лучше было бы повесить хорошие репродукции из “Огонька”. Когда я это посоветовал, родители Кирилла лишь улыбнулись.
В первый вечер Кирилл листал передо мной большие альбомы, я смотрел, кивал, а сам сравнивал. Пианино было у Софьи Александровны, пол у нас и в квартире натирался по очереди, ковер был у Надежды Васильевны, два шкафа книг - у Серафимы Петровны. Но все это вместе в отдельной квартире на десятом этаже, откуда не надоедало смотреть на широкий Ленинский проспект с машинами, пешеходами, на близкие Ленинские горы и Лужники, все это вместе покорило меня. Вот бы нам так пожить!
А мама после моих рассказов прослезилась: “Господи, какой же ты у меня умница… Смотри, Алик, веди себя хорошо. Вот сразу видно, что хорошие люди, не то что эта баронесса Фондерпшик!”
Так мама называла мать моего одноклассника Андрея Кувшинина, семья которого занимала квартиру под нами. Отец был полковником авиации, имел единственную на подъезд машину, но его я редко видел. Дед Андрея был каким-то членом-корреспондентом, он гулял по вечерам с собакой и, когда проходил мимо в высокой шляпе, постукивая палкой, я с невольным почтением смотрел на его полное, румяное лицо, седые усы и бородку клинышком. Я ему говорил “здрасте”, а он иногда кивал, иногда нет.
Год назад я побывал у Андрея. Он болел, и я принес домашние задания. Тогда мне показалось, что я переступил порог не просто квартиры, но попал в другой мир. Большие, просторные комнаты, казалось, ждали множество гостей. Я с удивлением узнавал планировку нашей квартиры, только там, где у нас были комнаты Славы Романовны и Ефима Натановича с Серафимой Петровной, я видел большую столовую, на массивном коричневом столе в хрустальной вазе, сверкавшей красными, зелеными и синими искрами, стояли розы. Узкие зеркала от пола до потолка, люстра с подвесками, фортепьяно было открыто, и ноты лежали на пюпитре. Солнце высвечивало квадраты на ковре, было просторно и тихо, как в музее.
И я застеснялся своих запачканных ботинок, серой, уже потертой школьной формы и маленького, битком набитого портфеля. Но высоченные стеллажи с книгами увидел я в другой комнате, и Андрей, поколебавшись, дал мне полистать книги. Голова закружилась от нарядных переплетов, я не мог оторваться от этого богатства. Целые полки занимали стихи, стояли собрания сочинений всех известных мне писателей и другие книги, и толстые, большие синие тома энциклопедии, и еще какие-то альбомы… И я попросил Конан Дойля.
- Понимаешь, Алик, - замялся Андрей, - мама не разрешает выносить книги.
- Но я только дома читать буду!
- Все равно. Она никому не разрешает.
- Я тебе завтра же верну. За ночь прочитаю и принесу. Она и не узнает!
Тут его мать и вошла. Высокая, белокурая, подтянутая, с правильными чертами лица, она, наверно, была красива, но глаза, как две льдинки, и сжатый рот придавали ей что-то надменное. “Снежная королева” называл я ее про себя.
Она вошла, и Андрей поспешно рассказал ей о моей просьбе.
- Нехорошо, Алик, - заключила она ровным голосом. - Нехорошо что-то делать тайком, а тем более учить Андрюшу обманывать меня. Я бы тебе разрешила взять эту книгу, но теперь не могу.
Я готов был провалиться сквозь землю, но ковер держал меня. Пылая от стыда, я дошел до двери и, не поднимая головы, буркнул:
- Ну и ладно.
- Надо сказать “до свидания” - издали сказала она, и я едва удержался, чтобы не хлопнуть дверью изо всей силы.
Раньше я сочувствовал Андрею, толстому, румяному, постоянному объекту насмешек и издевок, и даже останавливал Сашку Кузовлева, любившего прищемлять щеки Андрея, приговаривая: “Почем нынче пончики?”
Теперь моя жалость прошла.
Но Снежная королева, видно, что-то сказала моей маме. На кухне вечером Софья Александровна успокаивала ее:
- Стоит ли из-за этого переживать? Мы все Алика знаем и любим! - И она перевела разговор на самое волнующее событие: - Вы были в молочной-самообслуживании на Дзержинке? Там действительно нет продавцов, подходи и сам все выбирай. Очень удобно. Но я молоко в пакетах все-таки не беру и брать не буду. Кто его знает… В бутылках оно как-то привычнее.
У Кирилла я не чувствовал такого стеснения, как в квартире Кувшининых. Но и у него я видел себя лазутчиком, вступающим в неприятельский лагерь, и только сдержанность, осторожность и самообладание могли помочь мне благополучно выбраться.
И вот я открываю тяжелую дверь, вхожу в ярко освещенный чистый подъезд, уставленный здоровенными фикусами. За столиком у лифтов сидит и вяжет старуха в светлом платке.
- Здравствуйте, - говорю я вежливо, как учил Кирилл.
- Ты к кому, мальчик? - вглядывается она в меня.
- Я вспоминаю фильм “Подвиг разведчика” и говорю негромко, с достоинством:
- В семьдесят восьму.
- К Алексей Васильевича Кириллу?.. ну иди.
И я иду к лифту, стараясь, чтобы она не заметила автомат под пальто. Нет, пистолет. Хотя пистолет и так не видно в кармане.
Дверь открыла мать Кирилла Евгения Львовна.
- Здравствуйте, - тихо сказал я, забыв, что я разведчик.
- Здравствуй, здравствуй. Кирилл! - крикнула она. - Алик пришел!.. Ну что ж ты, проходи. А ботиночки?.. Снимай, снимай… вот тапочки.
Я чувствовал унижение в этом раздевании на пороге. Вот пришел бы в гости Лермонтов, неужели и ему она бы сказала: “А ботиночки, Михаил Юрьевич? Снимайте, снимайте…” Конечно, я молчал, краснел и стаскивал ботинки, опасаясь, нет ли дырки в пятке.
Кирилл был, как всегда, беззаботен, Евгения Львовна - приветлива, а у меня не шел из головы прошлый приезд. Мы с Кириллом пролистали толстенную английскую энциклопедию, напечатанную очень мелко на тонкой и плотной желтоватой бумаге; там были еще репродукции картин, рисунки орденов, схемы сражений, но уже на блестящей мелованной бумаге и переложенные папиросной, в общем, потрясающая книга. И пришел его отец Олег Васильевич.
- Что, друзья, развлекаетесь?
Мы дружно кивнули. Из кухни доносились запахи ванили, чего-то вкусного, печеного. Мы ждали чая.
- Давайте-ка займемся делом не только приятным, но и полезным, а именно - английским!.. Не вижу радости на лицах.
- Пап, да ну… - заворчал Кирилл. - Я уже сделал уроки, можешь посмотреть.
Мне хотелось заняться английским, очень хотелось, чтобы читать Джека Лондона в оригинале или хотя бы понимать все в этой энциклопедии, но я стеснялся обнаружить свои убогие школьные знания и потому молчал, решив положиться на Кирилла.
- Что за нытье! Вот Алик тоже не хочет заниматься, но молчит… все. Вот вам Джером Джером. Прочитайте по абзацу и переведите.
Кирилл довольно бойко прочитал и с запинками перевел свой абзац.
- Я посижу здесь, вы не против? - с улыбкой спросила Евгения Львовна, устраиваясь с вязаньем на диване. - Как успехи у мальчиков?
- У Кирюхи могли бы быть больше. Давай, Алик, вот отсюда.
Читал я ужасно. Как-то так получилось, что в пятом классе у нас англичанка долго болела, в шестом полгода были практикантки, очень веселые и добрые, всем ставили четверки и пятерки, долго учили с нами песню про дождь, первую строчку я и сейчас помню. А потом вернулась Клавдия Петровна и, раз послушав меня, сказала: “Да, Добродеев, придется нам мучить друг друга до десятого класса”. Она вообще ничего, Клавдия. Но сейчас мне было стыдно перед Олегом Васильевичем.
Я почему-то робел в его присутствии, хотя отец Кирилла был, прост, весел, неизменно дружелюбен со мной, знал массу интересных историй, был потрясающе остроумен и вообще…
Он терпеливо поправлял меня, я старался, но мелькание спиц на диване и улыбка Евгении Львовны сковывали.
- Женя, выйди. Парень тебя стесняется.
- Не понимаю, почему. Я пришла послушать, как читает Кирилл.
- Кирилл читает лучше, да, но…
- Наконец-то я услышала от тебя доброе слово для сына. Ведь это невыносимо - твои придирки.
- Евгения, прекрати.
Она ушла. Я подумал, что мужчина и должен быть таким - сдержанным, но твердым. Сказал - и все.
Она ушла , но комок жгучей обиды стоял у меня в горле. В дверях Евгения Львовна оглянулась и обменялась понимающей улыбкой с Кириллом.
Надо мной! Они смеялись надо мной!
Дикая злоба поднялась во мне, и я сжал кулаки, чтобы руки не тряслись. Ненавижу. Ненавижу их высокомерие. Больше я сюда не приду. Никогда. Только жаль, что не услышу больше сладкого запаха табака…
Пока Кирилл читал, я следил глазами, и вдруг пришла в голову мысль: а что, если положить под диваном на ковер горящую спичку? Ковер будет тихо гореть, потом диван, шторы… Как изменится в лице Еагения Львовна! Как она испугается, как закричит!.. И пропадет с лица та улыбка бесспорного превосходства, что бесила меня. И тогда я, мы с Олегом Васильевичем быстро потушили бы… Всего-то - взять на кухне спички, прикрыть дверь, и пока на кухне пьют чай…
- Алик! Как говорил Суворов, “служить, так не картавить, а картавить, так не служить”. Читай отсюда.
Мы еще немного позанимались, кое-что у меня стало получаться, напряжение спало, и уж совсем я отошел, когда Олег Васильевич подарил мне свою книгу, надписав по-английски “Дорогому Алику…”, дальше я не понял, но все равно было так приятно.
Потом пили чай с пирогом. Все молчали, лишь ложечки звенели о чашки. В прихожей домработница Ксения Илларионовна что-то переставляла.
Кирилл с удовольствием поедал пирог, облизывая губы и прихлебывая чай, Евгения Львовна маленькими глотками пила чай, зачем-то переставляла сахарницу и молочник на столе; Олег Васильевич, отставив чашку и тарелку с пирогом, вычищал трубку на большой лист бумаги. Тягостно стало сидеть, и я решил уходить.
- Ксения Илларионовна! - не выдержала молчания мать Кирилла. - Да бросьте вы все. Давайте пить чай. Пирог у вас изумительный!
- Я кончила уже. Домой иду, - отозвалась та из прихожей.
Олег Васильевич гмыкнул и ушел Я стал прощаться.
Кирилл хлопнул меня по плечу и сказал, что позвонит. Я завязывал шнурки на ботинках, а когда поднялся, увидел Евгению Львовну. Она протягивала мне с доброй улыбкой большую черную кожаную папку с двумя блестящими застежками.
- Это тебе, Алик. Она не новая, но хорошая. Мама тебе такой не купит.
Я понимал, что не надо брать. Надо было сдержанно, но вежливо поблагодарить и отказаться, ведь больше я сюда не приду… Но у меня такой драный портфель… можно будет похвастаться в классе… И я взял.
- Спасибо, Евгения Львовна. До свиданич.
Дома за меня порадовалась мама. Сказала, что надо как следует поблагодарить добрейшую Евгению Львовну, и я обещал, ничего не став объяснять.
Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?
- Ну, что смотреть будем? - спросил Кирилл, когда мы уселись в гостиной за маленький столик.
- Мальчики, только недолго! - сказала с порога Евгения Львовна. - Как вернется Олег Васильевич, отправляемся в кино.
- А мы не опоздаем? - забеспокоился я.
- Нет. До “Прогресса” десять минут идти, чего там… Давай рыцарские замки посмотрим?
- Хорошо.
Мы уже не в первый раз углубились в здоровенный альбом, в котором были цветные фотографии всех рыцарских замков Европы. Сложенные из светлого камня, из красного кирпича, с подъемными мостами, узкими бойницами, вычурными флюгерами, башнями и башенками, стоящие на горе или возле леса, возле озера, горделиво возвышающиеся на зеленом холме или зловеще освещенные лунным светом… Я населял их книжными или придуманными героями, которые скакали на конях, бились саблями в узких воротах, карабкались по карнизам наверх, к башне, где был заперт… И я слышал топот копыт, яростный звон стали, ощущал шероховатость и холод камня, и видел далеко внизу во рву, заполненном водой, отражение бледной луны, и слышал шепот неведомого друга из-за решетки: “Я здесь!”
- О, папа пришел! - воскликнул Кирилл и сорвался в прихожую. - Папа, мы идем? Можно одеваться?
- Через пять минут… Женя, мне никто не звонил?.. Здравствуй, Алик, - заглянул в комнату Олег Васильевич, высокий, худощавый, с коротко стриженными седыми волосами. пахнуло душистым табаком и еще чем-то.
Я привстал молча, не зная, как себя вести после того случая.
- Ну чего ты! - возбужденно воскликнул Кирилл. - Давай одевайся!
В кинотеатр отправились пешком. Мы с Кириллом впереди, его родители сзади. Молчали, но Кирилл не любил долго молчать.
- Папа…
- Что такое?
- А когда ты купишь телевизор? У всех ребят в классе уже есть, только у нас…
- Опять? Мой милый наследник, я говорил и тебе и твоей маме, что никогда в нашем доме телевизора не будет. Телевизор - зло!..
Этого я никак не мог понять. Телевизор был несбыточной мечтой для нас с мамой. Мы очень надеялись выиграть его когда-нибудь в лотерею, а пока ходили смотреть передачи к знакомым. Сознательный отказ от обладания такой замечательной вещью был для меня непостижим.
- Кстати, Олег, - громко заговорила Евгения Львовна. - Мальчики очень увлеклись твоей книгой о замках, и Кирюша начал рисовать оттуда. И знаешь, неплохо получается.
- Что ж, Кирюха, второй архитектор в семье будет?
- Да нет, папа, у меня плохо получается.
- Не слушай его, получается нормально. Главное - он хорошо чувствует пропорции. Кирюша, ты покажи папе, когда вернемся, маленький альбом, там особенно удачно.
- Ты же там все обвела!.. - с обидой воскликнул Кирилл.
- Э, мадам, - расхохотался Олег Васильевич, - ваш сын не умеет хитрить!
- Ну и то хорошо, - смущенно улыбалась Евгения Львовна.
В кинотеатре была обычная суета. Взяв билеты, купили мороженое, бродили пр небольшому фойе, пока не прозвенел звонок, а потом искали места, которые оказались прямо в центре. Свет медленно гас, и тут Евгения Львовна наклонилась ко мне:
- Алик, после кино пойдешь с нами чай пить? У нас медовые пряники сегодня.
- Нет, спасибо, - ответил я сразу. - У нас дома тоже медовые пряники.
Неторопливо раздвинулся занавес и грянули “Новости дня” № 18.
- Сейчас по-быстрому пообедаем и поедем, - сказала мама.
- Куда?
- Ну вот, кудыкнул, теперь пути не будет. На кладбище, сегодня бабушкина годовщина.
- Мама, а может быть ты одна съездишь?.. Мне еще уроки…
- Ничего, успеешь. Уж и не помню, когда мы вдвоем ездили.
Вначале, как обычно, зашли на рынок. Он был пустоват. В одном углу продавали какие-то темные грибы, в центре - яблоки, картошку, соленые огурцы. Чуть поодаль восточные люди разложили ярко-желтые дыни, рядом - яблоки, гранаты, виноград, но это все не для нас.
В цветочном ряду мы прошли мимо искусственных венков, мимо рассады, крупных красных роз и купили астры да еловый венок. Колючие ветки были сорваны, видимо, недавно, они были без желтизны, не осыпались и немного пахли.
На Ваганьково жгли листья. Огня не было видно, кучи тихо дымились. Густой молочный дым висел белесой полосой над дорожками, я ускорял шаги, пересекая полосу, но горьковатый вкус дыма все равно был ощутим в чистом холодном воздухе.
Нам надо было пересечь почти все кладбище. Мама молчала и смотрела под ноги. Я нес в одной руке венок, в другой цветы. Взбаламученные с утра чувства и мысли мои утихли. В огромном и пустом пространстве, заполненном памятниками и крестами, где фигуры людей были редки - будний день, да и поздновато, лишь редкие громкие крики ворон в вершинах высоких кленов и лип нарушали тишину.
Никогда я не мог равнодушно пройти мимо могилы, где на плите было выбито: “Женя Лукьянов. 1948-1962. От безутешных родителей”. Там была и фотография. Парень как парень, открытое, доброе лицо, ворот рубашки распахнут, а губы как будто сдерживают улыбку. Такая фотография.
- Что ты, Алик?
- Ничего.
- Что-то в школе случилось?
- Нет, ничего.
Чувство вины настигло меня. Вины в чем? Перед кем? Не знаю. Быть может, перед тем мальчиком, который был старше меня на один год… Его нет, я есть, но лучше ли я его? Если бы мы поменялись местами, быть может, для других это было бы лучше? Через пять месяцев и мне будет четырнадцать…
В чем моя вина? Быть может, в том, что считаю себя умнее других? Почему? Я слаб, ленив, труслив, бесталанен, но считаю себя замечательным. Да, да! Я свысока смотрю на других, перед собой что скрывать, и считаю других недалекими, простоватыми, а сам завидую, да еще как завидую, начитанности Резника, уму и настойчивости Гриши, силе Колосова, уверенности в себе Кирилла, даже Пончику завидую, даже ему, потому что он родился на четвертом этаже, а я на пятом…
Мама остановилась у ограды, распутала проволоку и открыла калитку. Поглощенный своими мыслями, я как во сне собрал с могилы старые, засохшие цветы, вымел опавшие листья и отнес все это в кучу на дорожке. Потом повесил венок на покосившийся крест, который надо было бы покрасить, но где взять серебряную краску? Я отколупнул серебряную чешуйку, оглянулся на маму, но она стояла в оцепенении, держась руками за ограду.
- Положить цветы?
- Нет, Алик, - очнулась мама. - Ты разбросай их… вот так.
Она вновь опустила глаза на невысокий холмик, который этим летом заново покрыли густым дерном. Что она думала?
- Мама, пойдем, - тихо сказал я.
- Да, сейчас… Как жаль, что бабушка тебя не видит. Если бы она была с нами…
Я боялся, что мама заплачет, но она сдержалась, а когда пошли обратно, лицо ее даже посветлело.
Дневной свет померк, и вдали, там, откуда слышались гудки тепловозов и грохот поездов, небо начинало темнеть. Мы пошли быстрее.
Высокие липы и клены тянули к небу узловатые ветви. Две вороны пролетели, уселись на клен, и одна начала каркать. А небо было высокое, не голубое, не серое, и можно было долго смотреть в него, и тогда вдруг появлялось странное ощущение легкости и ясности. И уверенности в себе, уверенности, что все правильно.
- Алик! Ты совсем меня не слушаешь!
- Ну что еще?
- О чем ты думаешь?
- Тебе неинтересно.
- Почему? Мне все интересно… что у тебя в школе?
- Ну отстань! Что ты понимаешь!
Она обиженно поджала губы, отвернулась, и мгновенное раскаяние охватило меня.
- Прости. Пожалуйста…
Как я сразу не понял - вина человека прежде всего перед родными! Перед мамой, что с того, что ей непонятны и чужды мои книги, что я без нее? Перед бабушкой, я забыл о ней, забыл, но как она меня любила, как она… Да, я хотел ей помочь крутить мясо, засунул пальцы в мясорубку и крутанул другой рукой, и пальцы затянуло, а я, не понимая, как же так, крутил, и в ужасе подумал, что всего меня сейчас утянет в узкую воронку под острый нож… я закричал, бабушка прибежала и всего только повернула назад рукоять мясорубки. В глазах ее светилась такая горячая любовь, что даже тогда, кроха, я ощутил, что эта любовь вытянет меня из любой мясорубки, что не надо бояться, надо верить, да, верить в себя, в это пустынное небо, в голые старые деревья, верить в разумность этого мира…
Как красиво я думаю. Приятно думать, как герои Толстого. “Князь Алик, пожалуйте в карету”. Неужели я такая дрянь, что могу только любоваться собой?
Первым уроком была литература. По литературе я шел в отличниках, и потому без волнения слушал, как Антонина Мироновна вызывала отвечать отрывки из “Купца Калашникова”. Беспокоило меня другое - не сделанная задача по алгебре. Вначале я попросил списать домашнее задание у Гриши. “Нет, - ответил он нравоучительно. - Я могу объяснить, но списать не дам”. “Ну и подавись ты своей алгеброй!” - ответил я. А задачи обязательно надо было списать, потому что математичка Екатерина грозилась меня спросить. И тут Пончик - сам! - протянул тетрадь. С чего это вдруг?
Конечно, мне было совестно перед Антониной, глядя ей в глаза, списывать алгебру, но что делать? Екатерина меня обязательно вызовет. Все, даю слово, что на уроках Антонины никогда списывать не буду. Несколько раз я писал себе “Правила жизни”. куда входили утренняя зарядка, занятия спортом, ежедневное решение задач по алгебре, шахматы, астрономия, закаливание, чтение биографий знаменитых людей, решал, что буду тверд, честен, решителен… но как-то все не получалось. Одно тянуло за собой другое… Только вчера вечером я говорил маме, что делаю алгебру, а сам перечитывал “Мартина Идена”.
- …Иван Грозный… - донесся голос учительницы… - Слово и дело. Именно поэтому…
Как это замечательно - “слово и дело”! Дело никогда не расходится со словом, слово всегда отвечает делу. А может, все это пустые фантазии?
Как просто было жить раньше, переходить из книжного мира в реальный, когда очень требовали или если книга была неинтересной. Но при этом всегда согревала мысль о тайной калитке, за которой - без сомнения! - меня ждали мои замечательные герои. Уверенность в возможности возвращения в мой второй мир, как в детстве возможности поднести к глазу трубку калейдоскопа с яркими, никогда не повторяющимися узорами, и поворачивать, и поворачивать ее, уравновешивала горести тревоги, с которыми приходилось сталкиваться а первом мире.
Уверенность… да, она осталась. Но все больше занимало настоящее, то, что было вокруг, то слова и словечки, дела и поведение настоящих людей, те кусочки пестрой житейской суеты, за которой я угадывал, но никак не мог увидеть саму жизнь.
- Запишите задание, - объявила Антонина и как-то странно посмотрела на меня. Что я такого сделал?
Географичка еще болела, и нас отпустили после пятого урока.
Я предложил Грише навестить Резника, хотелось поговорить с ними обоими, но он был занят.
Домой пошли с Ленкой. Обычно я искал ее одобрения и улыбки. Очень хотелось ее удивить, поразить. С ней было легко и интересно, и мы могли часами болтать обо всем на свете, если она была в настроении. Но сегодня я молчал. Ленка, что было на нее непохоже, тоже молчала, изредка поглядывая на меня.
- Ты, Алик, так в себя погружен, что едва-едва других замечаешь. Вовка вот болеет уже вторую неделю.
- Я знаю, Я давно хотел…
- Ну да, когда тебе кто нужен, ты подходишь, а так - нет, что тебе всякая мелочь человеческая вокруг…
Я был ошеломлен внезапной несправедливостью ее слов.
- Ленка, ты что?
- Скажешь, я не права? Меня ты сегодня не заметил.
- Ты… ты серьезно?
- Ладно, Алик, считай, что я по злобе это сказала. Забудем.
- Нет. Погоди. Ты серьезно так думаешь? Я, по-твоему, такой?
- Видишь ли…
- И другие так думают? Наши?
- За всех говорить не буду. Но мы всегда вместе, а ты - сам по себе. То есть, пожалуйста, как хочется… но мы с Гришей недавно говорили…
- И Гриша… вы… если бы знали… может…
- Что ты, Алик? Извини…
- Не надо.
Сжав губы, я перемахнул Сретенку, услышав за спиной свисток милиционера, возглас Ленки, визг тормозов… На мгновение подумал, как бы они горевали, если бы я попал под машину, но от этой мысли стало неуютно. Нет, не надо. От меня и так ничего-то на земле не останется. Не то - обида!
Они! Мушкетеры!
Как несправедливо устроен свет! Я всех готов любить, никто меня не любит!
Обойдя Трубную, я пошел по Петровскому бульвару, по боковой аллее, но и тут ощущал на себе насмешливые или равнодушные взгляды прохожих. Было так жалко себя…
Когда бы мог весь свет узнать,
Что жизнь с надеждами, мечтами
Не что иное, как тетрадь
С давно известными стихами.
Дома было пусто. Я поставил на плиту чайник и сковородку с котлетами. Читать не хотелось. По радио передавали песню Пахмутовой о Братской ГЭС ” Марчук играет на гитаре, а море Братское поет”, а потом мою любимую : “Не думай, что все пропели, что бури все отгремели, готовься к великой цели, а слава тебя найдет. И снег, и ветер…” И так захотелось чего-нибудь доброго, милого…
Как хорошо было три дня назад в гостях у бабы Глаши. Там я впервые увидел некоторых своих тетей и дядей, хотя так и не смог узнать причину странной отъединенности нас от большого клана Шубиных.
А собрались как-то вдруг. Сначала мы сидели с мамой и бабой Глашей. Потом подошли тетя Зоя с Лилей, моей троюродной сестрой, и нас, чтобы не слушали взрослые разговоры, посадили играть в шашки.
Лиля, толстая и краснощекая, с аккуратными синими бантами в косичках, играла очень старательно, закусив губу и часто поднимая на меня круглые голубые глаза.
Конечно, я ее общелкал два раза подряд да и третий раз мог, но сестричка моя так расстроилась, что стало ее жалко. Я поддался. Лиля “съела” разом четыре шашки и закричала радостно:
- Бабушка, я выиграла!
Тем временем подошли две другие дочери бабы Глаши, тетя Соня и тетя Роза, с мужьями. В тесноте сидели за круглым столом, пили чай с вареньями, баранками и нашим тортом под негромкие разговоры о том, о сем, мерное тиканье стенных часов и бормотание репродуктора, который слушали лишь на прогнозе погоды.
Все было, как много лет назад, когда я теребил дядю Гришу, дядю Сашу и дядю Федю с просьбой: “Расскажи про войну”. А дядя Федя умер.
- Чего не поем? - перекрыл шум за столом голос дяди Гриши.
Женщины пели “Катюшу”, и я подумал, что стоило бы об этом написать. Но что? В любом рассказе должно быть действие, что-то должно происходить, а тут едят да говорят, кому это интересно? Но мне почему-то было очень интересно.
Хотя ну что, в самом деле, интересного в многословных женских рассказах о болезнях детей, своих и родственников; пересудах о непутевой Ольге, “побежавшей в третий раз замуж”, воспоминаниях о поездке в Серпухов на могилу Федора: “хорошая такая могилка, вся в цветах”; разговорах вполголоса: как будет дальше с продуктами, не подорожает ли хлеб? Никаких ярких событий и происшествий.
Я понимал своих говорливых тетей и молчаливых дядей, ощущал всем нутром родство с этим миром, в котором дышалось легко и свободно, и чувствовал: это просто родные люди. И на душе становилось тихо и спокойно, словно плывешь куда-то вдаль, куда? - не знаешь, а хорошо плыть.
“Окрасился месяц багря-а-анцем…” - громко, пронзительно начала тетя Роза.
Было что-то завораживающее в обычных, произносимых как бы небрежно, врастяжку словах, в простой, тягучей мелодии, звучащей в затихшей комнате.
“Поедем, красотка, ката-а-а-аться,
Давно я тебя-а поджида -ал”, - убавила голос тетя Роза, и женщины за столом дружно повторили.
Почему поют только женщины? Но от их голосов песня звучала угрожающе для красавца ухаря, небрежно садящегося в лодку, взволнованно-радостно для девушки, затаившей боль, и неизъяснимой тоской трогала сердце. И вот они плывут в лодке под белым парусом…
“Ты правишь в откры-ытое мо-о-ре,
Где с бурей не справиться на-ам.
В такую шальную пого-о-оду
Нельзя доверяться волна-ам.”
И я поразился, как в нескольких строчках вдруг проглянул характер обеспокоившегося парня. И тут голос тети Розы окреп, погустел, и, как тяжелая, черная волна, падали слова, в которых были и любовь, и отчаяние, и приговор:
“Ты вспомни, изменщик кова-а-арный,
Как я доверя-а-алась тебе!”
И все было ясно: погибли оба. Вот как надо писать, подумал я. Интересно, знал ли Лермонтов эту песню?..
Нет. Этот вечер был так хорош, что лучше просто вспоминать. Но хотелось и другого - блестящего, интеллектуального, утонченного… такого, что есть в доме Кирилла.
Мама пришла поздно, и вид у нее был усталый. Она опустила на пол доверху набитую сумку и мокрый зонт и присела на диван.
- Ты обедал?
- Да, я котлету съел. Что так поздно? Промокла? К чаю купила что-нибудь? Завтра муку в домоуправлении давать будут.
Я принялся было разбирать сумку и вдруг вспомнил:
- Да! Я сегодня четверку по алгебре получил!
- Что ты говоришь… Молодец. Вот если бы ты всегда четверки получал… А еще вызывали?
- Нет. Поставить чайник?
- Не надо, я сама. Читай… Опять у тебя новая книга.
Мама загремела кастрюлями, я вновь открыл Ремарка, но болели глаза. По радио кончались последние известия, привычные слова “строительство Асуанской плотины”, “успехи народа Кубы”; начался концерт по заявкам.
“А у нас во дворе…” - звучал голос известного певца… “Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу…”
- Ча-ча-ча! - сказала мама и вышла на кухню.
За окном шумел дождь. Теплыми пятнами светились окна дома напротив. На Кировской блестели фарами редкие машины. Светилась круглыми окнами станция метро. Вот еще день прошел.
Все вокруг было настолько знакомое, родное, что я не замечал неторопливого потока жизни, несшего меня изо дня в день. Но что-то менялось во мне, что-то менялось.
Пруд был усыпан листьями. Ветер собирал их в один угол, туда, где низко над коричнево-зеленой водой наклонила ветви береза, а потом сыпал еще и еще, легко срывая золотистые, багряные, лимонные, коричневые листья с почти голых берез, дубов, осин. Лишь клен, стоящий вдалеке от берега среди других деревьев, сохранил почти всю листву и светился теплым рыжим костерком среди темных стволов.
Но ветер напрягся и оторвал-таки два листа клена. Один, быстро закружившись, упал где-то рядом, а второй, большой, с коричневыми, загнувшимися вверх краями, был брошен на середину пруда и, покачавшись на мелкой ряби, неспешно поплыл, поджидая свою Дюймовочку, своего стойкого солдатика.
Было холодно и тихо. Доносилась музыка - на большой эстраде репетировал к ноябрьским праздникам духовой оркестр, почему-то приятно было ловить эти далекие звуки.
Внизу у воды стоял с удочкой в руках высокий худой дядечка в брезентовом плаще и зеленой фетровой шляпе.
Поплавок чуть покачивался, на него наплывали мелкие аккуратные листики березы, рыболов подергивал удилище и опять терпеливо замирал, уставившись на воду.
- Бедный, и что он поймает, замерзнет только, - поежилась Люба.
- Мало ли какие у мужчин бывают увлечения, - тихо сказал Резник.
- Тоже мне - мужчина! - толкнула его в бок Ленка. - У Гриши усы растут, а у тебя?
- Алик, - подошла ко мне Люба. - Подними воротник, видишь, какой ветер.
- Ну, чего тебе надо! Отстань! - рассердился я.
Ветер действительно усилился, но теперь я уже не мог поднять воротник. Сунув замерзшие руки в карманы пальто, папку под мышку, я молча злился на Любу. И чего она увязалась с нами? Ленка еще туда-сюда, но эта чего лезет?
- Все! - объявила ленка. - Мы с Любой замерзли. Идемте отсюда.
Людей в аллеях было мало, в основном старушки, да матери с колясками.
Ленка собирала опавшие кленовые листья, Гриша с Резником, заговорившись, ушли вперед. Мы шли с Любой, загребая ногами листья и с хрустом ломая упавшие ветки.
- Алик…
- Что?
- Какая хорошая осень стоит, правда?
- Да.
- Тебе нравится мой воротничок?..
Она расстегнула пуговицу и размотала зеленый шарф. Воротничок, правда, был красивый, легкий, как недавняя узорчатая изморозь на темном стекле. А глаза у Любы были коричневые, нет, орехово-коричневые, в зрачках я видел свое маленькое отражение. И мое отражение недоуменно смотрело на меня.
Но ведь если нравится один человек, как можно - с другим? Просто невозможно!
- Да, ничего. - И я поспешил за Гришей с Резником.
Дошли до эстрады. Оркестр молчал. Музыканты зябко потирали руки, укладывая трубы в чехлы и футляры, переговаривались, и только один расхаживал по краю эстрады с флейтой в руках, и ее нежный звук еще висел в воздухе.
- Давайте в салочки играть! - предложила Ленка.
Водить досталось Грише, он быстро догнал Любу, она осалила Резника, а уж Володю мы заводили так, что он запыхался.
Потом Гриша сбегал за эскимо, и мы медленно ели его, сидя перед пустой эстрадой. Оркестр уехал, но, странно, если затаить дыхание, был слышен нежный звук флейты.
И так светло и легко было на душе, так тепло оттого, что рядом свои ребята, свои, так замечательно и чисто и ясно, что хотелось одного - пусть это не кончается!
- Мальчики, а что будет с нами через пять лет? - заговорила Люба. - Не через десять - двадцать, это очень долго, а через пять? Восемнадцать лет, значит, окончим школу и - кто куда. Вы все учиться будете, а я портнихой стану, как мама… Но как было бы хорошо увидеться тогда!
- А что? Давайте поклянемся, - воскликнул Гриша, - ровно через пять лет встретиться на этом месте!
- На чем клясться, на палочках? - улыбнулась Ленка.
- Подождите, подождите… - забормотал Резник. - Пускай в руках у нас не шпаги, а палочки от эскимо, клянемся: верными быть в счастье…
- А коли нет - пойдем в кино, - срифмовал я.
- Какие вы хорошие, мальчики, - вздохнула Люба.
- А нам других и не надо, - заключила Ленка.
- Где тебя носит, Алик?
Мама была сегодня чем-то раздражена или встревожена.
- Гуляли… Здрасте, баба Глаша!
- Садись, внучек. Опять с книгой? Ишь, умник зачитанный… Морковь-то мать покупает? Как глаза?
- Нормально.
- Тетя Глаша, мне ваш совет нужен.
- Что такое? Давай рассказывай. Только ты знаешь мое правило, Лида: уж если совета просишь, то совету моему и следуй. А иначе я и советовать не буду.
- Я письмо получила из Тамбова, от Аглаи Евстафьевны, ну, от тетки Аглаи.
- Слышала про нее, скалдырная баба. Никак не могла поверить, что отец твой, Павел, ей родной брат. Уж такая она… ух! Ты ведь у ней в войну с моими девками была?
- Да, два месяца у нее жила.
- Григорий недавно рассказывал, Ефим ему написал, что Аглая от людей прячется, дверь открывает чуть не с ружьем в руках, а собаку свою выучила кусать, если кто погладить ее хочет, собаку то есть. Руку протянешь, она тебя - цап!
Неопределенная и безликая тетка Аглая, которой среди прочих к праздникам мама посылала открытки “Поздравляем… Желаем… Горячо любящие вас…”, начала принимать некоторые очертания.
Прихлебывая гречневую кашу с молоком, я представил деревянный темный дом с закрытыми ставнями, открывается скрипучая дверь, и на пороге стоит злая Аглая на деревянной ноге, с черной повязкой на глазу и с двумя пистолетами. За ней - худющая собака, готовая броситься. Потеха!
- Мама, а сколько ей лет?
- Отстань!.. И вот она пишет, тетка Аглая, чтобы я приехала повидаться.
- А ты что?
- Да вот думаю…
- Что ж тут думать? Через два дня ноябрьские - и поезжай.
- Я так устала, тетя Глаша. На праздники отдохнуть хотела. И постирать надо. Отгулы взяла на работе…
- Непрактичный ты человек, Лидия! Не умеешь жить! Другая бы давно уж у тетки сидела, а ты - “отдыхать”. Отдыхать на том свете будем. У тетки, кроме тебя, есть кто?
- Веня умер… Ефим, он приемный сын брата ее покойного мужа. Ефим… и все.
- Лида, я тебя как родную дочь люблю и желаю только добра. Иди завтра утром на Павелецкий вокзал и покупай билет. Аглая-то ведь из бывших, понимаешь? Не графиня, а… Алик, как там у них звания всякие?
- Княгиня?
- Да нет!
- Баронесса?
- Вот! Баронесса она бывшая. Она такая тихая-тихая, один раз ее видела - век не забуду. Своего не упустит… А ты! Живете - дырка в дырку смотрится. Она тебе хоть шубу-две даст, все хорошо. У нее и золотишко есть. Глядишь, телевизор купите. Поняла?
Я напряженно смотрел на маму. Вот это да! И она до сих пор молчала!
Дом тетки вырос в заброшенную барскую усадьбу с щербинами на белых колоннах, с расколотыми мраморными ступеньками парадного входа, с зарослями дикого винограда, скрывающими балкон. И вот баронесса Аглая…
-Пока ты думаешь, этот Ефим уж у тетки сидит и говорит, что ты ее забыла. Это наверняка!.. И потом, сегодня она жива, завтра нет. И останешься ты…
- А как же Алик?
Пусть у меня поживет. У меня Роза Лильку оставляет, на праздники вместе погуляют.
Я быстро взглянул на маму и замотал головой. Прожить у тети Глаши несколько дней… Нет, лучше у дикой тетки из Тамбова.
Мама бросила на меня взгляд:
- Нет, тетя Глаша. Я его с собой возьму.
- И то верно. Увидит она какого-никакого внука, может, разжалобится. Лет сколько ей?
- Моложе отца на год, значит, шестьдесят пять.
- Моложе меня, а старуха, небось… Так едешь?
- Да, тетя Глаша, поеду.
- Вот все сейчас пожилые люди берегутся, травы пьют, “Здоровье” читают, что вредно, что полезно, в полиелинику, как на работу, ходят, и что?
- Да, - кивнула мама. - Вам налить еще?
- Плесни полчашечки да пойду. Хватит, хватит… Я одно точно знаю: никакие травы не помогут, если организм слабый. У меня вот организм сильный - и живу, а и колбасу ем, и сало, и чай крепкий люблю, грешница…
Она долго еще рассуждала о здоровье, о чужих болезнях, о пользе простой жизни, без умничанья.
Ушла тетка, а мы допоздна сидели за столом. И так хорошо было сидеть под старым оранжевым абажуром с длинной бахромой.
- Мама, а она правда баронесса?
- Нет. Тетка была экономкой у какого-то барона, вот ее так и прозвали.
- А почему ты не поправила тетю Глашу? Почему ты ей всегда поддакиваешь?
- Ты еще многого не понимаешь, Алик. Вырос большой, а все дурачок.
Как странно, я ни от кого не стерпел бы этого слова, но от мамы готов. И дело, видимо, не в том, что она говорит, она просто любит меня. И как это хорошо, замечательно, что мы с ней вдвоем, вместе и никогда не разлучимся!
- Мама, а у нее книги есть?
- У тети? Как будто есть. Я уже плохо помню, но мы там что-то читали. Да, у нее должно быть много книг, вся баронская библиотека ей досталась.
- Ух, ты! Там, наверно, все собрания сочинений есть!
- В войну она книги продавала, кто знает, что осталось. Ладно, спать давай. Приедем - все увидишь.
Ночью я летал, парил меж высоченных стеллажей, тесно уставленных большими книгами в крепких переплетах с золотым тиснением. Я не успевал даже прочитать имя автора, как взмывал вверх или падал вниз, а там видел другие книги и гладил руками их холодные, слегка шершавые переплеты.
Поезд пришел в Тамбов поздно вечером.
Вышли на перрон, не успели оглянуться и поспешили за другими к автобусам. Я волок чемодан, мама прижимала к боку сумочку и несла авоську с продуктами, оберегая ее от толчков и сотрясений, - в авоське находилась тщательно завернутая в несколько газет банка ананасового компота, который мама купила к парздникам, но не позволила открыть, предназначив его в подарок тетке Аглае.
- До центра на каком? Скажите, пожалуйста, до центра на каком автобусе? - просительно обращалась мама то к одному, то к другому.
Нам обстоятельно, в несколько голосов объяснили, что до центра мы доедем на любом автобусе, а вот оттуда до Вишневой улицы придется идти пешком, но это не так далеко.
За окнами автобуса было темно, редкие огоньки - где же Тамбов?
Тамбов на карте генеральной
Кружком отмечен не всегда.
Он прежде город был опальный,
Теперь же, право, хоть куда!
Мне нравилась и темнота за окнами, и теснота в автобусе, и непривычный, мягкий говор наших попутчиков, - мне нравилась дорога, моя первая большая дорога.
Сборы дома, раздраженное волнение мамы, волнующие слова “отправление”, “плацкартный вагон”, “верхняя полка”; церемония чаепития, дребезжание ложечек в стаканах, настойчивое угощение друг друга пирожками, сыром, колбасой, яйцами, яблоками; мерное громыхание колес, к которому то привыкаешь и не слышишь, то вдруг заново замечаешь и пытаешься угадать, что они выстукивают… Бегущие за окном леса, поля, полустанки, опять леса, леса; остановки, пробег пассажира в пижаме за горячей картошкой; гудки и свистки встречных поездов, товарных и пассажирских; редкие уже черные паровозы с красной звездой впереди, выпускающие клубы черного дыма, медленно тающего над крышами вагонов…
А студенческие песни под гитару по соседству, знакомые по лагерю: “Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой, глобус крутится, вертится, словно шар голубой” или “Вечер бродит по лесным дорожкам. Ты ведь тоже любишь вечера. Подожди, постой еще немножко, посидим с товарищами у костра” - и песни совсем незнакомые. Мне дОроги были песни моего детства, громкие, звонкие, зовущие куда-то, но нравились и эти.
“…Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему званье короля”, - пел негромко студент, уже взрослый, лет двадцати, наверно. Песня, которую он пел, была непривычна. Такого я еще не слышал: “А король, как король, он кепчонку, как корону, набекрень и ушел на войну…” Прильнув к деревянной переборке, я жадно слушал и чуть не заплакал от таких простых слов: “…только некому оплакать его жизнь, потому что наш Король был один, уж извините, королевой не успел обзавестись”.
Мама позвала меня есть, снова пили чай.
Вокруг тихо велись разговоры, нескончаемые рассказы о себе, о родных.
Я жадно слушал. Рассказывали неторопливо, с удивлением, жалостью, негодованием, сочувствием, подчас с насмешливой улыбкой, но непременно с чувством обыкновенности всего этого и немногословным заключением: “Да-а… Бывает и так, конечно… От сумы да от тюрьмы… Не плачь битый, плачь небитый. Ох, люди…” Я слушал и старался понять эту волнующую взрослую жизнь мужчин и женщин.
Хотелось ехать и ехать с пьянящим чувством легкости и освобожденности от всего, под громыхание выгонных колес и их перестук на стыках, пить чай, слушать разговоры, подпевать негромким песням студентов, в которых я видел свое будущее - дальние дороги, интересную работу, потрясающее открытие - чего?..
От остановки автобуса мы вышли на квадратную площадь. Сквер, памятник Ленину, кинотеатр. Автобусов не было, бренча, катили грузовики. Стало совсем темно, редкие фонари высвечивали большие круги на асфальте, оставляя площадь в темноте. Ну, город.
- Ты не замерз, Алик? - спросила мама, поставив чемодан и потирая руки.
- Нет. Давай я понесу.
- Ну, давай. Еще две улицы, а там должен быть поворот на Вишневую, это я помню.
Прошли две улицы, потом еще две, потом шли Вишневой, выглядывая номера домов. Долго стучали в дверь, гремели запоры, открыли, еще ходили по дому, что-то говорили, разбирали вещи, укладывались, и я мгновенно заснул, но в ушах еще осталось мерное громыхание колес, громыхание, перестук на стыках.
Проснувшись, я понежился в темной постели, потом вспомнил, где я, и быстро вскочил.
Постель была постлана на ковре в комнате, большей, чем наша, но с низким потолком. Утренний свет сквозь ромбики на закрытых снаружи ставнях освещал высокую кровать, большой диван, застланный одеялом и пальто, буфет, шкаф, горку, уставленную фарфоровыми статуэтками китайцев и китаянок. За стенкой громко тикали часы.
Открылась дверь. На пороге стояла среднего роста худая старая женщина в темном платье со связкой ключей в руках.
- Здравствуйте, тетя, - улыбнулся я ей и тут же застеснялся, что стою в одних трусах.
- Доброе утро, - Суховато ответила она. - Вот ты какой, Алик. Хороший мальчик. Меня зовут Аглая Евстафьевна. Изволь называть меня так, потому что тетя я не тебе, а твоей матери. Она на базар пошла, придет - будем завтракать.
Из двери тянуло холодком, и я покрылся мурашками, переминался с ноги на ногу, а тетка вглядывалась в меня немигающими темными глазами.
- Ну, одевайся. - Она чуть улыбнулась.
За завтраком, который состоял всего-навсего из тарелки творога да чашки чая с молоком, тетка расспрашивала маму о родственниках, и мама, конечно, начала взахлеб рассказывать о бабе Глаше, какая та добрая и внимательная, о ее дочерях Зое и Розе, как устроились, как мужья, как Роза на юг съездила и привезла раковину, как ее Лиля выросла, потом про Клаву, дядю Гришу…
Тетка молчала, акууратно перемешивала тяжелой десертной ложкой желтеющий песок в голубовато-белом твороге, аккуратно жевала, по временам запивая чаем, и смотрела на маму, а иногда на меня. Сейчас я окончательно разглядел, что тетка скучна, неинтересна, да и просто глупа - все молчит и молчит.
- …А жизнь, тетя, сами понимаете, трудная. Но вот - помощник растет.
- Да, хороший мальчик, тихий. Я не люблю шумных. Еще чаю хочешь?
- Нет, спасибо, вежливо ответил я. Что - чай! В животе оставалась такая неопределенность, что можно было съесть еще две тарелки творога и несколько кусков хлеба с маслом.
- И учится хорошо, - вдруг горячо вставила мама, и мне стало неловко и стыдно за нее, что она так явно нахваливает меня тетке.
- А природу ты любишь? - спросила тетка.
- Любит, любит! - радостно отозвалась мама. - Он и животных любит, и всякие там растения и деревья.
- Хороший мальчик, - покивала головой тетка. - Возьми, на крыльце стоит лопата, и порыхли землю у яблонь. Тот рядок, что ближе к дому.
Я растерянно посмотрел на маму, она молча погрозила мне пальцем и сказала:
- Конечно, он все сделает. Конечно, тетя! Пальто надень, Алик.
Ничего себе! Что я, батрак ей? И мама тоже: “Конечно, тетя…” Только я хотел спросить про книги!
И я копал, копал… Потом раскопался, у меня выходило совсем неплохо; когда перешел к четвертой яблоне, на крыльцо вышли мама и тетка.
- Молодец, Алик. Только зачем так глубоко? Надо было чуть копнуть, а так корни могут замерзнуть. Ну, ладно, - заключила тетка. - Идите погуляйте. Все-таки праздник.
Да, сегодня 7 ноября, но настроение у меня совсем непраздничное. Не было ни маминого подарка, ни утреннего кофе с оладьями, ни стука в стену, означавшего, что по телевизору начался парад, то есть всей привычной, домашней атмосферы праздника, без которой любой праздник не праздник.
Но я ведь я в другом городе. Вряд ли кто из наших бывал в Тамбове, стало быть, я первый - я - путешественник, волею судьбы заброшенный в тихий городок.
- Как тебе тетя? - прервала мои мысли мама.
- Так, ничего. Неприятная она.
- Ничего, Алик, потерпи.
- Я потерплю. Только давай раньше уедем, завтра или послезавтра, а?
- Неудобно, я сказала, что приехали на неделю. И продукты привезли.
- Ну и ладно,а?
- Посмотрим.
Мы дошли до главной площади, свернули, потом пошли на звуки музыки и послушали духовой военный оркеста. Действительно, праздник. Флаги повсюду, люди идут свободные, беззаботные, с бумажными цветами и портретами, видно, с демонстрации; дети бегают с флажками; перекрикивают друг друга репродукторы, а в серое небо с голубыми просветами быстро улетали два связанных шарика, красный и синий.
По дороге съели по три пирожка с мясом и, как оказалось, не зря - обеда еще не было.
Мама села чистить картошку, а я гулял по комнатам. Всего их было четыре: комната, где жили мы; большая столовая, где над овальным столом висела массивная бронзовая люстра, по углам стояли три горки с фигурками из фарфора, видно, старинные, все пастушкИ и пастушки, дамы и кавалеры, , в углу высокая печь, обложенная белыми изразцами с зелеными, нет, изумрудными, рисунками каких-то трав, у двери - огромный буфет, непонятно, как его втащили, стулья мягкие с высокими резными спинками, но пружины здорово выпирали. На подставке стояли большие часы с бронзовыми фигурами трех обнаженных женщин и юноши с яблоком на протянутой ладони. Это Парис! На стене против буфета еще часы. Вот как жили буржуи! Простенок между окнами в столовой был увешан маленькими картинками.
И в нашей комнате, и в кабинете тоже: массивные кресла, картины, портьеры у дверей, плотные шторы на окнах. Как будто я был в музее. Пустынно, сумрачно, пахнет пылью - и ни звука. Что у нее - даже репродуктора нет?
На кухне мама стояла у керосинки. Тетка вошла с охапкой дров, и мне стало стыдно, болтаюсь, лентяй, а они работают.
- Тетя… Аглая Евстафьевна, что сделать надо? Давайте, я дров принесу.
- Не надо, Алик, это я сама. Хочу сказать, что, если ты в доме трогаешь какой-либо предмет, скульптуру или миниатюру, изволь все тщательно ставить на место. В доме должен быть порядлк.
- Я понимаю. Я всегда все ставлю на место.
Даже обидно. Праздник, не обедали, а все нотации.
Я очень ждал обеда, и не из-за голода вовсе, пирожки были отличные, мясистые, с луком, сытные ужасно. Я рассчитывал, что за сегодняшним обедом будет открыта наконец банка ананасового компота. Толстые, золотистые ломтики ананаса не давали мне покоя, хотя, конечно, это чепуха, несерьезно, но меня как завел кто, так хотелось этого изумительного компота. Вчера вечером я заметил, что тетка поставила банку с компотом в светлый буфет в столовой. Проходя по столовой, я так, между прочим, дернул дверцу, за которой была спрятана банка, но дверца оказалась заперта. Этого я решительно не понял. От кого запирать? Будто мы одни съедим этот компот!
Обедали поздно, пришлось есть студень, который я не любил, тетка называла его “стюдень” и, я как предчувствовал, компот она не дала. Взяла было, я видел, и поставила назад. На третье она дала по яблоку из своего сада; крупная, сладкая антоновка желтого цвета, вкусная, конечно.
Чем дальше, тем меньше мне нравилась тетка. У нее и книг-то уже не осталось, наверное.
После обеда они все говорили с мамой, я задремывал, потом действительно поспал, а этот длинный день все тянулся. Пили чай с нашим печеньем и мармеладом и - спать. Тетка заглянула, пожелала спокойной ночи, хлопнули снаружи ставни, пронзительно проскрипели двери, и все затихло.
- Мама!
- Что?
- А почему она петли у дверей не смажет, чтобы не скрипели?
- От жуликов. Если кто чужой залезет, сразу слышно. Спи.
- А почему у нее радио нет?
- Раздражает ее. Даже в войну от соседей все новости узнавала. Чего ты не спишь? Спи!
Я повернулся, устраиваясь поудобнее, сна не было. Повернулся на правый бок, потом на левый и вдруг замер. За стеной я услышал тихие шаги… Вот кто-то подошел к нашей двери… Я затаил дыхание… Шаги удалялись.
- Мама! Мама! - подскочил я к дивану.
- А? Что еще?
- Тише! Кто-то ходит по дому!
- Что ты выдумываешь?
- Точно. Двери тихо-тихо, но скрипят.
- Неужели чужие? - испугалась мама. - Не выходи, Алик!
- Надо тетю предупредить. Она через две комнаты, я знаю.
- Алик, не ходи!
- Я тихо.
Наконец-то у меня появилась возможность проверить, смелый ли я. Сердце сильно колотилось, но голова работала ясно и четко. Было странно весело.
Я немножко боялся воров, но на моей стороне были преимущества: я меньше их и увертливей, они не знают расположения комнат - я знаю, а кроме того, мои глаза привыкли к темноте. Скрипучие двери меня научил открывать Сашка Кузовлев, все очень просто - надо открывать их рывком.
Я рванул дверь нашей комнаты - темно, тихо. На цыпочках прошел столовую, схватился за ручку следующей двери, рванул - не поддается. Еще рванул - дверь была заперта.
- Мама! Тетка нас заперла! - сообщил я.
- Ой, Алик, как ты меня напугал. Это она, верно, и ходила. Ложись спать.
- А ты действительно испугалась?
- Еще бы. Спи.
Сна не было ни в одном глазу, и я понял причину: вечером я ничего не ел, только печенье.
- Мама, я есть хочу.
- Господи, опять сон перебил… Что я тебе дам? Все закрыто.
- Нет. Она ключ в дверце буфета оставила. Давай компот съедим!
- Алик, как тебе не стыдно!
- Подумаешь, мы сами его привезли, а она зажилила. И я есть хочу.
Мы еще недолго препирались, но я взял верх, уже не таясь, пошел по темной столовой к буфету, уверенно протянул руку и… она уткнулась во что-то мягкое. В лицо мне ударил свет фонарика.
- Алик? Ты куда направляешься?
- Я… это…
- Налево дверь открыта, иди во двор.
И я пошел во двор, а что оставалось?
- Алик, нам надо поговорить, - сказала утром мама.
Лицо мое еще горело от ледяной воды в умывальнике и холодного воздуха; вода попала за шиворот, заставляя ежиться, но и это придавало бодрости. А когда вышел, увидел на рукомойнике синицу, черненькую с желтой грудкой, она повертела головкой и вспорхнула при моем приближении. Воспоминания о ночных приключениях рапирали меня, и я невольно хихикал, вспоминая охоту за грабителями и поход за компотом. Настроение, в общем, было отличное. Ну, тетка, ну, тетечка!
- Чего? - обратился я к маме.
- Положи полотенце и сядь.
- Ну, сел.
- Алик, - мама вздохнула, и я только тут заметил, какой сосредоточенный у нее вид, как напряженно она говорит и при этом смотрит не на меня, а на разные завитушки буфета. - Алик, мы с тетей вчера говорили о тебе…
- И что?
- Тетя предлагает оставить тебя пожить, погостить у нее пока… Школа здесь рядом, я съезжу в Москву и привезу учебники, книги твои, в общем, все, что надо. А здесь хорошо, тихо, и воздух лучше, чем у нас в центре. Эта комната будет твоя, и весь дом в твоем распоряжении, сможешь гулять, читать… Я приезжать буду. Ну, Алик?
- Что? - Я никак не мог понять, неужели все это всерьез.
- Как что! - раздраженно воскликнула мама и посмотрела на меня, а в глазах у нее было не раздражение, а… - Ты уже большой, скоро четырнадцать лет. Я с тобой советуюсь, надо решать, что ответить тете.
- Я не хочу! - воскликнул я. - Почему мне ребят бросать, школу?
- Здесь тоже школа, тоже ребята, подружишься,а?
- А наш класс! А библиотеки! Букинистические! И тетка эта, злая она.
- Тетя Аглая добрая, ты просто не понимаешь еще этого. Ты ей очень понравился, она тебя хвалит и… Кормить тебя она будет хорошо, а если не хватит, я оставлю денег, поешь в столовой… Ты посмотри, какой дом, какой сад, и всему ты будешь хозяином. Знаешь, как интересно работать в саду! Потом рассказы об этом напишешь. И книги тетя Аглая обещала тебе отдать. У нее очень много старых книг, и все будут твои… У соседей хочет купить щенка, будет собака.
- Что мне собака… А ты зочешь, чтобы я остался?
- Алик, - мама опять глубоко вздохнула и заговорила тише, - ты не маленький, понимаешь, как нам трудно. Если ты здесь поживешь, я смогу работать на две ставки… Потом, может быть, тетя перепишет дом на твое имя. Но даже если она просто отдаст нам что-нибудь из вещей, бронзу эту или фарфор, ради этого стоит пожить здесь.
Я смотрел на ковер, где зеленые линии повторяли красные, потом пересекались с ними, и появлялась синяя линия…
- Если не хочешь - уедем, я тебя не неволю. Но подумай, подумай, Алик, и вечером скажешь мне. Хорошо?
- Ладно, - пробурчал я, и вдруг стало так грустно, так грустно.
На завтрак тетка приготовила яичницу на большой сковороде, положила мне самый большой кусок, густо намазала маслом два ломтя хлеба и пододвинула мне:
- Ешь, Алик. Растущий юноша должен много есть.
Подлизывается, усмехнулся я, ожидая, что она будет хвалить дом, город, уговаривать. Но тетка молчала и как будто не смотрела на меня.
- Лида, ты на вокзал в кассу идешь?
- Да, мы с Аликом погуляем сейчас.
- Хорошо.
- Тетя, а Евдокия еще ходит к вам помогать?
- Да. Я без нее не обойдусь. Да и она куда денется.
Они что-то говорили, я вертел в руке массивную узорчатую вилку и никак не мог на чем-либо сосредоточиться. Школа… Екатерина Александровна… Ленка, Гриша, Резник… Кузовлев!.. Сретенский бульвар… Кирилл… Соседи, Борис Васильевич, Бугай, Бетси Моисеевна… Вот если бы этот дом был в Москве!
- Что же ты не ешь, Алик?
- Доедай, сынок, да пойдем.
Я решил показать, что тверд и сдержан, что так же, как они, способен говорить о постороннем в напряженную минуту:
- Аглая Евстафьевна, а это старинные вилки?
- Это, Алик, фамильное серебро барона. Посмотри, на черенке - маленькая корона и вензель. Барон - низший дворянский титул, но Петр Михайлович через жену был в родстве со Строгановыми. Знаешь о них?
- Конечно.
- Он у меня столько читал, - с простодушной улыбкой сказала мама и совсем не к месту.
- Строгановы были не только богатейшими людьми России, но и покровителями искусств. В Москве было ими основано Строгановское училище живописи, ваяния и зодчества.
- Я знаю, это рядом с нами.
- Какой ты развитой юноша. Допивай чай, и я покажу тебе баронскую библиотеку. Там есть книги и о Строгановых.
Наконец-то! Я старался не выдать охватившей меня бурной радости. Библиотека! Целая библиотека! Да еще баронская! Вот позавидуют ребята!
Мигом прожевав хлеб и допив чай, я вскочил из-за стола.
- А где книги? Я нигде не видел книжных шкафов.
- Раньше, Алик, в библиотеке Петра Михайловича книги стояли на стеллажах. Я их вывезти не могла, они по габаритам не подходили в этот дом. Пойдем.
Мы перешли в нашу с мамой комнату. Тетка побренчала связкой ключей и открыла высокий гардероб - он весь был уставлен стопами книг!
У меня перехватило дыхание… Пушкин, Шиллер, Шекспир, Карамзин, Достоевский, Помяловский - все собрания сочинений, огромные тома… Таких я ни в одном букинистическом не видел.
- Здесь у меня классики и вся русская литература, - откуда-то издалека донесся голос тетки. - На чердаке в сундуках - западные писатели и все журналы. Там годовые комплекты “Нивы”. “Вестника Европы”, “Огонька”, “Ля тур дю монд”, это на французском. Ты, наверно, и не слышал о таких.
Боже мой! Юбилейное изданиеПушкина! Стихи, поэмы, сказки, на плотной желтоватой бумаге, дореволюционный шрифт с ятями, тут же воспоминания о Пушкине, рисунки, портреты, переложенные папиросной бумагой, Наталья Гончарова, Марина Мнишек, комментарии… Какое счастье!
- Это издание Маркса. Нравится, Алик?
- Да!
- Алик, мы же собирались гулять, - настойчиво сказала мама.
Какое там “гулять”!
- Не хочу. Иди одна. Я книги посмотрю.
Шиллер, “Смерть Валленштейна”.
…Здесь тайна. Все расспросы бесполезны.
Зачем так быстро подступают шведы!
На милость императора охотно
Я герцога бы отдал - пусть живет.
Я крови не хочу его. Но честью
Поклялся я - и смерть ему! А если
Его упустим, ждет меня позор.
Перетащив тяжелые тома в столовую, я я завернул на столе малиновую бархатную скатерть, разложил книги и забыл обо всем. Громко тикали часы на стене, каждую четверть часа звенели часы с Парисом.
Есть странное, пьянящее упоение в рассматривании, даже не чтении, настоящих книг, только в предвкушении их неспешного прочтения, в перелистывании плотных страниц, которых касались руки множества людей, живших давным-давно, а они, ныне забытые, тоже читали эти стихи, тоже радовались и восхищались, тоже вдыхали ни с чем не сравнимый запах старых книг… Но для них книги были новые!
- Читаешь, Алик? - спросила тетка и села рядом. - Умница. В тебе есть ум, сосредоточенность и настойчивость - качества настоящего хозяина.
- Скажите, Аглая Евстафьевна, а кто читал эти книги? Барон?
- Пушкина - нет. Петр Михайлович купил Шекспира и Шиллера, а Пушкина я потом приобрела, после всех катаклизмов. Книги тогда совсем дешевые были.
- Значит, эту книгу могли читать самые разные люди, понимаете?
- Понимаю. Среди них, верно, и землекопы были. Не забудь потом вымыть руки.
- Да. - Я улыбнулся. Все-таки, надо отдать тетке должное, чувство юмора у нее есть.
- Мне нравится, что ты думаешь о жизни. Это похвально. Недалекие люди тянут свою лямку и все. Я не осуждаю их. Они еще не пробудились, живут одним днем, ради суеты. А мы, думающие, не живем так, мы должны жить ради определенной цели, для выполнения своего долга. Верно? Ты понимаешь меня?
- Да.
Я как будто заново увидел тетку, хотя слова ее были не совсем понятны. Она вовсе не глупа.
- Ты спрашивал, почему у меня так много ненужных вещей. Но это не “ненужные” вещи. Это мои вещи. Это вся жизнь, если хочешь. За каждой миниатюрой, часами, статуэткой стоит моя судьба. Сколько пережито, Алик, если бы ты знал!
Она как будто всерьез расчувствовалась, но помолчала, пожевала губами и продолжала:
- А ведь это не только история, не только материальная ценность, и ценность немалая, Алик, но и искусство! Ты любишь искусство?
- Да.
- Вот видишь, я сразу это поняла. Я сразу увидела, что ты внимательно, с интересом смотрел картины и миниатюры. Как они мне дороги! Ты понимаешь меня?
- Да, тетя.
- И каково мне думать. представь, дружок, что все это может пропасть, разлететься по чужим рукам.
- Да, и книги…
- И книги! Ты любишь книги, умница. Ты знаешь им цену, а иной просто выбросил бы их как хлам. Как хлам…
Она погладила сухой и холодной ладонью мою руку.
- Совершенно непонятно, Алик, почему я раньше не знала о тебе. У нас с мужем детей не было, так уж получилось. Но я всегда любила детей, потому и в школе работала. Но дети в школе - это совсем другое, я для них была “училка” и все. А ты… Ты так хорошо воспитан, начитан, благороден, в тебе качества настоящего хозяина.
Интересно, что от постороннего человека похвала звучит совсем иначе, чем от знакомого, тут очевидно, что это незаинтересованный взгляд со стороны. Да, тетка не так глупа, не так проста, как мне показалось вначале. И как верно она поняла меня. При чем тут только “хозяин”? И действительно, ей тяжело жить одной - уже старая. Я ей буду помогать.
Я постарался вернуть на лицо выражение тихой грусти, но внутри забушевала буйная радость.
- Думаю, что и тебе, и твоей маме будет лучше, если ты поживешь у меня. А ты как думаешь, дружок?
- Я… Но мама сказала, вечером…
- Мама мамой, но мне важно, что ты сам думаешь. Ты уже почти юноша, самостоятельный человек.
- Я… Да, поживу пока… А журналы вы мне позволите посмотреть?
- Конечно! Я тебе дам все ключи от сундуков, где журналы, и читай себе на здоровье! Я так много еще должна тебе рассказать.
Она погладила меня по голове, как маленького, и ушла. Читать не хотелось. Мамы еще не было. Я пошел бродить по дому.
Наша комната, нет - моя. У окна надо поставить письменный стол, и кресло попрошу из кабинета.
Как странно, я совсем другими глазами увидел сейчас эти темноватые, заставленные тяжелой мебелью комнаты. Борение противоречивых чувств овладело мною: неодолимое любопытство проследить те кровные ниточки, которые связывают меня с глубью столетий через тетку; странная, неведомая раньше гордость собственника: ведь в какой-то степени я владелец, хозяин всего этого старого, милого барахла, прелестных миниатюр… Можно будет узнать у тетки их историю, может быть, они еще лермонтовских времен; врожденная неприязнь ко всему буржуйски чужому, мягкому, блестящему, изысканному и настороженный интерес к тетке; радость от ожидания неизвестных мне романов, поэм, трагедий, стихов и просто от обладания - наконец! - десятками томов.
“Но неужели я так все брошу и останусь здесь?” - мелькнула смущающая мвсль. “Вовсе нет, - ответил я сам себе. - Я еще не решил”.
Что же ты, сам охаивал тетку, а теперь оправдываешь? Нет. Во-первых, я ее еще плохо знаю. Может быть, ее жизнь так ожесточила. Во-вторых, здесь буду жить я, а я не такой, как она. И все будет хорошо.
В книгах, в портретах, в самом доме был некий дух не старины, а… благородства, интеллигентности, и мне это страшно нравилось.
Пролистав от первого до последнего листа шесть пушкинских томов, я остановился - заболели глаза. Баба Глаша советовала в таком случае промывать их холодной водой. Сняв очки, я отправился на двор, опираясь по пути о притолоки и двери.
В густо-голубом, высоком и холодном небе светило солнце, но от него не было тепла. Поплескавшись у рукомойника, я отправился назад. Споткнувшись у крыльца, вошел в дом, и неопределенная серая мгла вдруг охватила меня. Какая-то дверь… закрыто. Не то, где столовая? Закрыто… Я брел из комнаты в комнату. На мгновение стало жутко: может, я в чужой дом попал? Позвать кого-нибудь казалось смешно и страшно… Вдруг на меня кто-то надвинулся, кто это?
- Алик! - Это мама. - Где твои очки?
- Там, там, за книгами, - ответил я, стыдясь приступа нелепого страха.
Мы сидели на лавочке перед домом и ели эскимо, опять эскимо, мама купила его на вокзале.
За спиной был дом, крепкий, деревянный, на каменном фундаменте. Дом был покрашен синей краской, ставни темно-синего цвета. Ворота и забор были некрашеные, темно-серые, высокие, как у рыцарского замка. Перед домом был пустырь, выбитый, вытоптанный, там и сям зеленели островки ярко-зеленой травы. По краю пустыря бродила коза и щипала траву.
Прямо над головой небо оставалось густо-голубым, а к горизонту, там, где пустырь перегораживал длинный коричневый забор, небо стало светлее, голубизна пропадала.
- Ты билет купила?
- Нет, не стала, Алик, - повернулась она ко мне и тихо, со сдерживаемым волнением спросила: - так ты хочешь остаться?
- Я нет, - забормотал я, лихорадочно пытаясь совместить несовместимое, - но ведь тебе легче будет… Поживу месяца два, а на Новый год приеду. Попрошу у нее Пушкина и Шиллера, перевяжу веревками и привезу. Ладно?
- Ну что ж, Алик, тебе здесь, конечно, лучше. Ты пойми, так надо.
Мама смотрела вдаль и молчала.
Я глянул на нее и вдруг понял, что мы расстаемся надолго, очень надолго, вокруг будет чужая жизнь и чужие люди… “Нет, не хочу этого!” - едва не крикнул я, но вспомнил нежные краски миниатюр, тяжелые, холодные тома с чуть шершавыми переплетами - лишиться этого?
Ну почему в жизни надо выбирать? И выбирать между тем, что тебе в одинаковой степени близко и дорого? И навсегда или надолго лишаться чего-то одного, избрав другое?
- Так, Алик, - вздохнула мама. - Завтра поезд в двенадцать тридцать. Позавтракаем , да поеду. Значит, трусы надо привезти, майки… Рубашки тут две есть, хватит. Пальто старое, но походишь еще. А может, тетя новое купит…
Мы сидели на лавочке, ели эскимо, очень вкусное эскимо, вкуснее того, что в парке Горького, ели эскимо и сосредоточенно вспоминали, что мне для жизни надо.
- Тетради привези общие. Они на этажерке сверху лежат, на обложке две стрелы и звезда нарисована, ладно?
- Ладно, - вздохнула мама.
Мы молчали и ели вкусное тамбовское эскимо.
Утром я вбежал в столовую с криком:
- Тетя! Там мальчишки через забор полезли, я их прогнал.
- Молодец. Садись завтракать, Алик. Надо будет взять в сарае доски, я тебе покажу потом, и нарастить забор. Эта банда у меня и собаку отравила… Намазать еще хлеба, дружок?
- Нет. спасибо.
- Ну вот, маму проводишь, пообедаем и будем листья жечь. Я все откладывала, и такие завалы накопились.
- А журналы можно будет посмотреть?
- Конечно, дружок, я же обещала тебе. И ружье Петра Михайловича покажу, бельгийское. Оно тоже на чердаке. Я из него птиц пугаю. Ну какая из меня охотница, пугаюсь пуще скворцов. Теперь ты будешь его хозяином… Лида, что такая невеселая? Не навеки с сыном расстаешься.
Мне тоже было грустно. Но грусть эта заглушалась нетерпеливым ожиданием начала новой жизни. ожиданием вожделенных сундуков с журналами, ружья, возможности делать какое-то настоящее. взрослое дело.
Соседи рассказывали, что в старом доме, давно крашенном синею краской, так что частью она уже облетела и обнажились серые доски, где обыкновенно были закрыты ставни и никого не было видно, с недавних пор поселился загадочный молодой человек. Поздно вечером он проходил по улице. Прильнувшие к окнам соседи жадно смотрели, но потрепанный синий сюртук, широкополая шляпа и непроницаемое лицо, покрытое загаром тропиков, говорили им немного. Молва утверждала, что это не кто иной, как граф Монте-Кристо, поселившийся у своей тетки баронессы Клошток для розыска отца, и что ходит он с полными карманами золота и двумя пистолетами за поясом. Узнав это, бандит Хосе Гусляй расхохотался и сказал, что непременно подкараулит графа и выудит у него десяток золотых. “Браво!” - воскликнула графиня Евгения де-Лео и протянула Гусляю руку для поцелуя. Луна едва вышла из-за тучи… Ах, как здорово!
Было непривычно чувствовать себя обладателем. Это чувство покалывало холодными иголочками, и хотелось куда-то идти, что-то делать в доме, вокруг дома.
- Тетя, а красить дом вы не будете?
- Не знаю, дружок, может быть, весной.
Мама пошла за билетом.
Я вытащил из сарая старые доски, принес два ведра воды от колонки, достал из подпола ведро квашеной капусты. и тетка меня отпустила. Вновь я разложил в столовой книги, полистал словарь Даля, тома энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, но не читалось.
Правильно ли я решил? А что я решил, это мама и тетя решили. А с сам?
Как легко было говорить “Мне ничего не нужно”, когда мне никто ничего не предлагал. А вот предлагают, и немало. И надо выбирать, конечно же, не из корысти, а исходя из моей цели, моего долга. В тяжелом томе Даля меж тесных строчек больших букв и буквочек нашел нужное слово: “ДОЛГ - все должное… обязанность. Общий долг человека вмещает долг его к Богу, долг гражданина и долг семьянина”. Это не для меня. Я никому ничего не должен, я сам по себе. Но… если благородство требует жертв, можно пожертвовать Москвой. Так я выполню свой долг перед мамой. Как здорово я же продумал.
И в конце концов ну что - Аглая Евстафьевна! Пусть неприятная, скупая, сухая, но и деловая, с чувством юмора. Наконец, она сама по себе, я сам по себе. Вон Горький, как тяжело жил в людях, и ничего.
Но за то, что теряю, - и книги, и своя комната, даже дом, и сад, и самостоятельность, наконец.
А главное - он остается со мною, мой первый, горячо любимый мир - мир книг! Он всегда со мною, где бы я ни жил. А в Тамбове, напротив, я сказочно увеличу свои богатства!
Жаль с мамой расставаться, даже очень. Жалко школу, ребят.
Напишем письмо, это даже интереснее, получится переписка, как в романе. Эх, здесь нет и не будет таких замечательных соседей, и я вспоминал их всех поочередно и прощался с ними…
Но не навсегда же я остаюсь в Тамбове! Ну, год, два, даже три - и вернусь домой, в Москву. И вернусь уже с настоящей библиотекой, не хуже, чем у Кувшининых. Это все не из жадности, мне все это просто необходимо!
А если тетка действительно даст денег, купим телевизор, шубу маме и Большую Советскую Энциклопедию!
И все-таки жалко…
- Что вздыхаешь, Алик? - спросила тетка. - Надо радоваться, у тебя начинается новая жизнь.
Новая жизнь. Я поднял глаза и увидел рядом, близко чужое лицо, теткино лицо.
- Глупый, любишь маму и люби, кто тебе запрещает… Н-да. Пол-одиннадцатого, сейчас Лида придет.
И точно, послышались шаги на крыльце, мама… не вошла, а вбежала в дом и бросилась ко мне:
- Алик! Милый! Поедем, я не могу!
- Лида! - воскликнула тетка. - Что это вдруг, ведь мы решили!
- Простите, тетя, но… я не проживу без него. Как-нибудь, как-нибудь, - говорила она возбужденно, и гладила рукой мою голову, и целовала в макушку, а я замер над разложенными книгами. - Проживем и так. День будет - пища будет. Прости меня, Алик!
Баба Глаша ела ананасовый компот и сокрушенно вздыхала:
- Непрактичный ты человек, Лидия. Как это можно, все бросить и бежать! Небось, он, - мотнула она головой в мою сторону.
- Нет, тетя Глаша, я сама решила.
- Компот-то она подарила?
- Нет, я купила, а там не съели.
- Баловство все это, вкусно, а баловство. Лучше бы моркови… И во всем это у тебя, Лидия. Житейски нужного нет, а компот есть.
- Да ведь, тетя Глаша, было бы жизненно важное, а это для меня он.
- Ох, непрактичная…
Он, то есть я, тоже сидел за столом, смотрел в чашку, где аппетитно были навалены ломтики ананаса в манящем тонким ароматом сиропе, и все думал.
Оглушенный событиями последнего дня - поспешными сборами, беготней до вокзала, суматохой в вагоне, все тем же мерным громыханием колес и их перестуком на стыках. разговорами, разговорами без конца - и пытался уловить ускользающие мысли, которые возникли при уходе из теткиного дома.
В какой жар бросила меня просьба мамы о прощении. Она! Милая моя мама терзалась, что оставляет сына в чужом городе, а я о ней не подумал. Ни разу! Боже мой, какой я тупой эгоист! Видел, с первого дня видел, что тетка скупа, недоверчива, суха, и, однако же, готов был остаться с ней, забыв маму, школу, мушкетеров, кружок, нашу квартиру, все-все… И как будто мы с ней поняли друг друга. клянусь, я перестал видеть ее чужим человеком. Что это? И даже сейчас я ощущал огромное облегчение, но и сожаление об утраченном безвозвратно. И никому, никому я не смогу объяснить. ЧТО потерял!
- Ешь компот, Алик.
Странно, я так мечтал об ананасовом компоте, так жаждал его, и вот он, ешь, а не хочется. То есть хочется, конечно, но не так, как арньше.
- Подарила она что?
- Вот, тарелку старинную да две книжки. Какие книжки, Алик?
- “Семь мудрых школяров” и “Арабские сказки”.
- Ишь ты, расщедрилась… Тарелка ничего. Снеси в комиссионный, пальто ему купишь. Книги, небось, тоже можно продать?
- Книги пусть останутся Алику на память.
Нет, я и так не забуду все это.
Но как же так? Столько хороших, замечательных книг прочитал и, оказывается, не могу сам решить, что правильно, что нет. Я превратился в книжного червя. Кто это сказал?.. Я червь? Нет! Однако же, вот она, настоящая жизнь: был выбор, и я, добрый и хороший, выбрал не то. Но почему? Как много стало вопросов!
Прав ли я с Кириллом? Кому важнее делать добро, своим или чужим? Что главное: книги ли все-таки все остальное?
- Алик! - раздался стук в дверь. - Тебя к телефону!
- Алик, здравствуй! Это Люба, - услышал я знакомый голос.
- Люба! Любочка! - Как плотина вдруг рухнула в моей груди, так легко и тепло стало. И рад был сбежать от этих неотвязных вопросов в простую и ясную школьную жизнь. Хорошо жить на свете! Хорошо бы прожить подольше. И я непременно стану лучше, сильнее. - Люба…
- Чего это ты? - настороженно спросила она.
- Ничего. Просто рад, что ты позвонила.
- А… Завтра после второго урока мы идем во Дворец пионеров. Весь класс. И надо надеть белые рубашки и галстуки выгладить.
- Ладно. А что будет?
- Там узнаешь. До свидания, Алик.
- До свидания. До завтра.
Конец