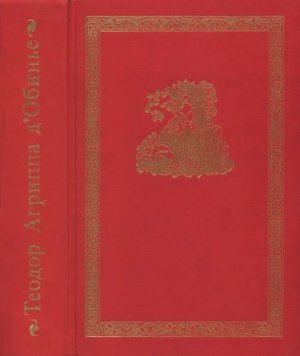
О ТЕОДОРЕ АГРИППЕ Д'ОБИНЬЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ
Современный русский читатель чаще всего знает об этой личности не больше того, что о ней сочинил немецкий писатель Генрих Манн в своих широко известных двух романах — «Юные годы короля Генриха IV» и «Зрелые годы короля Генриха IV». В этих романах Агриппа д'Обинье изображен этаким задиристым забавным коротышкой, наперсником короля, веселым повесой, сочиняющим какие-то стихи. Скажем прямо, немногое знает русский читатель о крупнейшем поэте французского Возрождения и одном из удивительных людей французской истории.
Ему посвящались романы (Жан-Пьер Шаброль «Козел отпущения») и исследования (Маргерит Юрсенар), однако до сего времени он не обрел своего заслуженного места в читательском сознании (и, увы, не только в сознании русского читателя). Ему на самом деле не везло, оппозиционер, часто опальный, изгнанник в конце жизни, он опережал свое время и потому опаздывал. Он создал поэтический стиль французского барокко, сам того не подозревая, и посмертно оказался лидером этого направления и бесспорно лучшим его представителем. О нем почти не вспоминали около трех столетий и вспомнили только в XIX веке. Вспомнил В. Гюго, который старался изо всех сил повторить яркую поэтику Агриппы, оживить приемы барокко, отчасти соответствующие задачам романтизма; он использовал названия книг Агриппы в своих книгах («Возмездие»),
О д'Обинье вспомнил Ш. Бодлер, находивший в его стихах много близкого себе и цитировавший их. Вспомнил и Ш. О. Сент-Бёв, написавший: «Если было бы возможно в одном человеке воплотить целое столетие, д’Обинье стал бы живым воплощением своего века. Интересы, пристрастия, добродетели и предрассудки, верования, образ мыслей его времени — все нашло в нем высшую форму проявления».
Ренессанс — это была эпоха, породившая удивительных людей, способных проявить себя одновременно на нескольких поприщах. Это были века универсализма, когда появлялись такие личности, как Леонардо да Винчи, великий художник, механик, анатом и писатель, как Микеланджело Буонарроти, скульптор, живописец и поэт, как писатель и скульптор Бенвенуто Челлини. Им нет числа.
Однако такого универсализма, какой проявился в личности Теодора Агриппы д'Обинье, даже в ту эпоху представить себе трудно: крупный политический и общественный деятель в двух государствах — Франции и Швейцарии, талантливый военачальник, участник религиозных войн и теоретик военного искусства, летописец и историк, написавший «Всеобщую историю» в нескольких томах, автор романов, предвосхитивших блистательную французскую прозу XVII-XVIII веков, и, что совсем удивительно, один из романов которого оказался первым в истории европейской литературы плутовским романом, еще до появления этого жанра в Испании. И, наконец, перед нами удивительный поэт, значение которого до нашего времени полностью не осознано. Все эти скупые энциклопедические сведения говорят о многом, но не способны дать нам понятие об исключительном человеческом характере и удивительных событиях жизни этого человека, которые оказываются интересней любых авантюрных историй в духе А. Дюма, тем более что действующими лицами этих событий были реальные исторические короли и королевы, принцы и принцессы, такие как Екатерина Медичи, Карл IX, Генрихи III и IV, Елизавета Английская, Филипп II Испанский, Маргарита Валуа, Мария Медичи, принц Конде, герцог Гиз и множество других.
Агриппа д'Обинье писал историю и сам был ее участником. Едва ли не в шестнадцать лет он сел в седло с оружием в руках, чтоб сражаться на стороне гугенотов. Воин — первое, что приходит на ум после слова «поэт», когда заходит речь о д'Обинье. Сирота с рождения, ибо мать его умерла в родах, он был воспитан кальвинистом-отцом в духе строгого служения вере, тем более что вера была гонимой. Это выработало в характере мальчика твердость, стойкость в лишениях, верность. Став взрослым, он до конца хранил верность даже своему неверному королю Генриху IV, которого неоднократно упрекал в неблагодарности. Отношения между ними были сложными. Вопреки тому, что писал Генрих Манн, они бывали часто небезопасны для д'Обинье. Из того, что он сам писал о своем пребывании в свите Генриха Наваррского, видно, что он был соратником, иногда приближенным, но не был наперсником и часто подвергался опале. Этому способствовал его прямой и независимый характер. Однако королю он был нужен как воин и нелицеприятный собеседник. Если верить свидетельствам Агриппы, он занимал довольно высокие командные посты, возможно, генеральского ранга и даже бывал начальником королевской ставки, хотя себя он в разных местах своих воспоминаний называет то боевым сержантом, то полковником, то генералом. Достоверно то, что он бывал командиром больших войсковых отрядов в разных баталиях, в том числе и при осадах Ла-Рошели и других гугенотских крепостей, бывал наместником и губернатором. Достоверно и то, что в детстве он получил прекрасное образование, что случалось нечасто среди отпрысков старинных дворянских фамилий. Знал он много языков, читал и писал на латыни, греческом и древнееврейском. Можно допустить, что благодаря столь широкой деятельности и многим дарованиям Агриппы внимание современников к его поэзии было ослаблено.
Да и сам он не особенно стремился к славе поэта. Это связано было и с тем, что господствовавшая во Франции XVI в. блистательная поэтическая школа, известная под именем «Плеяда», творчеством своих лучших представителей, таких как П. Ронсар, Ж. Дю Белле, Р. Белло и др., определила вкусы и умонастроение того времени, главным образом вкусы читателя из аристократической и придворной среды. Младший современник поэтов «Плеяды», Агриппа д'Обинье, который был моложе Ронсара на двадцать восемь лет, в раннем своем творчестве не избежал очевидного влияния этого замечательного поэта. Это ощущается в первом цикле его сонетов «Жертвоприношение Диане», посвященном по причуде судьбы Диане Сальвиати, племяннице знаменитой героини стихов Ронсара Кассандры. Правда, можно в этих сонетах ощутить и другое, более широкое влияние, присутствие духа Петрарки, определившего развитие всей европейской поэзии того времени и поэзии «Плеяды» в том числе.
Уже в одном из своих первых сонетов, обращенном к Ронсару, отдавая дань уважения престарелому поэту, дерзкий юноша бросает предшественнику перчатку. Такой жест был свойственен д'Обинье не только в юности. До конца дней он сохранил дерзость, не опуская глаз даже перед гневом королей. Уже в упомянутом сонете д'Обинье подчеркивает разницу в эстетической и человеческой позиции между собой и поэтами «Плеяды».
В другом своем сонете Агриппа напрямик говорит:
Нельзя не заметить, что характер д’Обинье был весьма неудобен для жизни в придворном кругу. Обладая желчным остроумием, поэт с юности был заносчив и резок в выражениях, снискав себе славу ослушника и дуэлянта. Невольно приходит на ум, что характер французского поэта напоминал характер М. Лермонтова. Д’Обинье ведь тоже был сирота, внешне непривлекателен, невелик ростом и социально ущемлен, ибо не был для своего круга достаточно богат и родовит. Остроумие его бывало безрассудным. В своих биографических записках д’Обинье сам рассказывает, как в молодости он, будучи в свите Генриха Наваррского, прибыл в парижский королевский дворец Лувр, где на балу подвергся насмешкам нескольких пожилых знатных дам. На вопрос одной из них: «Что это вы, молодой человек, разглядываете?» — поглядев пристально на этих дам, он спокойно ответил: «Я осматриваю дворцовые древности».
Вот другой описанный им эпизод. Однажды, заметив, что губа Генриха IV кровоточит, он сказал: «Государь, пока вы отреклись от Бога только устами, и он поразил вас в губу, но когда вы отречетесь от него в сердце, он поразит вас в сердце».
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что д'Обинье, подобно тому, как он не вписывался в свой круг, так и в своем творчестве стоял особняком даже в ряду поэтов-гугенотов. Он опережал время, и его «Трагические поэмы», опубликованные автором только в конце жизни, определили, как я уже говорил, развитие французского барокко. И в наши дни кажется необъяснимым, когда он успевал писать свои сочинения, а их осталось немало. Ведь большую часть своей жизни поэт провел в седле, в окопе, на крепостных бастионах. А писал он, как уже упоминалось, не только стихи, но ученые трактаты и труды по истории.
И все это делалось не в кабинете за толстыми стенами замка, а у костра, на ветру, под ядрами и мушкетным огнем.
Кроме двух больших лирических книг, одна из которых была написана в юности («Весна»), вторая на исходе жизни («Зима»), д’Обинье создал поэтическое произведение, которое представляется мне одним из значительнейших памятников европейской поэзии. Речь идет о «Трагических поэмах».
Их семь. Восьмая — «Вступление». Эти поэмы не имеют аналогов в европейской литературе, поскольку, являясь эпосом, написаны от лица реального участника реальных исторических событий.
В поэмах имеется три временных и пространственных плана: первый — конкретные события современности; второй — аналогичные им факты из прошедшей истории человечества с древних времен; третий — события из Священного Писания. Все три плана даны не отдельно друг от друга, но слитно, они как бы переходят один в другой. Все три реальны и ярко выразительны. В поэмах предстает земля, на которой происходят грозные эпизоды истории человечества, предстает небо, откуда Всевышний со своими ангелами и святыми взирает на земные события и вершит суд, предстает бездна с ее адскими огнями, бесами и грешниками, страдающими за свои злодеяния, совершенные при жизни. Что это напоминает? Это похоже на «Божественную комедию» Данте, который жил задолго до рождения автора «Трагических поэм» и явился прямым предшественником д'Обинье. Творение Агриппы, особенно его библейский пласт, также напоминает поэмы англичанина Джона Мильтона, который жил на столетие позже и, очевидно, многое заимствовал у д'Обинье. И не один Мильтон. Влияние французского поэта ощущается в произведениях других представителей протестантской поэзии, таких как голландец Йост ван ден Вондел и немецкий поэт Андреас Грифиус. Ветхозаветный дух поэм д'Обинье и Мильтона бесспорно связан с конфессиональными началами Реформации, носителями которых явились оба поэта. Что же касается Данте, он как последний поэт средневековья еще сохранял в себе большинство черт средневекового христианского сознания и был склонен выразить поэтически все единство религиозного миропонимания. Д'Обинье похож на Данте в главном: подобно Данте, он чувствует прямое единство «того» и «этого» света. Для него это достоверно. На «том» свете обретают награду или наказание те, кто это заслужил в земной жизни. И неважно, что протестант д’Обинье не признает чистилища, «тот» свет в его поэмах так же реален, как в «Божественной комедии». Так же, как Данте, д'Обинье расправляется в аду со своими политическими противниками: с королями, папами, неправыми судьями, инквизиторами, убийцами, предателями и другими носителями враждебной автору морали и веры. Конкретные лица совершают на земле преступления против человечности, они же горят в аду на вполне реальном огне.
В прозаическом вступлении к поэмам автор пытается теоретически подогнать свою поэтическую практику под стилевые принципы нарождающейся поэтики классицизма, так как предисловие писалось им в конце жизни, когда уже возникли понятия стилей. И все же «Трагические поэмы» не помещаются ни в какие рамки поэтических теорий. По свободе композиции, по отсутствию границ времени и пространства, по динамике и экспрессивности изображаемого они сопоставимы только с «Божественной комедией». И по космическим масштабам. Поэмы д'Обинье — это вселенная, заселенная народами, необъятные просторы, где происходят грандиозные действа.
Вот содержание «Трагических поэм»: первая поэма «Беды» рассказывает о несчастьях, которые переживает родина поэта, Франция, ее народ и в первую очередь кормилец страны — французский крестьянин. Народные беды — результат истребительных религиозных войн, братоубийства. Картины человеческих страданий и преступлений против человечности наглядны и потрясают.
Вторая поэма «Властители» рисует картины придворных нравов, растленность государей, принцев крови и придворной знати. Гневной острой сатирой звучит эта поэма, бесстрашно клеймящая подлость и бесчеловечность тех, от кого зависят судьбы страны и народа. Недаром д'Обинье называли французским Ювеналом. Автор поэм обвиняет в преступности и безнравственности королевский двор Валуа, где, по его утверждению, творятся не только подкупы, убийства, но и кровосмешение между лицами королевского семейства, где царит атмосфера грязного публичного дома. Д’Обинье не останавливается даже перед тем, чтобы, наряду с королевой Екатериной Медичи, ее дочерью королевой Наваррской Марго и рядом королей из дома Валуа, обвинить в страшных грехах и своего господина, Генриха IV. В изображении придворного распутства и жестокости поэт не гнушается подчас откровенного натурализма.
От этих сцен остается один шаг до ужасов Варфоломеевской ночи, которая явилась прямым следствием той нравственной атмосферы. Удивительно то, что, по свидетельству самого д’Обинье, король Генрих читал «Трагические поэмы». Это как бы являет великодушие короля. Как попала рукопись к королю, неизвестно, хотя Агриппа намекает на то, что давал ее читать по доброй воле. Натурализм в поэмах настолько гармоничен и взвешен, что не вызывает в читателе отвращения, как не вызывает его натурализм античных писателей и историков, писателей итальянского Возрождения, Рабле.
Третья поэма «Золотая Палата» рассказывает о французском королевском суде, где в креслах судий восседают реальные действующие лица, аллегорически одетые в маски различных человеческих пороков. Это причудливые образины, чудовища, напоминающие скульптурные изображения химер на католических храмах, в том числе на Соборе Парижской Богоматери. Королевское правосудие изображено безжалостно, гротескно, во всей своей несправедливости и бесстыдстве.
Четвертая поэма «Огни» изображает дела священной инквизиции и подвижничество героев Реформации, мучеников за веру. Перед нами встает озаренная мрачными кострами Европа.
Мы видим вереницу благородных образов от Яна Гуса до казненной в Англии юной королевы Джейн Грей, образы святых великомучеников, таких как святой Стефан, и эпизоды жизни Спасителя. Здесь, как и в других поэмах, проводится параллель между современным автору Римом, Римом папы, и Римом эпохи Нерона, когда преследовали первых христиан. В конце поэмы разгневанный человеческими бесчинствами Господь покидает грешную землю и, отвернувшись от нее, возносится в огненной колеснице на небеса.
С этим эпизодом связано начало поэмы «Мечи». Бог, покинув землю, возвращается в свой небесный град, как праведный король возвращается в свою столицу после объезда провинций. Во время пышного небесного празднества среди ангелов появляется переодетый Сатана; пойманный с поличным, он просит Господа отпустить его на землю, чтоб во Франции искушать, сбивать с праведного пути истинных детей Божьих. В случае своей неудачи Сатана обещает признать победу Бога. Многоцветные фантастические картины сменяются картиной Парижа, королевских дворцов и городского быта, сценами военных сражений и резни. Сатана проникает в душу королевы Екатерины Медичи, чтобы от ее лица творить преступления. Изображение гражданской войны и ее ужасов потрясают своей достоверностью. Все эти события кругами, подобно волнам, расходятся от центра поэмы, где изображается рукой очевидца картина Варфоломеевской ночи. В мировой литературе это самое сильное описание событий страшных дней резни и погрома. Бытовало мнение, что д'Обинье чудом уцелел в этой резне, находясь в Париже среди спутников Генриха Наваррского. Однако сам он утверждает, что незадолго до Варфоломеевской ночи дрался на дуэли, которые были запрещены, и бежал из Парижа, чтоб избежать наказания. Это и спасло его. Как аналогию этой резни автор рисует Рим, подожженный Нероном, и преследование ни в чем не повинных христиан, обвиненных Нероном в поджоге. Поэма «Мечи» становится кульминацией всего эпоса д’Обинье. В нее включен один эпизод, который позволяет свободно развертывать дальнейшее действие поэм и оправдать фантастические видения предыдущих частей. Автор поэм, будучи еще юношей, был убит в одном из боев и ангелом-хранителем вознесен к престолу Всевышнего. Все, кто попал на небо, могут узреть живые картины прошлого и будущего, изображенные ангелами на небесном куполе. Так автор узрел будущее, чьи картины поданы как некие предсказания. Многие из них необъяснимо верны. Это пророчество тридцатилетней войны, войны за независимость заокеанских колоний, которых в ту эпоху еще не было, это предсказание судьбы сына Марии Стюарт, будущего короля Англии Иакова I, предостережение народам Полонии и Московии от прихода власти Сатаны, наконец, пророческая картина убийства короля Генриха IV, описанная задолго до реальной его гибели. Рационально объяснить все это невозможно, как невозможно отрицать эти факты. В автобиографии Агриппа д’Обинье весьма лукаво упоминает одного из своих домочадцев, некоего юродивого, который был ясновидящим. Он, дескать, очень давно описал будущее убийство короля. Возможно, Агриппа мог быть знаком со своим старшим современником Мишелем Нотрдамом, знаменитым Нострадамусом. Кто знает? Достоверно одно — большинство записанных Агриппой предсказаний сбылось. Вспомним хотя бы слова поэта, что Бог поразит короля Генриха в сердце. В биографии рассказано, что Агриппа, когда ему принесли весть об убийстве короля кинжалом в горло, воскликнул: «Нет! В сердце!».
Поэма «Мечи» кончается тем, что Бог воскрешает автора, возвращает его на землю, чтоб он послужил правому делу мечом и пером. По-современному звучит эстетическое кредо поэта, когда он говорит, обращаясь к Богу:
После этого поэт рисует аллегорическую картину океана, который принимает в свои объятия и уносит в свое царство тела погибших в братоубийственной войне. Д'Обинье говорит о самом великом грехе, грехе Каина, и предсказывает Страшный Суд, «когда придет к концу сей мир и эта книга».
В шестой поэме «Возмездия» свободно и непринужденно переплетаются и вытекают одна из другой картины Священного Писания и эпизоды земной истории человечества. Агриппа показывает, как земные злодеяния и в земной жизни наказываются Богом, влекут за собой возмездие. Все преступления наказуемы: гордыня библейских исполинов, чья гибель в пучине потопа ярко описана д'Обинье, незаконные притязания на небеса строителей Вавилонской башни, преступление Каина, жестокости библейских царей от фараона до Ирода и земных властителей от Нерона до Карла IX и Филиппа II. Незаметно в глазах читателя король Карл IX сам становится Иродом, а его мать Екатерина Медичи ветхозаветной царицей Иезавелью. В этой поэме автор особенно сурово разделывается со своими политическими противниками.
Последняя седьмая поэма «Суд» подводит нас к апофеозу книги, к небесному Суду над грешниками. Суд небесный четко противопоставляется человеческому неправому правосудию — Золотой Палате. Немалая часть последней поэмы представляет собой как бы научный трактат, посвященный натурфилософии и богословию. Трактат весьма увлекателен для чтения и остроумен, что подчеркивается стилизованным архаическим языком. Автор полушутя, полусерьезно доказывает нам, что Дух Божий настолько всемогущ, настолько неограничен в своих возможностях, что способен создать из ничего все, способен оживить и воскресить мертвую материю. В конце вселенной предстает грандиозная картина Божьего Суда, напоминающая «Страшный Суд» Микеланджело в Сикстинской капелле. По версии д'Обинье главное мучение грешников в Аду состоит в том, что они вечно видят радость праведников в Раю, и это умножает их страдания. В последних строках поэмы душа автора покидает тело, преображается и в счастливом полете возносится к престолу Творца. Очень сильно поэтом передано почти физиологическое состояние клинической смерти и в этом эпизоде, и в эпизоде вознесения в поэме «Мечи». Таков примерный сценарий «Трагических поэм», этой грандиозной фантасмагории.
Есть мнение, что, поскольку язык Агриппы д’Обинье архаичен и не соответствует современным нормам поэтического французского языка, это значительно снижает нынешнее восприятие его стихов, что стих д'Обинье не является вершиной французского стиха. Мнение это мне кажется спорным, так как функционально язык и стих автора «Трагических поэм» был естественным для своего времени. Ведь и язык Шекспира не соответствует современным нормам английского языка. Вероятно, что архаизация языка поэм еще усиливалась поэтической задачей, ибо поэт стремился приблизить стиль поэм к стилю Библии и старинных летописей. Однако в любом случае выразительность и изобразительная сила александрийского стиха д’Обинье достигает самого высокого уровня. Кроме того, в поэмах есть главное, что требуется от высокого стиха, — его бесконечно длинное дыхание. Поэтому так трудно порой переводить на русский язык александрийский стих «Трагических поэм», с виду такой простой. Этот текучий, строфически растянутый стих так же гибок и естественен в своем течении, как терцины «Божественной комедии».
Смею утверждать, что Агриппа д’Обинье создал едва ли не единственный образец документального эпоса и, возможно, наиболее значительную эпическую книгу на французском языке. При внимательном чтении «Трагических поэм» обнаруживаешь, что они являют некую энциклопедию того времени и становятся для нас важным историческим документом эпохи, чего не достигали в своем контексте стихи таких прекрасных французских поэтов, как К. Маро, П. Ронсар, Ж. Дю Белле, Э. Жодель и соратник Агриппы, поэт-гугенот Г.С. дю Бартас, писавший эпические поэмы, близкие д'Обинье по мироощущению.
Помимо стихов и романов д'Обинье оставил нам один замечательный прозаический документ. Это автобиографические записки, названные автором «Жизнь Агриппы д’Обинье, рассказанная им его детям». Это живой рассказ, который ведется от третьего лица, где рассказчик себя именует «господином Обинье». Здесь, как и в стихах и в художественной прозе, на каждом знаке препинания, каждой строке лежит отпечаток удивительной натуры автора. По выразительности записки можно было бы сравнить с «Жизнью Бенвенуто Челлини», а в русской литературе с «Житием протопопа Аввакума». Автор ведет рассказ внешне бесстрастно, с изрядной долей самоиронии, он повествует о своей жизни с рождения до глубокой старости, о невзгодах, разочарованиях, радостях и тяготах войны, о придворных интригах и политических страстях. Точны скупые характеристики исторических лиц, которые были друзьями и личными врагами д'Обинье. Живость рассказа вызывает сочувствие и часто улыбку. К примеру, вот рассказ о побеге мальчика на войну: «Затворник, одежды которого каждый вечер уносили к опекуну, спустился через окно на простынях в одной рубахе, босой, перескочил через две стены и у одной из них чуть не упал в колодезь; потом у дома Ривру догнал товарищей, с удивлением увидевших, как человек в белом с криком и плачем бежит за ними: его ноги были окровавлены. Капитан Сен-Ло сначала пригрозил ему, чтобы заставить вернуться, но потом посадил в седло за собой, подложив грубый плащ, чтобы он не поцарапал себе зад пряжкой наспинного ремня». В другом месте записок говорится о том, как, вернувшись после многих боев домой, он был объявлен самозванцем, ибо прошел слух о его гибели.
С ним судились его дальние родственники за отцовское наследство. Хотя Агриппа был болен, он добился в суде права самому защищать свое дело. «Заключительная часть его речи была столь пламенна, а несчастье столь велико, что когда судья с негодованием взглянул на его противников, они вскочили с мест, воскликнув, что только сын Обинье может говорить подобным образом, и попросили у него прощения.» Еще в одном месте он рассказывает о потасовке в харчевне, где он, почти безоружный, проткнул чужой шпагой хорошо вооруженного врага, но был при этом тяжело ранен... «Поняв по лицу врача, что рана опасна, Обинье не позволил снять с себя первую повязку и уехал до рассвета, чтоб умереть в объятиях любимой». Такой документ не оставит читателя равнодушным.
Весьма интересные места биографии мы находим там, где говорится о его личных отношениях с рядом известных персон, в том числе с королем Генрихом. Отношения с последним были, как уже говорилось, весьма переменчивы. Автор их описывает без тени самооправдания, не боясь выглядеть в черном цвете. Часто записки становятся живыми комментариями к многотомной «Всеобщей истории» д'Обинье. В своих записках он честно рассказывает, как с самого злополучного рождения складывался своеобразный характер маленького сироты.
Книги Агриппы д'Обинье оказываются пророческими для нашего века, для его последних десятилетий. Тогда был трагический конец шестнадцатого века, теперь мы живем в трагическом конце двадцатого. Прошло четыре столетия, но мы сталкиваемся с теми же самыми вопросами жизни, морали и политики. Как литератору, много лет переводившему стихи д'Обинье, а за последние семь лет, на исходе своей жизни завершившему перевод «Трагических поэм», мне не сразу стало ясно это грозное сходство наших эпох. Хотелось бы, чтобы человеческая история, написанная замечательным французом, была поучительной для нас.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА «ТРАГИЧЕСКИХ ПОЭМ»
ТРАГИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ
Перевод с французского Александра Ревича
К ЧИТАТЕЛЯМ
Перед вами похититель Прометей[2], который за совершенное преступление просит не милости, а благодарности, полагая, что дарит вам законно то, что ему не принадлежит, что он украл у автора, ибо тот в свою очередь утаил сие от вас: к тому же уворованный огонь, сей светильник, накрытый бочонком, угасал без воздуха, и совершая мой благой грех, я это пламя являю свету. А вам и моему сочинителю, утаившему пламя, я говорю, что грех мой благой. Из срединной Франции, с ее рубежей и даже из сопредельных стран, — в частности, из Ангроньи[3] от одного престарелого священника, — приходят послания, большая часть которых созвучна с живыми предостерегающими голосами служителей Божьих, укоряющих моего автора: дескать, свой талант зарыл он в землю. А кое-кто пишет следующее: «Нас уже с души воротит от всяких нравоучительных книг, нам подай такую, чтоб трогала за душу в сей век, когда погибают ревностные христиане, когда стирается разница между истинным и ложным, когда враги Церкви прикрывают кровавые пятна на своих ладонях дарами, а свою бесчеловечность щедростью. Плюющие на веру, безграмотные зубоскалы торгуют законом Божьим и требуют выставлять напоказ сладкую жизнь и награды, чей блеск слепит наших юнцов, которых не беспокоит честь и не пробуждает опасность». Мой сочинитель на это отвечает: «Вы что же, хотите, чтоб окруженный растленными душами, я сохранил надежду или чтоб вызвала отклик моя книга, брошенная в грязь вместе с такими писаниями, как «Царство Церкви»[4], «Истина»[5], «Будильник», «Легенда о святой Екатерине»[6] и другими подобными? Мне стоять в одном ряду с самыми отъявленными смутьянами, поборниками народоправия. Может показаться, что, говоря о тиранах, я подразумеваю королей, и мою верную любовь к нашему великому королю, которую я доказал шпагой, мою благонамеренность, которую провозглашаю всюду, осудят те, с кем сражаюсь, и в особенности неправедное правосудие. А под конец меня обвинят в оскорблении Величества. Дождитесь моей смерти, а потом уж судите мои труды: четвертуйте их, чтоб друзьям и врагам было что править, можете использовать сии писания по вашему усмотрению». Такие оправдания не мешают многим ученым старцам спорить с нашим сочинителем и призывать его на Суд Божий. При этом их возражения наводят на такие мысли: вот уже тридцать с лишним лет, как завершено сие произведение[7], начатое на войне в семьдесят седьмом году в Кастель-Жалю, где автор командовал легкой конницей и заслужил несколько ранений, стоя насмерть в тяжелой баталии. Там он и набросал в виде завещания эти страницы, которые собирался потом отшлифовать и дополнить. Но где сегодня очевидцы событий и чудовищных преступлений того времени, кто при этом присутствовал, хотя бы недолго? Кто, идя по нашим следам, возьмет на себя труд прочесть поразительные истории нашего века, искаженные, изуродованные, заглушенные платными обманщиками? Кто, не знающий истории, согласится с пристрастием автора к жестоким сценам? Потому за недостатком памяти и рвения и еще потому, что погасла былая страсть, мои благие намерения и желания превратились в безумную смелость, и всю эту писанину, запрятанную в лари и шкафы, я извлекаю оттуда на ваш суд. Очевидно это ошибка — сохранять старые наброски со всеми сокращениями, помарками и неразборчивыми словами, которые не под силу прочесть самому автору, так торопливо написано. Пропуски, с которыми вы встретитесь, поначалу меня коробили, но после стало ясно, что их плачевный вид не позволит доброму отцу бросить столь искалеченных чад. Подумалось, что мы натолкнем сочинителя на мысль о втором издании, где будут не только исправлены недоделки, но и какие-то примечания прояснят наиболее темные места. В этой книге вы найдете сжатый лаконичный штиль, не столь гладкий, как в писаниях теперешних сочинителей, встретите стихотворные метры в духе минувшего века, которых уже не встретишь теперь в сочинениях, написанных соответственно нынешней моде особенным жеманным штилем: желание показать вам сие и явилось второй причиной моего воровства. Это разожгло меня и лишило всякого страха, а еще то, что перед глазами постоянно бывали наглые кражи нынешних сорок, которые собирают урожай с чужих полей еще до поры созревания. Мы видим в четверостишиях Матье по три строчки, уворованные из «Трактата о сладостях печали»[8], наспех написанного как послание Мадам, сестре короля Генриха, ответ от коей я еще для вас сочиню. Таким образом, гаснущую любовь к Церкви и честь ее, которую мы унижаем, надобно защитить от пренебрежения со стороны ее чад, лишить сих похитителей их поживы и помимо того хотелось бы опередить лучшие умы нашего века и с помощью трех оправданий моего греха сполна получить по моей закладной.
К слову сказать, выходит, что ныне я говорю почему-то не о моем сочинителе и его достоинствах и достижениях. Я ему служу уже двадцать восемь лет и почти все время в боевом строю, поскольку он занимает пост важного военачальника[9], что связано с немалыми заботами, ибо в его попечении ставка главнокомандующего, так что приходится вникать во все. Наиболее любимые свои писания он сочинял в седле или в окопе, увлеченный не только ложными передвижениями войск, но и другими делами, сиречь духовной пищей, невзирая на час дня и время года. Мы корили нашего повелителя, которому подавай на стол морскую рыбу, хотя ее надобно было вести за сто лиг. Но что более всего выводило нас из себя, это невозможность заставить его перечитывать написанное. Кто-то о нем сказал, что он проявил себя в разных областях, но по нашему разумению он утратил все свои достоинства из-за небрежения в делах, хотя ему доставало и небольших усилий. Об этом качестве нашего хозяина скажем с большой похвалой, хотя мы этим и не грешим. Мы бывали с ним бесцеремонны, что должно кому-то быть по душе: в частности, когда попадались просторечия. Возражая нам, он все же строил стих согласно нашему желанию, однако ворчал, что старик Ронсар, коего он почитал выше всех современных ему[10] сочинителей, говаривал ему и другим: «Дети мои, берегите свою мать, родную нашу речь, от всех, кто благородную девицу хочет обрядить служанкой. Сколько исконно французских слов, в коих ощущаем старую вольную Францию, таких как «тонина», «заради», «нутро», «берлога», «прядать» и других в этом роде, советую вам не утрачивать сии старинные словесы, употребляемые вами и оберегаемые беззаветно от всяческих лоботрясов, не понимающих тонкости слова, которое не подражает латыни или итальянщине, они предпочитают употреблять такие словечки, как «дифирамб», «неглижировать», «критиковать», нежели «хвала», «пренебрегать», «злословить», их речь достойна школяров из Лимузена»[11]. Сказанное — собственные слова Ронсара. Позже, когда мы упрекнули нашего мастера за некоторые стихотворные размеры, показавшиеся нам жестковатыми, он ответил, что Ронсар, Без[12], дю Белле и Жодель[13] не стремились к более совершенным, что сам он не столь знаменит, как виршеплеты, издающие законы стихописания. Несмотря на соблюдение правил при таких языковых трудностях, как причастие прошедшего времени женского рода, он допускал в этих случаях изредка вольности, заявляя, что обогащает язык. Однако во всех его ранних писаниях ощущаются стихотворческие приемы прошлого века. Во имя простоты стиха наряду со сложными метрами он употреблял в своих сочинениях не более трех-четырех размеров.
Он держался этого правила и с самого начала неукоснительно ему следовал, но избегал нападок со стороны первых пиитов Франции, которые сего не любили. Мы вам покажем содержание частей сочинения, главное содержание, а потом я расскажу вам о построении книги.
Каждая отдельная книга в содержании имеет свое название, соответствующее сути книги, как следствие причине. Первая книга называется «Беды», являет широкую картину несчастного королевства и написана в низком трагическом штиле, немного отступающем от закона повествовательного жанра. За этой книгой следуют «Властители», написанные средним штилем, но в какой-то степени сатирическим: в этой поэме автор соотносит свободу своего письма со свободой нравов своего времени, обнажая существо этой второй свободы как повод для первой. Потом он показывает, что возникновению бед способствует беззаконие, которое носит имя «Золотой Палаты». Сия третья книга под этим заголовком выполнена в том же штиле, что и вторая. Четвертая, названная автором «Огни», полностью следует его религиозному чувству и написана в среднем трагическом штиле. Поэма пятая, «Мечи» — в более приподнятом, более поэтичном трагическом штиле, более смелом, чем в других поэмах. Кроме того, я хочу вам пересказать один примечательный диспут между автором и его учеными собратьями. Раппен[14], один из замечательнейших умов своего времени, стал бранить сочинителя за его небесные образы[15], заметив, что еще никто и никогда не осмеливался живописать земные дела на небе, а небесные на земле. Автор защищался, ссылался на воображение Гомера, Вергилия, а из новейших поэтов — на Тасса, изображавших себя наперсниками небожителей, управлявших в небесах делами греков, римлян, а позднее — христиан. В подобных дебатах приходилось ссылаться на три бесспорных авторитета, которые, рассмотрев ткань произведения, соглашались с правом на вымысел. Я защищаю моего беспечного автора от сочинителей, кои заимствовали у него сюжеты, так некий господин де Сент-Март[16], как один из арбитров спора, говорил: «Вы веселитесь в небесах ради деяний небесных, и мне кажется, вы рискуете своей скромностью, ведь если бы в вашем распоряжении было бы нечто повыше, чем небо, вам пришлось бы там поселить кого-то сверх-небесного». За пятой книгой следует сочинение под названием «Возмездия», историческое и богословское. Эта книга, а также последняя, именуемая «Суд», исполнены в высоком трагическом штиле и могут подвергнуться нападкам за переизбыток страсти, хотя сей жанр ставит своею целью потрясать сердца. Все же автор по мере возможности освобождает от этого переизбытка тех, кто сам захвачен страстью либо не слишком беспристрастен.
Мы располагаем небольшими средствами: в сочинении фигурируют некоторые эпизоды, служащие предсказанием событий, случившихся до того, как книга была закончена, которые автор шутливо называет его откровениями. Мне очень хотелось бы уверить читателя, что сочинитель заслуживает самого высокого доверия, что все было написано задолго до имевших место событий. К такому разряду предсказаний я отношу строки из «Вступления»:
а также и то, что следует из всей этой строфы. К этому же разряду я отношу и отрывок из книги «Властители»[17], в котором говорится о сокольнике, который за нерадивость побивает свою ловчую птицу вороной, что как бы предсказывает смерть короля Генриха Четвертого и что изображено мною как достаточное доказательство пророческих способностей автора. Вы также заметите в построении произведения большую свободу в смене явлений и то, как неожиданно вступают в действие персонажи, что я называю внезапным переходом. Мы настояли на замене в некоторых названиях поэм чужестранных слов на французские: к примеру, на замене греческого названия третьей книги «Убрис», что означает «наказание за гордыню», и названия последней поэмы «Дан», что по-еврейски «Судия», отдавая предпочтение словам родного языка.
Итак, вот в чем причина моей кражи: наш родитель, еще полный сил, не мог бы смириться со своим изодранным в клочья трудом, искалеченным, словно копыта испанских коней, которых перегнали через горы. Он будет вынужден заполнять пропуски, и если нам удастся заключить с ним мир, обещаю на все темные места дать примечания, хотя бы вы снова потребовали этой нелегкой работы по разъяснению исторических событий или имен. В нашем распоряжении имеются еще две книги «Французских эпиграмм»[18] и две книги эпиграмм на латыни, которые мы вам сулили издать при первой возможности, к тому же еще имеются полемические статьи на нескольких языках, юношеские сочинения автора, несколько романов, пять эпистолярных тетрадей, из коих первая — дружеская переписка, где полно благопристойных шуток, во второй хитросплетения ученых теорий, которые распутывают друзья сочинителя, третья посвящена богословию, четвертая — военному искусству, пятая — государственным делам.
Но все это может и полежать, пока мы не издадим «Всеобщую историю»[19], где неистовый по своей натуре, пламенный разум без малейшей предвзятости покажет дивные дела, опишет все без восхвалений и порицаний не как судья, но как честный свидетель, который держит себя в узде, дабы не исказить фактов и не касаться законности.
Вольномыслие нашего автора позволило ему заявить своим врагам, что он больше касается правления аристократического, нежели монархического, ибо поэта осуждал еще Генрих Четвертый, будучи тогда королем Наварры.
Сей государь, не раз прочитавший все «Трагические поэмы»[20], желал их вновь перечитывать, дабы убедиться в правильности своих обвинений, однако ничего худого не обнаружил, только единомыслие, и тогда для пущей уверенности призвал однажды нашего сочинителя и в присутствии господ дю Фе[21] и дю Пена[22] затеял диспут о различных государственных правлениях. Сочинитель на вопрос, какое из всех правлений он полагает лучшим, немедля ответил, что для французов лучшее — монархическое и что монархию французскую он почитает выше, нежели польскую. Говоря о преимуществах французской монархии, он вынужден был сказать: «В этом вопросе я держусь того, что утверждал ученейший Айан[23], и считаю несправедливыми те перемены, которые привели к власти клириков. Филипп Красивый[24], будучи смелым и независимым государем, утверждал, что коль на кого-то взвалили ярмо, сие ярмо не должно быть непосильным». Нам хотелось бы сослаться на эти слова, чтобы объяснить многое в писаниях нашего сочинителя, в которых он часто выступает против тирании, но в которых нет ничего против королевской власти. По сути дела эти его труды, перенесенные им тяготы и полученные раны доказывают его преданность и любовь к своему королю. Дабы наглядно вам сие подтвердить, я привожу здесь три станса, которые послужат автору как исповедь, покажут, какою он мыслил королевскую власть. Сии стансы взяты из одного стихотворения[25], которое в первую очередь будет включено в его «Смесь». Эти стансы следуют за строфой, чья первая строка:
и далее:
Вот самое достоверное, что я могу выразить, будучи пером моего повелителя.
Пусть его имя отсутствует среди имен, имеющих место в его картинах, он — время, говорящее его устами, из коих вы не услышите восхвалений, а только свободные, независимые истины.
ВСТУПЛЕНИЕ
СОЧИНИТЕЛЬ К СВОЕЙ КНИГЕ
КНИГА ПЕРВАЯ
БЕДЫ
КНИГА ВТОРАЯ
ВЛАСТИТЕЛИ
КНИГА ТРЕТЬЯ
ЗОЛОТАЯ ПАЛАТА[188]
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ОГНИ.
КНИГА ПЯТАЯ
МЕЧИ
КНИГА ШЕСТАЯ
ВОЗМЕЗДИЯ
КНИГА СЕДЬМАЯ
СУД
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЖИЗНЬ АГРИППЫ Д'ОБИНЬЕ, РАССКАЗАННАЯ ИМ ЕГО ДЕТЯМ.
Перевод В.Парнаха под редакцией И.Волевич[613]
ПРЕДИСЛОВИЕКонстану, Мари и Луизе д'Обинье
Дети мои, из древней истории, богатой жизнеописаниями императоров и прочих великих людей, вам есть что почерпнуть, коли потребны будут примеры и сведения о том, как должно противостоять нападкам врагов и строптивых подданных; из истории этой узнаете вы, как отражали они натиск равных себе и возмущение низших; однако же она не научит вас сносить гнет вышестоящих; это третье умение требует куда большей хитрости, нежели первые два; вам же скорее представится нужда в подражании обычным людям, но не знатным господам, ибо в той борьбе, что ведете вы против себе подобных, следует остерегаться лишь их ловкости, каковою обделены властители мира сего, отчего и гибнут под тяжестью собственного своего величия.
Генрих Великий[614] не любил, когда приближенные его слишком увлекались жизнеописанием двенадцати Цезарей; сочтя, что Нэви[615] чрезмерно зачитывается Тацитом, и опасаясь, как бы отвага его от такого чтения не возросла сверх обычного, король строго наказал ему искать примеров в жизни равных себе.
Так же поступлю и я, удовлетворяя разумное ваше любопытство: вот вам рассказ о моей жизни, написанный любящим отцом, который не счел здесь нужным скрывать то, что во «Всеобщей истории»[616] явилось бы свидетельством дурного вкуса; итак, не желая краснеть перед вами ни за славу мою, ни за ошибки, я поведаю вам и о той, и о других столь бесхитростно, словно все еще держу вас маленькими у себя на коленях. Я желал бы, чтоб мои славные и благородные дела подвигли вас на беззавистное соперничество с отцом, разве что рассказ о моих ошибках, в коих признаюсь открыто и без ложного стыда, увлечет вас сильнее, ибо из него сможете вы извлечь наибольшую для себя пользу. Узнав же об оных, судите меня, но помните притом, что счастье и удача не от нас зависят, — они в руках Всевышнего. И еще приказываю вам снять с сей книги не более двух копий, кои завещаю свято хранить, отнюдь не вынося ни одной из них за пределы нашего дома. А ежели вы нарушите сей приказ, ослушание ваше будет наказано завистливыми вашими недругами, которые поднимут на смех божественные начала в моей исповеди и заставят вас горько раскаяться в легкомысленном тщеславии.
Теодор Агриппа д’Обинье, сын Жана д’Обинье, владельца замка Бри в Сентонже, и девицы Катерины, урожденной де л'Этан, родился в поместье Сен-Мори, близ Понса, в 1551 году 8 февраля. Мать его умерла от родов, столь тяжелых, что врачи предложили выбрать между смертью матери и смертью ребенка. Назван он был Агриппа от agre partus[617] и воспитывался в детстве вне родительского дома, ибо Анна де Лимюр, мачеха его, была недовольна чрезмерными расходами, связанными с изысканным воспитанием, которое давал мальчику отец.
Как только сыну минуло четыре года, отец привез ему из Парижа наставника, Жана Коттена, человека бесчувственного и безжалостного, впоследствии преподававшего Агриппе одновременно грамоту латинскую, греческую и древнееврейскую. Этой системе следовал и Пережен, второй наставник его. Шести лет от роду ребенок читал на четырех языках. Затем к нему приставили Жана Мореля, парижанина, человека довольно известного; этот обходился с ним мягче.
Однажды, бодрствуя в своей постели в ожидании своего наставника, Обинье услышал, как кто-то вошел в его комнату и прокрался между стеной и постелью; чьи-то одежды коснулись полога, тотчас задернутого некоей смертельно бледной женщиной, и, подарив мальчику ледяной поцелуй, она исчезла. Войдя, Морель застал его потерявшим дар речи; и, вероятно, последствием этого видения явилась лихорадка, продолжавшаяся две недели.
Семи с половиной лет, с некоторой помощью своих наставников, Обинье перевел Платонова «Критона», взяв с отца обещание, что книга будет отпечатана с изображением ребенка-переводчика на титульном листе. Когда ему было восемь с половиной лет, отец повез его в Париж. Проезжая в ярмарочный день через Амбуаз, отец увидел головы своих амбуазских сотоварищей, которых еще можно было различить на виселице, и был так взволнован, что перед толпой в семь или восемь тысяч человек воскликнул: «Палачи! Они обезглавили Францию!» Увидя на лице отца необычайное волнение, сын подъехал к нему. Отец положил ему руку на голову и сказал: «Дитя мое, когда упадет и моя голова, не дорожи своей, чтобы отплатить за этих достойных вождей нашей партии. Если ты будешь щадить себя, да падет на тебя мое проклятие!» Хотя отряд Обинье состоял из двадцати всадников, они с трудом пробились сквозь толпу, возмущенную подобными речами.
В Париже школьника Обинье поручили заботам Матье Бероальда, племянника Ватабля[618], очень важного лица. В то время или немного позднее, после взятия Орлеана принцем Конде[619], в Париже усилились преследования, убийства и сожжения гугенотов, и Бероальду, подвергшемуся величайшим опасностям, пришлось бежать со своей семьей. Маленькому мальчику было очень досадно покидать кабинет с великолепно переплетенными книгами и прочими вещами, красота которых излечила его от тоски по родным местам; когда он проезжал Вильнев-Сен-Жорж, мысль об этом исторгла из глаз его слезы. Тогда, взяв его за руку, Бероальд сказал: «Друг мой, разве не чувствуете вы счастья, выпавшего на вашу долю: в вашем возрасте иметь возможность потерять кое-что ради того, кто дал вам все?»
Маленький отряд из четырех мужчин, трех женщин и двух детей, раздобыв возок в Кудрэ (в доме президента л’Этуаля[620]), пустился в путь через местечко Куранс, где кавалер д’Ашон, командовавший там сотней легкой конницы, арестовал их и отдал в руки инквизитора, по имени Демокарес. Обинье не плакал в тюрьме, но не удержался от слез, когда у него отняли маленькую посеребренную шпагу и пояс с серебряными пряжками. Инквизитор допросил его отдельно, не раз впадая в гнев от его ответов; а офицеры, увидя на нем белый атласный костюм, отороченный серебряной вышивкой, и оценив его манеры, повели в покои д’Ашона, где заявили ему, что вся его шайка приговорена к сожжению и что ему будет уже поздно отречься в час казни. Он ответил, что месса для него страшнее сожжения. В той комнате играли скрипачи, и когда начались танцы, д'Ашон потребовал, чтобы арестованный проплясал гайярду. Обинье не отказался, и вся компания любовалась и восхищалась им, но инквизитор, обругав всех, приказал увести его в тюрьму. Узнав от Обинье, что они приговорены к казни, Бероальд пощупал у своих спутников пульс и уговорил их принять смерть с легкостью. К вечеру тюремщики принесли заключенным поесть и указали им на палача из Милли, который готовился к предстоявшей на следующий день казни. Дверь заперли, заключенные начали молиться. Через два часа явился стороживший их дворянин из отряда Ашона, бывший монах. Он поцеловал Обинье в щеку и потом обратился к Бероальду со следующими словами: «Я спасу вас всех ради этого ребенка: будьте готовы выйти, когда я вам скажу; но дайте мне пятьдесят или шестьдесят экю, чтобы подкупить двух человек, без которых я ничего не смогу сделать». С ним не торговались и собрали шестьдесят экю из денег, спрятанных в туфли. В полночь дворянин вернулся в сопровождении двух человек и сказал Бероальду: «Вы говорили мне, что отец этого мальчика командует отрядом в Орлеане; обещайте, что меня примут там хорошо». Получив это обещание вместе с приличным вознаграждением, он велел всем людям из отряда взяться за руки, а сам, взяв за руку младшего, тайком провел их мимо караульного помещения, потом через сарай, где стоял их возок, наконец в хлеба и вывел их на большую дорогу, ведущую в Монтаржи, которого достигли они с величайшим трудом и большими опасностями.
Герцогиня Феррарская[621] приняла их с обычным для нее радушием, в особенности маленького Обинье; три дня сряду она сажала его рядом с собой, чтобы слушать его юные речи о презрении к смерти. Затем она приказала повезти их со всеми удобствами в Гиень, где они прожили месяц у королевского прокурора Шазрэ. Но Лафайет[622] осадил этот город. Им пришлось сесть на корабли и спасаться в Орлеан под огнем аркебузов, который открыли по ним местные жители при проезде мимо Ботэ.
Прибыв в город, Бероальд, по милости господина д'Обинье, служившего в городе под начальством господина де Сен-Сира, получил удобное помещение сначала в доме президента д’Этуаля; там Обинье первый захворал заразной болезнью, от которой умерло тридцать тысяч человек. На глазах Обинье в его комнате умер его врач и еще четыре человека, среди них госпожа Бероальд. Его слуга, по имени Эшалар, умерший впоследствии пастором в Бретани, был при нем безотлучно и, не заразившись, служил ему до выздоровления с псалмом на устах вместо предохранительного средства.
Приехав в Гиень, чтобы восстановить свои силы, господин д'Обинье нашел своего сына выздоровевшим, но немного избаловавшимся, ибо трудно pacis artes colere inter Martis incendia[623]. Однажды через своего казначея он послал мальчишке одежду из грубой ткани с приказанием повести его по лавкам, чтобы он выбрал себе какое-нибудь ремесло, раз он отказывается от грамоты и от чести. Наш школьник принял так близко к сердцу этот суровый приговор, что заболел горячкой и чуть не умер; выздоровев, он стал на колени перед отцом и произнес речь, пламенные слова которой исторгли у слушателей слезы: примирение было отмечено денежным вознаграждением, чрезмерно щедрым для его положения.
(1563). В конце года, когда город был осажден и Бероальд проживал в покоях королевы в монастыре св. Аньяна, солдаты отца развращали сына и даже водили его в притоны; так случилось, что именно тогда был убит господин де Дюра[624]. Однажды отец повел его к господину Ашону, который, как и коннетабль[625], попал в руки господина д'Обинье, взявшего их в плен в сражении при Дре; Ашон, помещенный в новой башне с двумя кулевринами у входа в его комнату, был очень удивлен, когда его бывший маленький пленник упрекнул его в бесчеловечности, однако, не оскорбляя его: тем, кто хотел принудить Обинье к ругательствам, мальчик ответил, что не может insultare afflicto[626].
В те дни четырнадцать военачальников поклялись отвоевать Турель[627], но только шестеро из них сдержали клятву и атаковали неприятельские окопы. При этом господин д’Обинье-отец получил удар копьем под броню. Когда рана была почти залечена, ему поручили вести мирные переговоры; с этой целью он прибыл на корабле в Пуль-Бланш-дю-Портеро, где пребывала королева; четвертым от своей партии он вошел в лиловую беседку Иль-о-Беф, где был заключен мир[628].
За эти переговоры и другие оказанные им услуги он был назначен докладчиком в королевском совете, исполняющим должность начальника управления по гугенотским делам. После смерти Обинье его преемником в этой должности назначен был господин де Кавань.
По заключении мира он удалился от дел, простился с сыном, напомнил ему слова, произнесенные в Амбуазе, завещал ему твердо держаться своей веры, любить науки, быть правдивым и, против своего обыкновения, поцеловал его. Заболев в Амбуазе от нагноения ран, он там и скончался, не сожалея ни о каких мирских делах, разве только о том, что возраст не позволяет сыну наследовать ему в его должности; он сказал об этом, держа в руке грамоту о своем назначении, которую потом отослал принцу Конде с просьбой не давать этой должности человеку, не способному умереть за Бога. Случилось так, что через шесть или семь дней после его смерти два человека из его свиты вернулись в Орлеан, чтобы произвести перепись оружия и других вещей, оставленных в этом городе. У крыльца встретили они Обинье. При одном их появлении предчувствие смерти отца поразило сына в сердце. Он спрятался, чтобы посмотреть, как они будут себя держать, ведя своих лошадей в конюшню; он настолько утвердился в своем предчувствии, что в течение трех месяцев скрывался, чтобы плакать, и, несмотря на уговоры окружающих, носил только траурные одежды.
Опекуном его был назначен Обен д'Абвиль[629], который, принимая во внимание огромные долги отца, заставил его отказаться от наследства в четыре тысячи фунтов ренты и содержал его на доходы с имущества матери, оставив его еще на год на попечение Бероальда. Потом тринадцатилетний Обинье был отправлен в Женеву, где он слагал латинские стихи в большем количестве, чем прилежная рука могла бы записать. Он бегло читал труды раввинов, напечатанные без обозначения гласных, и переводил с одного языка на другой, не читая вслух подлинника. Он прошел курс философии и математических наук. Тем не менее, за незнание некоторых оборотов из Пиндара его опять поместили в коллеж, после того как он два года уже слушал публичные лекции в Орлеане; тогда он возненавидел словесность, стал тяготиться учением и досадовать на наказания; он предался шалостям, но даже и они вызывали в других восхищение. Господин де Без[630] хотел простить эти шалости, объясняющиеся скорее легкомыслием, нежели хитростью, но наставники были суровы, как Орбилий[631]. После двухгодичного пребывания в Женеве Обинье, без ведома родственников, отправился в Лион, где принялся за изучение математических наук и стал забавляться книгами о магии, заявляя, однако, что не производит никаких опытов. Когда однажды в Лионе у него не стало денег, а хозяйка требовала платы, он так был огорчен своей нуждой, что, не смея вернуться на квартиру, не ел целый день и впал в крайнее уныние. Не зная, где провести ночь, он остановился на мосту через Сону; склонившись над водой, он проливал слезы и был охвачен сильным желанием броситься в реку; к этому его побуждали все невзгоды. Как вдруг, в силу своего воспитания, он вспомнил, что перед каждым поступком надо помолиться Богу. Последними словами его молитв были: «вечная жизнь»; эти слова устрашили его и заставили воззвать к Богу о помощи в час гибели. Обернувшись, он заметил на мосту слугу, узнав его по красному сундуку, а потом увидел и господина: это был де Шийо, его двоюродный брат; посланный в Германию господином адмиралом, де Шийо вез в Женеву отчаявшемуся юноше деньги.
(1567). Вскоре началась вторая война. Обинье вернулся в Сентонж к своему опекуну, который, видя, что его воспитанник, забросив книги, бьет баклуши, намеренно держал его взаперти, до начала третьей войны[632].
Услыша выстрел, которым, по условию, товарищи извещали его о своем выступлении в поход, затворник, одежды которого каждый вечер уносились к опекуну, спустился через окно на простынях, в одной рубахе, босой, перескочил через две стены и у одной из них чуть не упал в колодезь; потом у дома Ривру догнал товарищей, с удивлением увидевших, как человек в белом с криком и плачем бежит за ними: его ноги были окровавлены. Капитан Сен-Ло сначала пригрозил ему, чтобы заставить вернуться, но потом посадил в седло за собою, подложив грубый плащ, чтобы он не поцарапал себе зад пряжкой наспинного ремня.
В миле оттуда, на дороге в Рео, отряд увидел роту папистов, направлявшихся в Ангулем. Этот сброд рассеяли после короткого боя, в котором новоиспеченный солдат, одетый в одну рубаху, получил аркебуз и кой-какое снаряжение, но не хотел взять никакой одежды, хотя товарищи советовали ему одеться. В таком виде прибыл он на смотр в Жонсак, где несколько военачальников вооружили и одели его. В конце своей расписки он прибавил: «Обязуюсь не упрекать войну за то, что она меня разорила, потому что не могу выйти из нее снаряженным хуже, чем в тот день, когда в нее вступил».
Место сбора всех войск было в Сенте, откуда господин де Миранбо, губернатор этой области, побуждаемый родственниками юноши, хотел его вернуть домой сначала увещаниями, а потом и насильно; но юный воин нарушил обязанности повиновения и, сославшись на то, что стоит в карауле, покинул вышеупомянутого господина и своего начальника Сорибрана, согласившегося на его задержание; он прорвался сквозь целую роту, бежал и, поднеся шпагу к горлу двоюродного брата, следовавшего за ним по пятам, достиг дома капитана Аньера, который, как он знал, был в ссоре с господином де Миранбо. На следующий день в стычке между Аньером и Миранбо Обинье был первым, начавшим перестрелку, и чуть не убил своего двоюродного брата, сторонника Миранбо.
В ту лютую зиму, однажды вечером, пикеты господина Аньера расположились в виду неприятеля у замерзшего болота, так что вдали от огня люди дрожали от холода, а у костра мокли в грязи; старый сержант Дофен дал Обинье зажечь фитиль и, заметив, что он также продрог, одолжил ему свой шарф, к радости замерзшего юноши. Еще большие невзгоды претерпел Обинье в Перигоре, находясь при полку Пиля, и потом при возобновившейся осаде Ангулема, где он участвовал в штурме парка и добыл себе в городе снаряжение. При переходе к Понсу, на ночлеге, он в изнеможении перебегал от костра к костру и нашел свою роту только под утро, когда уже со всех сторон слышались сигналы к подъему. Все эти страдания не мешали ему отворачиваться при встрече со своими хорошо снаряженными двоюродными братьями, чьих упреков он желал избежать.
(1569). Будучи под Понсом, он опять участвовал в штурме. При взятии города он защитил свою тетку, которую хотел изнасиловать некий капитан Баншро. Он участвовал также в стычках при Жазнэй, в битве при Жарнаке, в большом сражении при Рошабэй, но упустил случай повоевать при Монконтуре, отступив вместе со своими земляками в местность, где подвергся опасностям не меньшим, чем в бою, ибо в то время господин де Савиньяк предпринял известное дело[633], описанное в первом томе «Истории», в книге пятой, глава 16-я; Обинье не пожелал рассказать в ней о том, как он рисковал, — притом столько раз, что вспомнил о своем неповиновении родителям и, молясь Богу, в смятении сказал, обвиняя самого себя: «Неукротимый человек будет укрощен страданиями», — и т.д.
При переправе через Дордонь ему помог крестьянин, сначала хотевший убить его; вслед за Обинье, против всякого ожидания, переправился и его конь, которого он с трудом вытянул из тины; миновав Иль в Лобардемонте, его проводник довел его до местечка Кутра, но не посмел пойти дальше. Упомянем мимоходом, что впоследствии к Обинье привели этого крестьянина из Фарга, по имени Перо, и Обинье узнал его среди представленных ему шести человек: у страха хорошая память. Въехав в Кутра, Обинье направился по улице и спустился к броду, но, начав расспрашивать о дороге, увидел бегущих к нему от мельницы четырех аркебузиров; они целились в него, а другие следовали за ними. Тогда, недолго думая, он бросился в воду и поплыл; плывя, он держал над водой тот пистолет, которым не пользовался в бою; и, коснувшись дна, он спасся наперекор тем, кто стрелял в него, и тем, кто бежал ему наперерез. Опасности, угрожавшие ему в этом деле, повторялись и впоследствии, как вы еще увидите; но ничто не могло его образумить.
Дабы вы имели понятие о необузданном его нраве, упомяну о том, как однажды, проходя в числе пятисот аркебузиров перед принцем Конде[634], он обозвал тех, кто снимал шапку, новобранцами. Заметив это и пожелав с ним познакомиться, принц велел предложить ему место у себя на службе. Господин де ла Каз предложил ему это в таких выражениях, будто желал подарить Обинье принцу. На то сумасброд ответил: «Знайте свое дело — заботьтесь только о поставке принцу ваших псов и ваших коней». Таков второй пример его неукротимого своеволия.
(1570). До конца третьей войны он был в Сентонже; он присутствовал при поражении двух итальянских рот и двух рот л’Эрбетта при Жонсаке, где ему поручили начальство над двадцатью аркебузирами, отчаянными ребятами; высокая и выгодно расположенная баррикада хорошо оборонялась, но была взята доблестью Буарона[635].
Клермон д’Амбуаз, Ранги[636] и другие укрепились в Аршиаке; Ларивьер Пюитайе[637], стоявший в Понсе с пятью итальянскими и четырьмя французскими конными отрядами, много раз нападал на этих дворян, причем бывали жаркие дела, в которых гвардейцы д’Асье[638] кое в чем оказались для сентонжцев учителями. Там Обинье имел честь сразиться с одним всадником, вызвавшим его на бой, и выстрелил на столь близком расстоянии, что уложил его. С тех пор он отказывался от многих назначений, желая командовать только первой ротой, которую и получил.
Когда Аршиак был осажден, Обинье находился под Коньяком, но нашел возможность ворваться в город и провести солдат, нагруженных порохом; один из них, желая запалить фитиль, поджег свою ношу, вследствие чего лишился зрения.
Знаменосец Аньера Бланшар, впоследствии прозванный Клюзо, и Обинье повели добровольцев на штурм Коньяка и там, на рынке, встретив решительный отпор со стороны полицейских сержантов, еще решительней бросились в сражение, в особенности Обинье. Одетый в один лишь камзол, он атаковал баррикаду у подъемного моста, опрокинув один буфет и два сундука; так, зайдя с тылу, со стороны города, он взял ее, но потерял, однако, нескольких своих славных солдат. За проявленную удаль Аньер оказал ему честь, поручив вести переговоры о сдаче. В этом деле один дворянин был поднят подъемным мостом и возвращен только вместе с крепостью. Последним из военных приключений Обинье в этой войне явилось взятие Понса[639], каковое описано в конце 24-й главы в книге пятой.
Следует прибавить, что на обратном пути, когда еще тянулись мирные переговоры и полк Аньера с опаской проходил мимо Руана, наш новый знаменосец получил разрешение ввести в бой тридцать конных аркебузиров, доблестно держал себя в деле с бароном де ла Гардом[640], угрожавшим разбить полк, принял на себя атаку, и этим спас своих товарищей. Через два часа изнурительная лихорадка уложила его в постель. Он решил, что умирает, и заговорил так, что у посетивших его военачальников и солдат волосы встали дыбом: он мучился угрызениями совести, каясь в том, что под его предводительством солдаты совершали грабежи, и особенно в том, что не смог наказать солдата Оверньяка, который без всякой причины убил одного старого крестьянина[641]. Он обвинял себя в том, что осмелился начальствовать, когда возраст еще не дал ему на это права. Эта болезнь совершенно изменила его, и он опять стал самим собою.
По окончании третьей гражданской войны и заключении мира[642] его опекун дал ему вместо всех его ценностей немного денег и купчую на землю в Ландах. Хоть и страдая от перемежающейся лихорадки, Обинье отправился в Блуа. Там выяснилось, что комендант дворца герцога де Лонгвиля объявил себя наследником Обинье, воспользовался его имуществом и, встретив его точно самозванца, вызвался доказать ему, что Обинье убит, прибавив, что он располагает верными свидетелями его смерти, такими как Савиньяк. Потрясенный этим известием и другими печалями, юноша обратился к родственникам со стороны матери из Блуазэ, но они отвернулись от него из ненависти к его вероисповеданию. Болезнь ввергла его в такое состояние, что можно было ожидать только смерти. Терзаемый приступами лихорадки, он предсказал им, что когда-нибудь они воздадут ему должное. Его арендатор посетил больного и узнал его по знаку на лбу, оставшемуся после чумы, перенесенной им в Орлеане. Но, увидя его в столь тяжелом состоянии, без признаков жизни, этот злодей вступил в соглашение со лженаследниками, боясь необходимости уплатить аренду за три года сразу. Тогда несчастный, лишившись родных, денег, расположения и здоровья, приказал везти себя на корабле в Орлеан, а с корабля — в суд, и там получил разрешение защищать свое дело, полулежа за очень низкой кафедрой. Заключительная часть его речи была столь пламенна, а несчастье столь велико, что когда судья с негодованием взглянул на его противников, они вскочили с мест и, воскликнув, что только сын Обинье может говорить подобным образом, попросили у него прощения.
Получив свое небольшое имущество, он влюбился в Диану де Сальвиати, старшую дочь де Тальси[643]. Эта любовь внушила ему стихи на французском языке: он сочинил то, что мы называем его «Весной», в этой книге многое не отделано, но жар ее придется многим по сердцу.
(1572). У Монса в Эно начались военные действия[644], для которых Обинье набирал роту. Во время свадебных празднеств[645] он находился в Париже, ожидая назначения; будучи секундантом одного своего друга в поединке близ площади Мобер, он ранил полицейского сержанта, пытавшегося его арестовать; это происшествие заставило его покинуть Париж. Через три дня произошли события Варфоломеевской ночи.
Здесь я хочу привести пример того, как Бог управляет храбростью людей: получив известие о резне, Обинье, в сопровождении восьмидесяти человек, среди которых можно было отобрать десяток отважнейших солдат Франции, пустился в путь, впрочем, без цели и плана, когда при неожиданном беспричинном возгласе: «Вот они!» — все они обратились в бегство, подобно стаду баранов, так что им не хватило скорее дыхания, нежели страха. Потом, опомнясь, они взялись за руки втроем или вчетвером, каждый будучи свидетелем храбрости соседа, взглянули друг на друга, краснея от стыда, и сознались, что Бог не дарит, но дает в долг храбрость и рассудок. На следующий день половина этих людей пошла навстречу шестистам убийцам, спускавшимся по реке из Орлеана и Божанси; они подождали за насыпью, пока многочисленный отряд не высадился на землю; когда их обнаружили, они бросились на врагов и преследовали их, убивая, вплоть до кораблей; этим они спасли Мэр[646] от разграбления.
Удалившись в Тальси, Обинье послал сорок человек своей роты в Сансер, сам же, предпочитая отправиться в Ла-Рошель[647] вместе с теми, кто питал те же намерения, укрылся на несколько месяцев в Тальси. Однажды, рассказывая о своих злоключениях отцу любимой им девушки, он упомянул, что недостаток средств мешает ему отправиться в Ла-Рошель. Старик возразил: «Когда-то вы мне сказали, что подлинники бумаг, касающихся амбуазского дела, были отданы на хранение вашему отцу и что к тому же на одной из них стоит подпись хранителя печатей де л’Опиталя[648]. В настоящее время л’Опиталь поселился в своем доме близ Этампа; это человек, теперь никому не нужный; к тому же он выразил порицание вашей партии. Если хотите, я пошлю предупредить его, что вы располагаете этими документами. Я берусь заставить либо его, либо тех, кто воспользуется бумагами против него, уплатить вам десять тысяч экю». Выслушав это, Обинье принес мешочек из старого бархата, показал бумаги и, подумав, бросил их в огонь. При виде этого владелец тальсийского замка стал его укорять. Обинье ответил: «Я сжег их из боязни, что они сожгут меня: я избег соблазна». На следующий день старик взял влюбленного за руку и сказал: «Хоть вы мне и не открыли своих намерений, но я достаточно зорок, чтобы заметить вашу любовь к моей дочери. Ее руки домогаются многие люди, превосходящие вас богатством». Когда Обинье сознался в своей любви, старик продолжал: «Вы сожгли бумаги из боязни, что они сожгут вас; это побудило меня сказать вам, что я хочу считать вас моим сыном». Обинье ответил: «Сударь, за то, что я презрел суетное и нечестным путем стяжаемое сокровище, вы даете мне другое, ценность коего измерить я не в состоянии».
Через несколько дней после этого разговора Обинье остановился в одной деревне в Босе. Какой-то человек, преследуя его верхом на арабском коне, чуть не убил его у дверей гостиницы. Тогда Обинье вырвал шпагу из рук помощника повара и в туфлях бросился на врага, поворотившего к нему коня: пеший Обинье наткнулся на лошадиную морду и был оглушен этим ударом. Придя в себя, он шпагою нанес удар всаднику, оказавшемуся в панцыре; ударив опять, он всадил шпагу на полфута под кирасу; потом упал, бросившись в сторону, на лед. Всадник не преминул кинуться на него и нанести ему две раны, из них одну глубокую в голову. Раненый Обинье опять бросился на противника и схватил его поперек тела, но конь, рванувшись, отбросил его на землю. Поняв по лицу врача, что рана опасна, Обинье не позволил снять с себя первую повязку и уехал до рассвета, чтобы умереть в объятиях любимой. Трудность проделанного им двадцатидвухмильного пути вызвала воспаление всей крови. Он заболел и молча лежал без чувств и без пульса. Два дня он был лишен перевязок и еды. Наконец благодаря подкрепляющим средствам он ожил. По общему мнению, без этого обновления крови он не смог бы выжить и существовать при владевшей им врожденной необузданности.
Родственники его врага добились того, что епископ Орлеанский послал своего уполномоченного — прокурора с шестью судебными чиновниками, дабы принудить господина Тальси выдать им своего гостя. Но, не сумев вырвать ни одного настоящего признания, прокурор уехал, отказав в выдаче свидетельства обитателям замка и пригрозив разрушить дом. Тогда Обинье сел на коня, настиг этих всадников в двух милях от замка и, сунув прокурору пистолет в зубы, заставил его отречься от всех папистских уставов церкви. Этот палач избежал позорной смерти, тут же составив требуемое свидетельство.
Любовь и бедность помешали Обинье поспешить в Ла-Рошель, но по причине различия вероисповеданий рыцарь Сальвиати расторг предполагавшийся брак[649]. Огорчение Обинье было так велико, что он тяжко занемог. Его посещали многие парижские врачи, а также де Постэль[650], который посоветовал больному исповедаться и остался оберегать его, чтоб его не зарезали.
(1573—1575). Когда заключили Ла-Рошельский мир[651] и герцог Алансонский с королем Наваррским принялись за свои козни[652], дворецкий последнего, некий Эстуно, напомнил своему господину об услугах, оказанных ему покойным д'Обинье-отцом, и посоветовал ему использовать д’Обинье-сына как человека, который ничего не боится. Соглашение между ними состоялось втайне, перед самым началом Нормандской войны[653]. Находясь сам под слишком тщательным надзором, пленный король[654] пожелал отправить Обинье к месту военных действий с Ферваком[655], в то время смертельным врагом гугенотов, как бы лично передав Обинье Ферваку. К тому же Поплиньер и один нормандский священник надоумили Обинье попытаться спасти графа де Монтгомери. Обинье мог взяться за это дело, тем более что он не был связан присягой. Вы увидите, что он сделал для этого в качестве знаменосца при Ферваке и вместе с тем оруженосца короля Наваррского, в седьмой главе второй книги II тома[656].
Уведомленный об этом накануне смерти короля Карла, король Наваррский отозвал молодого человека. Желая видеть смерть короля, Обинье встретил при выходе из комнаты королеву-мать. Предупрежденная Матиньоном, ненавидевшим Обинье за то, что тот приставил ему однажды пистолет ко лбу, и считая его к тому же преступным уже по имени, королева осыпала его упреками, сказав, что слышала об его делах в Нормандии и что он похож на своего отца. Смельчак ответил: «И слава Богу, если это так!» Увидя по выражению лица королевы, сопровождаемой одним Лансаком, что ей не хватает только начальника караула, чтобы схватить его, он удалился, причем готов был отказаться от всех дел, если бы не заклинания со стороны его государя. К тому же Фервак, вернувшись, решительно заявил, что он поручится за дальнейшее пребывание своего младшего офицера при дворе; но на другой день отозвал его со всеми офицерами пленного короля Наваррского. По этой причине в Германии Обинье участвовал во взятии Аршикура, куда он вошел первым, потом в стычке и сражении у Энского моста, а на следующий день — в битве при Дормане[657]. Однако из желания спасти графа де Монтгомери он так и не принес присяги.
В этом сражении он шел на тридцать шагов впереди полка. Ему не попался в руки ни один начальник, кроме одного дворянина из Шампани, по имени де Верже, который надоедал ему, предлагая выкуп. Обинье отказался, хотя у него не было ни экю, ни коня: его конь был ранен в голову. Победитель сказал своему пленнику:
и закончил строфу, все так же не пренебрегши рифмою.
Это путешествие способствовало значительному сближению Обинье с господином де Гизом, что отнюдь не помешало Обинье удержаться при дворе и еще больше сблизило его государя с герцогом. Эти два принца вместе спали, ели и устраивали маскарады, балеты, конные игры и парады, придуманные одним Обинье; уже в это время он составил план «Цирцеи» — балета, который королева-мать не захотела поставить во избежание крупных расходов; впоследствии король Генрих Третий поставил его на свадьбе герцога де Жуайез.
Вскоре Обинье приобрел своими остротами известность среди дам. Однажды, когда он сидел один на скамье, три фрейлины королевы — Бурдэй, Болье и Тени, которым вместе было лет сто сорок, почуяв в нем новичка, стали высмеивать недостатки его костюма. Одна из них, гнусавя, нагло спросила: «Что это вы созерцаете здесь, молодой человек?» Передразнивая ее, он ответил: «Древности двора, сударыня». Смутившись, дамы предложили ему дружбу, а также союз оборонительный и наступательный. Эти язвительные слова, а вслед за ними и другие, сблизили его с придворными дамами. К этому же времени относятся различные стычки: сражение, которое он с тремя товарищами дал тридцати болванам-стражникам, большей частью алебардщикам; другое — в котором он спас детей маркиза де Тран, преследуемого тридцатью людьми; еще стычка с телохранителями маршала де Монморанси, осадившими Фервака в «Красной шапке»[658]; еще другая, где Обинье и Фервак, сопровождаемые одним пажем и несколькими слугами, неожиданно подверглись нападению со стороны тринадцати грабителей в кольчугах и железных касках, причем оба были ранены; еще другие стычки с конной стражей, в которых ему помогал Бюсси, сблизившийся с ним после того, как Обинье был секундантом Фервака на дуэли против этого рыцаря. Кроме того, в порыве безумства он повел нескольких молодых придворных, среди них графа де Тюрсона, Сагонна, Пекиньи и других, со шпагами наголо, на штурм городского караульного помещения. Пробиваясь сквозь стражу, они вбегали в одни двери и выбегали в другие. В этой забаве молодчик был наконец схвачен у заставы Сан-Жак-де-Ла-Бушри вместе с несколькими людьми, которых они позвали на помощь; он был ранен, но когда его вели в тюрьму, нашел способ обнажить шпагу, расчистил себе ею путь и бежал.
На турнире, где появились король Наваррский, он и двое дворян из свиты Гизов, присутствовала Диана де Тальси, тогда помолвленная с Лиме, после того как ее помолвка с Обинье была расторгнута по причине вероисповедания. По знакам уважения к Обинье со стороны двора эта девица увидела и узнала разницу между потерянным и приобретенным; после этого она впала в меланхолию, заболела и уже не оправилась до самой смерти.
Однажды королева-мать упрекнула зятя в том, что Фалеш, комендант его дворца, и его оруженосцы не ходят к мессе. Чтобы поправить дело, во вторник после Пасхи, когда принцы играли в лапту, король Наваррский спросил у Обинье, поднявшегося на галерею, причащался ли он перед Пасхою. Застигнутый врасплох Обинье сказал: «Еще бы, государь!» Но после того как король переспросил: «А в какой день?» — Обинье ответил: «В пятницу», не зная, что это единственный в году день, когда не бывает обедни. Тут господин де Гиз громко сказал, что Обинье нетвердо знает катехизис, а принцы засмеялись. Но королева-мать не шутила: она велела строго следить за Обинье. В то время у нее на службе состояло от двадцати до тридцати соглядатаев: почти все они были отступниками. Один из них, по имени ле Бюиссон, стал подбивать д’Анжо-старшего захватить герцога де Гиза. Обнаружив, как этот молодчик хочет погубить человека из хорошей семьи, Обинье рассказал об этом в Лионе Ферваку; Фервак посоветовал убить ле Бюиссона в каком-нибудь из переулков, по которым тот обыкновенно водил д’Анжо в дом, где готовился заговор. Это и было бы исполнено, если бы, как раз когда ле Бюиссону готовили засаду, в том же месте за почти такое же дело не был убит Намбю.
После этого случилось, что Обинье с галльской откровенностью упрекнул госпожу де Карнавале за ее кровосмесительную связь с Ферваком и за отравление ее матери, графини де Моревэр. Тогда Фервак поклялся погубить его. Чтобы осуществить это намерение, хотя бы подвергнув опасности другого, он уведомил герцога де Гиза, что ле Бюиссон, принадлежащий к его дому, хочет вместе с д'Анжо предать и захватить его и что Обинье знает это, но поддерживает ле Бюиссона. И вот, втянутый в это дело, Обинье является к герцогу де Гизу, когда тот ложится спать, и предлагает, чтобы Фервак подтвердил свои слова; не угодно ли герцогу запереть его в помещении для игры в мяч вместе с этим предателем, чтобы тот сознался в заговоре. Герцог де Гиз был так осторожен, что послал ле Бюиссона посмотреть, что делается в Лувре, и сказал Обинье: «Друг мой, это дело кинжалом да шпагою не решишь. Нет, это означало бы бороться с королевой. Ведь Фервак прибегает к средствам, которыми ты побрезгуешь; но никогда он не отведает моего хлеба». Как видно из этих слов, осторожность герцога соединялась с благоволением к Обинье.
Через несколько дней, как-то вечером, желая исполнить данное двоюродной сестре обещание убить упрекнувшего ее человека, Фервак с видом отчаявшегося человека попросил Обинье пойти погулять с ним за монастырем св. Екатерины. При этом он внушил Обинье некоторое подозрение своим слишком настойчивым желанием помешать взять кинжал, который нес слуга. Когда они очутились на небольшом в те дни, ныне перестроенном мосту, Фервак обратился к Обинье со следующими словами: «Друг мой, решившись покинуть мир, я жалею только о тебе; я пришел сюда покончить с собой; поцелуй меня, и я умру с радостью». Отойдя на один шаг, Обинье ответил: «Сударь, когда-то вы мне сказали, что перед смертью для вас было бы величайшим утешением отправить ударом кинжала за собою на тот свет лучшего вашего друга. Не советую вам умирать из-за дела, которое ровно ничего не стоит, как на него ни взгляни». Тут внезапно Фервак обнажает шпагу и кинжал и стремительно бросается на Обинье, отрекаясь от Бога и восклицая: «Раз ты мне не веришь, мы умрем оба!»
«Нет, — отвечает Обинье, — с вашего разрешения, вы один». Отступив на три-четыре шага, он становится в оборонительную позицию. Фервак не нападает на него, а бросив шпагу и кинжал, опускается на колени и, воскликнув, что потерял рассудок, просит противника убить его. Обинье отказывается, и они расходятся. Но через некоторое время, после того как Обинье по молодости лет помирился с Ферваком, этот враг отравил его супом. Обинье пришлось испражняться по восемьдесят раз в день; у него выпали волосы и стала шелушиться кожа. Только много времени спустя он узнал, кто в этом виновен: лечивший его врач, по имени Стеллатус, рассказал, как Фервак, угрожая ему кинжалом, запретил ему говорить, что суп отравлен. Впоследствии, не получив поста нормандского губернатора, Фервак пожелал поступить на службу к королю Наваррскому, причем не поскупился на лесть, чтобы помириться с Обинье, в то время имевшим большое влияние на своего государя, из чего родилось решение, описанное, как вы увидите, в томе II «Истории», книга вторая, глава 18[659].
А вот особый случай, недостойный описания в «Истории».
После достаточно длительного пребывания при дворе, король Наварры, раздосадованный причиняемыми ему каждодневно огорчениями и похождениями своей жены, решил удалиться за Луару. Для этого он отправился на охоту в сторону Ливри и затем скрылся с небольшим числом посвященных, среди которых был и Обинье. С ними он переправился через Сену у Пуасси и ненадолго остановился в деревушке под Монфор л’Аморе, где ему случилось облегчиться, усевшись на квашню, в доме одной старухи. Застав его за этим делом, старуха рассекла бы ему сзади череп ударом серпа, если б ее не удержал Обинье. Чтобы рассмешить своего господина, Обинье сказал: «Коли бы вас постиг столь почтенный конец, я бы посвятил вам эпитафию в стиле св. Иннокентия[660]:
В тот же день пришлось посмеяться еще раз: один дворянин, увидя, что отряд приближается к его деревне, подъехал к нему, чтобы заставить его удалиться, но оказался в затруднительном положении, не зная, кто начальник. Наконец он выбрал Роклора, одетого нарядней всех. Просьба дворянина не трогать его деревню была удовлетворена, но ему приказали провести отряд до Шатонеф: это придумали только для того, чтобы он не смог сообщить об их бегстве. Он заговорил с королем о любовных похождениях придворных, в особенности принцесс, причем не пощадил королеву Наваррскую. Ночью у ворот Шатонеф случилось Фронтенаку сказать капитану л’Эпину, квартирмейстеру государя, переговариваясь с ним через стену: «Отворите вашему хозяину!» Дворянин, знавший, кому принадлежит Шатонеф, перепугался до смерти. Обинье указал ему окольную дорогу, советуя бежать и не показываться в своем имении в течение трех дней.
Пробравшись через Алансон в Сомюр, король Наваррский жил, не соблюдая религиозных обрядов. На пасху никто не причащался, кроме ла Рока и Обинье. По приезде Лавердена Обинье отправился с ним воевать в Мэн, откуда он доставил штандарт Сен-Фаля королю Наваррскому в Туар[661], вслед за чем перессорился с тридцатью придворными кавалерами и ввязался в дуэли и прочие стычки, описанные в главе 19-й вышеназванной второй книги.
Затем король Наваррский отправился в Гасконь, где Фервак совершил несколько покушений на жизнь Обинье. Не имея возможности пребывать при этом государе, Фервак, после того как простился, задержался при нем еще на три месяца, чтобы осуществить дело мести. В то время возникла любовная связь между королем и юной Тиньонвиль, добродетельно сопротивлявшейся, пока она не вышла замуж. Для этих похождений король хотел использовать Обинье, будучи убежден, что для него нет ничего невозможного. Достаточно порочный в крупных делах, Обинье, из прихоти, может быть, не отказал бы в подобной услуге какому-нибудь товарищу; но в данном случае, не желая получить звание и должность сводника, которое называл «пороком нищенской сумы», он так встал на дыбы, что ни чрезмерные ласки его государя, ни бесконечные просьбы, ни коленопреклонение, ни умоляюще сложенные руки не смогли его тронуть. Тогда, забив отбой, государь воспользовался враждой Фервака к Обинье, чтобы Обинье почувствовал необходимость в своем короле. Итак, однажды в доброй компании он сказал Обинье: «Фервак говорит, что не совершил в отношении меня измены, о которой вы мне сообщили, и что он с вами еще будет драться». Обинье ответил: «Государь, он не мог передать мне эти благородные слова через человека лучшей фамилии; он почтил меня своим посланцем; принимая это во внимание, я возьмусь за шляпу, прежде чем взяться за шпагу». Потом, когда король долго не хотел мириться, Обинье напомнил ему клятву, произнесенную ими в тот день, когда король поцеловал в щеку своих сторонников.
Проездом через Пуату некий лютник, по имени Тужира, служивший у отца д'Обинье, а потом у ла Булэ, познакомил Обинье со своим господином и его двоюродным братом де Сен-Желе, после чего эти два человека предложили другим помещикам и дворянам, как Мондион, Бертовиль и другие, ждать Обинье на сундуках в раздевальне до часу ночи и сопровождать его мимо поставленных Ферваком засад, обнаруженных в Лекторе. Как-то вечером, возвращаясь один, выслеживаемый встретил Сакнэ, бургиньонского дворянина, который подстерегал его на углу улицы, вооруженный пистолетами со взведенным курком. Обинье схватил его за горло так ловко, что отнял у него оба пистолета, но не захотел сделать ему больше ничего худого, потому что Сакнэ, когда-то служивший под командой Обинье, признался, что стоит здесь против воли, и открыл ему еще другие намерения Фервака. Потерпев в них неудачу, Фервак покинул этот двор, предварительно сказав Фекьер, фрейлине Madame[662], будто скорбит о зле, которое причинил своему бывшему другу, и хочет проститься с ним, чтобы вымолить у него прощение. По молодости своей и неопытности Обинье побежал было к злодею, дабы предупредить это благое намерение. Но когда он поднимался по лестнице в комнату Фервака, выходивший оттуда ла Рок посоветовал ему поскорей уйти, сказав: «Это ловушка: он только и ждет, чтобы убить вас и потом уехать».
С тех пор положение Обинье при дворе пошатнулось. Заметив это, друзья долго убеждали его приспособиться к желаниям своего государя. Однажды в числе других Фонлебон и еще один человек увещевали его в продолжение шестимильного пути, ссылаясь на то, что паписты не столь суровы, как гугеноты, и завоюют сердце нашего государя разными угождениями, а это нанесет ущерб его религии и протестантским церквам. Восхищаясь блистательным даром красноречия Обинье, его стихами и прозой, а также его любезностью в обхождении с придворными де ла Персонн в заключение объявил, что надо все это использовать, дабы заслужить милость своего государя. Тогда Обинье слез с коня и сказал первому из своих собеседников: «Итак, вы говорите, что надо стараться для блага церкви?» — и второму: «А вы, — что Бог наградил меня великим дарованием и любезностью, чтобы сделать меня сводником?»
Утвердившись в своем намерении и полагая, что Обинье превосходит его в упорстве, король Наваррский воспользовался следующим случаем: однажды ночью ему чуть не пришлось обнажить шпагу против каких-то бродяг; Обинье бросился защищать своего государя и исполнил свой долг. За это король стал назначать его своим телохранителем в любовных похождениях, а потом рассказывал об этом пасторам и важнейшим вельможам своей партии. Из лукавства он делал ему всяческие неприятности, запрещал выдавать ему жалованье и даже портил его одежды, чтобы довести его до крайности и тем самым вынудить к капитуляции.
(1577) Обинье был послан подготовить к войне области и губернаторства Гиени, Перигора, Сентонжа, Ангулема, Они, Пуату, Анжу, Турени, Мэна, Перша, Боса, Иль-де-Франс, Нормандии, Пикардии, с поручением проникнуть в Артуа для некоторой опасной разведки. Как только он отбыл, уведомленная об этом королева-мать за его спиной стала строить против него разные опасные козни, как это изложено в конце четвертой главы книги третьей II тома «Истории». Добавим сюда только, что по дороге он составил торжественную речь, которую произнес барон Миранбо, и что к концу путешествия, встретив отряд дворян, направлявшихся в замок Сен-Желе, он сдался им в плен, чтобы вернее найти своего друга Сен-Желе, к которому эти люди и повели его пленным. Когда господин д'Анвиль выступил в поход, Сен-Желе поручил своему пленнику командовать лазутчиками. В этом деле выстрел из аркебуза прожег на Обинье казакин.
По приезде в Гасконь он и Лану совершили безрассудное по смелости нападение, описанное в главе 4-й той же книги, где Обинье выведен под именем лейтенанта Вашоньера. Вы должны только узнать еще о двух предметах его гордости, не заслуживших упоминания в «Истории»: во-первых, заметив, что только у него одного в отряде были налокотники на руках, он снял их перед сражением; во-вторых, среди опасностей он переложил шпагу в левую руку, чтобы спасти надетый на эту руку браслет, сплетенный из волос его возлюбленной. Этот браслет загорелся от выстрела из аркебуза. Капитан Бурже, который был в этом деле с ним, сообщил ему, что видел это, а Обинье, чтобы объяснить подобное хладнокровие в сражении, показал ему изображение земного шара и креста на эфесе своей шпаги. Избежав этих опасностей, он не уклонился и от прочих при взятии Сен-Макэра; довольно подробное описание сего события можно прочесть в конце той же главы, под тем же заголовком.
Много раз при всяком удобном случае Обинье искал опасности и славы, что вызвало в его государе не только гнев, но и зависть. Однако, в то время, когда король был в нерешительности относительно положения в Лангедоке, он послал туда именно Обинье, который и завершил переговоры так, как это описано в главе 7-й той же книги, а по возвращении подвергся многим опасностям и побывал в различных переделках. Он допустил тяжкую ошибку, чему виною его религиозный пыл; ибо не должен был сразу же называть поименно отступников никому, кроме господина де ла Ну, внимательного его слушателя: ему следовало бы промолчать в присутствии названного начальника, и не только на сей раз, но и в прочих случаях, о коих можно прочесть в главе 12-й той же книги.
Узнав о том, что король не препятствовал намерению Лавердена заколоть его кинжалом и бросить в воду, Обинье однажды за ужином в большой компании обратился к своему государю со следующими словами: «Итак, государь, вы могли замыслить смерть того, кого Бог избрал орудием вашей жизни. Я укоряю вас не за услугу, оказанную мною вам, и не за мою плоть, простреленную во многих местах, а за то, что я служил вам честно, и вам не удалось сделать из меня ни льстеца, ни сводника. Да простит вас Бог за то, что вы искали моей смерти; по этим словам вы можете понять, как я хочу ее ускорить». Тут последовали такие колкости, что король встал из-за стола. Да послужит вам этот рассказ предостережением от подобных вольностей.
В «Истории» мы не упомянули о том, что Обинье, еще не оправившись как следует от лихорадки, промучившей его целую неделю, по причине своей слабости попросил, чтобы ему для поединка дали кинжал в одну руку и пистолет в другую; дуэль не состоялась, но друзья посоветовали ему убраться подобру-поздорову, что он и исполнил, направившись в Кастель-Жалу, где у него была должность. Надо заметить, что многие придворные короля Наваррского, из которых Констан, Сент-Мари, Арамбюр служили примером другим, проводили его на прощальное свидание к государю, на которое Обинье отправился, возвращаясь с прогулки и не сходя с коня. Приехав в Кастель-Жалу, он написал Лавердену следующее: «Сударь, напоминаю вам, что, вопреки всем предупреждениям, я искренне доверился вашему слову: предоставить преимущество вызова мне; какой бы сомнительной ни оказалась если не ваша честность, то по крайней мере ваша предусмотрительность, прошу передать господину ла Мадлен, что коли он захочет скрестить свою шпагу с моей, пусть знает: между этими местами и Нераком есть хороший песок; я готов явиться в любой час и любое место, какое вы назначите; мне не нужно никакого поручительства, кроме вашего слова».
Вскоре после этого произошло сражение, описанное в главе двенадцатой. По окончании его, когда тяжело раненный Обинье лежал в постели и врачи уже опасались за его жизнь, он продиктовал местному судье первые отрывки из своих «Трагических поэм».
Не скрою от вас проявления зависти со стороны государей: приехав в Ажан, молодой Баку на вопрос короля Наваррского, как произошел бой, не поскупился на похвалы Обинье, потому ли, что молодые люди не знают меры ни в восхвалении, ни в порицании, или потому, что считал своих товарищей и себя обязанными жизнью тому, кто, сражаясь, пострадал за них. Когда этот молодой человек сказал, что видел, как Обинье, прежде чем выстрелить, воткнул свой пистолет до середины дула между кирасой и буйволовым воротником капитана Мета, король назвал его лжецом. После этого Баку попросил своих родных, живших в Кастель-Жалу, написать ему, что они знают об этом. Ответное письмо он передал Лавердену, который и отнес его королю, прибавив, что оба Мэжа, Батаве и три других человека показывали раны на лице, полученные ими от Обинье, которого большинство из них хотело убить, когда он лежал на земле. Передав вышеизложенное королю, Лаверден заметил, что тому свидетель был капитан Доменж и что д’Обинье находился в полном сознании. Этот капитан поклялся не возвращаться ко двору, не способствовав поражению врага. Между тем Обинье выздоровел и повел своих на Байонну, в бой, описанный им в главе 13-й.
Доменж, выполнив свой обет, отправился к своему государю в Ажьен. Король бросил играть в лапту с Лаверденом, чтобы расспросить приехавшего. Доменж рассказал об этом деле, не так превознося своего начальника, как Баку, но хваля его более толково. Он тотчас потерял расположение своего государя и награду за тридцать восемь выстрелов из аркебуза, выигранных им у короля. Заметьте, на что способны великие мира сего, даже лучшие из них.
После смерти Вашоньера жители Кастель-Жалу хотели попросить назначить им губернатором Обинье. Но очень кстати Обинье помешал этому, так как государь был озлоблен против него; после взятия приступом Кастельно-де-Мом, близ Бордо, владелица местного замка, проникнув в постель и в сердце Лавердена, легко заставила победителей осудить д’Обинье и отказаться от продолжения военных действий, хотя господа де Мерю и де ла Ну от имени партии противились этому. Жители Кастель-Жалу упорно продолжали войну; госпожа де Кастельно поспешила в Бордо и заставила выступить адмирала де Вила с четырнадцатью орудиями, после того как король Наваррский дал обещание, что для Обинье подкрепления не будет. Пока адмирал приближался, Обинье выехал с пятьюдесятью латниками и двумя сотнями конных аркебузиров. Его люди бросились на землю и дали увести обратно своих коней. Приняв этот отряд за подкрепление, присланное вопреки обещанию, адмирал дал сигнал к выступлению и отошел к Мансье.
После этого Лаверден стал соблазнять гарнизон Кастель-Жалу, убеждая их, что, повинуясь приказу своего полковника, они не будут считаться изменниками. Этот приказ гласил: идти на помощь ла Салюдю-Сирону из враждебной партии, чтобы отвоевать крепость. Солдаты донесли об этих речах своему начальнику. Разъяснив им положение дел, он повел гарнизон в бой и, войдя ночью, сразился с папистами, причем был ранен; здесь погибло сорок шесть нападавших. Король Наваррский был так разгневан этой дерзостью, что потребовал сдачи Кастельно, державшего оборону Обинье, и угрожал четырьмя пушками. Ему ответили, что не побоялись и четырнадцати.
(1577). Вскоре мир был заключен[663]. Вернувшись, Обинье написал королю, своему государю, прощальное письмо в следующих выражениях:
«Государь, ваша память с упреком перечислит вам двенадцать лет моей службы и двенадцать моих ранений в живот; она напомнит вам, что вы были в плену, а также и то, что рука, которая вам это пишет, открыла засовы вашей тюрьмы и, служа вам, осталась свободной от ваших благодеяний, незапятнанной, несмотря на попытки ваших врагов и ваши собственные подкупить меня. Этим письмом предаю вас Богу, Которому я посвятил свою прежнюю службу и посвящаю будущую. Этой будущей службою я постараюсь доказать вам, что, потеряв меня, вы потеряли преданнейшего слугу, и т.п.».
Проезжая Ажьен, он явился к госпоже де Рок, которая по-матерински утешала его в печалях. Там увидел он большую собаку — испанскую ищейку по имени Ситрон, часто лежавшую у ног короля, между Фронтенаком и Обинье. Подыхавшее от голода бедное животное подошло к нему приласкаться. Тронутый этим, Обинье поместил его у одной женщины и велел пришить ему к ошейнику листок бумаги со следующим сонетом:
На следующий день эту собаку не преминули подвести к королю, проезжавшему через Ажьен. Прочитав эти стихи, король изменился в лице. Еще больше был он взволнован, когда через некоторое время на съезде в Сент-Фуа депутаты Лангедока спросили, где Обинье, спасший их провинцию. По их единодушной просьбе к государю отправились господа Д’Иоле и де Пажези, дабы от имени церквей спросить, что сталось со столь преданным служителем Бога. Король ответил, что еще считает Обинье своим и прикажет вернуть его. Между тем Обинье намеревался проездом проститься со своими друзьями из Пуату, продать свое имущество и поступить на службу к герцогу Казимиру[664]. Но случилось иначе: приехав в Сен-Желе, еще не слезая с коня, он увидел в окне Сюзанну де Лезэ из семьи де Дивонн[665]. Он так был пронзен любовью к ней, что свою Германию нашел у господ де Сен-Желе и де ла Булэ, ухватившихся за этот случай, чтобы доверить своему другу различные замыслы. С другой стороны, к этой новой любви примешивалась жажда отдыха. Кроме того, желая быть полезным, он не пренебрег ничем, чтобы внушить уважение к себе своим единомышленникам и вызвать сожаление о потере в своем неблагодарном государе.
Итак, он отправился на разведку в Нант[666], где чуть было не попал в плен; с тех пор он решил действовать не там, а в Монтегю и Лиможе, куда был вызван господами дю Пренсе и дю Буше, которые, по их словам, ценили в нем не только ум и совесть, но еще и доверие к нему гугенотов. Впрочем, подробности об этом деле вы найдете в главе четвертой 4-й книги «Истории»[667]; прибавлю только следующее: Обинье предсказал двум негодяям, что им скоро отрубят головы, и даже определил, сколько ударов получит каждый.
Упреки со стороны церковных общин за Обинье и горечь утраты вызвали в короле сожаление, а обнаруженные измены врагов Обинье еще усилили это чувство. К этому примешалась ревность и страх, что покровительство над церквами перейдет к герцогу Казимиру. К тому же государь часто слышал или сам передавал множество рассказов о подвигах Обинье. Все это вынудило короля Наваррского снова призвать его четырьмя письмами; но Обинье бросил их в огонь. Между тем бунтарь узнал, что государь, услышав о событиях в Лиможе и считая, что Обинье попал в плен, велел заложить кольца своей жены, чтобы выкупить его; но не это все тронуло Обинье, а известие, что король, считая его обезглавленным, чрезвычайно опечалился и несколько дней не принимал пищу.
Ла Булэ однажды обсуждал с ла Мадленом ссору между ним и Обинье, и тот рассказал, как их задумали столкнуть без всякой на то причины, тогда ла Булэ с юной горячностью бросился на него со шпагою, затем пообещал ему призвать к себе на помощь друга. Обинье, которого ла Булэ известил о случившемся, решил, что дуэль должна произойти при Наваррском дворе. Он написал ла Булэ, веля ему устроить ужин и ночлег в ла Мадлен, чтобы поутру им вместе выехать оттуда и сразиться на полпути меж Барбастом и Нераком, в одних рубашках, на шпагах и с кинжалами. С этой целью он доехал на перекладных до Мэр, что близ Орлеана, в Кастель-Жалу, откуда послал слугу; тот доставил ему в Варбаст письма, которыми ла Булэ уведомлял его, что договор заключен и что ла Мадлен переночует в одной с ним комнате, дабы не проспать поединок. Назавтра Обинье, помолившись и плотно позавтракав, поджидал в условленном месте, как вдруг завидел двух всадников, из коих скачущий впереди ла Булэ еще издалека закричал ему: «Чудо! Поединка не будет!» Ибо противника в полночь разбил паралич, лишив владения всеми членами. «Вот, — подумал Обинье, — как услышаны мои молитвы». Позднее, восемь лет спустя, Обинье повстречал ла Мадлена в Монтобане; тот шел со шпагою, но одеревенелою походкой; Обинье послал к нему Фронтенака узнать, в достаточной ли мере вылечился его противник и в состоянии ли он будет сразиться с ним, к чему Обинье весьма стремился; ответ был «нет», и Фронтенак вернулся ни с чем к своему другу, ожидавшему его за городскими воротами, хотя Ренье и Фава горячо отговаривали его от дуэли; Обинье же непременно желал поединка, к чему побуждала его громкая слава недруга, который убил восьмерых дворян, не потеряв притом ни единой капли крови.
Придворная молодежь, называвшая себя демогоргонистами, а предводителя своих безумств Демогоргоном[668], отправилась навстречу Обинье, примирившемуся с королем. Надо еще упомянуть, что камер-лакея, по имени де Кур, забавнейшего и храбрейшего человека, которого дал королю Обинье, не могли удержать просьбами ни государь, ни сам Обинье: он не оставил Обинье в его злоключениях. Но когда мир с королем был заключен, де Кур вернулся ко двору за неделю до прибытия Обинье. Король спросил де Кура, откуда он явился; тот ответил: «Да» и на все дальнейшие вопросы кстати и некстати также отвечал «Да». «Ведь короли, — сказал он, — увольняют честных слуг за то, что те не всегда говорят: «Да».
(1580). Король принял Обинье ласково, с искупительными обещаниями. Королева приняла его по-родственному, надеясь получить от него то, чего не находила у других. Вскоре, желая решить вопрос о войне в связи со сдачей крепостей, король Наваррский призвал на совещание только виконта де Тюрена, Фава, Констана и Обинье. Из этих пяти лиц четверо были влюблены. Выбрав в советчики любовь, они решили вопрос в пользу войны[669], которая описана в четвертой главе четвертой книги II тома.
Я уже говорил о том, что Лиможское дело явилось средством примирения короля с его слугою: вот почему приглашаю вас прочесть обо всем этом в начале указанной главы, где вы найдете важные подробности; в следующей главе можно узнать о начале военных действий, а в шестой — о взятии Монтегю; конец этой главы посвящен подвигам того, о ком идет речь, и опасностям, коим он подвергался, но особенно достоверно говорится обо всем этом в главе 10-й той же книги, посвященной осаде Блэ, где Обинье допустил следующий промах: вернувшись в войско, решившее в его отсутствие ретироваться, он обязан был получше удостовериться в наличии осадных лестниц; тут же отметьте и чрезмерное его тщеславие и дерзкие слова, за которые Бог наказал его: слова эти дорого обошлись ему, когда Пардийян посоветовал королю Наваррскому остеречься и не давать губернаторства столь дерзкому хвастуну[670].
Во время военных действий граф де Ларошфуко привез в Нерак понсского губернатора Юссона; друзья Обинье уведомили его, что Юссон рассказал о событиях под Блэ к невыгоде Обинье, предпринявшего это дело. Тогда Обинье взял с собой Лаллю и трех дворян, помогавших ему в этом предприятии; подвергаясь большим опасностям, он проехал восемьдесят миль от Монтегю до Нерака; по приезде он попросил короля призвать на очную ставку с ним Юссона; он рассказал все, как было, и Юссон подтвердил каждое его слово. Таким образом Обинье получил возможность опровергнуть тех, кто хотел бы исказить события; кое-кто из свиты Юссона получил выговор, после чего пришлось искать соглашения. Отсюда заявление короля Наваррского, которое вы найдете в бумагах вашего отца и сохраните как почетную грамоту.
Благодаря этому путешествию Обинье присутствовал в Нераке при дерзком набеге маршала де Бирона, описанном в главе 11-й. Обнаружив эпидемию страха среди гасконских гугенотов, он собрал старых знакомых из Кастель-Жалу и поддержал честь партии. Принцессам и людям, в то время враждебно настроенным, это событие показалось значительней, чем оно того заслуживало. Потом, возвращаясь в сопровождении пятнадцати конных аркебузиров из Кастель-Жалу, Обинье подвергся нападению со стороны шестидесяти легковооруженных всадников де Лаэ, близ Кура. Наш Обинье так искусно нашел выгоды в этом положении, что у нападавших было убито трое дворян, а у него было только двое раненых. Но он едва не покрыл себя позором, продвигаясь среди виноградников Сен-Пре к Жарнаку; в полночь, проходя по узкой тропинке всего с пятью сопровождающими из Монтегю, Обинье первый увидел ехавших ему навстречу всадников; недолго думая, они схватились за шпаги; если бы люди Обинье, не желавшие ввязываться в эту стычку, могли удрать, они бы непременно так и поступили, очутившись с четырех сторон во вражеской осаде и не пользуясь никакой поддержкой в этой местности. Но это было бы явным позором: их противниками оказались два католических священника и двое пьяниц, которые оставили ножны в трактире и поклялись нападать на всех встречных; за это они здорово поплатились.
(1580). Этот год прошел под Монтегю в славных военных упражнениях. Находившаяся там конница состояла из трех бригад; одна была отдана губернатору ла Булэ, другая — господину де Сент-Этьену и немного больше трети — Обинье. Этих всадников прозвали в области «албанцами» за то, что они были всегда в седле. При одном набеге их нападению подвергся Пелиссоньер из отряда герцога дю Мена; потеряв восемь человек, он спасся, но выстрелом из пистолета ему перебило руку. В другом набеге, под Анже, Обинье рассеял роту из полка Брюйера. Тем не менее, Монтегю был осажден.
Вы прочтете в главах 15-й и 16-й о героической подготовке к обороне. Добавлю только, что десять попыток проникнуть в Монтегю, когда в ход пускались то веревка, то кинжал, отбиты были только благодаря умению Обинье разбираться в лицах; тридцатью вылазками, из которых в десяти пришлось вступить в рукопашный бой, руководил Обинье; всего одну вылазку совершил Сент-Этьен с людьми из Нижнего Пуату в подражание подвигам тех, кого они прозвали «албанцами»: но это послужило только к славе Обинье. Знайте же, что Обинье и был тем самым капитаном, коему граф де Люд поручил объявить о мире; заслуга в этом деле, как и во многих других, принадлежит ему, хотя в «Истории» он и укрылся под вымышленным именем.
По заключении мира он нашел в Либурне множество вельмож и удобный случай совершить все то, что описано в главе 2-й книги пятой того же тома. Хочу лишь добавить к сему рассказ об одном галантном происшествии, которое я не осмелился включить в «Историю».
Однажды, гуляя с Обинье на берегу реки Дронны, некий португальский коннетабль[671] стал испускать глубокие вздохи, сорвал с дерева кусок коры (в ту пору деревья были в цвету) и, рассказав на испанском языке о своем томлении по некоей даме, начертал на этой коре следующие строки по-латыни:
Обливаясь слезами, он хотел стать на колени и бросить написанное в воду.
Обинье схватил его за руку, быстро прочитал вслух эти стихи, тут же переложил это латинское шестистишие во французский лирический сонет и записал его на той же коре:
Своей живостью Обинье снискал дружбу коннетабля, и необычным образом они разговорились о религии.
(1584). Теперь упомяну об услуге, которую Обинье оказал королю в деле Лоро[672], которое описано в главе 4-й настоящей книги. В это время король Наваррский был озабочен военными приготовлениями господина де Лансака, с одной стороны, и виконта д'Обтера — с другой, собиравших войска якобы друг против друга под предлогом ссоры. Участвовавший в этом Люссан, которому при дележе шкуры еще не убитого медведя показалось, что его обошли, явился совершенно один к охотившемуся королю Наваррскому и открыл ему, что на Ла-Рошель готовится нападение через решетку, у мельниц св. Николая. Посланный по этому делу, Обинье явился в Ла-Рошельское городское управление и потребовал, чтобы жители выбрали трех человек, которым он мог бы сообщить тайну. Жители Ла-Рошели ответили, что все они, никого не выбирая, хотят узнать ее и все они верны королю Наваррскому. Обинье ответил, что Иисус Христос, значит, сделал неудачный выбор, и, если они не хотят поступить по-другому, то он, Обинье, целует им на прощанье руки. Вынужденные таким образом выбрать трех человек, они нашли решетки перепиленными полностью, не считая двух прутьев. Но Обинье так и не смог убедить их устроить засаду злоумышленникам.
Через месяц заговорщики опять сели на коней. Обещав своему господину расстроить замыслы его врагов, наш Обинье взял нескольких гвардейцев и других солдат — всего до десятка отборных людей — и, смешавшись со всадниками заговорщиков, направился к Ла-Рошели. Ночью Обинье ехал вместе с ними, а днем держался в стороне, решив броситься ночью к воротам города, который подвергнется набегу, взять в подкрепление нескольких аркебузиров и сразиться с заговорщиками в четверти мили оттуда. Это было хорошим средством пресечь всякие попытки нападения.
Проезжая через Кадийяк, король Наваррский попросил великого Франсуа де Кандаля[673], достаточно известного под этим именем, показать ему свой великолепный кабинет. Кандаль согласился при условии, что туда не войдут невежды и насмешники. «Нет, дядюшка, — сказал король, я привезу только тех, кто способен оценить это так же, как я». Он вошел с господином де Клерво, Дю Плесси, Сент-Альдегондом, Констаном, Пелиссоном и с Обинье; пока гости забавлялись, наблюдая, как при помощи машины шестилетний ребенок поднимает тяжелую пушку, Обинье, опередив их, остановился перед плитой из черного мрамора в семь квадратных футов, которая служила Кандалю доской для записей. Найдя все, что необходимо для записи, Обинье взял кисть и, услышав, что его спутники спорят о весе и тяжести, написал по-латыни:
Потом он задернул занавес и присоединился к свите.
Когда они подошли к мраморной плите, господин де Кандаль сказал королю: «Вот мои записи!» Вдруг, заметив и прочитав этот дистих, он дважды воскликнул: «Здесь есть человек!» «Как! а остальных вы разве считаете зверьми?» — возразил король и предложил своему «дядюшке» угадать по лицу, кто из присутствующих выкинул эту штуку. Предложение вызвало множество острот, которые немало меня позабавили.
Придворные только что проводили королеву Наваррскую до Сен-Мексана, ко двору. Со времени пребывания в Либурне королева всегда строила козни против Обинье. Заподозрив, что это он нанес оскорбление (sfrisata) госпоже де Дюра или по крайней мере посоветовал оскорбить ее Клермон д'Амбуазу, она заставила королеву-мать присоединиться к ее просьбе, бросилась на колени перед королем, своим супругом, умоляя его, ради любви к ней, никогда больше не видеться с Обинье. Король ей это обещал. Она не могла простить Обинье нескольких острых слов, сказанных, в частности, по следующему случаю: жена маршала де Реца подарила Антрагу алмазное сердце; отбив Антрага у жены маршала, королева отобрала и это алмазное сердце, чтобы похвастать им; между тем Обинье поддерживал жену маршала в борьбе против королевы, а королева слишком часто возражала: «Но у меня ведь алмазное сердце». «Да, — сказал однажды Обинье, — только кровь козлов может его разъесть».
Для видимости покинув двор, Обинье проводил ночи в комнате своего господина; благодаря этому притворному отсутствию он распознал своих лжедрузей. Он воспользовался этим временем, чтобы отправиться на любовное свидание, пока король будет писать к его любимой. Соперники и некоторые родственники сочли эти письма подложными. Тогда король явился сам; маскарадами, конными состязаниями, игрой в кольца он почтил выбор, сделанный его слугой. Эта любовь развеселила весь Пуату балетами, состязаниями у барьеров, конными парадами и турнирами, устроенными влюбленным. На некоторых из них присутствовал принц де Конде, граф де Ларошфуко и многие другие вельможи. Это только удвоило зависть и вызвало в стране ропот против придворного, который, вместо того, чтобы угождать населению, только ослепляет его. Расскажу вам об одной из его многочисленных любовных хитростей.
По наущению Обинье, его друг Тифардьер после разных ссор притворно помирился с Бугуэном, опекуном девушки, и обратился к нему со следующими словами: «Многие принцы и вельможи докучают вам возражениями против брака Обинье. Я знаю, что у вас к нему не лежит сердце и что вы дали обещание в другом месте: если вы меня не выдадите, я сообщу вам средство отделаться от Обинье так, чтобы он не смог к вам придраться». Опекун согласился и обнял Тифардьера. Тифардьер продолжал: «Вы должны выразить ему уверенность, что, женясь на вашей воспитаннице, он оказывает ей честь, будучи образцовым дворянином и человеком из хорошей семьи. Но как это случается с приезжими, его соперники распускают слухи, будто это не так, не смея подтвердить их в его присутствии. Вы попросите его вспомнить, как на празднестве в одном доме, куда некоторые лица принесли письма господина де Фервака, направленные против Обинье, он, Обинье, сказал им в лицо, что если не сможет набить им сердце опровержениями, набьет им щеки оплеухами. Он знает, что эти истории принудили его послать опровержение господину де Ферваку. А так как все это дошло до сведения госпожи д'Ампьер, герцогини де Рец, госпожи д'Этиссак, графини де Ларошфуко и других столь же знатных дам из того же рода, он хочет показать, что действовал не опрометчиво. Надо было бы заключить соглашение, по которому родственники девушки обязались бы подписать брачный договор, получив свидетельства о благородном и старинном происхождении Обинье и, в случае отказа, обещали вернуть их. «Я отлично знаю, — сказал Тифардьер, — что Обинье не сможет представить подобные грамоты».
Бугуэн поцеловал вестника, поблагодарил его и стал с нетерпением ждать выполнения их решения согласно этому совету. Обинье же, который раньше никогда не заботился ни об имуществе, ни о доме, ни о титулах, теперь получил вместе с частью мебели и родовые грамоты из аршиакского замка, куда они были положены на хранение. Узнав таким образом о своем происхождении, он прибег к надувательству и, чтобы удачно повести дело до конца, выбрал господина де Корнью, родственника своей возлюбленной, чтобы вручить ему свое сокровище, предупредив его: кто из родственников, боеспособных по возрасту, в это вмешается, будет иметь дело с Обинье. Итак, собравшись, господа де Маре, де Бугуэн, ла Тайе и Корнью обнаружили любопытное исследование о ссоре и тяжбе между отцом Обинье и дворянином по имени Арденн, спорившими о почетном месте в одном шествии, причем Обинье-отец утверждал, что происходит из дома анжуйских Обинье. А так как вышеупомянутый Арденн сослался на вольные ленные права и выставил против Обинье-отца королевских чиновников, причем тяжба стоила больше тысячи экю и продолжалась три года, надо было представить брачные договоры и разделы имущества по шести линиям. Все происходило от некоего Савари д’Обинье, уполномоченного короля английского в Шинонском замке. Пришлось также показать родственникам невесты часовню, им возведенную и украшенную родовым гербом, на котором изображен был стоящий на задних лапах вооруженный серебряный лев на золотом поле. Господа де ла Жуслиньер, происходившие от той же ветви, с тех пор покрыли своего льва горностаем. Эти вещи были, таким образом, найдены, и Обинье потребовал у старцев обещания составить и подписать свое решение, чтобы у него было на кого сослаться. После этого по возвращении к наваррскому двору, согласно условию, он женился на любимой девушке[674].
Через три недели, вернувшись в По, он нашел своего государя в великом гневе после гнусных оскорблений, которым королева Наваррская подверглась в Париже[675]. Об опасном путешествии, неохотно предпринятом Обинье в связи с этими событиями, вы прочтете в главе третьей книги, где он не захотел упомянуть о принятом им необычном решении убивать направо и налево кого попало в кабинете, если ему будет угрожать кинжал. Он не упомянул и о том, как проездом через Париж, дав переписать и засвидетельствовать свои бумаги, он послал подлинники в запечатанном ларце на хранение жене и запретил открывать его. Вопреки любопытству, свойственному ее полу, жена исполнила это приказание. Еще я должен сказать, что Сен-Желе, находившийся в По, впал в такое уныние после отъезда своего друга, что перестал стричь волосы и бороду. Увидя, что его посланец живой и невредимый входит в дворцовый сад в По, король тотчас сказал одному дворянину: «Передайте Сен-Желе, чтоб он остригся».
Несколько лет спустя герцог д’Эпернон по ходу своих дел приложил много усилий, чтобы помирить обоих королей. Находившиеся при короле Наваррском паписты строили всяческие козни, чтобы внушить ему желание поехать ко двору[676]. Председатель совета Сегюр решительно воспротивился этому благодаря вмешательству Обинье. Зная характер Сегюра, злонамеренные лица нашли способ отправить его ко двору. Там они приготовили ему столько услад, что овладели душой этого человека, склонного к крайностям, и тогда он обещал привезти своего господина, а по возвращении только и говорил, что король — ангел, а пасторы — дьяволы. Он примкнул к графине де Гиш[677], которую незадолго до того поносил. Наваррский двор был очень удивлен предполагаемым путешествием государя. И вот к какому средству прибег Обинье, особенно хорошо знавший Сегюра: однажды, когда Сегюр проходил через зал, где молодые придворные бились на рапирах, разгоряченный этими упражнениями Обинье, взяв его за руку, подвел к окну, выходившему на Ваизские скалы, и, указав ему на пропасть, сказал: «Я уполномочен всеми честными людьми этого двора обратить ваше внимание на этот обрыв, откуда вас заставят прыгнуть в тот день, когда наш государь уедет ко двору». Крайне удивленный, Сегюр спросил: «Кто посмел бы это сделать?» — «Если я не смогу сделать это один, — ответил Обинье, — вот мои товарищи; они на это готовы». Обернувшись, Сепор тотчас увидел десяток храбрейших юношей, нахлобучивших шляпы, как подучил их Обинье, хотя они не знали, о чем идет речь. Испугавшись, Сегюр отправился к королю, но рассказал ему не о своем страхе, а о том, что будто Обинье открыто называл графиню де Гиш колдуньей, обвинял ее в отравлении разума короля, сопоставляя ее ужасную рожу со страшной любовью, которой она воспылала, и советовался с врачом Оттоманом о питье, чтобы расколдовать короля. Сегюр прибавил, что у гугенотского государя столько же надзирателей, сколько слуг. Он еще рассказал, что господин де Бельевр, живущий напротив дома графини, увидя, как она шла к мессе в сопровождении только сводника, шута, влюбленного в мавританку, слуги, обезьяны и пуделя, упомянул в беседе с Обинье о почестях, воздаваемых при дворе подругам королей, и спросил у него, неужели наваррские придворные потеряли честь и почему эта дама показывается со столь скверной свитой. «Дело в том, — ответил злоречивый человек, — что при дворе есть благороднейшая знать, но видите вы здесь только сводников, шутов, слуг, обезьян и пуделей».
После этого, совершив поездку в Пуату, Обинье был предупрежден ла Булэ и Констаном, чтобы он остерегался вернуться: графине и Сегюру обещана его смерть. Получив это письмо в Мон-Лье, он оставил там своих лошадей, пересел на почтовых и приехал. У дворца он увидал Булэ, который, в отчаянии ломая руки, стал умолять его уехать. Но Обинье, против обыкновения, привесил к поясу кинжал и, пройдя через потайные двери, застал врасплох короля и графиню, одних, в кабинете старой королевы. Король колебался, не зная, как принять Обинье. Тот даже в лице не изменился; пользуясь близостью к своему господину, он не чинясь, спросил его: «Что случилось, мой повелитель? Почему столь храбрый государь дает себя увлечь столькими сомнениями? Я приехал узнать, виноват ли я и хотите ли вы заплатить мне за службу, как славный государь или как тиран». Смутившись, король ответил: «Вы ведь знаете, что я вас люблю, но прошу вас успокоить Сепора». Отправившись тотчас же к Сегюру, Обинье так потряс его упреками в подлости и видом кинжала, что Сегюр явился к королю со словами: «Государь, этот молодой человек честнее нас с вами». В доказательство примирения он велел выплатить Обинье причитавшиеся ему за его поездки две тысячи пятьсот экю, получить которые Обинье уже не надеялся.
Вернувшись к мужу, королева Наваррская примирилась со всеми, кроме Обинье. Тем не менее приглашенный на совещание лиц, замышлявших убить королеву, он своими укорами расстроил эти замыслы; за это король его поблагодарил.
Вступая в брак, Обинье обязался купить в Пуату землю ле Шайю. Между тем секретарь Паризьер предупредил короля, что необходимо воспрепятствовать трем делам в этой области: браку принца де Конде из-за Тайбура, браку д’Обинье из-за Марсэ и браку ла Персонна из-за Денана; тогда по этим трем делам были отправлены письма и распоряжения. Начались происки, но против ле Шайю они не удались: Обинье пристыдил прокурора и генеральных адвокатов Пуату за то, что приближенные навязывают великим государям столь низкие и недостойные цели.
(1585). Вскоре началась война Баррикад, перед которой гугенотские принцы съехались на важное совещание в Гитре[678].
То, что там произошло, подробнейшим образом описано в главе пятой книги тома II, там же рассказано о жестокой и кровавой битве при Сен-Манде; мне нечего добавить к сему повествованию.
Что же до поездки герцога де Меркюр в Пуату, то скажу лишь, что Обинье, служивший там боевым сержантом, начал с того, что против желания своего начальника приказал выдать пики пехотинцам, хотя маршал этих людей ненавидел. В «Истории» Обинье описал все это, скрыв себя под званием боевого сержанта.
Вскоре после Сен-Желе Обинье с десятком дворян и еще пятнадцатью солдатами взяли в плен три роты пехотинцев в Бриу, заставив их подписать капитуляцию; здесь применено было известное положение договора, опровергающее ту самую гнусную статью Собора в Бодензее.
(1585). Когда принц де Конде осадил Бруаж, он сделал вылазку в Анже[679], о чем вы можете прочесть в главе 12-й книги пятой; в этом деле Обинье подвергся величайшим опасностям, из коих самая удивительная описана ниже. В течение трех недель ходили слухи, будто Обинье убит в одном из уже помянутых боев; слухи эти достигли и госпожи д'Обинье; в один прекрасный день на ее скотный двор пришло пятнадцать коней и семь мулов мужа, которые среди других вещей привезли его шляпу и шпагу; при этом зрелище госпожа д'Обинье упала в обморок. Дело в том, что при выезде из пригорода Анже багаж Обинье, по его приказанию, последовал за полком, а сам Обинье оставил при себе лишь шапочку, надеваемую под каску, очень короткую шпагу и протазан; потом, вступив в родные места, он известил жену о своем прибытии двумя записками, из которых одну послал с расстояния десяти миль от дома, опасаясь, как бы от внезапной радости она не умерла.
(1586). По приезде он надеялся извлечь из своих неудач выгоду: отдохнуть; но герцог де Роан, жители Ла-Рошели и в особенности пасторы в полном составе заклинали его опять привести свой полк в боевую готовность и снова поднять знамя Израиля; при этом они поднесли ему необходимые для этой цели дары. Он начал с четырех рот, имевшихся в его распоряжении при осаде, потом выбрал остров Рошфор, чтобы обеспечить начало военных действий, собрал тысячу сто человек и двинулся на Пуату, где и совершил то, что описано в начале тома III (книга первая, глава 2-я). Следует также добавить, что он намерен был укрепиться на островах Ва и Сен-Филибер, не дожидаясь просьб господина де Лаваля. Оказавшись, вследствие этого, в опасности во время осады Сентонжа и Пуату, Обинье захватил Ольрон, где допустил важную ошибку: обнаружив некоторое сопротивление на острове, он настрого запретил своим офицерам пытаться высадиться на берег до него. Побуждаемый тщеславным чувством, он сел в лодку, взяв с собой Монтея и капитана Пру в качестве гребца. Вдруг, в трехстах шагах от своего корабля, ошеломленный, он увидел, что приближавшаяся к нему рыбачья барка оказалась военным судном, на котором находился капитан Медлен, искусный и прославленный воин. Располагая только шестьюдесятью мушкетами, но хорошо зная приемы плавания и береговые пески, капитан поднял паруса. И вот он плывет прямо на будущего ольронского губернатора. Пру кричит Обинье: «Вы погибли, единственное средство спасения для вас — пройти под бушпритом этого судна». Обинье соглашается. Пру поворачивает прямо на врагов; поняв его намерение, Медлен велит направить на него мушкеты и с двадцати шагов поливает лодку свинцом. Благодаря горячности неприятеля при стрельбе у Монтея была пробита только одежда. Пру был легко ранен, а Обинье остался невредим. Когда они отошли на десять шагов от носа судна, Пру встал и крикнул: «Повесьтесь, палачи: это ольронский губернатор!» Тут корабли не преминули дать по ним еще залп, но понапрасну: лодка врезалась в песок, они высадились, и в то же время на берег бросились солдаты Обинье; защитники острова бежали.
Добавлю к тому, что содержится в «Истории», следующее: в первый вечер, когда армия, прибывшая на пятидесяти судах, готовилась к высадке, два шлюпа с Ольрона, на каждом из коих было по двадцать человек, ворвались в самую середину армады, захватили две сорокатоннажных барки и начали буксировать их к берегу, под залпами с обеих галер; один из шлюпов был перехвачен, второму удалось достичь Ольрона. Происшествие это описано в книге первой тома III.
Знайте также, что в продолжение всего ольронского боя Обинье был только в рубашке, кроме двух раз, когда надел каску, чтобы отправиться на разведку. Островитяне собрали четыре полные повозки припасов, среди которых были приготовлены три дюжины фазанов, с целью порадовать ими господина де Сен-Люка. Подъехав к местечку и увидя перемену в судьбе, они захотели вернуться. Этому воспротивился прокурор острова, большой весельчак и шутник; он привез эти припасы и сказал Обинье: «Сударь, не надо скрывать положение дел, мы приготовили этот подарок для того, кто останется хозяином».
Первым распоряжением после освобождения острова было снять с должности капитана Бурдо, сержант-майора, за то, что, обязанный защищать лучшую часть окопов, он со своей ротой решил сдаться отдельно. Было принято решение перерезать этих людей. Но старый военачальник, по имени Лаберт, заявил, что подобное кровопускание нецелесообразно. Тогда Обинье ввел в караулы двадцать дворян, обеспечивающих верность роты. В свое оправдание Бурдо ссылался на то, что его отряд по большей части состоял из папистов. Вскоре начали возводить укрепления; в две недели соорудили завалы и в три месяца — два рва, из которых один наполнили ключевой водой, а другой — морской, с рыбами, пресноводными и морскими.
Прибыв в Ла-Рошель, король Наваррский посетил Ольрон, но не пожелал увидеть солдат местного гарнизона на вечернем параде, потому что граф де Ларошфуко уведомил его, что они отняли у купцов, плывших мимо Ольрона, двести пар пунцовых штанов с серебряными позументами. К тому же великолепные пиры, которые Обинье задавал всем придворным, вызвали зависть государя и слуг.
Католики из Бруажа произвели пять вылазок на остров, но каждый раз бывали отбиты, и скоро больше не осталось солдат, которые не были бы взяты в плен. Однако все они были отпущены на свободу за выкуп, кроме тех, кто был захвачен в большом сражении. Этим пришлось вызволять галеры капитана Буассо и его сподвижников. Веселое это положение завершилось взятием в плен самого губернатора, каковое описано в конце главы 5-й. Затем последовало решение Обинье вернуться в тюрьму, где он доказал свою верность. В смертельной опасности он обратился к Богу с молитвой, которую на следующий день, освобожденный, переложил в латинскую эпиграмму, впоследствии помещенную среди других его эпиграмм и начинающуюся словами: Non te caeca latent[680].
Я уже говорил вам о завистливом характере короля Наваррского. Вот вам некоторые образчики. Один молодой человек из хорошей ларошельской семьи презирал бедного пехотинца, младшего офицера, под командой которого он служил и по приказу которого дважды стоял под ружьем. Однажды он оскорбил его, крикнув: «Ты мне не командир!» Офицеры гарнизона, собравшись, приговорили его к расстрелу. По просьбе младших офицеров этот приговор был заменен разжалованием и исключением из списков. Тогда тетка этого молодого человека, при посредничестве двоюродной сестры, рассказала королю о суровом приговоре, на который жаловался ее племянник. Воспользовавшись этим случаем, чтобы оскорбить Обинье, король послал за ним пристава совета.
Ольронский губернатор, считая, что король призывает его, чтобы узнать его мнение о приближении маршала де Бирона[681], был поражен, увидя своего молодца, разодетого в шелк, стараниями его кузины, и сопутствуемого мэром Гитоном и двадцатью другими родственниками, ждавшими у дверей совета. Насмешливо отвесив несколько поклонов входившему Обинье, король сказал: «Да хранит вас Бог, о Серторий[682], Манлий Торкват[683], старый Катон[684], и, если в древности существовал военачальник еще суровей, да сохранит вам Бог и его!» На эту колкость Обинье немедленно ответил: «Если дело идет о правиле дисциплины, против которой вы являетесь обвинителем, позвольте заявить вам отвод». Тут он вышел в другую комнату. Не пожелав сесть, Обинье сослался только на отказ в повиновении и замолчал. После обмена мнений председательствовавший господин де Вуа горячо поблагодарил Обинье, попросил его и впредь защищать дисциплину от дурных начальников, во власти которых она находится, и прибавил: «Мы должны исправить только одно: столь справедливо приговорив к смертной казни бунтовщика, стоявшего на часах, вы, однако, взяли на себя смелость смягчить этот приговор, между тем как это право принадлежит только генералу». Очень довольный, что его порицают именно за это, Обинье заявил совету, что, будучи отрезан морем от материка, а также имея поручение отливать пушки и готовиться к сражению, он позволил себе простить солдата. С его объяснениями согласились, а короля долго открыто порицали за его вражду к поддержанию порядка и к справедливому правлению. Подобные колкости и в особенности продажа ольронского округа врагам, чего Обинье не мог вынести, так как приобрел его слишком дорогой ценой, вызвали в нем желание вернуться домой и внушили ему справедливую жажду мщения. Он пришел к несправедливой мысли, которой раньше не могли породить в нем ни огорчения, ни опасности: выйти в формальную отставку и потом умереть при выполнении какого-нибудь великого дела. Но, видя, что партия привержена религии, он решил презреть все, чему его наставляли с детства, взяться за изучение спорных пунктов религий и жадно искать в римско-католической вере хотя бы крупицу для спасения души. В гневе он обнаружил и огласил это намерение. Тогда господин де Сен-Люк, де Лансак, д’Ала и другие враги-паписты послали ему отовсюду книги. Сначала Обинье принялся читать Панигаролу[685], но бросил его за болтливость. Потом Кампиануса, и был восхищен его красноречием. Но это было не то, чего он искал, и, отбросив эту книгу, он написал на титульном листе: «Declamationes»[686] вместо: «Orationes»[687]. Потом ему попалось под руку все, что в то время было издано Беллармином. Он проникся приемами и силой этой книги, ему полюбилось кажущееся простодушие автора, приводящего выдержки из враждебных ему текстов; он надеялся найти то, чего искал. Однако, принявшись за любознательное исследование с помощью Витакера и Сибранда Люберта[688], он больше чем когда-либо утвердился в своей вере, а тем, кто спрашивал у него о плодах его чтения и о его намерениях, отвечал, что победил соблазн усердием, ибо перед чтением становился на колени и молился.
Через шесть месяцев дела партии пришли в жалкое состояние. Король старался помириться с Обинье и в знак примирения дать ему на воспитание своего новорожденного побочного сына[689]. Обинье оставил это предложение без внимания. Тогда король предложил ему предпринять разведку к Тальмону[690].
(1587). Как раз в то время, когда герцог де Жуайез собирался в свою первую поездку в Пуату, албанцы послали вызов к сражению на копьях двадцати шотландским дворянам[691], о чем рассказывается в главе одиннадцатой книги первой последнего тома. Добавлю к сему, что Рузий, начальник албанцев, сказал: если один из шотландцев погибнет, албанцы отнюдь не уменьшат численности своих бойцов; на это Обинье заметил, что он в таком случае станет на сторону шотландцев, — последовал ответ, что тот будет тогда албанцем; в заключение Обинье произнес: «Будем же шотландцами и албанцами, и пусть ни один не погибнет», каковые слова и были скреплены рукопожатием.
К чести армии, разведка эта способствовала поражению двух главных отрядов герцога де Жуайеза, как вы и увидите из главы 12-й следующей книги. После этих трудов и сражений Обинье проболел четыре месяца. Еще не выздоровев и узнав о готовящейся битве, он направился в Тайбур. Не найдя там уже выступившей армии, он, за неимением лучшего прикрытия, набрал пятнадцать отделившихся аркебузиров, восемь всадников и много челяди; из них, опасаясь засад в Сенте, он составил цепь как можно длинней, что было легко сделать, так как эти люди привыкли к беспорядку; это послужило ему на пользу, когда он наткнулся на три роты в трех засадах, ночью, в очень густых лесах, на узкой дороге. Благодаря длинной цепи все три засады были сняты и его солдаты не были окружены. Обинье два раза атаковал врага и несколькими ударами шпаги рассеял эту сволочь; люди из Сента унесли мертвым одного лейтенанта и одного ротного знаменосца, а также нескольких солдат, раненных в схватке, у Обинье ранен был только один человек. Удачно распутав это дело, Обинье присоединился к армии при ее выходе из Монгиона и на следующий день служил королю оруженосцем в сражении, пока король ехал на своем куцехвостом коне. Потом в числе пяти членов военного совета Обинье участвовал в выработке плана сражения, и король не отверг его мнения. Особенно хорошо поступил Обинье, предохранив левый фланг, как это описано в главе 14-й[692]. Перед боем король переменил коня: тогда Обинье занял место среди бригадных генералов. В стычке после первого натиска он вынужден был иметь дело с господином де Во, лейтенантом господина де Бельгарда, который, увидя, что у противника лицо открыто (так как Обинье был еще слаб), сильно ударил его мечом, но попал в подбородник шлема; там же Во, не имея шлема, получил удар в правый глаз. Обинье пронзил ему голову. Уже раньше три или четыре раза, в разных местах, Обинье имел дело с этим же противником. При преследовании к нему присоединилось десять видных дворян, попросивших его начальствовать над ними, что он и сделал. На протяжении трех миль они гнали врагов с боем, помешав им собрать свои силы.
У короля Наваррского руки теперь были развязаны; он пожелал осуществить в Бретани некий замысел, который Обинье пятнадцать лет назад хотел поручить господину де ла Ну, а потом виконту де Тюренну. Этот последний преклонил колени перед королем, предлагая выполнить поручение. Но государь, не желая ничего прибавить к славе первого и могуществу второго, долго отказывался, а потом пожелал осуществить этот замысел при помощи более хрупкого орудия, которое можно будет разбить, когда оно слишком заблестит. Поэтому он поручил это дело дю Плесси-Морнэ и заставил Обинье, как автора плана и человека нужного, помогать ему в работе. Обинье согласился и на это, как на почетное предложение, но указал королю, что дело не удастся, так как морские силы подчинены сухопутным, а должно быть наоборот; так и случилось.
(1588). Между тем государь осадил Бовуа-сюр-Мэр, где пожелал вырыть траншею, состязаясь с несколькими полковниками; но, увидя, что те его опережают, поручил свою работу Обинье. Чтобы опередить их, Обинье выбрал восемь капитанов, дал каждому по шести солдат с наспех сделанными щитами и начал рыть свою траншею от края рва.
Кое-что об этом деле рассказано в 7-й главе книги второй.
По возвращении оттуда между Сен-Жаном и Ла-Рошелью король Наваррский, усадив рядом с собою господина де Тюренна и Обинье, поведал им свои сомнения: жениться ли ему на графине де Гиш, которой он дал безусловное обещание? Он попросил первого и приказал второму быть готовым на следующий день высказать свое мнение: первого — как доброго друга, второму — как верному слуге. Ночью господин де Тюренн, опасаясь этого поручения, придумал предлог, чтоб уехать в Маран, а Обинье, связанный своей должностью в качестве оруженосца, решил исполнить свой долг. Утром, едва выехав из города и запретив кому бы то ни было приближаться к нему, король взял с собой одного Обинье. Сказав несколько слов об отговорке виконта, он принялся говорить и в течение двух с половиною часов привел тридцать историй о древних и новых государях, которые оказались счастливыми, женившись ради своего удовольствия на женщинах более низкого происхождения. Потом коснулся такого же количества других браков, в которых стремление вступить в выгодное родство оказалось гибельным и для государя и для государства. В заключение он упомянул о несправедливости тех, кто бесстрастно хочет распоряжаться страстной душой государя. Наконец король сказал Обинье: «На этот раз я особенно нуждаюсь в вашей прямоте». Обинье же, проведя ночь в мыслях о порученной ему задаче и получив приказание говорить откровенно, начал с того, что ненавидит дурных слуг, подыскивающих подобные истории для своих господ и непростительно виновных в том, что бесстрастно разжигают простительную страсть. «Государь, — сказал он, — все эти примеры прекрасны, но бесполезны для вас: ведь упомянутые вами государи пребывали в состоянии мира, их не преследовали, они не скитались, как вы. А вашей душе и вашему положению опорой служит только добрая слава. Государь, вы должны различать в себе четыре звания: Генриха, короля Наваррского, наследника французской короны и покровителя церквей. У каждой из этих особ есть свои слуги, которых вы должны оплачивать в различной монете, по их различным должностям. Тем, кто служит Генриху, вы должны поручить Генриха, то есть дела вашего дома; слугам короля Наваррского — обязанности вашей верховной власти; тем, кто следует за дофином[693], вы должны платить надеждой, ибо их привлекает надежда, и манить их к этой прекрасной цели, проявляя щедрость. Но платить тем, кто служит покровителю церквей, задача трудная для государя, ибо награда этих людей — усердие, честность, добрые дела; кто является в каком-нибудь отношении вашим слугою, в другом — ваш сотоварищ, но при условии, что он должен оставить вам наименьшую долю опасностей и наибольшие почести и выгоды войны. Зная, как вы ненавидите чтение, я не подозреваю вас в том, что вы нашли приводимые вами примеры в книгах. Этот неправедный труд должен быть последним для тех, кто взялся за него, чтобы угодить вам, причиняя вам вред. Все упомянутые вами государи не имели значительных слуг, которые являлись бы судьями и помощниками своих повелителей; их слуги должны были терпеливо выжидать, пока пройдет государев гнев и смолкнет брань. Итак, государь, поделите ваши мысли и отдайте по крайней мере половину их слугам, благодаря которым вы существуете. Я сам был слишком влюблен, чтобы надеяться или желать разбить ваше сердце своими доводами. Вы охвачены страстной любовью; не надо больше обсуждать, сумеем ли мы изгнать ее; но говорю вам: чтобы насладиться любовью, вы должны стать достойным вашей возлюбленной. По виду вашему я заключаю, что вы находите эти слова странными. Я хочу сказать, что ваша любовь должна пришпорить вас, чтобы вы добродетельно занялись делами. Возлюбите ваши Советы, которых вы бежите, отдайте ваше время свершению нужных дел, преодолейте мелкие недостатки (они вам вредят) и лишь потом, победив врагов и невзгоды, возьмите пример с упомянутых вами государей, когда по своему положению уподобитесь им. Герцог Анжуйский умер, вам остается подняться только на одну ступеньку, чтобы достигнуть трона. Примите еще одно свидетельство моей верности: не совершайте наполовину дела настоящего времени в тщеславной надежде на будущее; теперь вы меньше заботитесь о государстве, которое принадлежит тому, кто придет (с Божьей помощью). Но если вы занесли ногу, чтобы взойти на ступень до того, как эта ступень опустела, как это бывает при фехтовании, достаточно будет одного удара, чтобы повалить вас, если в это время ваша нога повиснет в воздухе». Король Наваррский поблагодарил Обинье и клятвенно обещал отложить на два года свою женитьбу.
По приезде в Сен-Жан Обинье помог государю сойти с коня и, узнав, что господин де Тюренн, утомленный дорогой, лег в постель, пошел пересказать ему свою речь. Конец ее прервал явившийся король. Он пересказал виконту вышеприведенные слова в том же порядке, но так, как если б они не исходили от другого лица, а были порождены его собственным воображением.
Вскоре начались приготовления к осаде Ниора. Уезжая последним, взяв с собою двух лакеев, чтобы отослать их государю, Обинье получил известие о смерти господина де Гиза[694] и повез эту новость за три мили от театра военных действий. При взятии Ниора ему выпало на долю выдержать натиск капитана Кристофа и зажечь первую петарду. Потом, взяв с господ Сен-Желе и Парабера обещание, что они последуют за ним, он повел первый отряд. Затем он вступил в неудачный бой с отрядом дАрамбюра. С обеих сторон погибло три дворянина и два солдата; один его большой друг потерял глаз[695]. Вы прочтете в главе 16-й книги второй о том, как в Майезэ, взятом после Ниора[696], Обинье остался губернатором, к досаде своего государя, намеренно давшего ему этот самый жалкий округ, чтобы заставить его убраться. Но Обинье слишком устал бросаться в разные стороны.
Надо было пойти на помощь в Ла-Гарнаш[697], куда, вопреки советам Обинье, выступил господин де Шатийон[698] и сам повел свои войска ночью; часть их погибла бы без подкрепления Обинье. Когда Обинье вернулся, оставшийся из-за болезни в Ла-Мотт король захотел по выздоровлении посмеяться: он приготовил приказ о предстоящем деле поблизости от Майезэ. Но губернатор велел подделать другой, совершенно сходный, приказ для своих людей, чтобы отделаться от короля. Когда же извещение пришло, король сказал ему: «Мы думали поднять ложную тревогу, но пришло настоящее уведомление, что вы должны спешно вернуться в свою крепость». Обинье весело вернулся к себе. Это явилось первым отдыхом, или, вернее, первой передышкой среди трудов, которые он выполнял приблизительно с пятнадцати до тридцати семи лет. По справедливости, Обинье мог сказать, что, кроме тех дней, когда он болел и страдал от ран, он не провел без работы и четырех суток подряд.
После свидания королей[699] и сражения при Туре, куда прибыл Обинье, король осадил Жержо; там Обинье вместе с Фронтенаком совершил то, что описано в главе 21-й той же книги, где он называет себя «еще один человек». Он повел добровольцев на осаду Этампа, потом он стоял под Парижем в одном из пяти конных пикетов, которые расставил сам король; после смены караула, желая вызвать на бой Сагонна, Обинье один, тайком отправился на Пре-о-Клерк. Там он окликнул передового всадника, по имени Леронньер, квартирмейстера при графе де Тоннере. Всадник ответил ему только бранью и отказом, вызывая его на бой, впрочем, представлявшийся невозможным: их разделял огромный ров. Увидя на этом человеке посеребренное оружие, Обинье решил разглядеть его поближе, но, так как там протекала река Орж, не заметил рва и был очень удивлен, очутившись на самом краю его, и тут волей-неволей должен был, пришпорив коня, решиться на все. Хорошо, что его конь умел славно прыгать. Его противник на другом краю рва встретил его пистолетным выстрелом; тотчас же к горлу его был приставлен пистолет Обинье. Он был вынужден просить пощады и безоговорочно сдаться, хотя восемь или десять всадников поскакало к нему на помощь. Он был живьем привезен к принцу де Конти и к господину де Шатийону, находившимся не ближе Вожирара. Только что раненный король Генрих III[700] был обрадован этим происшествием; он пожелал видеть пленника, но, вопреки приказанию своего государя, Обинье не захотел, как он выразился, шарлатанить.
Король Наваррский, который должен был теперь стать французским королем, повел ночью в покои умиравшего короля восемь своих приближенных, надевших панцири под камзолы. Озабоченный до крайности множеством дел, он запер в одной комнате Лафорса и Обинье, который произнес речь, приведенную в главе 23-й книги второй[701].
(1590). В первый же вечер, когда французская и испанская армии очутились одна против другой между Шель и Ланьи, король приказал Обинье снять стоявшие днем пикеты. Приняв Обинье за командира, испанские конные стрелки вовлекли его в стычку, в которой он чуть не погиб. На следующий день, находясь при ставке короля, Пишри и он тайком отлучились с целью разжечь перестрелку, казавшуюся им слишком вялой. Затем они воевали в Рулэ, что описано в конце главы 7-й книги третьей; там же именно Обинье явился посредником между королем и маршалом Бироном.
В той же книге, в главе 10-й, рассказывается о его делах; там выведен он в звании полковника, а также и офицера, под чьим предводительством был взят Монтрей.
О нем же идет речь в главе 14-й, там, где описывается, как посол Эдмонт вмешался в бой, дабы спасти Обинье, равно как спас его, сброшенного с коня двумя ударами копья, Арамбюр.
При осаде Руана король почтил его званием боевого сержанта, по предложению герцога Пармского. Здесь Обинье восхваляет своего господина, превзошедшего в храбрости и Роджера Виленса и его самого; в главе 22-й приводится речь Обинье, опровергающая речи д’О, убеждавшего короля отречься от своей религии. К этому надо прибавить, что при перестрелке под Пуатье Обинье признал Плюзо и остерег его от аркебузной стрельбы; за это он был награжден здоровым выстрелом из мушкета, попавшим в правое плечо его коня, причем пуля вышла через бедро сзади; конь не испугался; это был тот же конь, по имени Паспорт, который перескочил ров на Пре-о-Клерк.
Обинье прибыл к осаде Ла-Фер в Шони. Он носил траур по жене, умершей несколько месяцев назад; впоследствии в течение трех лет он не провел ни одной ночи, не оплакивая ее. Желая удержаться от слез, он сжимал руками селезенку, вследствие чего у него образовалось скопление застывшей крови; однажды он испражнился ею: она вышла в виде плотного сгустка. Принять участие в осаде его побудили следующие обстоятельства: на одном съезде, когда он работал над делом, о котором вы прочтете дальше, его сотоварищи сказали, что его стойкость вызвана только отчаянием. По их словам, он никогда не пользовался милостью короля и не смеет появиться перед ним. А так как король за столом, при всех, поклялся его убить, Обинье, чтобы отменить это решение, совершил шесть путешествий, из которых одним и явился его приезд. Как только он прибыл в дом герцогини де Бофор, где ждали короля, два видных дворянина сердечно посоветовали ему ехать, потому что король гневается на него. И действительно, Обинье услышал, как несколько дворян спорили, передадут ли его в руки караульного начальника или дворцового коменданта. Тем не менее вечером Обинье стал между факелоносцами, ждавшими короля. Когда карета остановилась у крыльца, он услышал, как король сказал: «Вот монсеньор д’Обинье». Хотя это величание титулом монсеньора пришлось Обинье не по вкусу, он подошел к выходившему государю. Король приложил щеку к его щеке, приказал ему помочь герцогине[702] выйти, а ей велел снять маску, чтобы поздороваться с Обинье. Тогда в толпе послышалось: «Вот вам и комендант!» Запретив другим следовать за собою, король ввел одного Обинье со своей возлюбленной и с ее сестрой Жюльеттой. Обинье гулял между герцогиней и королем больше двух часов. Тогда-то и были произнесены слова, впоследствии передававшиеся из уст в уста. Показав при свете факела свою пронзенную губу[703], король выслушал и не истолковал в дурном смысле следующее предостережение Обинье: «Государь, пока вы отреклись от Бога только губами, он пронзил вам только губы, но когда вы отречетесь от него в сердце своем, он пронзит вам и сердце!» Герцогиня воскликнула: «О, какие прекрасные слова! Но к месту ли они сказаны?» — «Нет, сударыня, не к месту, — сказал Обинье, — ибо они ни к чему не послужат».
Восхищенная смелостью Обинье, эта дама пожелала снискать его дружбу. Король тоже этого хотел, замыслив поручить нашему Обинье воспитание маленького Сезара, нынешнего герцога Вандомского[704]. Он велел принести ребенка и голого положить его на руки Обинье. Когда ребенку исполнится три года, — предполагал король, — Обинье повезет его в Сентонж, чтобы воспитать его и укрепить его положение среди гугенотов. Но так как это намерение было оставлено, бросим и мы говорить о нем.
Нелишне будет упомянуть в конце 12-й главы и о том, что король, тяжко заболев, послал за уезжавшим Обинье. Заперев его в своей комнате, дважды став на колени и помолившись, он приказал ему во имя всех горьких, но полезных истин, которые когда-то высказал Обинье, решить, согрешил ли он, король, против Святого Духа. Сначала Обинье попытался заменить себя пастором, потом заговорил о четырех проявлениях этого греха: во-первых, король сознательно сотворил зло; во-вторых, одну руку он протянул духу заблуждения, а другой оттолкнул истину; в-третьих, жил без покаяния, каковое действенно только при настоящей ненависти к греху и к самому себе за этот грех; в-четвертых, через все это он потерял веру в милосердие Божье. Для разрешения вопроса Обинье посоветовал королю познать самого себя. После четырехчасовой речи Обинье и шестикратно сотворенной королем молитвы диалог этот был прерван. На следующий день, чувствуя себя лучше, король больше не захотел слушать эти речи.
Вы слышали, что короля разгневали религиозные дела. Знайте же, что за несколько месяцев до этого в сен-мексанском[705] синоде Обинье поднял вопрос о давно проигранных делах, начав говорить о них во время ужина за круглым столом; результаты этой беседы описаны в главах 10-й и 11-й помянутой книги.
Потом, на большом съезде, продолжавщемся около двух лет, в Вандоме, Сомюре, Лудене и Шательро, Обинье, всегда выбираемый в числе трех или четырех лиц, смело выступавших против уполномоченных короля, сделал несколько выпадов, озлобивших против него государя и еще больше весь двор. Председатель Канэ, иначе Лефрен, готовясь отречься от протестанства и обратиться в католичество, был принят в число высокопоставленных лиц герцогом Буйонским, некогда виконтом де Тюренном, желавшим прославиться больше, чем великие государственные мужи, которые вели переговоры в Шательро. Канэ внес важные предложения во славу верховной власти и в ущерб партии. Тогда Обинье, заметив, что шесть человек, высказавшихся до него, значительно понизили тон, повысил голос больше, чем когда-либо. Прервав его речь, Лефрен-Канэ встал и воскликнул: «Разве так ведут себя на королевской службе?» Обинье возразил: «Кто вы такой, чтоб учить нас, что такое королевская служба? Мы несли ее до того, как вы стали пешком под стол ходить. Не надеетесь ли вы столкнуть служение королю со служением Богу? Научитесь же не перебивать речи и молчать, когда надо!» Они дошли до колкостей. Наконец Лефрен воскликнул: «Да где мы находимся?» Обинье ответил: «Ubi mures ferrum rodunt»[706]. Это очень кстати подействовало на присутствующих: в то время разбирался вопрос о безопасности в крепостях.
Этот председатель, ни у кого не пользующийся уважением, выставил Обинье в плохом свете перед королем. Когда же герцог Буйонский хотел указать, что надо почитать председателя, столь высокопоставленное должностное лицо, Обинье возразил: «Да, должностное лицо, которое готовится отречься». Через три месяца Лефрен так и поступил. Кончилось тем, что во всех колкостях и резкостях на совещании обвинили Обинье; он был прозван «козлом отпущения»[707], потому что все срывали злобу на нем.
Король также гневался. Однако когда был поднят вопрос, где поместить пленного кардинала Бурбонского[708], которого Лига провозгласила королем и который чеканил во Франции монету под именем Карла X, его решили перевезти из Шинона, где он находился под надзором господина де Шавиньи, в Майезэ, где губернатором был Обинье. А когда господин дю Плесси-Морнэ сослался на крупные неприятности с Обинье и на постоянные ссоры его со своим государем, ему ответили, что понятое как следует слово Обинье является достаточным средством против всех этих зол.
Когда король-кардинал попал в плен к Обинье, герцогиня де Рец послала одного итальянского дворянина, взявшего пропуск в двух милях от Майезэ, со следующим письмом к губернатору:
«Кузен мой, прошу вас принять подателя сего и понять в хорошем смысле свидетельство совершенной дружбы и сердечной заботливости, которое мы, господин маршал и я, посылаем вам по поводу вашего возвышения и доброго здоровья наших кузенов, детей ваших. Покажите же, что вы чувствительны к оскорблениям, воспользовавшись случаем, благодаря которому я хочу доказать вам мою преданность» и т.д.
Итальянец изложил порученное ему дело, предлагая двести тысяч дукатов наличными или же округ Бель-Иль со ста пятьюдесятью тысячами экю, если Обинье закроет глаза, чтобы дать освободить пленника.
Обинье устно ответил ему: «Второе предложение было бы мне удобней, чтобы в мире и безопасности есть хлеб моей неверности; но моя совесть следует за мной по пятам, она сядет вместе со мной на корабль, если я отправлюсь в Бель-Иль. Итак, возвращайтесь и будьте уверены, что, если бы не мое обещание, я отправил бы вас к королю».
В Пуатье некий капитан Дофен пиратствовал в болотах Пуату и Сентонжа. Обиженный графом де Бриссаком, он пожелал ему отомстить. В то время члены Лиги многократно пытались взять Майезэ, чтобы спасти своего короля; Дофен дал знать Обинье, что хочет поговорить с ним с глазу на глаз; Обинье получил два особых предупреждения: одно из Пуатье, другое из Ла-Рошели, что этот Дофен подослан де Бриссаком убить его, Обинье. Тем не менее, не желая отказаться от своего намерения, захватить в плен графа, он пожелал удостовериться в намерении Дофена необычным способом. Назначив ему свидание в одном покинутом доме на рассвете, губернатор вышел из крепости совершенно один, приказал поднять за собой мосты и, встретив Дофена, сказал ему: «Мне хотели помешать говорить с тобой, так как ты будто подослан меня убить; и я не захотел расстроить наше дело, но хочу рассеять это подозрение честным поединком: вот я принес кинжал, ты можешь взять его или мой собственный, чтобы с помощью оружия исполнить свое обещание; если хочешь, можешь это сделать с честью. Вот лодка, которую я приказал привести, чтобы дать тебе выбраться из болота». Услышав это, Дофен бросил свою шпагу к ногам Обинье со всеми изъявлениями покорности, на какие только был способен этот грубый человек, и таким образом они доверились друг другу. Заметьте это происшествие как один из моих важных проступков.
Через некоторое время дю Плесси-Морнэ вступил в богословский спор с епископом Эвре[709]. Две недели спустя в Париж прибыл Обинье. Король уполномочил его выступить в прениях с тем же епископом. Прения продолжались пять часов в присутствии четырехсот видных лиц. Епископ уклонился от доводов, произнося длинные речи. Обинье же составил доказательство, две посылки которого взял из вышеупомянутых речей епископа в его же выражениях. Вынужденный распутывать этот узел, епископ так устал, что у него со лба на рукопись Златоуста скатилось столько пота, сколько могло бы влиться в скорлупу яйца. Конец этого спора определился следующим силлогизмом:
«Кто заблуждается в каком-нибудь вопросе, не может быть в нем судьей!
Отцы церкви заблуждаются в вопросах богословских споров, как это обнаруживается в том, что они противоречат самим себе.
Следовательно, отцы церкви не могут быть судьями в вопросах богословских споров».
Епископ одобрил форму и большую посылку; малую же надо было доказать. Обинье написал свой трактат «De dissidiis patrum»[710], на который епископ так и не ответил, хотя король и требовал от него этого.
В конце 13-й главы тома III вы можете прочесть пламенную речь, произнесенную неким губернатором, считающимся горячим приверженцем истинной веры. Губернатор этот — Обинье, доказавший своей речью, что нерушимая его приверженность делу гугенотов отнюдь не позволяла ему прибегать к незаконным средствам для защиты его дела.
(1601). Вскоре после этого умер ненавидимый королем герцог де ла Тремуй[711], и Обинье, не видя никого среди подкупленных людей, на кого можно было бы положиться, чтобы защищать свою жизнь в случае преследований, замыслил покинуть королевство и велел снарядить небольшое судно в Энаме, на которое уже раньше отправил четыре своих сундука. Он велел грузить два последних сундука, когда прибыл королевский курьер с собственноручными письмами от короля, а потом от герцога Буйонского, в то время находившегося при его величестве, и еще от господина де ла Варенна. Эти письма подтверждали, что Обинье будет принят при дворе хорошо. Больше всего придало уверенности Обинье письмо де ла Варенна, человека наименее достойного, хотя король написал ему собственноручно с былой непринужденностью; у детей Обинье есть много подобных писем, свидетельствующих о необычной близости между их отцом и королем. Призванный якобы, чтобы отдавать распоряжения ла Бру и Бонуврие (первому — по устройству конных боев на копьях и турниров, второму — по устройству состязаний в борьбе), он провел два месяца при дворе, и ни разу король не намекнул ему на прошлое и устроил так, что дежурный оруженосец предоставил свое место Обинье как старшему оруженосцу. Обинье принял это предложение. Войдя в лес, король обратился к нему со следующими словами: «Я еще не говорил с вами о заседаниях, где вы чуть не испортили все дело, потому что оставались честным, а я подкупил всех ваших главарей и одного из них сделал своим соглядатаем и вашим предателем за шестьсот экю. Сколько раз, видя, что вы не исполняете мою волю, я говорил:
и так далее.
И что же! Бедняги, среди них оказалось мало таких, которые занимались делом. Все остальные были заняты своим кошельком и старались заслужить мою милость в ущерб вам. Могу похвастать, что подкупить человека из лучшей французской семьи стоило мне всего лишь пятьсот экю».
Выслушав много речей в том же роде, Обинье ответил: «Государь, я подвергся избранию, которого избегал, тогда как другие его добивались. От меня потребовали присяги, которая полагается в подобных случаях и которую я не умел ни забыть, ни изменить; знаю только, что все наши на вид усерднейшие деятели, кроме господина де ла Тремуя, продавали свой труд вашему величеству, притворясь, будто пекутся о ваших делах. Я бы солгал, сказав то же самое о себе; я трудился во благо Божьих церквей, с тем большим рвением, чем больше они были унижены и ослаблены, потеряв в вас покровителя. Да пребудет милосердный Бог вашим богом! Государь, я предпочитаю покинуть пределы вашего королевства и отказаться от жизни, чем заслужить ваши милости, предавая моих братьев и сотоварищей». На это последовал странный ответ: «Знаете ли вы, — спросил король, — президента Жанена?»[712] После отрицательного ответа Обинье король продолжал: «Это в его голове вызревали все замыслы Лиги; он привел мне те же доводы, что и вы. Я хочу, чтобы вы с ним познакомились: я скорее доверюсь вам и ему, нежели людям, которые вели двойную игру».
К этому разговору я хочу прибавить еще один: он произошел перед отъездом. На прощанье король несколько раз поцеловал Обинье и потом отпустил его, но Обинье опять подъехал к нему и сказал: «Государь, глядя вам в лицо, я, как когда-то, позволю себе вольность и осмелюсь спросить у моего государя то, что друг спрашивает у друга: будьте хоть на миг откровенны и скажите, за что вы меня возненавидели?» Побледнев, как всегда, когда он говорил чистосердечно, король ответил: «Вы слишком любили ла Тремуя». — «Государь, эта дружба созрела на службе у вас», — ответил Обинье. «Да, но когда я его возненавидел, вы не перестали его любить», — возразил король. «Государь, я воспитывался у ног вашего величества, преследуемого столькими врагами и бедствиями, что вы нуждались в слугах, которые не только любили страдальцев и не оставили вашу службу, но еще и удвоили бы свою преданность, ибо над вами тяготела высшая власть; примите от нас урок добродетели». Вместо ответа король поцеловал Обинье и простился с ним.
Заговорив о господине де ла Тремуе, о честности которого вы прочтете в томе III, книге 6-й, главе десятой, я должен рассказать, как те, кто стойко боролся за партию, беспрестанно подвергались смертельным опасностям и поклялись умереть вместе; как король приказал двинуть войска, чтобы обложить герцога в Туаре, а герцог написал Обинье: «Друг мой, прошу вас, согласно нашим клятвам, приехать умереть вместе с вашим преданнейшим слугой». Обинье ответил: «Сударь, ваша просьба будет исполнена, хотя я порицаю в вашем письме одно: вы сослались на наши обещания, которые нам слишком памятны, чтобы надо было о них напоминать». Однажды, объезжая область, чтобы собрать друзей, они пересекли один городишко, где накануне обезглавили и колесовали нескольких убийц. Заметив, как побледнел герцог при этом зрелище, Обинье взял его за руку со словами: «Созерцайте это без страха: делая то, что мы делаем, должно заранее привыкнуть к виду смерти».
Через два года состоялся съезд в Шательро[713], куда король послал герцога де Сюлли. Господин де ла Ну и Обинье, в их отсутствие, были выбраны уполномоченными от Сен-Мексана. Тогда Обинье прибыл в Шательро, чтобы отказаться от необычного избрания и указать, что ненависть к нему может повредить порученным ему делам; он вышел на время обсуждения этого вопроса. Однако вместо того, чтобы удовлетворить просьбу Обинье, несмотря на все его отговорки, ему поручили уведомить герцога де Сюлли (притязавшего на председательствование), чтобы он воздержался от участия в заседаниях, кроме тех случаев, корда он пожелает говорить от имени короля.
К концу этого совещания герцог де Сюлли именем короля приказал собравшимся разъехаться, но благодаря искусным мерам, принятым Обинье, излагать которые было бы слишком долго, герцог был вынужден уехать сам, оставив собранию охранную грамоту на крепости, предоставленную протестантам, причем сначала он отрицал, что она у него имеется, а потом, показав, отказывался ее выдать. При этих обстоятельствах собранию пришлось три дня разбирать одно дело, касающееся Оранжа[714], столь запутанное, что в нем сталкивались интересы короля, принца Оранского, церквей Дофинэ и Лангедока, маршала Ледигьера, города Оранжа в отдельности, господина де Моржа, господина де Блакона и других именитых особ этой области. Собрание не находило способа разрешить эти противоречия. Тогда кто-то предложил поручить это только одному лицу, прибавив, что легче исправить письменное решение, чем устное, ибо незаписанные слова — пустое сотрясение воздуха. Выбранный для этого дела Обинье испросил три дня сроку. Выйдя из собрания, он взял бумагу и по свежим воспоминаниям набросал план порученной ему работы. Потом, решив, что, как ни думай, а труд этот все равно не преминут проверить и исправить, он вернулся в собрание. Его стали укорять за то, что он не идет работать. Тогда он положил свой труд на стол. Через полчаса его позвали; после проверки оказалось, что у него исправили всего лишь одну букву. Впоследствии он всегда считал эту работу удачнейшим из всех своих произведений.
За три месяца до смерти короля, приехав в Париж, Обинье остановился у господина дю Мулена, где нашел господ Шамье, Дюрана и еще четырех пасторов, всего семь человек. Они сказали ему, что он явился в дни, когда приходится ломать голову над соглашением о религиях, ведь больше чем когда-либо говорят, что оно свидетельствует о новых подкупах и нарушениях долга. После этого они согласились на включение нескольких пунктов, предложенных вновь прибывшим, чтобы расторгнуть эти мошеннические договоры. Потом он спросил, поддержат ли они его в обдуманном им предложении: свести все церковные споры к правилам, твердо установленным первоапостольской церковью до конца четвертого или начала пятого века.
Шамье первый дал обещание поддержать Обинье; за ним последовали все другие. Тогда Обинье пошел в кабинет к королю. Прежде всего король приказал ему немедленно отправиться к дю Перрону. Обинье повиновался. Кардинал принял его ласково и против обыкновения несколько раз поцеловал в щеку. Едва они присели, кардинал стал оплакивать несчастия христианского мира и спросил, нельзя ли кончить распрю добром. «Нет, ибо мы не добры», — ответил Обинье. «Сударь, сказал кардинал, — обяжите христиан вступить в переговоры, чтобы объединиться после стольких гибельных споров, разделяющих души отдельных лиц, целые семьи, даже королевства и государства». Обинье ответил: «Сударь, переговоры бесполезны там, где последнее из перечисленного вами стремится главенствовать над сомнениями благородных людей».
Выслушав несколько таких же речей, Обинье, наконец, выступил со следующим заявлением: «Раз вы хотите, чтобы я высказался в несоответствии с моими качествами и положением, укажу вам, сударь, что изречение Гвиччардини[715], как мне кажется, должно применяться к церкви так же, как и к государству; хорошо выработанные правила, приходя в упадок, восстановятся, если свести их к первоначальному установлению. Итак, я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, ибо вы всегда полагаетесь на древность, как будто в этом ваша выгода: и вы, и мы должны признать нерушимыми законами основоположения церкви, установленные и соблюдаемые до конца четвертого века; в делах церкви, которые каждый считает извращенными, вы, называющие себя старшими, должны начать с восстановления первой статьи, о которой мы у вас просим; мы так же должны поступить со второй, и в такой последовательности все будет восстановлено по образцу этой древности». Кардинал воскликнул, что пасторы не одобрят этих предложений. На это Обинье возразил, что ручается головой и честью за успех. Кардинал задумчиво пожал ему руку и сказал: «Дайте нам еще сорок лет сверх тех четырехсот». — «Я вижу, вам не дает покоя Халкидонский собор[716], тогда просите уж больше пятидесяти, — ответил Обинье. — Что ж, давайте обсудим это на открытом диспуте и, договорившись о главном, мы предоставим вам то, чего вы требуете, — тогда, но не сейчас».
«Сделайте милость, — спросил кардинал, — скажите, чего бы вы потребовали сначала? Ибо вы не осмелились бы удовлетворить наше первое требование о поклонении кресту, принятое без труда в предустановленный вами срок». Обинье ответил: «Для блага мира мы воздадим кресту почести, какими он пользовался когда-то; но вы не посмеете не говорю уж разрешить в нашу пользу, но даже обсудить наш первый вопрос: восстановить власть папы в том виде, в каком она существовала те четыре века; для этого мы дали бы вам еще двести лет, так сказать, на мелкие расходы». Кардинал, когда-то отравленный в Риме и вернувшийся оттуда в гневе, воскликнул: «Это надо сделать в Париже, если нельзя в Риме».
Этот разговор был отложен. Обинье вернулся в королевский кабинет, не надолго остановившись по дороге, чтобы поговорить с президентом Ланглуа. По приезде король спросил его, видел ли он своего друга и что они обсуждали. Когда в кабинете, полном вельмож, Обинье рассказал о своей беседе с кардиналом, у короля вырвалось: «Почему вы сказали господину кардиналу по поводу Халкидонского собора, что уступите ему, когда вопрос будет обсуждаться, но не сейчас?» Обинье ответил: «Если по истечении предоставленных им четырехсот лет католические богословы потребуют еще пятьдесят, — это будет молчаливым признанием, что четыре первых века были не за них». При этих словах несколько кардиналов и иезуитов, находившихся в кабинете, стали громко возмущаться, и граф де Суассон, которому они шепнули что-то на ухо, заявил во всеуслышание, что нельзя произносить столь вредные речи. Король понял, что оскорбил их, и недовольный тем, что кардинал сообщил об этой частной беседе до приезда Обинье, повернулся к последнему спиной и прошел в покои королевы.
Через несколько дней государь, которому посоветовали арестовать или убить человека, помешавшего делу соглашения (потому что с тех пор оно больше не обсуждалось), сказал герцогу де Сюлли, что этого сварливого путаника надо посадить в Бастилию и что «найдется достаточно оснований, чтобы возбудить против него судебное дело».
Однажды вечером госпожа де Шатийон[717] послала за Обинье, желая сказать ему несколько слов. Заклиная его молчать и не губить ее, она просила его уехать этой же ночью: он может быть уверен в своей гибели. Обинье ответил, что помолится и поступит, как внушит ему Бог: так он и не принял ее совета. И вот рано утром он отправляется к королю, в небольшой речи напоминает ему о своих заслугах и просит пенсион, чего раньше никогда не делал. Король, очень довольный, что в этой душе обнаружилось кое-что от наемника, целует Обинье и удовлетворяет его просьбу. На следующий день, когда Обинье отправился в Арсенал, герцог де Сюлли повез его посмотреть Бастилию, клянясь, что она больше не опасна для Обинье, но только со вчерашнего дня. В следующее воскресенье, после религиозного собрания, госпожа де Шатийон, изумленная столь неожиданным оборотом дела, дала обед господину дю Мулену, Обинье и госпоже де Рювиньи, жене коменданта Бастилии. За столом, в ходе беседы, этой даме понравились какие-то слова Обинье; пристально глядя на него, госпожа де Рювиньи заплакала; когда ее стали расспрашивать о причине этих слез, она ответила, что два раза приготовляла для Обинье комнату в Бастилии и во второй раз до полночи ждала осужденного.
Вскоре король переменил свое мнение и опять так полюбил Обинье, что задумал отправить его в Германию как чрезвычайного посланника, обязав особых агентов дважды в год докладывать Обинье о ходе всех своих переговоров. Потом это намерение было оставлено. У короля возник новый обширный план. Он в подробностях изложил его, вопреки предостережениям Обинье, указывавшего, что подобные бумаги надо доверять только тем, кто будет нести за них ответственность. Будучи в то время вице-адмиралом Сентонжа и Пуату, он не пожелал оставаться праздным в столь великом деле[718]; он настойчиво стал убеждать короля обратить часть своих замыслов против Испании и, со всех сторон тесня неприятеля, пустить ему стрелу в самое сердце. Отвергнув это предложение, король привел старинную поговорку: «Кто отправляется в Испанию слабым, терпит поражение, а кто отправляется туда сильным, умирает с голоду». Тогда Обинье предложил ассигновать миллион золотом наличными, чтобы снарядить два флота: огибая Испанию, они бы доставляли на королевские склады припасы по цене, по какой они в то время продавались в Париже. К этому мнению он заставил присоединиться д’Экюра; это дело было решено, но предварительно герцог де Сюлли чинил ему всяческие препятствия.
(1610). Когда Обинье уезжал работать в Сентонж, король на прощанье сказал ему: «Обинье, не обольщайтесь более на мой счет, мою земную и вечную жизнь я вручаю святому отцу, истинному наместнику Бога». С того дня Обинье счел великое намерение короля начать войну напрасным, а самую жизнь этого бедного государя осужденной Богом. Так он и сказал своим приближенным, и действительно: через два месяца пришло ужасное известие о смерти короля. Обинье узнал об этом, лежа в постели. По первоначальным слухам ему сообщили, что король смертельно ранен в горло, но Обинье в присутствии многих лиц, прибежавших в его комнату вместе с вестником, сказал: «Не в горло, а в сердце», будучи уверен, что это так.
Итак, королева была объявлена регентшей с согласия областных собраний. На съезде в Пуату никто этому не противился, кроме Обинье, утверждавшего, что право подобного избрания принадлежит не Парижскому парламенту, а Штатам. И, хотя он был взят на заметку за эти слова, его не преминули отправить представителем от его провинции, дабы принести присягу в верности новому королю и регентше.
Приехав в Париж, уполномоченные различных местностей подождали, пока число представляемых ими областей достигнет девяти, и решили выбрать своим представителем господина де Вилларну, который был в то время генеральным депутатом[719]. У них возник большой спор о том, как войти и говорить. Наконец все решили, что Обинье, как старший и опытнейший среди них, будет служить им образцом поведения. Королевский совет был возмущен тем, что никто из них не стал на колени ни в начале, ни в конце речи, которую Риве произнес из тщеславия, причем говорил дрожащим голосом и несвязно. При выходе господин де Вильруа[720] стал укорять Обинье, спрашивая, почему он не стал на колени. Обинье ответил, что все его товарищи дворяне или духовные лица[721] и обязаны только отвешивать поклон, а не становиться на колени перед королем. Через четыре месяца королеве вдруг пришло на ум поговорить с Обинье наедине. Получив от нее пригласительную записку, Обинье, вопреки советам друзей, отправился во дворец. Два часа он провел с королевой взаперти, причем дверь охранялась герцогиней де Меркюр; королева притворялась, будто хочет получить у него указания по некоторым вопросам, но в действительности хотела выставить его изменником или подозрительным лицом для его партии.
И вот при открытии сомюрского съезда[722] в ответ на все обещания господина де Буассиза Обинье сказал: «Я добьюсь от королевы, чего хочу: она будет считать меня хорошим христианином и хорошим французом». Потом к нему намеренно приставили ла Варенна, который стал за ним усиленно ухаживать. Когда один из подкупленных придворных в присутствии герцога Буйонского спросил у Обинье: «Что делал у вас ла Варенн, побывав у вас двенадцать раз со вчерашнего утра?» — Обинье ответил: «То, что он сделал у вас с первого раза и чего не мог сделать у меня за двенадцать раз».
Тут Обинье лишился дружбы герцога Буйонского, которой пользовался в течение тридцати лет: произошло это потому, что Обинье помешал ему председательствовать и возражал против всех его предложений, погубивших его доброе имя. В особенности, когда вышеупомянутый герцог произнес длинную речь, чтобы заставить партию отказаться от всех гарантий и предать себя в руки королевы и королевского совета. После длинного и напыщенного восхваления мученичества герцог услышал другую речь, совершенно противоположную своей; она заканчивалась следующими словами: «Да, мученичество заслуживает всяческих похвал; неизмеримо блажен, кто претерпевает его за Христа; готовиться к мученичеству — долг каждого истинного христианина, но побуждать или обязывать к нему других — дело предателя и палача». К концу совещания
Обинье, который, как известно, говорил «прощайте» только тем, кто хотел отречься или умереть, сказал при всех: «Прощайте!» Феррье[723], чем вызвал недовольство самого Феррье и многих присутствовавших, но через два месяца Феррье действительно отрекся и перешел в католичество.
Тут начались раздоры между гугенотами, и вся партия пришла в упадок, прежде всего по вине большинства вождей, а потом вследствие жадности пасторов; трое из них оказались отступниками: Феррье и Ресан были наказаны позором, а Риве, уличенный в Пуату в том, что получил пенсию под именем своего сына, вызвал к себе презрение со стороны кучки былых соратников. Молодые же принялись заискивать в нем, за что Риве сравнили с барбосом, всунувшим голову в горшок с маслом и окруженным шавками, что лижут ему морду, притворяясь, будто поздравляют. Итак, на соборе в Туаре, высказавшемся за представление отчета в сомюрских делах, стойкие понесли кой-какой ущерб. Там перед двумястами собравшихся пастор де Парабер, прозванный Лафуркад[724], восемь или десять раз вставал и перебивал речи восклицанием: «Господа, берегитесь оскорбить королеву». Там решились побеспокоить губернаторов, клавших себе в карман жалованье, предназначенное для их гарнизонов, но некоторые молодые пасторы сказали: «Они предусмотрительны и миролюбивы». Наконец захотели добраться до тех, кто в ущерб партии получал пенсии; тогда один пастор сказал: «Высшим властям угождать — заслуга не из последних[725]». При этой выходке Обинье простился с честной компанией, сославшись на свой возраст, и сказал, что с него довольно публичных собраний, уподобившихся публичным женщинам.
Герцог де Роан, ненавидимый и впавший в немилость за то, что хорошо действовал в Сомюре, удалился в Сен-Жан и притворился, будто укрепляет его при помощи друзей. Между тем гарнизону Обинье, как и гарнизону Сен-Жана, больше не платили жалованья. Лишившись семи тысяч франков жалованья за отказ от прибавки в пять тысяч, Обинье был вынужден отправиться добывать деньги на реке Севр. Под угрозой осады он ознакомился с местоположением Доньона и решил не быть Sorice d'un pertuso[726]: он купил островок и распорядился построить дом в Майе за две тысячи экю. Параберу было поручено осмотреть место работ. Обинье, оказавшийся там же на месте, хорошо принял его.
На следующий год Парабер, уполномоченный также осмотреть помещения для коров, строившиеся в Доньоне, предложил строителю присутствовать при осмотре. Но Обинье ответил, что дело не стоит труда, и посоветовал комиссару найти человека, который дал бы ему пообедать. Это высокомерие внушило комиссару пренебрежение к предприятию и побудило его доложить двору, что дело выеденного яйца не стоит. Но однажды утром в крепость прибыли тридцать каменщиков, пятьдесят рабочих, полотняные палатки, три кулеврины и одно судно с припасами. Это вызвало в лагере тревогу, туда стали посылать людей и письма, но в ответ д'Обинье только ускорил строительные работы.
Герцога де Роана не преминули привлечь к первому передвижению войск принца де Конде и герцога Буйонского. Он собрал своих друзей в Сен-Жане, а Обинье, не имевшего возможности бросить свое дело, попросили дать через товарищей ответ принцу и его людям. Вместо всяких писем, он послал им две строчки: «Мы готовы взвалить себе на плечи бремя вашей войны, но избавьте нас от бремени вашего мира».
Это первое восстание завершилось соглашением и прощением для всех, кроме Обинье, который, не прибегая ни к каким другим мерам, укрепил обе крепости и привел вторую в боевую готовность. Этот год прошел в разных происках, и вот разразилась война принца Конде[727]. Назначив Обинье начальником своей ставки, принц послал ему грамоты, но Обинье пожелал получить их не из рук принца, а от собрания церквей в Ниме.
Находясь в Пуатье, губернатор Пуату герцог де Сюлли вместе с двенадцатью виднейшими вельможами этого края поручился перед королевой в том, что их область не выступит за принца де Конде. Он прибыл в Майезэ, чтобы обещаниями и угрозами добиться согласия губернатора на это решение, заявляя, что все вельможи в Пуату сдержат свое слово. Ему ответили, что он забыл в этом собрании одного великого человека, который выскажет свое мнение на следующий день: это значило — первого барабанщика при полку, обучаемом самим Обинье для сына; на следующее утро барабанщик забил в поход. В тот же день господин д'Ад[728] с майезэским гарнизоном взял Мурей внезапным налетом. Спустя две недели, когда герцог де Сюлли вооружился со своей стороны, случилось так, что четыре роты этого полка, а также рота герцога с ротой легкой конницы, пришли в одно время на позиции в Вуйе; но пехота прогнала конницу, как и следовало ожидать.
Господин де Субиз собрал своих людей и пошел навстречу принцу Конде с семью полками, насчитывавшими больше пяти тысяч человек. Однажды утром, выступая на осаду Люзиньяна, герцог Буйонский встретил Обинье, который ехал туда с той же целью в качестве бригадного генерала. Тут были забыты сомюрские разногласия. В этой войне не случилось ничего, заслуживающего упоминания; только к концу ее Обинье, вопреки воле принца де Конде, сделал так, что они осадили Тонэ-Шарант. Там при одном несчастном случае ему обожгло полтела, но он приказал нести себя в окопы. Эти военные действия привели только к Луденским мирным переговорам, этой ярмарке всеобщей подлости и невообразимых предательств.
На совещании принц де Конде называл Обинье своим отцом. Изменив же ему, как и чести вообще, принц крикнул ему в окно: «С Богом! в Доньон!» Обинье ответил: «С Богом! в Бастилию!» Принц прибыл ко двору и в благодарность за оказанные ему Агриппой д’Обинье услуги, за доставленную ему подмогу в пять тысяч человек, за истраченные шестнадцать тысяч экю, признанные как долг, подсчитанные и не выплаченные, за благие советы, вспоминая которые, он потом вздыхал в своей тюрьме, он заявил на тайном совещании, что Обинье — противник королевской власти и способен, пока будет жив, мешать королю править самодержавно.
Тот же принц надоумил герцога д'Эпернона прочесть «Трагические поэмы»; он привел строки из второй книги, как написанные о герцоге, и тот поклялся погубить автора; и действительно, с тех пор на жизнь Обинье неоднократно различным образом покушались.
Между тем герцог этот, горя нетерпением, появился под Ла-Рошелью. Попросив Обинье вооружиться, жители Ла-Рошели три раза заставляли его распускать и собирать свои войска в зависимости от ненадежных договоров с врагами, которые, наконец, выступили, когда в Майезэ оставалось только сто пятьдесят человек. Вдруг стало известно, что войска из Сентонжа появились в Мозэ. Узнав об этом и об уходе одного полка для дозора, Обинье с болью в сердце вынужден был позволить разграбить один из своих десяти приходов, не подвергавшихся бедствиям войны. Вследствие засухи в тот год местность больше не была островом. Итак, обнаружив, что сто телег, выстроенных в ряд, могут переехать болото, он не преминул явиться туда со всеми людьми, которыми располагал, а потом, делая вид, что ничего дурного не случилось, при появлении шести рот конницы, прибывших на квартиры в Курсон, он выставил напоказ на холме местных вооруженных крестьян, а сам в два часа дня на виду у неприятеля двинулся со своими ста пятьюдесятью людьми к Морвену, приказав им ехать сначала открыто, а достигнув деревни, скрыться за ней и обойти ее рысью, чтобы опять соединиться с арьергардом; после этого Рео, командовавший войсками, продвигавшимися в эту местность, спешно уведомил герцога, что ему приходится иметь дело по крайней мере с восемью сотнями людей. При этом известии он получил подкрепление из четырех рот. Обнаружив жалкий страх врагов, Обинье заставил их покинуть квартиры, где они фуражировали, а, обследовав береговые позиции, на вторую ночь пошел отбить их. В дороге он узнал от людей герцога о соглашении, заключенном жителями Ла-Рошели.
Принесли ему это известие два дворянина; нагло назвавшись прийти обедать к нему в Доньон, они заговорили о ненависти герцога к хозяину дома; рассказали, как герцог во всеуслышание в присутствии пятисот дворян заявил, что если не сможет погубить Обинье другим способом, то пригласит его взглянуть на месте поединка на одну из добрых французских шпаг. Обинье ответил: «Я не так дурно воспитан, чтобы не знать о преимуществе герцогов и пэров, а также о предоставленном им особом праве не драться вовсе. К тому же мне известно, что я обязан почтением генерал-полковнику Франции, под начальством которого командую пехотой. Но если в порыве гнева или от избытка доблести господин д'Эпернон прикажет мне непременно явиться на поединок и взглянуть на эту добрую шпагу, я, конечно, не премину ему повиноваться. Когда-то он показал мне шпагу, на эфесе которой было на двадцать тысяч экю алмазов; если ему заблагорассудится показать мне именно ее, тем лучше». Один из двух дворян возразил, что господин герцог облечен званиями, от которых не сможет отказаться, чтобы подвергнуть свою доблесть подобному испытанию. Обинье ответил: «Сударь, мы живем во Франции, где вельможи, рожденные в сорочке своего величия, весьма болезненно ее сбрасывают, но знайте, что можно отказаться от своих приобретений: у герцога д'Эпернона нет ничего, чем он не мог бы уподобиться мне». Тогда старший по возрасту дворянин прибавил: «Сударь, даже если по всем этим статьям будет достигнуто соглашение, господина герцога окружает столько вельмож и дворян, что они помешают ему решиться на поединок с ним». Вспылив, Обинье не смог удержаться, чтобы не сказать, что сумеет избавить герцога от этой заботы и обеспечить себе в области, управляемой герцогом, место поединка, которое сам обезопасит от друзей своего врага. Законченный на этом разговор был передан герцогу д’Эпернону, и, вне себя, герцог опять поклялся отомстить Обинье.
Уже давно Обинье докучал предостережениями всем, кто вершил дела, и не было собрания, где бы он не возглашал о том, чему научил его долголетний опыт. Но, главное, он составил себе представление обо всех благах и отличиях, коих с тех пор удостоился Гаспар Барониус, племянник кардинала, призванного к познанию Бога за осуждение на смертную казнь маленького капуцина в Риме[729]; благодаря влиянию дяди и собственным богатым дарованиям Гаспар добился вступления в конгрегацию, названную Propagazione della Fede[730] и шел в число трех лиц, ежегодно посылаемых этим советом в разные страны Европы с поручением составлять отчет о положении в христианском мире. По пути в Испанию он, имея при себе довольно золота и подлинных сопроводительных писем, бежал в Бриансон к господину д’Эдигьеру, который отправил его через местного консула в Париж и там представил собранию в доме герцога Буйонского. Выслушать Гаспара были уполномочены этим обществом Обинье и господин де Фегре. Прибывший представил им записи обо всем христианском мире, разделенном на области, показав о каждой две тетради, на одной из которых было написано: Artes pacis[731], на другой — Artes belli[732]. Когда Обинье и Фегре пожелали ознакомиться с делами наиболее угрожаемой области, этот человек прежде всего показал им Rhetorum commentarios[733], упомянув, что преследования должны возникнуть и поднять стяг крестового похода именно здесь. Вот почему Обинье обнаружил искусство в предсказаниях и стал докучать ими, а не потому, что держал у себя в доме некоего немого, в чем его впоследствии упрекали. Дело достаточно необыкновенное и стоит познакомить вас с этим немым.
Это был человек (если можно назвать его человеком, ибо ученейшие люди считали его демоном во плоти) на вид лет девятнадцати или двадцати, глухонемой, с ужаснейшими глазами и рожею свинцового цвета. Он изобрел азбуку жестов рук и движений пальцев, при помощи которой великолепно изъяснялся. Он провел лет пять в Пуату, удалившись в Ла-Шеврельер, а потом в Уш, где вызвал всеобщее восхищение, угадывая все, о чем его спрашивали, и указывая, где находятся потерянные в этой области вещи. К нему иногда приводили тридцать человек, которым он перечислял всех их предков, занятия их прапрадедов, прадедов и дедов, количество браков, количество детей у каждого и, наконец, все деньги, монета за монетой, в каждом кошельке. Но все это еще ничто по сравнению с проникновением в предстоящие события и сокровеннейшие мысли, за которые он заставлял всех краснеть и бледнеть. И пусть знают господа богословы ( сомнений которых следует в этом случае опасаться), что познакомили Обинье с этим чудовищем наиболее уважаемые местные пасторы. Прибыв к себе домой, Обинье запретил своим детям и слугам под страхом наказания выведывать у немого будущее, но так как nitimur in vetitum[734], они расспрашивали именно об этом.
Пришлось бы написать особую историю, чтобы рассказать вам, как этот человек показывал, что делают и что говорят все французские вельможи в ту минуту, когда его о них спрашивают. В течение месяца у него старались узнать о дворе: в какие часы король гулял и кто с ним в этот день говорил; хотя все это происходило на расстоянии ста миль, ответы немого никогда не оказывались ошибочными. Однажды женщины из дома Обинье спросили у немого, сколько лет проживет король и какой смертью умрет. Немой показал им знаками три с половиной года, карету, город, улицу и три удара ножом в сердце. Он изобразил все, что теперь делает король Людовик, морские сражения при Ла-Рошели, осаду этого города, срытие его укреплений, гибель партии и множество других событий, которые вы сможете найти в моих «Семейных письмах», готовящихся к печати. От многих людей, служивших в доме, где вы живете, вы узнаете, что все это правда.
Враги Обинье, стараясь обесценить его предсказания, заявили, что он узнал будущее от немого; подобным подозрением они лишили силы его благие советы. В действительности же он свято соблюдал решение никогда не спрашивать у этого орудия некиих сил ни об одном предстоящем событии; только благодаря многолетнему опыту он предсказал то, что впоследствии совершилось.
Итак, он подал заявление двум собраниям в Ла-Рошели, желая передать свои обязанности и крепости в руки верных людей, а также отнять их у герцога д'Эпернона и епископа майезэского, вступивших с ним в переговоры через посредников. Часть собрания охотно согласилась на это, но городское управление Ла-Рошели выступило против Обинье. Народные синдики, которые были за него, выбрали поверенным Бардонена, чтобы поддержать требования Обинье. Но подкупленный адвокат предложил срыть Доньон и Майезэ, если это возможно. Через месяц господин де Вильруа написал Обинье в Майезэ следующее: «Что скажете вы о ваших друзьях, ради которых вы потеряли восемь тысяч франков пенсии, отказались от прибавки в пять тысяч, лишились еще королевской милости и столько раз рисковали собственной жизнью? Они назойливо требуют срытия вашей крепости. Я ничего не меняю в выражениях ваших друзей; если бы вам предстояло ответить на подобный вопрос, что бы вы сказали? Запрашиваю вашего мнения».
Ответ гласил: «Сударь, если вам угодно узнать мой ответ на прошение жителей Ла-Рошели, вот он: да будет так, как они требуют — за счет истцов».
Когда господин де Вильруа сообщил совету эти две строки, председатель Жанен гневно сказал, что прекрасно понимает смысл этих слов. «Значит, — пояснил он, — Обинье не боится ни нас, ни их».
Эти слова, а также меры, принятые Обинье для защиты крепостей, побудили его врагов поручить маршалу королевской армии Виньолю узнать, на чем основана эта дерзость. Виньоль явился к Обинье как друг и как человек, воспитывавшийся под его руководством у короля. Он принес два известия: первое — о значении и силе Доньона, упомянув по первому вопросу, что Ла-Рошель можно будет осадить лишь в том случае, если река Севр, протекающая меж этих двух крепостей и питающая две трети территории Испании, будет свободна для перевозки провианта королевской армии. Провиант обойдется слишком дорого, ежели поставщики станут переправлять его по Севру и Мозэ, платя пошлину этим крепостям, и к тому же им понадобится вооруженный эскорт, или же все пропадет. Он сообщил еще связанные с этим другие известия. Что касается военной силы, то, по его донесению, Майезэ по-прежнему стоит основательной, королевской осады и что труднее осадить Доньон, чем взять Ла-Рошель. После этого были отправлены чиновники вести переговоры по упомянутым вопросам. Первым уполномоченным был назначен господин де Монталон, а заместителем его
Лавашри. Надо было видеть все хитрости, благодаря которым эти переговоры затянулись почти на два года. Под конец герцог д’Эпернон через посредство маркиза де Брезе велел предложить до двухсот тысяч франков наличными с уплатой, основанной на доверии продавцу. Но Обинье передал свои крепости господину де Роану за сто тысяч, наполовину наличными, наполовину в рассрочку. После этого он удалился в Сен-Жан д'Анжели, поселился там и закончил всецело за свой счет печатание своих «Историй»; он почел за великую честь то, что эти книги были осуждены и сожжены в Парижском королевском коллеже.
В это время началась небольшая война королевы-матери[735], для которой герцог де Роан вызвал губернатора Сен-Жана, Обинье и еще восемь других своих друзей в Сен-Мексан как бы для того, чтобы узнать их мнение, должен ли он вступить в эту войну. В действительности же он задал им вопросы другого рода; он спросил, в частности, у Обинье, что потребовалось бы для армии королевы, чтобы с шестьюдесятью тысячами людей осадить Париж. Обинье ответил, что уже имел честь быть дважды призванным для подготовки к этой осаде и вполне точно помнит, как тогда действовали, но, вместо того чтобы ответить на это неожиданное предложение, он просил герцога подумать о той смуте, которая разделит его партию, как только он, Обинье, в нее вступит; а чтобы дать понять, что у него есть в запасе еще крайние средства, и показаться еще несносней, он решительно заявил, что не поднимет оружия за партию и не обнажит своей скромной шпаги.
Итак, прощаясь с герцогом, он сказал обоим братьям: «Я уже заявил вам, что не принадлежу к сторонникам королевы, но, в случае смертельной для вас опасности, буду сторонником Роана и в моем лице вы всегда найдете верного сподвижника. После этого он удалился в Сен-Жан, где городские бунтовщики, узнав, как осаждавшие Париж потерпели поражение у Пон-де-Сэ, восстали и прогнали представителей власти герцога, его наместника и военачальников.
Герцог написал своему другу, чтобы напомнить ему обещание помочь в случае смертельной опасности. Обинье нашел обоих братьев и ла Ну с двумя полками, насчитывавшими пятнадцать или шестнадцать сотен пехотинцев и около сотни всадников. Так как все они могли отступить только в Сен-Мексан и направились к Нижнему Пуату, не подготовив себе позиций, где бы можно было сопротивляться дня два, Обинье взял на себя руководство этими людьми, сбившимися с дороги, и направил их по верному пути, который он сам уверенно проделал бы ночью, не приди накануне вечером известие о заключении мира с королевой-матерью[736] и теми ее сторонниками, которые пожелают воспользоваться этим событием.
Между тем войска короля спешно заняли Пуату, и Обинье решил провести последние годы своей жизни и умереть в Женеве. Сторонники фаворита повсюду искали его и послали в главные города предписания арестовать Обинье, в особенности при речных переправах. Обинье отправился с двенадцатью хорошо вооруженными всадниками и, пользуясь тем, что хорошо знал дороги, провел первую ночь в трех полках и трех караульных помещениях армии. В пути очень кстати ему несколько раз повезло: так, когда он наткнулся на полк, остановивший его в предместьях Шато-Ру, встречный крестьянин переправил его через реку в необычном месте; потом, когда его отряд был разделен пополам при проезде через Бурж, ему так же посчастливилось с другим проводником; многие дворяне и пасторы, к которым он обращался, чтобы попросить у них проводников, не зная его, но побуждаемые добрым чувством, указывали ему путь сами.
Пастор из Сен-Леонара, сопровождавший Обинье в Конфоржьен, упросил его сделать крюк, чтобы повидать в одной деревне чудо: женщину семидесяти лет, дочь которой умерла в родах; женщина эта, прижав новорожденного внука к груди, вскричала: «О Господи, кто же накормит тебя?!» При этих словах младенец нашел губами сосок бабушки и вдруг обе груди ее наполнились молоком, которым она и прокормила его целых восемнадцать месяцев. История эта, до того, как стать преданной огласке, заверена была официальным церковным актом.
В Конфоржьене местный барон поручил некоему Пти-Руа показать дорогу своему гостю; этот Пти-Руа собрал ночью нескольких дворян из той же области, чтобы завести Обинье к ним в засаду, но утром, поговорив с Обинье, Пти-Руа почувствовал себя дурно, отказался идти и дал ему проводника, который повел его по другой дороге. В этом сознался один молодой дворянин; умирая, он попросил прощения у своей матери, воспитавшей его в протестантской вере.
Когда люди Обинье, по его приказанию, попарно проходили через Макон, какой-то старик остановил одного из них среди улицы и шепнул ему на ухо: «Хорошо делаете, что проходите попарно». Отсюда господин Фоссиа направил Обинье к господину д'Аньеру и проводил его до Женевы. Кроме того, в Жексе произошел бунт, и Обинье подвергся опасности быть арестованным за ношение оружия, запрещенного в этой области. Гарнизонные солдаты схватили нескольких тайно сопровождавших его дворян и поступили бы так же и с Обинье, если б он не оказал сопротивления. Ему посчастливилось отбиться, не ранив ни одного из них; иначе он был бы схвачен и убит, потому что, как только его арестовали бы, преследовавший его маркиз де Сипьер, имея при себе его изображение, схватил бы Обинье по праву королевского уполномоченного.
Наконец в четверг, первого сентября 1620 года, Обинье прибыл в Женеву и был принят с большим радушием и почетом, чем он мог ожидать в качестве беглеца. Он удостоился не только обычных почестей, какие оказывались всем знатным иностранцам в этом городе, но его еще посетил первый синдик и повел в храм, чтобы предоставить место прошлогоднего первого синдика, — кресло, предлагаемое в знак особого почтения только государям и королевским посланникам. В честь Обинье был устроен общественный обед, на который были приглашены все члены синьории и несколько иностранцев. К этому обеду были поданы пребольшие марципаны, украшенные гербом гостя. После того, как Обинье прожил некоторое время у господ Пелиссари[737] и де Турн, для него за счет города сняли дом господина Сарразена, впоследствии купленный португальскими принцессами[738], пока, женившись, он не приобрел другого дома. Ему показали все склады оружия, открыли все государственные тайны, удовлетворили его желание произвести смотр всем шестнадцати полкам, чего не случалось в продолжение двадцати лет. Был создан военный совет только из семи лиц, где ему предоставили полную власть, и это положение дел продолжалось, пока у этого собрания не потребовали присяги в верности и сохранении тайны. Узнав, что его сотоварищи обязаны сообщать о главных делах Малому совету, Обинье согласился принести присягу в верности, но не присягу в сохранении тайны, если его сотоварищи не будут освобождены от обязанности сообщать о делах, заслуживающих, по их мнению, умолчания. Между тем савойские войска удалились, и, ввиду вышеупомянутых затруднений, совет прекратил свои занятия.
В то время, согласно распоряжению Обинье, весь город был занят работами по возведению укреплений как со стороны Сен-Виктора, так и со стороны Сен-Жана.
Обинье не пробыл еще и шести недель в Женеве, как Собрание в Ла-Рошели уже отправило ему важное свидетельство своего раскаяния в том, что с ним обошлись несправедливо, да притом, двумя путями: сперва через Париж, потом через господина д'Авиа, одного из своих представителей; участники собрания послали ему сначала общую доверенность, чтобы обязать протестантские церкви вообще и жителей Ла-Рошели в частности, сделать все возможное в целях, излагаемых нами ниже, потом верительные грамоты к каждому из четырех протестантских кантонов, городу Женеве, всем ганзейским городам, всем протестантским государям, двадцать из вышеупомянутых грамот с пробелом для вписывания имени, с висячей печатью, недавно пущенной в ход вышеупомянутым Собранием, и еще особые письма к протестантским церквам и выдающимся пасторам; все это для того, чтобы предоставить права своему уполномоченному.
Кроме того, Обинье получил указания просить швейцарцев о добровольном рекрутском наборе и о разрешении прохода для войск, которые вышеупомянутый уполномоченный может набрать другими способами. К этому было присоединено поручение начальствовать над армией. Всех этих бумаг было четыре списка на пергаменте, по два в каждой посылке, кроме депеш, которых был только один список.
Переодевшись крестьянином, господин д'Авиа приехал в Сен-Жюльен и послал своего человека, также переодетого, условиться о месте переговоров. Его уведомили, что из почтения к Франции жители Женевы вынуждены вести себя осторожно. Поэтому его поместили в одной из хижин, недавно построенных для работ по возведению укреплений; здесь и состоялось совещание. Обинье предложил Совету двадцати пяти выбрать двух лиц, которым он мог бы доверить некую тайну, но так как эти двое хотели рассказать обо всем, он вынужден был приставить к ним двух старших начальников.
Между тем господин Сарразен получил письма от графа фон Мансфельда[739], который после неудач в Богемии просил прислать ему опытного офицера. В ответ на его повторную просьбу Обинье вступил в переговоры с ним и с обоими герцогами Веймарскими. После неоднократных поездок с обеих сторон и крупных издержек за счет уполномоченного все трое обязались доставить к реке Сарне двенадцать тысяч пехотинцев, шесть тысяч всадников, двенадцать артиллерийских орудий, полбатареи, с необходимыми мостами и повозками, и там присоединить к ним три полка, по две тысячи человек каждый, набираемых по усмотрению Обинье, который будет служить главным начальником штаба, пока войска будут действовать сообща. Все должны положиться на слово Собрания, пока в Ле-Форэ войска не получат двух третей жалованья, а в сущности только одной, потому что по договору они должны получить только половину до заключения мира, когда им выплатят остальную сумму, ассигнованную на солеварни в Эгмортэ и Пеккэ, в то время еще якобы находившихся во владении партии.
Все эти условия были приняты обеими сторонами, — Мансфельд выступил в Эльзас, а Обинье, ждавший двухсот тысяч фунтов по векселю из Ла-Рошели, получил известие, что какой-то умник из Ла-Рошели изрек: «Это крупное дело лучше передать в руки господина герцога Буйонского»; этому совету последовали с легким сердцем. Тогда граф повернул к Седану; и из этого вышло то, о чем вы узнаете из «Истории»[740]: наипервейший из купцов остался при своем интересе, израсходовав пятьсот пистолей. Его дети должны позаботиться о сохранении оправдательных документов по всем вышеизложенным делам.
(1621). Во время этих переговоров жители Берна послали в Женеву сына первого старшины кантона просить Обинье посетить их в то время, как был осажден Франкендаль. Обинье согласился; везде его встречали с почестями, пушечными выстрелами, празднествами, чрезмерную пышность которых он порицает. Это первое путешествие обязало его совершить и второе, продолжившееся от трех до четырех месяцев.
Осмотрев Берн, он затеял укрепить его, вопреки мнению всех крупных военачальников, видевших этот город, да и против желания вождей народного совета, и против их законов и присяги, хотя в том и была необходимость. Герцог Буйонский написал об этом деле ему и некоторым главным советникам, ссылаясь на удаленность Берна от границ, ибо он расположен в самом сердце страны. В ответ Обинье доказал ему, что по местоположению своему город весьма уязвим и что от этого «сердца» рукой подать до боков.
Народ в городе так враждебно относился к самому слову «укрепления» и так проникся мыслию о сражении, что при первом появлении Обинье несколько пьяниц стали угрожать алебардами, крича, что французов, приехавших посягнуть на их обычаи, надо утопить в Ааре. Против всех этих препятствий зачинатель, поддержанный Графенридом[741], фон Эрлахом[742] и кой-какими другими лицами, использовал авторитет пасторов. При первом появлении недовольства в толпе старший пастор, сопровождавший синьорию для осмотра плана, предложил немедленно возблагодарить Бога за благое и спасительное решение. С этими словами он преклонил колени; синьория и вся толпа вынуждена была последовать его примеру. На следующий день почти весь город пришел в то же место. Пастор произнес проповедь; пропели псалом и общую молитву. Тут Обинье приказал принести колья и с низким поклоном подал один из них первому старшине кантона, господину Мануэлю. Однако этот последний пожелал уступить честь почина в работе самому Обинье, подавшему мысль о ней; но в свою очередь Обинье отказался. После этого надо было обсудить вопрос об этих любезностях. Обинье был удостоен чести вбить первый колышек; приняв ее, он бросил шляпу оземь, опустился на одно колено и с первым ударом молотка громко воскликнул: «Да будет так, во славу Божию, ради сохранения Его церкви, на страх врагам объединенных швейцарцев!» Засим первый старшина кантона и все синьоры свиты также вбили колышки укреплений, и доныне не превзойденных по искусству возведения ни одной крепостью в Европе. Под предлогом выхода на эти работы жители Берна показали силы всех своих округов, насчитывавшие до сорока восьми тысяч человек.
Потом Обинье посетил все города кантона и обследовал лагери, которых оказалось около семи и один особый. Чтобы рассеять опасения, господин фон Графенрид на заседании Совета вручил Обинье перо, предлагая подписать присягу в качестве главного военачальника. Обинье отказался, ссылаясь на незнание языка. Когда же его попросили назвать другое лицо, он предложил на выбор троих, а именно: видама Шартрского, господина де Монбрена и графа де ла Сюза[743]. Выбран был этот последний.
Желая спросить совета у того же лица, базельская синьория послала к нему господина фон Люцельмана. Но из двадцати двух бастионов, начертанных господином де Ла Фоссом[744], жители Базеля решили возвести только четыре, оставив свой город в том же несовершенном состоянии, в каком он находится и поныне.
Во время этих поездок посланник Скварамелли[745] от имени Светлейшей синьории предложил Обинье принять начальство над французами, находящимися на службе у Венецианской республики. Все складывалось благоприятно, пока посланник короля французского в Швейцарии Мирон не распорядился написать посланнику Венеции, что венецианцы навлекут на себя гнев короля, если возьмут на службу человека, столь ненавистного его величеству. Как ни ссылались друзья Обинье на то, что причины ненависти со стороны королей должны быть для республики причиной милости, страх оказался сильнее желания принять на службу этого верного человека.
Помешав этому делу, Мирон затеял выжить Обинье из Женевы четырьмя способами. Во-первых, он пожаловался, что в этом городе Обинье дурно отзывается о французском короле, причем для борьбы с этим злом потребовал тщательного расследования. Во-вторых, он предъявил письма короля, указывавшего на некое лицо, не называя его по имени. На этот раз, с ведома обвиняемого, синьория написала о событиях в городе следующее: «Что касается остальной части вашего письма, направленного против неких лиц, бежавших в наш город, уличенных и осужденных за злейшие преступления, за козни и заключение договоров, направленных против французского государства, а также за несоблюдение обязанностей почтения, подобающего королевскому величеству, уведомляем вас, — различая эти два пункта, — что никогда ни одно частное лицо не подавало жалобы в нашем городе (а, как вам известно, жаловались многие), не получив удовлетворения от правосудия, действующего столь же решительно и сурово, как и во всяком другом месте, где данное лицо могло бы остановиться. Если жалобщикам угодно будет послать в эти места человека, способного выступить обвинителем с необходимыми для этого документами, к тому же по повелению короля и с вашей рекомендацией, мы приложим все усилия, дабы поддержать славу правосудия, приобретенную нашими предшественниками. А что касается непосредственно короля, мы выполним наш долг со всей твердостью и строгостью, какая только потребуется, дабы показать, как высоко ценим мы столь великое имя. Мы доказали это в прошлом году, когда один дворянин, бежавший в наш город, подал нам жалобу на донесение, полученное вами по такому же делу; тогда в спешном порядке посланы были два синьора из совета, бывшие синдики, дабы произвести тщательный обыск, долженствовавший послужить либо к оправданию, либо к осуждению обвиняемого. Следствие продолжалось шесть месяцев, в течение каковых дворянин вынужден был пребывать в стенах нашего города, как в тюрьме».
Между тем Обинье купил себе землю в Крете[746] и построил там дом. Это обошлось ему в одиннадцать тысяч экю. Следует упомянуть о том, как однажды он сорвался с высоты шестого этажа, проломив при падении леса. Чтобы не упасть, он ухватился одной рукой за положенный недавно камень величиной не больше чем с кулак; повиснув всей тяжестью тела на этой руке, хранившей следы двух ран, он успел еще увидеть два острейших кола, только и ждавших, чтобы проткнуть его. Он и упал бы на них, если б его люди не подоспели на помощь; так никогда и нигде Бог не давал ему жить в безопасности.
Постоянные преследования со стороны двора вызвали в нем желание уехать, чтобы не быть в тягость городу, которому он доверил жизнь. Но непрестанные угрозы и признаки предстоящей осады удерживали его, поэтому он пользовался домом в Крете лишь во время коротких отлучек из города, когда это советовали ему друзья.
Решительней всех других было третье нападение. Не выслушав обвиняемого, даже не вызвав его в суд, его заочно приговорили к отсечению головы за то, что он одел несколько бастионов камнями церкви, разрушенной в 1562 году. Это был четвертый смертный приговор за подобные же преступления, доставивший ему славу и удовольствие. Этими происками хотели вызвать к нему ненависть в Женеве и, кроме того, помешать браку, о котором он вступил в переговоры.
Обинье задумал жениться на вдове господина Бальбани, происходившей из луккского рода Бурламаки. Возникновению этого плана способствовала людская молва, высоко превозносившая эту недавно овдовевшую даму, горячо любимую и почитаемую за благороднейшее происхождение, богатство и умение вести дом. Накануне заключения брачного договора преследуемый подумал: «Если я имею дело с заурядной душой и заурядной смелостью, с женщиной, не готовой подвергнуть опасности свою жизнь за дело, за которое меня приговорили к смерти, она от страха порвет со мной. Но если я нашел душу выше средней, способную ни перед чем не склоняться, ей предоставляется случай проявить себя и осчастливить меня». После этого решения он сам принес ей известие об этом смертном приговоре и получил следующий ответ: «Я очень счастлива участвовать вместе с вами в борьбе за Бога; что соединил Бог, не разъединит человек».
Так 24 апреля 1623 года был заключен брак, о котором господин Фоссиа сложил следующее четверостишие:
Незадолго до женитьбы Обинье отпустил со службы, щедро удовлетворив их платою, четырех дворян, которых долгое время содержал при себе. Отказавшись от чести и удобств предоставленного ему синьорами жилища, он остался жить вдвоем с женою в своем доме. Он также не пожелал больше подвергаться нападкам за пользование почетными местами в храме, из-за которых германские графы роптали на него. Тогда синьория отвела ему удобнейшее место, которое когда-то занимал один пфальцский курфюрст и многие французские военачальники.
Пора сказать, что, увидя в укреплениях Сен-Виктора два кронверка, великолепно спланированных господином де Бетюном, но сделанных наспех и на слишком скупо отпущенные средства, Обинье пожелал укрепить их камнями, которые можно видеть там еще и теперь. А так как фланк куртины находился слишком далеко от внутренних сторон кронверков, он наметил для них соединительную часть, но с тем, чтоб установить ее только в случае необходимости, оттого что эту работу можно выполнить на виду у неприятеля, а также для того, чтобы не тронуть частных владений и не вызвать вражды, порождаемой подобными предприятиями. Но некий богатейший господин, сын одного из виднейших синдиков, какие только были в Женеве, к тому же генеральный прокурор, заговорил о своих интересах слишком громко, по мнению синьоров, и синьоры немедленно предписали строителю в двухчасовой срок обозначить соединительную часть, согласно имевшемуся приказу, под страхом отрешения от должности. Синьория сама явилась туда, чтобы поскорей поставить рабочих. Обинье же прибежал, чтоб отложить это дело. Но постановление синьории взяло верх над его просьбами и доводами. После этого его врагами не преминули стать представители рода столь могущественного, что, когда один из них вступал в тяжбу, то в суде Двухсот приходилось давать отвод по крайней мере шестидесяти из них, ибо то были родственники истца.
Неутомимые эти враги пользовались различными поводами для мщения: появлением в печати «Истории», ненависть автора которой (как говорили они) раздражает Францию, первым приездом в Женеву старого маркграфа Баденского, вызвавшим слух, что маркграф явился по наущению Обинье, чтобы набрать армию и разжечь этим гнев императора. Однако оказалось, что никогда маркграф и Обинье не знали друг друга лично и не сносились письменно. Это обвинение обнаружило злую волю многих людей; им стало стыдно, когда они увидели, что маркграф отлично принят в Женеве и живет здесь уже пять лет, не считая его поездки в Данию.
Против Обинье строили еще немало козней, убеждая жителей, что этот чужеземец советовал синьорам держать народ в черном теле и придумал новые подати. Все эти истории оказались ложными; было признано, что Обинье бежал из Франции оттого, что там его сочли и объявили республиканцем.
Но последнее предприятие еще более распалило его врагов и почти отпугнуло охладевших к нему друзей. В то время как потеря Ла-Рошели, события в Лангедоке[748] и разорение Германии устрашали наименее стойких людей, Розе, посланный вместе с господином Сарразеном ко французскому двору, умело обработал государственного секретаря Эрбо своими письмами и письмом, которое заставил написать самого представителя; итак, владелец замка провел в своем Крете три месяца не без тревог. Дело в том, что в это время кто-то, как подозревают, герцог д’Эпернон или архиепископ бордоский, или они оба, подкупили около десятка убийц, два года подряд дерзко бесчинствовавших в этих краях и поклявшихся спасением души (на него они не могли и рассчитывать) убить Обинье. Но тот, кого они подстерегали, выходил из дому только в сопровождении своих людей, сам искал этих убийц и написал господину де Кандалю[749] с просьбой посоветовать своему отцу выбрать наемников получше.
В конце концов Женева высказалась против отъезда Обинье; благороднейшие люди одержали верх, не остыла и горячая любовь к нему простого народа.
Незадолго до этого господин коннетабль[750], участвуя в генуэзской войне, послал государственного советника Бюльона к Обинье, хотя при последнем свидании в Сомюре тот крупно с ним повздорил. Теперь дело шло о наступлении на Франшконте, и с этой целью бедному desterrado[751] предлагали три старых полка и один новый с преданной ему ротою конных латников, но война шла вяло и была, по видимости, уже на исходе.
Вскоре, возвращаясь из Константинополя в Лондон, прибыли в Женеву чрезвычайный посол граф де Карлейль и кавалер Томас Роу; они оказали Обинье почести сверх меры и горячо приглашали его приехать в Англию. Он охотно согласился и заранее получил место на корабле, который граф велел зафрахтовать в Страсбурге для возвращения.
Этой поездке помешала та же причина, которая дважды уже заставила его отказаться от подобного намерения: появились верные признаки предстоящей осады. Между тем в этом году Женева была лишена самых необходимых средств. Упомянув об Англии и о переговорах между графом де Карлейлем и Обинье, я должен рассказать и то, что предпочел бы скрыть.
Бог не хочет, чтобы милость его переходила по наследству: Констану, старшему из своих детей, единственному своему сыну, Обинье дал самое тщательное воспитание, затрачивая на это суммы, какие употребили бы на сына какого-нибудь государя, и приставил к нему превосходных наставников, каких только можно найти во Франции, даже переманивал их из лучших домов, назначая им двойное жалованье. Между тем этот дрянной человек сначала развратился в Седане пьянством и игрой, а потом забросил занятия словесностью и окончательно погубил себя в Голландии. Вскоре в отсутствие отца в Ла-Рошели он женился на несчастной женщине, которую впоследствии убил. Желая отвлечь его от двора, отец набрал на свои средства и дал ему полк для участия в войне принца де Конде, но ничто не могло смирить дерзость этой погибшей души. Констан устремился ко двору, где потерял в игре в двадцать раз больше того, что имел; помочь этому он не нашел другого средства, как отречься от своей веры. Он был отлично принят при дворе и признан блистательнейшим умом нашего века. Узнав о частом общении сына с иезуитами, отец в письмах запретил ему водиться с подобной компанией; Констан ответил, что действительно беседует с отцом Арну и с дю Май. Отец возразил, что эти два имени составляют αρνου-μαι[752]. Как бы то ни было, Констан получил от папы разрешение посещать проповеди и участвовать в трапезах так называемой реформатской веры. Затем он явился в Пуату с целью захватить крепости своего отца, который, чтобы отвлечь его (от двора), назначил его своим наместником в Майезэ и предоставил ему полновластно управлять, а сам удалился в Доньон. Вскоре Майезэ превратился в игорный дом, бордель и мастерскую фальшивомонетчиков, а наш кавалер стал похваляться при дворе, что его солдаты, все до одного, стоят за него против его отца. Уведомленный обо всех этих делах местными протестантскими церквами и, вдобавок, одной придворной дамой, отец сел на корабль, взяв петарды и несколько лестниц. Прибыв в окрестности Майезэ, он пошел один, переодетый, к воротам цитадели. Часовой хотел преградить ему дорогу. Обинье бросился на него с кинжалом, одержал верх и прогнал тех, кого признал изменниками. Вытесненный злодей удалился в Ниор, под крылышко барона де Навай, отрекшегося, как и он сам, от протестантской веры. Оттуда он несколько раз совершал набеги на Доньон, к тому времени уже проданный герцогу де Роану и управляемый господином де От-Фонтеном, имевшим заместителя вполне преданного, но бесполезного для военного дела.
Однажды к лежавшему в лихорадке майезэскому губернатору явился один капитан. Хоть отрекшись и последовав за его сыном, но чувствуя себя обязанным за благодеяния отцу, он сообщил, что Констан направляется с восемьюдесятью людьми по воде и с другим отрядом — сухим путем, чтобы захватить в эту ночь или Майезэ или Доньон. Больной тотчас же велел подать себе штаны и, взяв с собой из гарнизона тридцать шесть человек, без лейтенанта, без сержанта, сел на коня, решив подстеречь сына на обеих дорогах сразу. Едва он проехал полмили, его лихорадка усилилась. Вдруг к нему галопом подоспел его зять, господин д'Ад, с двумя людьми, преклонил перед ним колено и с большим трудом, приведя множество доводов, умолил его вернуться и лечь опять в постель. Получив указания от тестя, д’Ад через два часа встретил шурина, который шел на Доньон. И, хоть Констан был вдвое сильнее, д’Ад напал на него, взял в плен шестнадцать человек и передал их герцогу де Роану, в ту пору бывшему губернатором провинции, но и герцог так и не смог добиться суда над ними.
Когда-то король сказал Констану, что заменит ему потерянного отца. Но вскоре Констан внушил всем своим омерзение, а тем, кому стал служить, — ужас и презрение. Прогнанный всеми, кроме известной сводницы де ла Бросс и шлюх, содержавших его, он вступил с отцом в переговоры о примирении. Обинье ответил, что земной отец заключит с ним мир после того, как сын примирится с отцом небесным. Тогда Констан явился в Женеву, представился пасторам, дал в этом городе, в Пуату и в Париже все требуемые расписки, написал яростные стихи и прозу против папства, за что и получил деньги и содержание, равное тому, которое отец мог бы выделить ему из своего имущества.
Констану посоветовали отправиться к шведскому королю с тем, чтобы наверняка, немедленно по приезде получить у него должность. Но Швеция находилась слишком далеко от притязаний Констана. Он предпочел поехать в Англию. Заметьте, что этот злонамеренный человек настолько внушал подозрения отцу, что не смог добиться от него сопроводительных писем ни к королю, ни к герцогу Бьюкингемскому, а получил только письма к некоторым друзьям, и то с разными оговорками.
В Англии Констан представился и объяснил отсутствие у него сопроводительных писем опасностями дороги. Это было после событий в Ла-Рошели, когда английский король, чтобы решить вопрос о войне, призвал только герцога Бьюкингемского, четырех лордов, господина де Сен-Бланкара, уполномоченного герцога де Роана, и этого негодяя, назвавшегося представителем своего отца. Собрание решило объявить войну Франции и безотлагательно принять спешные меры. Поэтому постановили послать за Обинье. Сначала это было поручено кавалеру Вернону, но наш плут взял это на себя в качестве сына.По приезде в Женеву он изложил отцу порученное ему дело. На многократные вопросы, не побывал ли он в Париже, Констан со всяческими клятвами отвечал отрицательно, потому что не ездить в Париж было важнейшим условием сохранения мира между отцом и сыном, условием, соблюдать которое сын под присягой поклялся отцу, знавшему, что этот негодяй теряет голову в борделе. Потом Констан вынужден был рассказать о своем путешествии. Тут в какой-то незначительной подробности описания отец заподозрил неправду, после чего решил не ехать в Англию и отослал вестника обратно, дав любезный ответ, составленный в общих выражениях, но не открыв истинных намерений. Констан это почувствовал, посетовал на отца, но не добился ничего другого.
По дороге в Женеву он побывал в Париже и виделся ночью с господином де Шомбергом, а на обратном пути ночью же — с тем же лицом и с королем. В благодарность за оказанную ему в Англии столь незаслуженную честь он открыл им замыслы этой страны. .И вот за это отец порвал с сыном.
Стараясь оградить себя от гнусных поступков своего отпрыска, старик вознамерился сам отправиться в Англию и уже согласился воспользоваться кораблем графа Карлейля; но в это время разразилась мантуанская война: границы Франции, Италии и Германии кишели войсками, а Женеве не хватало хлеба, соли и других жизненных припасов, чтобы выдержать даже месячную осаду, причем враги это знали. Тогда Обинье, ненавидимый за то, что уже пять лет докучал жителям предостережениями, отверг всякую мысль о капитуляции и отказался от всех других помыслов, дабы найти в Женеве почетную смерть.
КОММЕНТАРИИ
Перевод «Трагических поэм» выполнен по изданию: Agrippa d'Aubigne. QEuvres. Bibliotheque de la Pleiade. Editions Gallimard. Paris, 1969.