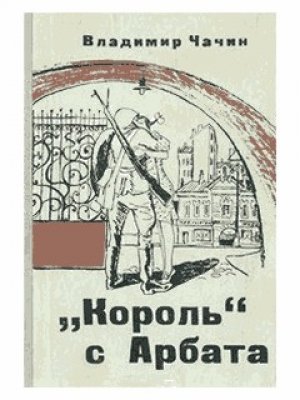

Владимир Чачин
"Король" с Арбата
М.,Молодая Гвардия, 1979, Второе, дополненное издание.
«Король с Арбата» — повесть рассказывает о юности тех, кому накануне Великой Отечественной войны было пятнадцать-шестнадцать лет и кто в суровые годы испытаний взялся за оружие, чтобы отстоять свою родину, свою Москву. Это повесть о первой юношеской любви, о дружбе, ответственности перед людьми.

Дана команда: копать окопы в полный рост. Белоруссию мы уже вскопали. Теперь копаем смоленскую землю.
Женька часто откладывает лопату, прищуривается и говорит, что болотистую почву трудно передать кистью на полотне: нет ярких красок. Одно уныние. Тоска. Вот песок — это да. Желтый. А желтый цвет в природе самый яркий.
А мне кажется, земля везде одинаковая. Особенно, если ее проклятую копать днем и ночью. Да и вообще какие там еще пейзажи, нажимай на лопату, и все.
Сейчас около нас суетятся в зеленых фуражках растерянные, виноватые и донельзя оборванные пограничники. Сначала попросят табачку, а потом помогают копать. У них в разговоре часто слышится слово «застава».
Немцы выбили нас из маленькой деревушки и почему-то дальше не пошли. Мы взялись за лопаты. Окапываемся.
Сейчас немцы молчат. Нам тревожно. Наверно, поэтому мы превратили лежачие окопы в окопы для стрельбы с колена, а теперь вот даже команда: «Копать окопы в полный рост!»
Из нашего маленького военного опыта мы уже знаем, что лучше всего занимать оборону на высоте. А сейчас досталась низина. Все лопата и лопата. Когда же наконец винтовка? Новенькая, полуавтоматическая, с полированной ложей, она всего несколько раз подпевала общему хору войны, а остальное время неотступно пряталась за спиной, словно испугалась приказа: «За утерю оружия — трибунал».

Мы с Женькой отрыли наш участок окопа. Он получился уютный, какой-то домашний. В стенках проделали углубления — полочки, застелили их травой и сюда ровненько уложили промасленные патроны. Здесь же, чуть пониже, ручные гранаты РГД-39. Еще недавно на сборном пункте кадровый лейтенант торопливо объяснял нам, что если на эту гранату надеть чугунную рубашку, то она бьет «веером и с большой убойной силой».
— Это хорошо, что с «большой убойной силой»,— тихо говорит сейчас Женька и с надеждой смотрит на гранату.
— Здорово,— соглашаюсь я и никак не припомню, где и когда мы видели эту «убойную силу». Ведь нашему комсомольскому добровольческому батальону еще не приходилось так близко сталкиваться с немцами, чтобы метнуть гранату.
Впереди окопа мы настелили дерн с ромашками, натыкали веток и сейчас сидим на корточках, осторожно дымим махоркой. Рядом копает наш политрук Григорий Иванович Бритов. Он всегда окапывается дольше всех: уж очень высок и здоров. Бритов — кинематографист. Война застала его на большой должности. Мог бы получить броню, но он добровольно променял директорское кресло на этот окоп и сейчас, чертыхаясь, упрямо вгрызается саперной лопатой в болотистую землю.
Мы, комсомолята, благоговеем перед этим человеком. Он всех нас зовет по имени, все про нас знает, и рядом с ним нам ничто не страшно.
Как-то Григорий Иванович поднял на вытянутой руке за штык трехлинейную винтовку, и с того дня круг его поклонников резко увеличился. Мы все чуточку ревнуем Григория Ивановича друг к другу.
Однажды в пыльном ржаном поле я полз, прижимаясь щекой к земле, за Григорием Ивановичем. Мы ползли словно в молоке из пыли. Кругом ничего не видно. Только впереди нет-нет да и обозначатся каблуки его сапог. Я боялся упустить эти каблуки, боялся потерять их.
Тогда днем во ржи для нас была ночь… Если поднять над головой руку, то уже там светло, там солнце и страшная свинцовая коса. Иногда вдруг коса опускается, и тогда короткими, резкими толчками вздрагивает за спиной вещевой мешок. Я замираю, прижимаюсь к земле. Страх дал надежный совет: не упускать каблуки! Мне казалось, что так и не заметил наш политрук, что всю дорогу, пока мы ползли, я цеплялся рукой за его каблук.
В штабе полка мы сдаем пакет, потом бойцы из комендантского взвода уважительно угощают нас горячим сладким чаем. Григорий Иванович макает сухари в котелок, вкусно мурлыкает, удивленно засовывает палец в дырки на вещевом мешке. Потом потянулся, откинулся на спину, сказал будто сам себе:
— У человека ведь две ноги. Значит, и два каблука. Если все время только за один тянуть — сапог снимется…
Сейчас в нашем окопе Григорий Иванович хмуро раздает нам коротенькие пластмассовые трубочки.
— Это зачем?— весело спрашивает Женька.— Куда ее вставлять?— Григорий Иванович не отвечает, согнулся, неуклюже заторопился вдоль окопа.
Мы развинчиваем эти трубочки. Там бумажка. И вдруг все стало ясно.
— Медальоны,— шепотом поползло от бойца к бойцу— вписать адрес… хранить в левом кармане гимнастерки…
Мы молчим. Вот она война.
Опять среди нас Григорий Иванович.
— У кого есть ручка или чернильный карандаш?— хмуро спрашивает он.— Дайте.
Ему дают. Он развинчивает трубочку, снимает каску, на ней аккуратно разглаживает листок, пишет.
…Сейчас над нами проходят «юнкерсы». Проходят и возвращаются. Пограничники тоскливо поясняют:
— Бомбить начнут.
Мы уже тоже знаем, чем кончается эта невинная разминка в небе, без команды каждый досылает патрон. Лязг-лязг…
— А потом атака,— тревожно смотрит Женька в сторону деревушки.
Даже без бинокля хорошо видно, как, низко-низко пригнувшись, перебегают улицу люди в серо-зеленом. Перебежит один, другой, и опять никого.
Уж очень быстро они передвигаются. Может быть, потому, что на них легкое снаряжение. Никаких шинельных скаток через плечо. Никаких ранцев, никаких вещевых мешков за спинами. Наверное, перед боем все лишнее сдают в обоз. У них даже рукава засучены. Словно пришли на работу. Вместо гимнастерок — куртки. Все-таки это удобно: больше карманов. Можно вещевой мешок высвободить. Патроны и сухари — в карманы.
Нам тяжело бегать со скаткой, да еще под июльским солнцем. Скатка постоянно трет левую щеку, развязывается, мешает ползти.
Да что там скатка! На каждом из нас — вещевой мешок, подсумки с патронами, лопатка, фляжка, противогаз, штык-кинжал, котелок, плащ-палатка, на голове тяжелая стальная каска… Все это очень нужно, но все нужно в свое время.
Больше всех достается слабеньким.
Вот слева наш сосед по окопу маленький, толстенький, рыжий Гриша, как мы его зовем — Пончик. У него всегда испуганное, запыленное лицо. На груди гимнастерки — все меню за неделю. Каша, тушенка, лапша. По-моему, он украдкой часто плачет — на щеках постоянно свежие полосы. Пончик — добрый парень. Может променять противотанковую гранату на сахар. Охотно всем раздает свои патроны. А дефицитную махорку меняет на индивидуальные санитарные пакеты.
Сейчас небритый сумрачный пограничник устало учит его, как ходить в атаку:
— Патроны кончились, коли штыком. Штык сломался, глуши прикладом. Приклад в щепки — хватай малосаперную лопату и бей по головам.— Он подумал, что-то вспоминая, закончил веселее:— Лопатой удобно. Она по краям острая.
Я смотрю на Пончика и понимаю, что ему не очень хочется бить малой саперной лопатой немцев по головам.
— Внимание! Воздух!— понеслось вдоль окопа.
На нас идут «юнкерсы». Никто не дает команды. Стреляем по ним сами. Надо найти упреждение и бить чуть вперед. Главное — не дергать спуск. Нажимать плавно и неторопливо…
В бой вступают наши пулеметы.
— Женька,— кричу я,— где ты?
И опять прямо на окоп идет «юнкере». Я стреляю ему в лоб. Кажется, летчик смеется. Вижу — пограничник запустил в него лопаткой, а потом охнула, перевернулась земля.
— Женька! Сейчас тихо-тихо.
— Пей,— говорит Женька и стучит фляжкой по моим зубам.
— Ну, пей же,— просит Женька и тянется к винтовке,— немцы пошли, Алешка.
Окоп наполнился частой беспорядочной стрельбой.
И опять с нами Григорий Иванович. Через меня шагает, кричит:
— Приготовиться к контратаке! Примкнуть штыки! Дозарядить магазины!
— За нашу Советскую Родину!— кажется, это голос комбата.— Вперед, товарищи, ура!
— Ты лежи,— кричит мне в ухо Женька,— я скоро вернусь.
Женька хватает гранату, карабкается на бруствер окопа, из-под его сапог на меня сыплется земля. Я закрываю глаза. Опять заложило уши. Тошнит.
…Кто-то трясет меня за плечи. Близко-близко лицо Женьки.
— Живой,— смеется он.— Здорово тебя оглушило!
Над головой черное небо. Идет дождь. Когда же пришла ночь? Ведь был день, было солнце.
— Как атака?— вспоминаю я.
Женька долго молчит, потом пододвигает свою каску.
— Потрогай, что в ней.
На ощупь — патроны. Их много, но только они очень легкие.
— Медальоны!— с испугом отдернул я руку.
— Сейчас собирали,— глухо говорит Женька.— Григорий Иванович с нами ползал.
Женька отвернулся, уткнул голову в колени и молчит. Мне кажется, что он плачет.
— Давай, Алешка, держаться друг за друга,— не поднимая головы, говорит Женька.— Меня ранят — ты перевяжешь, тебя — я перевяжу. А если что… так мы живем в одном доме…
Я обнимаю его. Нет, он не плачет, а просто мелко дрожит. Наверное, от дождя.
На дне окопа уже большие лужи. Мы сидим на корточках. Я караулю, а Женька под шинелью тихонько курит. Григория Ивановича вызвали к комбату, а пограничник сам незаметно потягивает из рукава.
Дождь все сильнее и сильнее. Мы уже не сидим на корточках, а стоим в рост. Немцы беспрерывно пускают ракеты. Две из них попали к нам в окоп и, страшно шипя, еще долго освещают нас липким зеленым светом.
Вода уже проникает за голенища сапог. Мы не двигаемся. Григория Ивановича все нет и нет. Пончик жмется ко мне, бормочет:
— А если выше нальет? Что тогда? Наверх выползать? Я не знаю, что ответить. Одна надежда, что дождь скоро перестанет.
— Я тебе вылезу,— хрипит пограничник,— вот смотри, парень…
Он надевает на штык фуражку и чуть приподнимает винтовку над окопом. Сейчас же веер из трассирующих пуль замахал над нашими головами.
— Сволочи, козырек разбили,— почему-то с удовлетворением говорит пограничник, осматривая фуражку.
Справа вдоль окопа громко хлюпает вода. Кто-то большой пробирается к нам.
— Живы?— спрашивает этот большой голосом Григория Ивановича.
— Живы,— отвечаем мы.
— Ну, что там у комбата?— спрашивает пограничник.
— Да ничего,— смеется Григорий Иванович.— Двоих-троих убьем и обедать пойдем.
Кажется, и дождь слабее стучит по каске и теплее стало.
— Женя, ты что молчишь?— спрашивает политрук.
— Живот пучит,— кряхтит Женька,— а вылезти нельзя.
— Давай прямо здесь.
— Неловко как-то,— мнется Женька.
— А ты на лопатку,— деловито предлагает Григорий Иванович,— а потом зашвырни подальше в сторону немцев.
Мы отвернулись. Женька в точности выполнил инструкцию.
Хотя мне и показалось, что дождь по каске стучит реже, но вода уже поднялась выше колен. Я перекладываю из карманов брюк патроны и хлеб за пазуху. Мы все молчим. От холода нас трясет.
Изредка вполголоса в сердцах ругается пограничник.
— Сволочи, как котят утопят. Эх бы врукопашную!
— Алеша,— задумчиво спрашивает Григорий Иванович,— а тебе драться приходилось?
— Угу,— говорю я,— в детстве.
— Из-за девчонок?
— Да как вам сказать…
Дождь все стучит и стучит по каске. Все глуше и, кажется, дальше голос Григория Ивановича. А потом он и вовсе пропал. Только дождь и дождь.
Почему-то подумалось, что сейчас дождь поливает московский асфальт, моет затемненный Арбат, Плющиху, наш двор и любимую всеми мальчишками скамейку, где увеличительным стеклом выжжены слова: «Алеша + Лариса = любовь».
 У нас во дворе все чем-нибудь увлекаются. Одни собирают марки, другие — спичечные коробки, а очкастый Лева Гоц — книги. Один я ничего не собираю. И хорошо: забот меньше. А вот с завтрашнего дня как раз очень хочется жить без забот.
У нас во дворе все чем-нибудь увлекаются. Одни собирают марки, другие — спичечные коробки, а очкастый Лева Гоц — книги. Один я ничего не собираю. И хорошо: забот меньше. А вот с завтрашнего дня как раз очень хочется жить без забот.
Дело в том, что уже сегодня можно зафутболить все учебники и до первого сентября — свобода. Что с этой свободой делать — я еще толком и сам не знаю.
Когда мы шли из школы, Лариса спросила очень обидно, просто так, безразлично:
— Ты куда на лето?
— Никуда. В Москве буду.
Мы помолчали, а потом я с надеждой сказал:
— В Москве летом очень хорошо. Народу мало. Все уезжают…

Я говорю, а она молчит. Портфельчик коленками стукает и молчит. Решаюсь:
— А ты куда на лето?
— Не знаю. Как папа…
У парадного постояли. Она разглядывает свои белые тапочки, потом говорит:
— Ты бы хоть за лето дневник вел.
— Какой?
— Ну такой, куда все записывают.
— А чего записывать?
Она пошевелила пальцами, взяла за локти. Сама взяла. Прямо руками. И ее лицо близко-близко. Так еще никогда не было. На нем все-все видно. Даже чернильное пятнышко у виска.
— Так чего же записывать?— куда-то, словно в вату, говорю я.
Она опять разглядывает тапочки:
— Ну, разные случаи из твоей жизни. Знаешь, все великие люди вели дневники.
Сказала и побежала по темной лестнице, мелькая тапочками.
Интересно, нарочно она про великих людей или всерьез? Надо же!
Дома утащил у сестры Нонки толстую тетрадь и решил вести дневник…
Сейчас пойду во двор и посмотрю, чего записывать.
Интересно все получается! Вот сидишь дома в четырех стенах и ничего не видишь. А стоит только открыть дверь на улицу, и сколько всего видно! Это хорошо, что люди придумали двери и каждый день их открывают. Ну, это я увлекся. Открываю. Пошел.
Вот и наш двор. Сидят на скамейке мальчишки и ловят солнце в увеличительные стекла. Только один Лева Гоц читает. У него мать библиотекарша, потому он всегда читает, хотя через его увеличительные очки можно здорово прожигать.
Сидят ребята на скамейке и даже не болтают ногами. Нельзя пошевелиться. Нужны терпение и твердая рука.
Там, где под стеклом получается яркая точка, вьется голубая змейка дыма.
Вот одна лениво танцует прямо на скамейке и всем рассказывает: «Алеша+Лариса = любовь».
— Гадина ты,— говорю я в затылок Сережке Бахиле, но дать по шее не решаюсь. Он первый силач во дворе.
Сережка, не оборачиваясь, задумчиво говорит:
— А разве не правда?
И все так же танцует под его стеклом сплетница — дымная струйка.
Потом он полюбовался своим трудом и увлеченно начал выжигать первую букву ругательного слова. Мы заинтересовались.
Рядом серьезно посапывает худенький Мишка Жаров. У него струйка дыма толстая, густая. Потому что Мишка нацелился стеклом в газету. Яркая точка солнца неумолимо съедает напечатанные строчки: «…ый успех художественного фильма «Чапаев». Вот уже третий год с экранов…»
Струйка дыма движется дальше, пожирает телеграмму из-за границы: «Секретарь комсомола Испании брошен в тюрьму…» Постоял задумчиво дымок и пошел дальше: «Уже недалек день, когда новая очередь московского метрополитена…»
— А за что его в тюрьму бросили?— сам себя спрашивает Мишка.
Лева перестает читать, с сожалением смотрит на Мишку:
— За что? За то, что он за нас.
— За что? За то, что он за нас.
Мы переглядываемся. Это здорово! И Чапаев за нас, и секретарь комсомола Испании. А сколько еще других за нас! Интересно, какой он, секретарь комсомола Испании?
Вот профиль Чапаева мы на всех промокашках рисуем. Папаха, усы, кусочек бурки. Только нос не получается.
А секретарь комсомола Испании, наверное, очень веселый и хорошо поет. В Испании все, говорят, поют. Даже «Но пассаран!» звучит как песня.
Мишка докончил строчку и, ни к кому не обращаясь, говорит:
— А теперь мой отец будет летчиком.
Трудно Мишке верить. Раньше он говорил, что у него отец будет художник, потом — знаменитый снайпер, а еще потом — водолаз, а вот теперь — летчик.
Правда, вчера мы все видели, как его мать выходила из дома под ручку с одним военным. У него голубые петлички, а на них красные кубики.
Дворничиха тетя Дуся покачала им вслед головой, сплюнула. А что ей? Жалко, что ли? Пусть Мишка наконец заимеет отца. Тогда в нашем дворе будет жить настоящий летчик.
Бахиля кончил свою работу, потянулся, пошевелил бровями, рыкнул и задумался. Помалкиваем и мы.
Около все время вертится Славик. Не человек еще. В третий класс перешел. Из второго подъезда. У него отец какой-то там ткацкий инженер.
На голове Славика крутится новая кепочка. С пуговкой на макушке.
— Ну-ка,— говорит Бахиля. Славик понятливо снимает кепочку, протягивает.— Так,— усаживается поудобнее Бахиля,— посмотрим.
Задымилась пуговка. Пахнет паленым.
— Гадина ты,— говорю я. И опять не могу ударить.
— Ты допросишься,— шевелит задымленными ушами Бахиля.
Мишка осторожно трогает мой рукав. Лева Гоц оторвался от книги, очки поправил и опять в книгу.
— До-про-сишь-ся,— тянет Бахиля.
— А все равно ты гадина…
И еще я хотел что-то сказать, но не успел…
…Говорят, хорошо помогают пятаки. Но как назло у нас одни копейки. Даже носовой платок только у Левы. Запачкал я его кровью. Попадет дома Леве.
Вот так прошел день. Лучше бы я не открывал дверь на улицу.
Да и нужно ли дальше вести дневник?
Точки ставить не стал. Синяки поджили, сжались.
Заходили Лева с Мишкой. Спросили: «Как жизнь?» Сказал: «Хорошо».
Мишка посоветовал: надо было зажать в кулак ключ от квартиры — сильнее бьет.
Лева качает головой, смотрит в окно:
— Не нужно было драться, ребята. Теперь убьет он тебя. . Я и сам понимаю, что это не последняя драка. Может, правда, носить с собой ключ от квартиры. Но у нас с сестрой он один на двоих.
Мы бы и еще разговаривали, но тут пришла из булочной Нонка, выпроводила дружков за дверь и еще вежливо сказала им в спины: «Заходите!»
Они пообещали.
Нонка закрыла дверь, прошла к зеркалу и, не оборачиваясь, тихо сказала:
— Стояла за хлебом вместе с Ларискиной мамой. Она всю вашу драку из окна видела.
* * *
…Вот и опять наш двор. Весь окружен заборами. Если очень долго смотреть на забор, то возникают разные мысли.
Ну, что такое забор? Доски. А какие же доски бывают без щелей? Сюда ногу, сюда руку, потом две руки рядом, подтянуться и — скорее ногу на ту сторону, лови ботинком воздух. Вслед за ногой переваливаешься сам. И весело и страшно.
Спрыгнул, языком зубы погладил, сплюнул: красного нет. Тоже мне, забор!
Ну, а в каком же заборе не бывает лазов? И в них пролезают. За землю руками, а все-таки ползут. Настоящий мальчишка так не сделает.
Мы уж всех знаем, кто пролезает. У них всегда рот в повидле, и чуть что они хнычут, а иногда кричат: «Ма-ма!»
А вот и наша скамейка. Я сижу на той самой надписи, где выжжено «плюс» и «равняется». Сижу и рассматриваю наши заборы. Здорово все-таки сидеть на заборе! Ты всех видишь, и тебя все видят. Можно аккуратно, не спеша сложить кукиш и совершенно безопасно показать нашему управдому. Но это забава малышей. Мы уже так не делаем.
На забор хорошо залезать вечером, когда зажигается свет в окнах домов. Можно долго-долго сидеть верхом и смотреть на Ларискино окно. И если очень терпеливо ждать, то на светящейся занавеске появляется Лариса. Правда, ни глаз, ни улыбки, ни чернильного пятнышка — ничего этого нет. Одна только тень. А потом опять очень долго светится одна занавеска, да нет-нет медленно проплывает круглый шар с очками. Это ее папа. И опять светит только одна занавеска, как в кино, когда оборвется лента. А потом гаснет свет.
Недавно так же погас свет, я уже хотел спрыгивать, как вдруг в темном квадрате что-то забелело круглое. Вначале я никак не мог ничего разглядеть, а потом как в кино все стало в фокусе. На меня смотрели очки.
Идут минуты, а мы неподвижно смотрим друг на друга. Потом над головой поднялся палец и медленно погрозил. Если бы это был не ее папа, я показал бы ему все пять пальцев. Но я не могу. Рука не поднимается.
Это было совсем недавно. А вот сегодня думаю о Ларискином окне. Что могла увидеть оттуда ее мать?
Мы с Бахилей дрались вот здесь, у самой скамейки. Отсюда виден только верхний уголок окна. Ларискина мать длинная. Только ей и было видно, а Лариске нет. Лариска ничего не видела. Правда, можно встать на подоконник.
Может быть, она так и сделала, но не в самом начале драки, а после. Это хорошо, что после. Потому что вначале я получил от Бахили два раза. А потом Ларискина мать, наверное, сказала: «Ой!»— и тогда подскочила Лариска. Если так, то неплохо. Потому что как раз в это время мои кулаки повстречались с чем-то Бахилиным и один раз, кажется, с Левой Гоцем: он в серединке путался.
Да, хорошо, если бы все так было. А вдруг Лариска первая влезла на подоконник и сказала: «Ой!»— а уж потом подскочила ее мать? Мне стало скучно.
Сижу и смотрю на забор, на уголок окна. И вдруг через забор летит и шлепается книжка. Потом царапанье, пыхтенье и на верхней доске — чьи-то пальцы, потом стриженая макушка, потом очки, а потом и сам кругленький Лева.
Ему трудно лазить через забор. Он толстенький да еще близорукий. Но я ни разу не видел Левиной головы в заборной дырке. Даже зимой, когда доски очень скользкие.
Сейчас Лева прыгает и, как все мальчишки, сплевывает, внимательно провожает плевок, успокаивается. Потом разыскивает книгу, усаживается рядом.
— Ушибся?— спрашиваю я.
— Так, чепуха,— отмахивается Лева и косится на забор.— Вот, смотри, Фурманов.
Помолчал, спросил:
— Ну, как?
— Что — ну как?
— Ну ведь это же Фурманов.
Ну что тут еще говорить. Раз есть Чапаев, то есть и Фурманов. А тут еще есть ее окно.
Лева ерзает, хлопает по книжке.
— Смотри, это же «Мятеж». Читал? Ну, слушай же. Меня слушай.
И Лева начинает читать вслух. Строчку прочтет и очками — на меня.
— Улавливаешь?
— Угу.
— Да ты ничего не понял,— сердится Лева.— Плюнь ты на это окно. Слушай. Восстал мятежный батальон. Против Советской власти. Понимаешь, против нас. И вот к ним в крепость идет кучка коммунистов. И конечно, Фурманов. Без оружия идут. Как просто люди. И с мятежниками нужно говорить. Понимаешь? Им нужно сказать правду. Теперь слушай дальше.
«В последних, так сказать, на разлуку только два слова: Когда не помогают никакие меры и средства, все испытано, все отведано и все безуспешно,— сойди с трибуны, с бочки, с ящика, все равно с чего, сойди так же смело, как вошел сюда. Если быть концу,— значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза.
Умереть по-собачьи, с визгом, трепетом и мольбами,— вредно.
Умирай хорошо. Наберись сил, все выверни из нутра своего, все мобилизуй у себя — ив мозгах и в сердце, не жалей, что много растеряешь энергии,— это ведь твоя последняя мобилизация! Умри хорошо…
Больше нечего сказать. Все».
Лева восторженно крутит головой над книгой, гладит ее рукой, хмыкает:
— Во как!
Я знаю, что сейчас он начнет спрашивать, что я понял. Это у него такая вредная привычка. Сам что-нибудь поймет, а потом к другим пристает: «Ну, понял? А что ты понял?» Даже хуже, чем Пелагея Васильевна, наша учительница по русскому и литературе.
— Ну, понял?— спрашивает Лева.
— Угу!
— А что ты понял?
— Понял, что умирать не хочется.
Воробей подлетел к самым Левиным ботинкам. Напыжился. Начал ставить клювиком точки. Лева его не трогает.
— Глупый,— говорит Лева.
— Кто?
— Воробей, конечно.
Разглядываем воробья. У него свои интересы, а у нас свои. Пальцы скользят по швам тоскующих карманов. Какая-то пыльца, шайба, катушка с нитками. Нет, не будет клевать.
Трусливый, смешной. Подступится близко, клюнет и сразу назад. Обижали, наверное.
Вдруг заскрипел забор и взвинтился, улетел воробей.
— Улетел,— говорит Лева.
— Улетел…
В дырке забора — голова, потом плечики, живот, ляжки, коленки, хорошие ботинки. Все это встало на четвереньки, выпрямилось, затоптало рисунок воробья, сказало «привет» и село рядом.
Это граф де Стась Квашнин — тайный агент Кардинала.
Очень богатый человек. Имеет патефон, ручные часы. Говорит, что скоро будет и фотоаппарат.
Граф де Стась вынул из кармана, что-то круглое, нежное, чуть пушистое, а в середке просвечивается темная косточка.
— Персик,— поясняет граф.
Лева рассматривает «Мятеж», я— персик.
— Фрукт, значит,— вяло говорю я.
— На Кавказе растет,— дует на персик граф,— у нас не бывает.
Тихо на скамейке.
Кавказ, Кавказ… это мы в школе проходили.— Хочешь? На!— говорит граф.
Я молчу. Знаю, что де Стась так просто никогда ничего не дает.
Поскрипывает скамейка.
— Как хочешь,— тянет граф и тычется персиком в карман.
— Ну уж, ладно,— соглашаюсь я.
Никогда еще не встречались зубы с этим. Он что-то говорит. Я не слышу. Вот и уже близко косточка.
— Слушай, Алешка, подожди, не жуй. Нужно дать одному по шее.
— К-к-кому?
— Он с Лариской ходит… Вчера они в кино ходили. Заглотнулась косточка. Но все-таки успел ее выплюнуть.— Кто ходит с Лариской?
— Ну, кто-кто? Вот так взял и прислонился. И идут. Я все шел за ними, а они идут.
— А как прислонился?
— А вот так. Плечом прямо.
— А она как прислонилась?
— А она так. Тоже плечом.
— Так кто же?
— Тише, ребята,— испуганно крутит головой Лева.— Ну вас.
— Так кто?
— Только ты не говори, что я сказал. Гога из дом пять. Вот кто.
И зачем мне это сказал граф? Ведь у этого Гоги из дом пять шевелюра, и еще у него есть велосипед. Наверное, скоро будет катать Лариску.
А еще Гога очень умный, знает много. Как же я ему дам по шее?
— Слушай, граф,— говорю я.— А тебе какое дело до Лариски?
— А мне-то что?— пожимает плечами граф.— Просто все знают про тебя и про Лариску.— Он скользит взглядом по скамейке, но «плюс» и «равняется» надежно спрятаны.
— Подвинься,— просит граф — я сяду.
И вдруг наш двор как-то весь приободрился, заулыбался, кажется, даже окна подмигнули друг другу, а доски забора подтянулись, выпрямились. Плеснулась во двор мужская песня и дружный хруст сапог.
Дальневосточная, опора прочная,
Союз растет, расчет непобедим,
И все, что кровью, кровью завоевано,
Врагу, врагу, врагу не отдадим…
Мигом смыла нас песня со скамейки. И вот мы уже с Левой шагаем по Плющихе рядом с батальоном красноармейцев.
Мы идем в ногу, мы жадно нюхаем солдатский запах: кожаные ремни, деготь, пот. Наверное, это идет от мокрых гимнастерок, от темных следов на них, там, где туго лоснятся боевые ремни.
Стоим на страже всегда, всегда,
А если скажет страна труда,
Прицелом точным врагу в упор,
Дальневосточная, даешь отпор…
Мы забегаем вперед батальона, любуемся командиром. Он шагает с чуть усталым лицом, но как он прямо держится, как ладно подогнаны кобура, противогаз, полевая сумка. На груди запыленный бинокль. Он себе шагает и даже не смотрит на восхищенных прохожих. Он командир. Ему, наверное, нельзя глазеть по сторонам. Он один не поет. А песня поднимается все выше и выше над нашей тесной Плющихой. Она ударяется о водосточные трубы и даже шевелит мочальные хвосты бумажных змеев на трамвайных проводах.
Дальневосточная, даешь отпор,
Даешь отпор…
Я бы отдал все, что у меня есть, лишь бы вот так пройти впереди отряда по Плющихе, а потом по Арбату. И пусть Лариска, ее мать, ее отец, наша учительница по русскому и литературе смотрят на меня. Ну, а что я отдам? Что у меня есть? Прыгает, бьется под распахнутой линялой рубашкой сердце.
Стоим на страже всегда, всегда,
А если скажет страна труда…
Мы с Левой уже на Арбатской площади. И как это мы так далеко зашли? Не знаю. Это же целый километр.
Смолкла песня, только сочный хруст сапог. Мы приотстали, а потом молча поворачиваем обратно. Идем по Арбату.
Я очень люблю эту улицу.
Однажды в школе мы спросили, как представить себе километр. Учитель ответил:
— Вот наша улица Арбат длиной в один километр.
Мы переглянулись. Уж что-что, а эта улица нам знакома. Наверное, на свете нет замечательнее улицы, чем наш Арбат. Кому из мальчишек не знаком кинотеатр «Юный зритель», что в центре Арбата?! Белое полотно экрана — волшебное окно в чудесную жизнь. Сколько раз, дыша в затылок друг другу, мы, не шелохнувшись, ожидали, когда нас впустят в зрительный зал, где первый ряд — вершина блаженства.
В фойе нас всегда встречает пожилая, с обаятельной близорукой улыбкой пианистка. Она всегда играет одно и то же — «Турецкий марш». Под этот марш мы, дружно отшлепывая босыми пятками, входим в полутемный, едва проветренный зал, где стулья еще хранят тепло чьих-то горячих мальчишеских тел.
Нам все поясняет женщина в темном костюме с аккуратным бантиком на белой блузке. Мы, сопливые мальчишки, все влюблены в эту худенькую женщину.
Когда в зале гаснет свет, она поднимается на возвышение у стенки и начинает пересказывать содержание картины. Присмиревшие, тесно прижавшись друг к другу, мы видим мятежный броненосец «Потемкин».
В орудийных башнях, у снарядных погребов застыли в жутком ожидании матросы. «Потемкин» под красным флагом, величественный, гордый, идет один навстречу всей вражеской эскадре.
Медленно, грозно поворачиваются жерла орудий. Их движение сопровождают настороженные мальчишеские глаза. Что-то сейчас случится страшное. Мы замерли, мы уже давно не дышим. Я уронил ключ от квартиры. Вздрогнул мой сосед, испугался и я. И вдруг в темноте звучит спокойный, уверенный голос нашей рассказчицы:
— «Потемкин» прорвется, враги не осмелятся открыть по нему огонь!
Как мы завидуем этой женщине с бантиком на блузке. Как много она знает! Она каждый день смотрит кино по пять-шесть раз!
Потом мне мама сказала, что эта женщина каждый сеанс постепенно теряет зрение.
После сеанса мы, жмурясь, выходим на Арбат и, по-воробьиному подпрыгивая, идем говорливой шумной стайкой. Прохожие понимающе уступают нам дорогу. Даже зоомагазин не привлекает нас в эти минуты, даже новую легковую машину М-1 мы не провожаем взглядами. Наши мысли далеко, на Черном море, возле города Одессы. Жаль, что наш Арбат не выходит к морю. С сожалением мы смотрим на малышей, что в переулках разрисовывают мелом тротуар, играют в «классы». Какие могут быть сейчас «классы», когда в Черном море, возле города Одессы ждет помощи восставший броненосец.
…Как-то в школе стало известно, что на Арбате, в «Юном зрителе» будет демонстрироваться «Разлом». В этом фильме крейсер «Заря» идет на помощь восставшим рабочим Петрограда. Пошептались, перебросились записками, и на последнем уроке — пения — только одни голоса девчонок старательно выводили: «В движеньи мельник жизнь ведет, в дви-женьи». А мы же, мальчишки, рыскали по пыльным чердакам и сараям в поисках старых галош и бутылок. Мы верили, что на нашем месте точно так же поступили бы и Том Сойер и Гаврош. Билет в кино стоил двадцать пять копеек. Такую сумму старьевщики соглашались дать, только когда на их тачках сплющивались от тяжести рессоры.
Наконец у каждого из нас в потных кулаках зажата сумма на билет. Мы бежим по Арбату. Вот и кассы кинотеатра, вот знакомое маленькое окошечко. Вот у нас в руках билеты на «Разлом». Мы рассматриваем их, даже обнюхиваем — все на месте: число, сеанс, цена и контроль. Теперь-то уж крейсеру «Заря» не уйти без наших шумных восторгов на помощь восставшим рабочим Петрограда…
Мы замерли в колоннах. Важно не шелохнуться, строго держать равнение, и тогда колонна, в которой мы стоим, войдет в зал первой. Звучит «Турецкий марш». Голова колонны уже вошла в полутемный зал. Мы старательно маршируем, осторожно шепчем друг другу: «Займи место».
И вдруг кто-то трогает за локоть. Я не могу, не имею права обернуться. Меня настойчиво трогают снова. Тихонько оглядываюсь, и… крейсер «Заря» без единого выстрела растворился в морском тумане. За спиной стоит моя мать:
— Пойдем домой!
Мы молча идем по Арбату. Мне видно, как дрожит у матери подбородок. Она ничего не говорит, и от этого молчания, кажется, тускнеют весенние солнечные блики на стеклах витрин.
С тех пор как мы стали жить без отца, я часто видел, как дрожит у мамы подбородок, а случалось — согнется, и тогда вздрагивают у нее плечи. Промокнет глаза фартуком, обернется:
— Ну, чего тебе? Иди гуляй.
Сейчас я пытаюсь сбивчиво поведать ей о том, как мне не повезло в жизни. Так и не увидел я, как враги хотели взорвать крейсер «Зарю», не увидел матроса Годуна и революционного Петрограда. Я чувствую, что мать прислушивается к моим словам, у нее уже не дрожит подбородок, она замедляет шаги, останавливается. Мы молча смотрим друг другу в глаза.
— Это все правда?— тихо спрашивает мать.
— Правда, мама.
— Была дома учительница, сказала, что ты убежал с урока пения.
Я тоскливо переминаюсь с ноги на ногу. Мне нечего сказать…
— Хорошо, пойдем сейчас в кино вдвоем,— тихо говорит мать.
Мы возвращаемся. На стеклах витрин арбатских магазинов снова ярко вспыхнуло солнце…
Сейчас мы с Левой опять сидим на нашей скамейке. Он задумчиво листает Фурманова, а я вслух подсчитываю, через сколько лет меня возьмут в Красную Армию.
— Ну где тебя все носит?— слышу я уж очень знакомый голос. В нашем парадном вижу свою маму. Только не всю, а половину мамы: мы живем в подвале.
— На,— протягивает мать мелочь,— купи хлеба и два яблока. Только яблоки донеси. Нона заболела. Скажи продавцу: или одно большое, или два маленьких.
Она осматривает меня, вздыхает.
— Где тебя носит?
— Мы за красноармейцами ходили.
— Зачем же?
— Помогали им.
Мать ничего не понимает, хмурится:
— Чем помогали?
— Ну тем, что шли с ними в ногу…. Она опять осматривает меня:
— Хоть рубаху-то застегни. А коленки-то, коленки. Придешь, заштопаю.
Она пошла вниз по лестнице, потом обернулась, сказала:
— Если будут очень мелкие — возьми три. Одно себе. Мне неохота идти за хлебом. Если вот только яблоки…
— Плюнь,— говорит Лева.— Купи лучше сушеных груш. Их на вес много.
* * *
В заборную дырку пролез Бахиля. Сказал: «Привет!» Походил около, подсел ко мне совсем близко. Голову кверху, глаза закрыл. Чуть поджимает меня плечом. Еще немножко, и я свалюсь с краю. Рукой держусь за скамейку, но не уступаю. Он выжимает, а я не двигаюсь.
Встал Бахиля. Руки в карманы. Цвиркнул длинным плевком, пошел к помойке.
Это нам знакомо. Сейчас начнет выжимать чугунную болванку.
И кто ее знает, как попала к нам во двор эта чугунная штука? Может, еще при царе. Длинная и на конце две загогулины.
Как-то она нам в футбол мешала играть. Еле-еле втроем отволокли к помойке, да еще на земле борозд наделали.
И вот сейчас к ней подходит Бахиля. Ноги пошире плеч, громко вздыхает, руки крючками, потоптался, примерился и медленно тянет эту чугунную штуку. До колен… выше колен… до живота. Шея красная, а лицо в белых пятнах. Тянет еще выше. Вот уже почти до груди.
Ему бы еще чуть, еще бы как-нибудь толкнуть, и пошла бы она выше. Дрожат руки, сам весь дрожит, издает разные звуки.
А потом глухо шлепается на землю чугунная балка. Бахиля лениво смотрит на нас, усаживается на скамейке, крутит носом, морщится:
— Это не от слабости, а от горохового супа,— поясняет Бахиля и, задрав голову кверху, закрывает глаза.
— Душно мне,— говорит он Леве.— Помаши-ка книжкой. Лева никакого внимания, все так же читает.
— Давай-ка, помаши на меня,— открывает один глаз Бахиля.
Лева читает. Бахиля тихо ерзает.
— Я кому, жидовская твоя морда, сказал?
И сейчас же летит в помойку книжка. Летит наш «Мятеж».
— Кому я сказал?— орет Бахиля.
…Я уже что-то понял. Главное, выдержать первый удар. В глазах — искры, а потом привыкаешь, что ли, и уже не больно. Он попадает кулаками, а тебе не больно. Только видишь его лицо, и только оно сейчас самое важное, и только по нему нужно бить… бить. По нему надо попасть. Как хочешь, а попасть. Только бы не споткнуться, не упасть.
Где-то между нами опять Лева. А потом и забор, и скамейка, и Ларискино окно — все собралось в одну точку и сразу разбежалось. И опять Бахилино лицо. Он пятится к забору и весь расцветился красным. Снова звезды в глазах. Потом Бахилина шея, волосы, его запах. Ногти обожгли мне лицо. И опять Лева.
А потом фашист, что бросил в тюрьму секретаря испанского комсомола, и мятежник, что хочет убить Фурманова. И опять Бахиля, и снова на его очень белом лице много красного. Дальневосточная, опора прочная…
Мне не больно. Мне нисколько не больно. Только бы вот еще попасть в это белое с красным. Только бы скорее оттолкнуться руками от земли и опять встать на ноги, и опять бить… бить… Бью по Бахиле, попадаю в забор. Но нисколько не больно. Вдруг Бахиля стал маленьким и лица нет. Только один забор. Я бью коленками, ногами в это маленькое. Меня тянут за плечи, тянут за руки.
— С ума сошли,— чей-то взрослый голос,— да вы что? Стой! Стой!
Сейчас я совсем близко вижу мокрое лицо военного. У него голубые петлички и на них красные кубики.
…В наш подвал мы спускаемся вместе с Левой и летчиком.
— Вот,— говорит Лева,— я твои деньги собрал. Сам все куплю. Ох, и попадет тебе.
На стук открыла мать. Кажется, летчик ей козырнул, что-то сказал, заторопился наверх. Все-таки приятно, что он козырнул моей маме.
— Мама, теперь уж нужно все штопать,— кажется, я так сказал. Мне очень хотелось улыбнуться, но вдруг стало очень темно. Наверное, трамвай с прицепами закрыл наши окна.
У кровати, на стуле, рядом с примочками и столетником — два яблока.
* * *
Мы с Нонкой печем оладьи. Она мешает что-то в кастрюльке, а я колдую над керосинкой.
Шмякнет Нонка белую кляксу, теперь чуть подождать, и клякса по краям розовеет. А потом еще чуть подождать, и на нас, словно сразу три луны, улыбаются три олажки.
Это наша сковородка умещает три. А вообще-то нас двое с Нонкой. Мы теперь без мамы.
Как-то в жизни неправильно случается: чуть Нонка поправилась, маму увезли. У ней что-то с печенью или с почками. Так сказал хмурый дядя из «Скорой помощи». Меня по голове погладил, а с Нонкой за ручку. Потом загородил нас своей спиной в белом и понесли маму. Мама улыбнулась нам, сказала Нонке:
— Доченька, за зеркалом все наши деньги. Осторожно трать.
А мы еще и теперь по привычке делим на троих все, что есть на сковородке.
Свое съели. Я потянулся к третьей кучке оладий.
— Посмотрите на него,— говорит Нонка,— вот еще фашист. Это отнесу в больницу.
Потом она деньги считает. Считает и сама того не знает, что это же билеты на «Чапаева», бутылки ситро, жареные пирожки с повидлом и даже разноцветные карандаши «Радуга», целая пачка.
— Алеша,— вдруг очень серьезно говорит Нонка,— у нас осталось мало денег. Вот это все. А еще маме на передачу.
Я тоже потрогал деньги и сказал, что это слишком много. Еще можно жить да жить.
Нонка заворачивает в бумагу мамину порцию и охотно поддакивает. Я уже знаю, когда она так делает, это значит: внимание! Потом она раскладывает деньги на кучки, и над каждой бормочет: «хлеб», «молоко», «сахар». Три кучки. Это значит три дня.
— А как же «Чапаев»?
— А твой «Чапаев» на казенном пайке. Понятно? Я подсчитываю:
— Значит, хватит на завтра, послезавтра и послепослезавтра.
Нонка хмурится:
— Нет. Хватит на сегодня, завтра и послезавтра.
— А потом?
Нонка долго молчит, кулаком щеку подперла, прямо как мама:
— А потом я не знаю, Алеша.
Трамвай затемнил окна. Гремит очень. Мешает думать. Есть у меня несколько способов, как добыть денег.
Во-первых, можно на себе вывозить снег с улицы во двор. Домоуправ хорошо платит. Это раз.
— Сейчас лето,— Нонка отворачивается.
— Хорошо,— соглашаюсь я.— Ну, пусть так. Тогда соберем старые калоши и бутылки. На Плющихе знаю палатку. Принимают.
Нонка шелестит бумагой, достает олажку:
— На-ка, это у тебя от недостатка калорий.
— Что калорий? При чем тут калорий? Сколько угодно люди выбрасывают калош.
— Что-то люди не очень выбрасывают. Я помолчал.
Трамвай загрохотал за окном. И Нонку почти не видно.
— Хорошо,— говорю,— пусть так. Есть еще способ. Заходишь в любой магазин, не глазей, как все, на прилавки или там на кассиршу, а смотри под ноги. Обязательно около кассы монетки валяются.
— Так… Что еще?
— Что еще? Что еще? Ну, еще можно сдать мои старые учебники.
Нонка прислушивается, потом встает, поправляет прическу.
— Достань-ка их.
Мигом — под кровать, вытащил книжки, подул на них, протягиваю:
— Вот, смотри.
Она листает учебники, спрашивает:
— А это что?
— А это… Ну, морской бой. Это мы с Левой играли.
— А это?
— Это Чапаев. Не похож?— волнуюсь я.
— Да, похож,— тянет Нонка.— А вот это?
— Это я уже и сам забыл. Прямо на условиях задач какой-то чернильный крейсер или «Варяг», или «Аврора», а может быть, и сам броненосец «Потемкин».
У меня прямо какая-то привычка рисовать на учебниках. Сначала думаешь чуть-чуть порисовать, ну квадратик или ромбик. Так, на полях, а потом и не заметишь, как получается корабль или броневик. Может, потому, что мне скучно на математике? Решаем задачи про детские лопатки, которые продал какой-то магазин. Так и представляется грустный продавец, а рядом на прилавке куча детских лопаток. И эти лопатки продавец никак не может продать сразу. Наверное, лопатки бракованные или продавец плохой.
Бывают задачи про клумбы с цветочками. На одной клумбе дети посадили одни цветы, на другой — другие. Вот сиди и решай, каких цветов было больше.
А разве нельзя придумать такие задачи, где стреляет крейсер «Варяг»? Сколько у него было пушек и сколько их осталось после неравного боя? Или про буденновского пулеметчика. Несется тачанка, как про нее в песнях поется, и запрелый, запыленный боец дает очереди из раскаленного пулемета. Вот и высчитай, на сколько времени у него хватит патронов, если их в ленте двести пятьдесят штук.
Хорошо бы еще придумать задачку про двух водолазов. Где-то на дне морском спит, укрывшись тиной, затонувший корабль.. Давно истлели на нем лоскутья парусов. Ласкаются о них своими плавниками удивленные рыбы. В жерлах когда-то грозных бронзовых пушек живут морские ежи, в каюте капитана осьминоги глупо переворачивают страницы вахтенного журнала. И вот к этому кораблю, навстречу друг другу, тяжело согнувшись, двигаются неуклюжие водолазы. Кто из них придет раньше? Кому первому посчастливится соскоблить ракушки с того места, где значится название корабля?
Или взять да рассчитать, через сколько секунд услышали в Смольном выстрел «Авроры». Ведь звук на расстоянии не сразу доходит.
Появись такие задачки в учебниках, ручаюсь, никто в нашем классе звонка не услышит. Про него просто забудут. Правда, девчонки, те, может быть, и услышат звонок, засуетятся, но за мальчишек я ручаюсь: будут решать как миленькие. Не шелохнутся.
— Так и не шелохнутся?— равнодушно переспрашивает Нонка, выстраивая из учебников аккуратную пирамиду,
— Так и не шелохнутся. А что? Нонка любуется пирамидкой:
— А то, Алеша,— она смеется, потом хмурится,— эти учебники нигде не примут. На них больше твоих рисунков, чем напечатано. Вот так.
Потом она долго смотрит на мои руки и вдруг встает:
— Давай тебе ногти подстрижем.
Я не люблю, когда мама или Нонка стригут мне ногти. Они прямо лезут до мяса. Не то, чтобы больно, а просто не по себе.
А вот сейчас Нонка старается, и я ничего не чувствую. Я решаюсь и наконец выкладываю самое сокровенное:
— Знаешь, Нонка, можно ловить кошек для одного института.
Нонка перестает стричь, морщится. Я поясняю:
— Их там для чего-то режут и за каждую дают три рубля.
— Б-р-р-р,— ежится Нонка,— сиди уж. Давай мизинец.
К нам кто-то настойчиво стучит. Нонка метнулась к зеркалу, потом с силой подула на пол вокруг меня и не спеша пошла к двери.
Щелкнул замок. Я ухо — парусом.
— Ноночка, пожалуйста… Это пироги… А это немного денег… Как сейчас мама?
Это голос Ларискиной матери. До чего же похожи голоса у мамы с дочкой. Лишь бы она не зашла в комнату. Я тоже тихонько подул на пол, задвинул ножницы, разглаживаю клеенку. Вслушиваюсь. Впитываю.
— Спасибо, Евдокия Ивановна. Напрасно вы это… деньги у нас есть… За пироги спасибо… Алешка любит с капустой…
— Это с яблоками, Ноночка.
— Мне показалось,— с капустой. Сейчас яблок не найдешь… Были с Алешкой на базаре. Ну, хоть бы одно яблоко. Ни одного. Алешка ноет: вынь да положь. Знаете, привык. Дня не проживет без яблок.
Щелкнул замок. Вернулась Нонка. Мы долго молча ели пирог. Нет-нет да и встречались наши взгляды. На клеенке стола мирно покоилась завернутая в бумагу третья часть яблочного пирога.
Вообще пирог оказался ничего. Может быть, Лариска в нем тоже что-нибудь месила.
Я за дверь.
— Куда?— спрашивает Нонка.
— Знаешь, сестричка, есть еще на дверях медные ручки. Понятно?
— Ничего не понятно.
— Медь в палатках «Утильсырья» очень ценится.
Вот и опять наш двор, наша скамейка.
Сейчас на ней нет места. Здесь даже Гога из дом пять примостился на краешке. Ботинками по земле водит. Линии чертит. Кривые. Линии ему ни к чему. Проведет одну и через забор смотрит. На окно, конечно.
В центре скамейки — Бахиля. Глаза закрыл, лицом к солнцу. Загорает вроде.
Я прошелся около, он никакого внимания.
А тут Лева пошелестел страницами, смотрит из-под очков:
— У матери не был?
— Да нет еще…
— А чего у ней болит?
— Нонка говорит — печень. Молчит наша скамейка.
— Это что?— интересуется Мишка Жаров. Мы все на Леву смотрим.
— Печень — это у всех людей есть.
Потом мы долго искали друг у друга печень. Я свою отметил чернильным карандашом: покажу дома Нонке. И опять меня очень интересует Бахиля.
— Подвинься, ваше благородие,— говорю я. Бахиля не двигается.
— Прошу вас, ваше превосходительство.
Бахиля только подрожал веками, сидит без движения. Я очень вежливо:
— Ваше величество, схлопочете в морду. Скамейка притихла. Далее Лева загнул уголок книги.
— Ну!— ору я в ухо Бахили.— Считаю до трех. Раз! Бахиля сидит.
— Два!
Он не шевелится.
Гога из дом пять шевелюру поправил, встал, заторопился.
— Садись, Алешка, сюда. Мне домой.
— Дальневосточная, опора прочная… Три!
— Псих,— говорит Бахиля,— медленно встает, вяло сплевывает, добавляет:— Идиот, как писал один писатель.
— Достоевский,— подсказывает Лева.
— Вот, вот, он самый,— соглашается Бахиля и медленно, в раскачку направляется к помойке. Поднял было штангу до колен, бросил. Отряхнул руки, постоял задумчиво к нам спиной и полез в заборную дырку.
И сейчас же через забор летит к нам кирпич. Разлетелся у самых ног на кусочки, в пыль.
Мы все к заборной дырке. Никого. Издалека только смех Бахили:
— Идиоты, ха-ха-ха! Как писал один писатель, ха-ха-ха! Мать в больнице, ха-ха! А сестра Нонка с киномехаником, ха-ха!
Бежал за Бахилей, выдохся. Хватал камни, пускал вслед: не долетают. Юркнул он в парадное. Топает, спотыкается на ступеньках. Я за ним. Слышу звонки, цепочка лязгнула, захлопнулась дверь и сразу — тишина.
Отдышался. Звоню. Тихо за дверью. Опять звоню. И опять все тихо. Дверь клеенкой обита. Дощечка медная: «Зубной врач М. В. Бахилин». Рядом кнопками прижат листок: «Список задолжников по квартплате». Тут же фамилия: Бахилин. Порылся в карманах — карандаш. Старательно подчеркнул эту фамилию. Даже в рамку взял.
Медная дощечка «Зубной врач М. В. Бахилин» всего на двух шурупах. Отколол от списка кнопку, приспособился — отвинчиваются, идут шурупы.
Спустился вниз, карман холодит дощечка. Все-таки медь, а медь в палатке «Утильсырье» хорошо ценится…
* * *
В нашем дворе кто-то давно завел обычай посвящения в короли. Имена некоторых из них я запомнил еще, когда ходил повязанный шарфиком, носил варежки, неудобные калоши и гулять мне разрешалось только у самого нашего парадного.
Это были очень сильные короли. Петька Бублик Первый, Гришка Пигаш Короткий, Санька Мамед, Петька Рыжий Второй и Бахиля. Самый знаменитый — Санька Мамед. За ним даже один раз через наш двор гналась милиция.
Потом одни короли ушли в армию, других за что-то посадили, а Бахиля сам отрекся от власти, как сказал Лева «но причине давления снизу».
И вот я стал королем.
Ребята принесли старое ведро, вытряхнули из него картофельную шелуху, посередине двора разостлали рогожный мешок, Мишка Жаров сбегал домой и с великими предостережениями вынес старый отцовский австрийский штык.

Меня возвели на ковер, на голову надели ведро. Прежде чем вручить штык, который я должен поцеловать, Лева обратился к народу с призывом, чтобы был самый неподдельный энтузиазм.
— Можно кричать: «Ура!», «Вива!», «Банзай!»,— разъяснял Лева.— Можно также бросать вверх чепчики. У кого нет — разрешается кепки или тюбетейки.
Народ, посапывая, слушал
Я должен был дать торжественную клятву в том, что никогда не стану притеснять слабых, буду вести беспощадную войну с «домпять» и способствовать процветанию торговли с палатками «Утильсырья».
Во всем этом я тут же поклялся, поцеловал штык, и сейчас же начался энтузиазм.
Все кругом закричало, замахало, завертелось. Я даже и не знал, сколько вокруг короля вдруг может оказаться подхалимов.
Меня называли сильнейшим, храбрейшим, мудрейшим и даже непонятным словом «корифей». Я не знал, что оно означает, а потому решил сдержаться.
Шум поднялся такой, что во всех окнах высунулись во двор головы. Выглянула и Лариса. Я подумал, что хорошо бы заодно мне дали и королеву.
Торжество и неподдельное ликование масс нарушил грузовик. Он, тяжело приседая, въехал к нам во двор. Из кузова пучились стулья, цветы, корыто, корзины.
Грузовик проехал по ковру и остановился рядом с парадным только что отстроенного дома. Открылся борт и откуда-то из стульев выпрыгнул худенький кудрявый мальчишка, потом здоровенная свирепая собака. За ними из-под фикуса сползла на землю полная тетя и сразу стала командовать шофером и тощим дядей в пенсне.
— Берите картины! Осторожней! Поцарапаете!
И вдруг перед всем изумленным королевством из кузова опустилась картина в золотой раме. Мы замерли: на картине нарисованы голые люди. Они куда-то в ужасе бегут. Мужчины тащат на руках женщин, и кругом огонь, и все рушится. Никто из нас никогда не видел голых взрослых. А тут прямо все разрисовано. Надо же!
— Ну, чего стоите?— подмигнул шофер.— Помогайте! Мы взялись за кастрюльки, цветы, узлы, а картину испуганно обходим. Ее унесли кудрявый мальчик и шофер.
До позднего вечера мы не расходились. Было очень интересно знать, кто же теперь будет жить в нашем дворе.
Вышел прогулять собаку кудрявый мальчишка. Овчарка с силой тянула повод, старалась скорее все обегать, все обнюхать.
Потом она кинулась к нам, и самые нетвердые из моих подданных с криком «Банзай!», «Виват!» и «Мама!» бросились врассыпную. Я остался. Просто тогда я еще не знал, что короли тоже убегают.
— Ну, давай знакомиться,— сказал мальчишка, протягивая руку.— Женька.
Подумал, добавил:
— Женька Кораблев. А тебя?
Сзади овчарка с интересом обнюхивала мои штаны, и я почему-то забыл свое имя.
— Хороший песик,— задумчиво сказал я,— Как его зовут?
— Король. А тебя?
Овчарка потянула в сторону, занялась нашим ведром-короной. Я вспомнил:
— Меня Алешка. Грибков Алешка.
— А что вы тут на рогоже делали? Я из машины заметил,— спросил Женька.
— Посвящали в короли.
— Кого?
— Ну меня.
— Зачем?
— Ну, так положено. Кто самый сильный во дворе, тот и король.
Женька подумал, сказал серьезно:
— Лучше быть вождем гладиаторов Спартаком. Или Чапаевым. А королей всегда революции свергают.
Он сердито потянул повод, крикнул:
— Король! Цыц! Оставь ведро! Я тебя! Сядь сюда! Овчарка виновато посмотрела, завиляла хвостом, покорно уселась у ног хозяина.
— Вот видишь,— засмеялся Женька,— все как у людей. Он опять помолчал, потом потеребил свои кудри:
— Знаешь, Алешка, раз ты король, ты должен знать, какие полезные ископаемые есть в твоих владениях.
— Это зачем?
— Вот мне нужна глина. Красная, а лучше белая. Есть у тебя?
— Для чего?
— Лепить. Я лепить люблю.
— А что лепить?
Хочешь, тебя вылеплю. Я бюст Шмидта лепил, того, что с «Челюскина», и Максима Горького.
— А Чапаева можешь?— осторожно спросил я.
— Могу.
— Тогда пойдем.
Я повел его за помойку. Здесь была чудесная, послушная пальцам белая глина. Когда-то мы натаскали ее со стройки теперь уже построенного Женькиного дома.
* * *
А на следующий день произошло вот что. Женька начал лепить. Мы стояли за его спиной и молчали. Просто удивительно все получается. На нашей скамейке лист фанеры, на ней большой ком белой глины. И вот из этого кома получилось знамя. У Женьки пальцы тонкие, сильные и очень ловкие.
Сначала из кома вышел толстый блин, а потом появились складки, и вот уже глина как будто и вовсе исчезла, и мы увидели шелковое легкое знамя. Казалось, оно сильно бьется на ветру, стараясь куда-то улететь, но древко упрямо держит его.
Я такое знамя видел в Музее Революции. Его нарисовал художник. Прямо из золотой рамы картины в зал музея неслись три всадника. Один из них в буденновке поднялся на стременах, с силой рвет из ножен шашку, рот у него страшно открыт, наверное он кричит: «Даешь!» А рядом, чуть откинувшись назад и цепко обхватив ногами брюхо коня, развернул во всю ширь мехи гармони кавалерист в белой, наверное, от солнца, гимнастерке. Так и кажется, что ветер врывается в его открытый смеющийся рот, схватывает слова песни «Братишка наш Буденный, с нами весь народ…» и несет эту песню все дальше и дальше в задымленную, пороховую степь.
Третий всадник скачет с красным знаменем. Ему, наверное, труднее всех. Уж очень трепещет это знамя, уж очень напряглись сильные руки знаменосца.
И вот сейчас я опять вижу то же знамя. И хотя оно вылеплено из белой глины, мы все его видим только красного цвета.
Хорошо бы на такую тему дали школьное сочинение! Например: «Красное знамя» или «Атака», а может быть, «Смело, товарищи, в ногу!» Я бы уж постарался, я бы писал да писал. А то ведь нет. Все одно и то же, вроде: «Как я провел лето». Это значит грибы, купанье, удочки…
Мы так увлеклись, что даже не заметили, как подошел Мишка Жаров в новенькой летческой фуражке. На ней, как небо, голубой околыш с красной звездой и золотой птицей на самом верху.
В другое время мы обязательно бы ее по очереди примерили и даже бы лизнули блестящий козырек. А сейчас один только Лева понимающе спросил:
— Отцовская?
— Конечно,— спокойно сказал Мишка и тихо добавил:— Теперь уже отцовская.
Мы позавидовали.
Все-таки хорошо, что у Мишки теперь есть настоящий отец, да еще летчик.
И опять мы молча дышим в согнутую Женькину спину, и снова перед глазами волшебное красное знамя из белой глины, которая еще вчера шариками выстреливалась из наших рогаток.
Меня позвала домой Нонка. На лестнице вынула из волос гребенку, сказала:
— У нас гости. С маминой работы. Дай-ка причешу.
В комнате две женщины и старичок. На столе пакеты. Я попробовал искоса в них заглянуть, но Нонка незаметно повернула их в другую сторону.
— Ну, как, герой?— спросил старичок и стал ощупывать мои мускулы.— Ого! Ничего!
Женщины тоже смотрят на меня и хорошо улыбаются, как будто это у них такие мускулы.
— Не балуешься тут без матери?— спросила одна из них и, нагнувшись, осмотрела мои ботинки.
— Что вы, он у нас послушный мальчик,— засуетилась Нонка.— Давайте, я чай поставлю.
Я ожидал, что сейчас спросят про то, как окончилась учеба и какие отметки. Взрослые это любят. И потому прилежно, как только могу, смотрю на Нонку.
— Ну, как школа? Какие отметки?— весело спросил старичок.
— Ничего,— говорю я,— разные отметки.
— Ой, давайте я все-таки чай поставлю,— заторопилась Нонка.
Теперь улыбаются все гости. Смеется Нонка, весело и мне:
— Всякие отметки,— осмелел я и уточнил:— Всего полно. Так что не в обиде.
Гости пить чай отказались, посидели, поговорили, стали прощаться.
— Сейчас поедем в больницу к матери,— покашлял старичок.— Из профкома мы… Что от тебя передать?
А что я могу ей передать? Слепить что-нибудь из глины? Не успею. Или книжку какую? Есть у меня под подушкой: «Красные дьяволята». Так с ней и сплю.
Достал, протянул старичку:
— Вот! Здесь про наших разведчиков, и про Махно, и про Перекоп.
Он полистал ее, покрутил головой:
— Оставь себе. Записочку лучше черкани.
В записке я сообщил, что во всем буду слушаться Нонку и чтобы мама, милая моя мама, скорее выздоравливала.
— Ботинки-то, ботинки-то у него,— вздохнула одна из женщин.— Какой размер носишь?
Она что-то себе записала, и они опять стали прощаться. Старичок снова потрогал мои мускулы, весело сказал:
— Вот так, брат. Красный дьяволенок. А под Перекопом я сам был… В другой раз приду, расскажу.
— Дядя, а что такое профком?— спросил я. Они все засмеялись.
— Профком? Ну, значит, товарищи…— старичок прокашлялся, помолчал, посмотрел на женщин, хмыкнул:— Профком человеком от рождения до самой смерти ведает. Родился, скажем, человек — профком тут как тут. Помочь надо. Заболел — опять рядом профком, и так всю жизнь. Товарищ, значит.
Они пошли к дверям. И еще долго о чем-то говорили на кухне с Нонкой.
Она вернулась в комнату, удивленно посмотрела на пакеты, на меня и сказала:
— Странно, даже не притронулся.
Потом села рядом и совсем, как мама, тихонько погладила мои волосы:
— Сейчас маме очень помогут фрукты, соки. А денег у нас тютелька в тютельку.
* * *
На Плющиху асфальт привезли. Дымит. Вкусно пахнет. Улицу ремонтируют. Не всю, конечно, а около тех домов, где стесался тротуар. У нашего дома в первую очередь.
Замерла густая, словно черное повидло, жижа. Хочешь, рукой потрогай, хочешь, ногой ступи — след будет. А затвердеет асфальт — так на всю жизнь останется твоя рука или твоя пятка.
Рабочие потянули это повидло дальше. Спины согнуты— на нас не смотрят. Мы сразу к теплому асфальту. Печатаем.
Я сначала одну ступню отпечатал. Получается ничего. Как в книге «Робинзон Крузо». Это когда Робинзон увидел след на песке. Женька большим пальцем ноги якорь нарисовал. Гога из дом пять выдавил «Л + Г». А Славик вмял для потомства сразу две ладошки.
Один из рабочих оглянулся, зыкнул на нас. Мы во двор. Следим в щелку ворот. Рабочий подполз на одном колене, локтем пот со лба снял и старательно заровнял деревяшкой все наши следы.
Прячась друг за друга, мы опять подкрадываемся к теплому асфальту, но вдруг сзади сердитый окрик:
— Что же вы делаете? Вредители! Фашисты несчастные! Это инвалид дядя Ваня. Он всегда сидит у своих окон с газетой. Читает и на солнце греется. Рядом его костыли прислонены.
Дядю Ваню не боятся даже самые трусливые мальчишки. Бегать он не может. У него ноги болят. И зимой, и летом дядя Ваня всегда в валенках.
Особенно смелый с дядей Ваней Гога из дом пять. Он подойдет совсем близко к дяде Ване, почти на расстояние костыля, и очень вежливо говорит:
— Иван Иваныч?
— Что тебе?
— Сними штаны на ночь.
И стоит, не бежит. Дядя Ваня только головой покачает и опять в свою газету.
И вот этот тихий дядя Ваня сейчас на нас закричал. Он даже грозит нам кулаком. Он назвал нас фашистами. Я не выдержал:
— Иван Иваныч, сними штаны на ночь, а как день, так опять надень.
— Сам ты фашист,— крикнул Мишка.
— Симулянт проклятый,— добавил Гога из дом пять.
И тут случилось непонятное. Дядя Ваня встал на костыли и заспешил к нам. Я никогда еще не видел таких страшных глаз. Только они одни и были на всем посеревшем перекошенном лице.
Мы врассыпную. Я заскочил во двор, оглянулся: дядя Ваня запутался было в калитке, но вот уже он в нашем дворе отчаянно стучит костылями, хрипит.
Я с разбегу в Женькино парадное, взвинтился на третий этаж, затих. То ли сердце у меня стучит, то ли костыли внизу: не пойму.
Оказалось, костыли. Поднимаются они все выше и выше. Я на цыпочках, не дыша, еще на этаж забрался. Костыли упрямо приближаются. Я еще выше. Прислушиваюсь. Вроде все тихо. Отстал дядя Ваня. Куда же ему? Дом-то семиэтажный. Я присел на ступеньку, отдышался. Заглядываю осторожно в пролет. Внизу дядя Ваня грудью на перила навалился, слышно, как он гулко кашляет. Потом долгая тишина.
И опять стучат, поднимаются костыли. Я не дыша по две ступеньки отмахиваю. Дальше уже некуда. Дальше чердак. На железной двери чердака — замок.
Костыли приближаются. Дергаю тихонько замок. Закрыт он. Мне вдруг стало холодно. Снизу опять кашель. Опять дядя Ваня за перила держится. Задохнулся в кашле. И вдруг на лестнице страшный грохот. Что-то, отчаянно стуча, вперегонки понеслось вниз.
«Костыли!— радостно догадался я.— Упустил костыли!»
Видно, как дядя Ваня опустился на лестницу, седую голову руками обхватил, сидит, не двигается.
Откуда-то из глубины, как из колодца, встревоженный голос Женьки:
— Алешка! Алешка! Где ты? Я молчу.
— Алешка! Откликнись!
И вдруг тихий голос дяди Вани:
— Откликнись! Чего же ты испугался?
И опять он закашлялся. Я тихонько спускаюсь. Вот и ступенька, на которой сидит дядя Ваня. Я присел рядом с ним. Он на меня не смотрит. Кашляет, рукой грудь гладит.
— Костыли подбери. Дай-ка их сюда,— просит он.
Я кубарем вниз, нашел костыли, принес и опять сижу рядом с дядей Ваней.
Он кашлять перестал, глаза вытирает, как будто сам себе говорит:
— Никогда детей не бил… А вот сейчас ударил бы… Обидели вы меня.— Он опять тяжело закашлялся, грудь растирает.— Ведь вот, брат Алешка, все за вас… все для вас. Зайдем ко мне, я тебе что-то покажу.
— Дядя Ваня, простите, пожалуйста, я больше никогда не буду.
Он ничего не говорит, только обнял меня, притянул к себе, поцеловал в макушку.
— Ну, давай сползать будем.
Во двор мы вышли вместе. Вокруг на приличном расстоянии стоят ребята. Дядя Ваня всем головой кивнул:
— Ну, пошли ко мне в гости.

Ребята переминаются. Я им знаки делаю: мол, пошли, не бойтесь.
Дома у дяди Вани беспорядок. Посуда не убрана. На полу бумажки всякие, на окне керосинка закоптелая. Дядя Ваня виновато говорит:
— Уж извините. Старуха моя на работе, а мне вот,— он показывает на костыли,— двигаться трудно.
Он подошел к стенке с фотографиями, нас подзывает:
— Видите?
В середине фотографий пламенеет большая грамота. На ней нарисованы кавалеристы в буденовках и много знамен.
Женька медленно вслух читает:
— «Настоящей грамотой в честь десятилетия создания Первой Конной Армии награждается конармеец, отважный пулеметчик революции Иван Иванович Титов. Подпись — С. Буденный. 1929 год.»
Мы молчим. Дядя Ваня на кровать присел, тихонько колени гладит.
— А что у вас с ногами? Ранены?— тихо спрашивает Женька.
Дядя Ваня задумался, куда-то в окно смотрит.
— Нет… не ранен. А в бою под Касторной провалился вместе с тачанкой в ледяную воду.— Он помолчал, на ноги посмотрел, слабо улыбнулся:— Вот с тех пор и пошло. Отказали они ходить.
Мы задумались. Тишина в комнате. Только маленький Славик щеткой стучит, пол подметает.
— Дядя Ваня,— говорю я,— хотите, мы вам будем каждый день за «вечеркой» стоять. Вы же любите газеты?
Он не отвечает. Смотрит куда-то в окно. Мне видно, как дрогнула, потекла, а потом потерялась где-то в седых усах слезинка.
Во дворе мы уселись на скамейку, друг на друга не смотрим.
— Ну вот что,— говорит Женька,— кто хоть раз обидит дядю Ваню, пусть заранее запасается лекарствами. Аптека рядом.
— Подумаешь,— морщится Гога из дом пять.— Никто его не трогает, он сам полез.
Я даже не успел ничего подумать, а уже какая-то Гогина одежда у меня в руках. И сам он белый в лицо мне дышит.
— Псих… ненормальный… пусти… Я отпустил. Сел на скамейку.
— Катись лучше отсюдова. Катись в свой дом пять.
— Ясно тебе?— спрашивает Женька.— Ну? Давай своим ходом.
Гога ушел. Женька затылок ерошит, говорит:
— А знаете, ребята, я ему скульптуру слеплю. Кавалериста на коне.
Мы все поняли, кому это «ему».
Женька нам все больше и больше нравится. Он совсем не задается, что умеет лепить, и знает, кто такой был Роден. И даже не это нас удивило. А вот что.
Как-то мы рядком сидели на скамейке и слушали Женьку. Он, чуть заикаясь, рассказывал нам об одном мастере на все руки Леонардо да Винчи. Женька чертит на земле ключом от моей квартиры схему летательного аппарата, что изобрел Леонардо да Винчи, а потом заравнивает все подметкой и начинает рисовать голову женщины, ее шею и еще ниже, почти — до живота.
Лева тихо говорит непонятное слово: «Джоконда».
Мишка обрадованно догадался:
— Это как в контурной карте!— тыкает он пальцем в землю.— Скандинавия.
Я помолчал. Вот только подумал, что обязательно расскажу Лариске и про Женьку и про Леонардо да Винчи.
Женька снова заравнивает ногой рисунок. И опять царапает ключом от моей квартиры землю. Мне приятно, что Женька рисует моим ключом.
— У «Джоконды» была волшебная улыбка,— говорит Женька.— Это очень трудно поймать художнику. Может быть, только раз в жизни. Он смотрит на нас по очереди, потом предлагает:
— Ну-ка, улыбнитесь вы все. И посмотрим, у кого какая улыбка.
Мы старательно улыбаемся и смотрим друг на друга, ждем.
— Н-да,— тяжело вздыхает Женька.
Мы помалкиваем. Улыбок больше нет. А Женька опять нам рассказывает про того итальянца.
И в это время в доме, где живет Женька, в его окне появилась Женькина мама.
— Женя!— кричит она.— Иди скорее домой. Папа арбуз принес.
А Женька — хоть бы что. Только кивнул головой.
— Сейчас, мама.
И опять рассказывает про этого итальянца. Только Лева его хорошо слушает, а вся скамейка удивленно ерзает: надо же! Человек не спешит к арбузу. Вот это сила воли!
Вечером мы толпимся у Женькиных дверей. Друг друга подталкиваем: «Давай ты звони», «Нет, ты звони». Подтягиваемся, осматриваем друг дружку, а самому маленькому из нас — Славику — утираем нос.
Я спрашиваю ребят, как зовут Женькину маму. Никто не знает.
— А ты просто так выкручивайся. Когда назови «мама», а когда и «гражданка»,— советует Лева.
Вытираю о коврик ноги и звоню.
Что и как буду говорить, я не знаю. Ясно одно. Сначала нужно сказать «здравствуйте» и что-нибудь еще.
Звякает за дверью щеколда. В дверях Женькина мама.
— Здравствуйте,— говорю я,— добрый день.
— Сейчас уже вечер,— улыбается его мать.
Мы переглядываемся. Да, конечно, сейчас уже вечер.
— Проходите, ребята,— приглашает она.
Кое-как проходим, сбив половик, прячемся друг за друга.
— Женя! К тебе!— говорит его мама.
— Вообще-то мы к Жене,— поясняю я.— Но еще и к вам.
— Что такое?
— Видите ли, мама, мы спим на крышах.
— Так,— соглашается она и, конечно, ничего не понимает.
— Можно, Женя будет спать с нами?
— Что? Я как-то не поняла. Какие крыши? Где спать? Кто-то пикнул сзади:
— Ну, на сараях.
— Какие сараи?
Я стараюсь объяснить, какие у нас во дворе есть сараи. На крышах очень хорошо разложить в ряд матрацы и спать.
Ну, конечно, не сразу спать. Сначала поговорить, потом смотреть в небо, а уж потом заснуть.
— Господи, но ведь вы же свалитесь.
— А куда сваливаться? С одного края сараев — помойка, а с другого — ларек.
— А ларек даже выше сараев,— говорит Лева,— никуда не скатимся.
Она смотрит на нас по очереди, потом на Женьку и морщится:
— Понятно… И это значит давать одеяла?
— Атмосфера,— говорю я.— Никаких запахов бензина. Спи и дыши.
— Да,— подтверждает Лева и солидно трогает очки. Она раздумывает. Сама себе говорит:
— Пододеяльник? Это ведь тоже нужно.
— Чего?— переглядываемся мы.
Женька сзади трогает мать за локоть, нам моргает:
— Нет, мама. Ну надо просто одеяло, которое старое, подушку, и все.
…И вот мы на крышах наших сараев. Расстелились. Лежим. В небо смотрим. Крутимся. Хихикаем. Ларискино окно совсем рядом. Ну, просто очень хорошо.
Дергаем Женьку со всех сторон:
— Ну, как тебе?
— Хорошо на крыше?
— Правда, лучше, чем дома?
Женька, довольный, хмыкает, тихо смеется.
— Скоро будет самое интересное,— обещаю я Женьке.
— Когда?
— Как только луна за трубу спрячется.
— Почему?— приподнимается Женька.
— Потому, что будет половина одиннадцатого.
— Ну и что же?
Я долго объясняю Женьке, почему мы спим на крышах и при чем здесь половина одиннадцатого. Дело в том, что сегодня на Плющихе в кинотеатре «Кадр» вывесили новую афишу «Красные дьяволята».
Плющиха отнеслась к рекламе равнодушно. Улица спешила по своим делам. И только мальчишки с разгона притормаживали пятками, говорили со вздохом «так-так» и, конечно, трогали афишу.
А что толку в фанерной афише? Близко подойти — мел с краской. Рукой тронуть — слоеная труха, а понюхаешь — клей.
А если отступить до самой трамвайной линии, то видны чудесные улыбки трех бойцов, трех буденновцев, и на зеленых шлемах пламенеют алые звезды.
Вот так вот: звезды пламенеют, а пальцы скользят по швам тоскующих карманов. Все-таки билет стоит пятьдесят копеек. А где их взять?
Тогда и приходит на помощь «половина одиннадцатого», а по-взрослому — «двадцать два тридцать», как написано в табличке над окошком кассы кинотеатра.
Двадцать два тридцать — это последний сеанс. А на последнем сеансе двери зрительного зала летом всегда настежь открыты во двор. Потому что очень душно.
Можно тихо, не шлепая пятками, пригнувшись, пробраться в зал прямо к экрану и сесть на пол. Только не шуметь. Даже если показывают что-нибудь очень смешное или очень страшное — все равно крепись, и ни гу-гу!
Однажды мы пробрались на какую-то картину про любовь. Сидим тихонько на полу впереди самого первого ряда, на экран смотрим. Видим два каких-то графа или князя друг друга на дуэль вызвали. Поднимают огромные пистолеты и целятся. Все в зале сидят, конечно, тихо, а Мишка Жаров вдруг как расхохочется.
Конечно, сразу зажгли свет и нас всех выгнали. Уже на улице Мишка, оправдываясь, пояснял, что его рассмешили пистолеты.
А в другой раз зажгли в зале свет из-за меня: уж очень рассмешил трамвайный вагон, который по рельсам везли лошади.
Как-то показывали картину «Пышка». Начался последний сеанс, мы, конечно, заняли «свои» места. Сидим, смотрим, пианистку слушаем.
Как только нам покажут что-нибудь про поцелуи или что-то в этом роде, мы сразу «ха-ха-ха!». Свет моментально зажигается, и мы по одному вылетаем.
А вот сегодня мы должны сидеть очень тихо, потому что «Красные дьяволята»— это ни какие-нибудь там вздохи и поцелуи.
Женька от восторга поеживается, то и дело посматривает на трубу и луну.
— Скорее бы уж двигалась.
Наконец луна спряталась за трубой, и мы вприпрыжку несемся к кинотеатру «Кадр». Здесь нас уже ждут распахнутые двери, стрекот киноаппарата и звуки старенького рояля, на котором пианистка наяривает «Яблочко» или иногда изображает шум поезда и даже стрельбу.
В общем, в кино мы прошли. Посмотрели все до самого конца. И вот обратно мы уже не босиком вприпрыжку, а верхом на конях с саблями и карабинами неслись в атаку на Махно по темной Плющихе.
А потом — животы к небу и смотрим на луну. Наверное, на нее так же смотрели буденновцы у ночных костров, наверное, ее свет тихо гладил того, кто упал на траву под копыта коня, и сам Семен Михайлович Буденный говорил ей «спасибо», когда пряталась она в черную тучу и не мешала отряду ехать молча в ночной тишине по широкой украинской степи. Ехать тихо, ехать незримо,
— А что, если собрать много-много катушек с нитками,— вслух мечтает Мишка Жаров,— связать вместе и запустить змей. Долетит до Луны? А?
Лева смеется:
— Такой груз ни один змей не поднимет. Все равно, что к бабочке кирпич привязать.
Мишка тихо посапывает, говорит с надеждой:
— Завтра с отцом потолкуем. Летчик больше тебя знает.
Потихоньку стали засыпать. А я не сплю. Яркое окошко словно подпорка для моих век. Интересно, что сейчас делает Лариска?
Я скатал свой матрац, одеяло, на них подушку, встал на тюк ногами, но все равно ничего не видно: высоко.
Вот если бы на ларек залезть, то, конечно, все окно будет как на ладошке. Но у меня болит пятка. Еще утром мы купались в Москве-реке, и я какой-то стекляшкой порезал пятку. Нонка привязала к ране столетник, сказала «горе мое», пожелала мне в следующий раз сломать голову.
Свет в окошке так и тянет, так и манит к себе. И вдруг по занавеске проплыла Ларискина тень. А рядом с ней очень близко чья-то тень с пышной шевелюрой. Обе тени уплыли в глубину комнаты, промелькнули по занавеске и снова растаяли.
— Танцуют!— словно обожгло меня. Я забыл про свою пятку и вот уже хромаю по крыше ларька.
Теперь уже все видно очень здорово. Ну, конечно, она танцует. И конечно, ее обнимает Гога из дом пять. Вот что значит иметь шевелюру! Вот что значит свой велосипед!
Тихонько слез с крыши ларька. Улегся на спину, смотрю в небо. Никаких звезд. Уползла боль из ноги куда-то повыше живота. Поселилась здесь, ежиком разрослась и колет, колет.

Кто-то большой, темный карабкается к нам на крышу сарая, за ним другой такой же большой, тяжелый. Первый подполз, одеяло лапает. Голосом Бахили:
— Кто здесь?
— Ну, я,— отвечаю.
Лицо приблизил, дыхнул противно:
— Кто?
— Ну я, понятно?
Фигура отшатнулась, зовет шепотом:
— Жиган, греби сюда. Это Алешка-король.
Подполз и Жиган. Я его тоже знаю. Он из дом пять. Любит малышам щелчки давать. Всем говорит, что он есть, рабочий класс и на заводе работает, даже раз хвалился финкой, говорит, в цехе выточил, а сам целый день торчит с гитарой в своем парадном, малышей заманивает разными рассказами и песенками, а потом отбирает у них конфеты, хлеб с повидлом, яблоки. Тут же все съест и опять ребят домой посылает:
— Поди, попроси у мамки хоть сахарку или десять копеек.
Сейчас Жиган плюхнулся со мной рядом, дышит так же противно, коленки задирает, хихикает:
— Ты чего на крышу ларька лазил? А? Может, ларек хочешь ограбить?
Бахиля из темноты уточняет:
— Влюблен он. В Лариску.
Жиган похлопывает себя по животу, мурлычет:
Эй, моряк, эй, моряк, не грусти, Не зови ты на помощь норд-веста. Эта мисс из богатой семьи, Да притом же чужая невеста.
Потом он задумывается, шумно вздыхает:
— Ну вот что, парень. Давай-ка катись отсюда вместе со всем королевством. Я желаю здесь отдыхать с моим лучшим другом, Сережкой Бахилей. Бахиля? Где ты?
— Здесь, здесь,— откуда-то из темноты отвечает Сережка.
— Ну, так две минуты на сборы, и чтоб крыша была чистая,— сплевывает Жиган в темноту.
— Никуда мы не уйдем,— говорю я.
— Ах, не уйдете? Скажите пожалуйста, «они не уйдут». Ну тогда я так устрою, что ни один доктор, даже Бахилин папа, не возьмется вас лечить.
Рядом пробурчал из-под одеяла Женька:
— А я так дам, что потом ни один конструктор не возьмется собирать.
Стало очень тихо. Жиган приподнялся, растерянно спросил:
— Кто это еще?
— Я. Женька Кораблев.
— Какой такой Женька Кораблев?
Из темноты голос Бахили:
— Новенький. В нашем дворе теперь живет.
Жиган помолчал, потом чиркнул спичкой, закурил, посветил в сторону Женьки. Видно только большое толстое одеяло, и далеко из-под него торчат босые Женькины ноги. Я даже удивился: какой Женька длинный. Жиган шепотом спрашивает:
— Сильный он?
— Ведро с водой одной рукой выжимает,— говорю я. И опять тишина. Потом Жиган, кряхтя, встает:
— Бахиля? Подай голос.
— Ага, здесь я.
— Пошли. Нас тут не поняли.
Они сползли на землю. У ворот постояли, пошептались, потом в обнимку вышли на улицу.
Я откидываю с Женьки одеяло, удивляюсь: подушка пустая. Тяну дальше и только теперь вижу Женьку. Он тихонько смеется, объясняет:
— Я как услышал ваш разговор, сразу скользнул вниз и ноги высунул. Пусть думают, что здесь большой человек лежит. Сам — каркас, а из одеяла получилась скульптура. Хочешь, получится медведь? Вот смотри.
Женька барахтается под одеялом, глухо спрашивает:
— Похоже? Ну, похоже?
Какой там еще медведь, если погас свет в Ларискином окне.
— А теперь крокодил будет,— обещает Женька.— Смотри.
А мне не смотрится. До крокодилов ли сейчас, если Гога из дом пять танцевал с Лариской.
— Давай спать,— устало говорит Женька. Отвернулся и замолк. А мне не спится. Вспоминаю, как в первый раз я приметил Лариску. Вообще-то я ее знал давно. Часто мы принимали ее в свою компанию. Играли в пряталки, в казаки-разбойники. И все было ничего. А однажды…
Как-то во дворе мы играли в снежки. Это только так у взрослых безобидно называется «играли в снежки», а в самом деле все было как на Чудском озере при Ледовом побоище. Правда, ни лошадей, ни убитых у нас не было, но зато крика и гвалта — как в настоящем бою.
Это если глядеть со стороны, то лошадей не было, а в самом деле лошади были, мы их пришпоривали, за них даже ржали и цокали подковами. (Правда, в калошах это не совсем удобно.)
И вдруг боевой конь боком вынес меня на середину двора. Он ржал, вставал на дыбы и отчаянно вертелся.
Противник, пискнув, разбежался. И только одна девчонка с белыми косами, в пушистой шапочке, похожей на голубой одуванчик, прислонилась к водосточной трубе и тихо гладит мокрой варежкой снежок. На разгоряченного коня и даже на всадника — никакого внимания.
— Руки вверх!— закричали мы вместе с лошадью. Голубой одуванчик дует на свой снежок, трогает его языком и смеется.
Конь подо Мной вдруг заскучал, стал смирным, а потом вообще испарился.
— Подумаешь, косы выпустила,— сказал я.
— Да, выпустила. А тебе что?
— Ладно уж, сдавайся,— предложил я.— Считаю до трех. Раз… Два… Два с половиной… Два и три четверти…
— Три!— засмеялась она.— Ну, и что дальше?
— А ничего,— ковырнул я снег ногой,— можешь и не сдаваться. Подумаешь…
— А если я сдамся,— смеется она и делает шаг вперед.— Тогда что? Ну?
Я потоптался, махнул рукой:
— Нет уж, лучше не надо. Живи.
И я ушел. Ушел с поля боя без коня, без меча, без кольчуги. Так проходят по двору все мальчишки, когда их с ремнем посылают за хлебом.
Это было давно. Еще в прошлую зиму. А вот сейчас тот самый голубой одуванчик, что лизал снежок, уже танцует. Надо же! Да ведь с кем? С Гогой из дом пять.
Значит, все кончено. Что «все», я еще толком не знаю. Но надо обязательно так сделать, чтобы больше никогда не думать о Лариске и навсегда перечеркнуть это окно на фасаде ее дома.
Сейчас я нарочно заставил себя думать о Лидочке Кудрявцевой. Мы прозвали ее Рыжиком. С Лидочкой нельзя играть в пряталки и в другие игры, где нужна тишина. Она очень смешливая и всегда хохочет на весь двор.
Однажды я лез через забор и здорово располосовал о гвоздь штаны. Как только они затрещали, я уже начал сочинять для матери оправдательную причину, а когда спрыгнул на землю, понял, что моей фантазии не хватит: одна штанина распустилась парусом.
Хорошо, что во дворе никого не было, кроме Лидочки. Я ее не стеснялся. Зажал штаны рукой и подсел к ней на скамейку: Лидочка все видела.
— Влетит тебе?— поинтересовалась она.
— Да как тебе сказать…
— Давай зашью.
— Как зашьешь?
— Иголкой. Посиди, я сейчас сбегаю. Она вернулась с иголкой и нитками.
— Снимай штаны,— просто предложила она, нацеливаясь ниткой в иголку.
Я заскучал. Дело в том, что накануне Нонка достала какой-то ядовитой краски и начала ставить опыты по перекраске вещей. Она не хотела рисковать своей блузкой и уговорила меня начать с моих трусиков.
— Бордовый цвет тебе к лицу,— обнадежила Нонка. И я доверчиво на это клюнул.
И вот сейчас все мои трусики сушатся во дворе сами по себе, а я сижу сам по себе.
— Так снимай же,— говорит Лидочка, откусывая нитку.
Я засуетился. Оглядел наш двор и вдруг на глаза попалась пожарная лестница. Обыкновенная пожарная лестница на крышу семиэтажного Женькиного дома.
— Вот что,— по-деловому предлагаю я.— Эти штаны я тебе сброшу с крыши.
Она приподняла рыжеватые бровки:
— Почему? Зачем фокусы?
— Так надо,— отрезал я. И добавил:— В целях сохранения военной тайны.
— Понимаю,— тихо сказала она и покраснела.
Чем выше лезешь, тем сильнее гудит и качается лестница. Главное, не смотреть вниз. Вот и крыша. Штаны долой, бросаю вниз. Спарашютировали прямо крохотной Лидочке в руки.
Прогуливаюсь по крыше. Присесть нельзя. Уж очень солнце накалило железо. Какие виды! Какие дали! Вон она Москва-река, Бородинский мост, вон Можайское шоссе. Вон Поклонная гора. В школе рассказывали, что на этой горе стоял, скрестив на груди руки, угрюмый Наполеон и ждал ключей от Москвы.
Я встал в позу императора и угрюмо смотрю на Москву. Но угрюмо не получается. Уж очень веселая, красочная-милая, живая Москва. На Москву можно смотреть только с улыбкой, только тепло.
Вон белоснежный катер пашет солнечные зайчики на Москве-реке. Видна наша улица, по которой мы ходим в школу. Как-то мы шли с Лариской по этой улице, а навстречу нам Лидочка. Мороженщик катил свою тележку и разъединил нас с Лариской. Лидочка издалека улыбнулась и заторопилась навстречу. Потом мороженщик отъехал, и Лидочка поспешно повернула назад, подошла к рекламному щиту и стала внимательно его изучать. Мы прошли совсем рядом, а она так и стояла к нам спиной, уткнувшись в рекламу.
Вечером меня послали за хлебом, и я тоже остановился около рекламного щита, но там ничего не было, кроме объявления о том, что «Дорхимзавод имени Фрунзе отпускает всем гражданам шлак бесплатно и в неограниченном количестве». Рядом какой-то шутник приколол записку: «Меняю койку в общежитии на отдельную квартиру».
Вот у того перекрестка я в первый раз, страшно робея, взялся донести Ларискин портфель. А вон по той гранитной набережной нас водил Лева Гоц и рассказывал про Новодевичий монастырь и еще про Калужскую дорогу, по которой хотел отступать Наполеон из Москвы, но русские войска его опять повернули на сожженную Смоленскую землю.
А вот этот мост называется Бородинским. Он так назван в честь битвы под Бородино. На нем бронзовые щиты с именами тех, кто дрался за Москву,
Когда я прохожу по мосту, то всегда в такт шагам напеваю:
Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
Москва, спаленная пожаром…
Наверное, Наполеон очень устал, с тоской ожидая ключей от нашей Москвы, и присел на барабан. Я тоже пробую присесть и сейчас же вскакиваю:
— Лида! Готово?— кричу я вниз.
— Сейчас,— чуть слышно доносится до меня,— слезай.
— Давай их сюда,— прошу я.
— Я боюсь…
Вот это да! Конечно, она же не мальчишка, как же быть?
— Лидочка, попробуй, не спеша, только вниз не смотри,— умоляю я.— А штаны через плечо и зубами придерживай.
— Не знаю… боюсь.
— Лидочка, ну я тебя очень прошу.
Внизу тишина. И вдруг я замечаю, как чуть-чуть задрожала пожарная лестница.
Я свесился и вижу, как, подняв голову кверху, прищурившись, медленно поднимается вверх Лидочка. Поднимется на одну перекладину и долго стоит на ней, тесно прижавшись к лестнице. Потом тихонько ловит рукой следующую перекладину и очень медленно поднимает коленку, подтягивается и опять долго стоит, как бы к чему прислушивается.
И вот она уже на последней ступеньке. Сейчас глаза широко раскрыты, на белом лице медные веснушки. Пальцы крепко впились в перекладину.
— Алеша, бери,— шепчет она.— Я боюсь шевельнуться. Я снимаю с ее плеча штаны и вдруг, сам не знаю почему, целую ее в каштановую голову, а потом в лоб.
— Спасибо тебе, миленькая.
Лицо ее розовеет. Теперь веснушки уже из медных становятся золотыми и их почти не видно. Она тихо улыбается и смотрит куда-то вниз:
— Да ну тебя, сумасшедший!
Я справляюсь со штанами, говорю:
— Давай помогу спуститься.
— Не надо. Я уже не боюсь.
И снова загудела, задрожала лестница, но теперь уже бодро, уверенно, так, словно по ней спускаются настоящие пожарники.
Интересно все получается: чем больше я думаю о Лидочке, тем все дальше куда-то в туман уплывает Ларискино окно. А потом и вовсе исчезает.
Спят, сладко посапывают во сне мальчишки на крыше сарая. Отдыхают уставшие за день босоногие пятки. Ночь заботливо лечит дневные синяки, царапины.
Наш двор, наша Плющиха хороши рано-рано утром. Солнце нацеливается, долго выбирает, куда ему попасть. Пощупает наши одеяла — нет, не то. Конечно, чего же здесь интересно для солнышка: ведь одеяла дают на крышу самые драные.
Пошарит, ощупает, погреет солнышко подушку, задумается: тут что-то есть. А уж потом как прицелится, так и не отстанет.
Мы крутимся, а оно стоит на своем, не отходит.
Пахнет очень здорово мальчишками, нагретой ватой, подушкой и еще утром. Тетя Дуся убирает двор. Метлой туда, сюда, все вниз смотрит, нас не гонит.
Зашевелился Мишка, приподнялся. Смотрит на свое парадное. Я говорю ему:
— Привет.
— Чего?
— Привет! С добрым утром!
— Угу.
Ничего не понял Мишка.
— Посмотри-ка, ведь солнце!
— Где?— а сам все смотрит на свое парадное.
Вот и скрипнули Мишкины двери и по нашему двору идет Мишкин папа. Все такое голубое, и кубики в петличках.
Нас не видит. Кивнул только тете Дусе и к воротам.
— Папа!— крикнул вслед Мишка и скорее под одеяло. Остановился летчик, смотрит на крышу, улыбается, помахал нам планшеткой и ушел.
Мишка из-под одеяла выполз, оглядел нас всех важно, сказал озабоченно:
— Мух-то кругом сколько… Мы с ним согласились.
Наверное, у меня нет силы воли. Ночью решил одно, а вот сейчас утром опять нет-нет да и посматриваю на Ларискино окно. Прямо само притягивает.
Внизу шум какой-то. Громче всех кричит тетя Дуся. Метла на земле валяется, сама руками размахивает, а вокруг народ. Ларискин отец, и наш участковый милиционер дядя Карасев, и Мишкина мать, и еще какие-то люди.
Тетя Дуся нашего участкового за ремень тянет, на ларек показывает, кричит на весь двор:
— Я вот тут мету… Не смотрю по сторонам. Ты записывай… Потом смотрю, вроде как дверь открыта и метле мешает. Ты записывай… Глянула, а дверь-то открыта и замок под метлой. Вот он… Скореженный. Ты записывай.,.
Мы, конечно, все тут. Я Леву ищу. Он сейчас без очков, глазами хлопает, ежится в одних трусиках, мускулы на руках растирает:
— Ограбление, Алешка. Жулики.
Все на участкового дядю Карасева смотрят. Он в форме, у него кобура
— Надо бы акт составить,— это говорит Ларискин отец, заглядывая через дверь в палатку,— и бумажку куда следует.
— Собаку бы ищейку,— говорю я.
— Женька, тащи Короля!— кричат ребята.
— Тише, Ну-ка, тише,— хмурится дядя Карасев,— надо все по порядку.
Он расстегивает кобуру, вынимает из нее сначала бутерброд, потом вытягивает карандаш.
— Значит, тетя Дуся, виноват, гражданка Филимонова, что вы, как первая, заметили?
Тетя Дуся — волосы под платок, по сторонам посмотрела, кашлянула:
— Вот, значит, я здесь мету… свой участок мету…
Мы в дверь ларька заглядываем. Там темно и очень вкусно пахнет. Дядя Карасев отогнал нас и опять занялся дворничихой.
Откуда-то появился Жиган.
— Мое вам,— снял он кепочку перед дядей Карасевым.— Что происходит?
— Ты почему не на работе?— оторвался от листка участковый.
— Сегодня в ночную смену, дядя Карасев.
Участковый опять было за листок, потом оглядел Жигана снизу вверх:
— Справку когда принесешь?
— Справка есть. Ей-богу, Только печать поставить. Отдел кадров все время на обеде.
— Чтоб завтра была,— буркнул дядя Карасев.— Так, тетя Дуся, виноват, гражданка Филимонова, вы метете вот здесь, а замок где валялся?
— Позволь, позволь!— это кричит Бахиля. Он тащит лестницу, приставляет ее к ларьку:
— Дядя Карасев, надо крышу осмотреть. Участковый хмурится, недолго думает, потом как рыкнет:
— А тебе чего надо? Марш отсюдова!
Сунул участковый бумажку в сумку и не спеша полез вверх. Бахиля лестницу придерживает..
— Так… есть следы. Свежие,— крякает сверху дядя Карасев.— Босые ноги. Левая будто перевязана.
— Вот здорово,— толкаю я Леву,— теперь-то уж найдут.
— Ага.
Меня кто-то тихонько трогает, оглядываюсь — Жиган.
— Ты что улыбишься? Чего вякаешь?— шутит он.— Дядя Карасев,— заорал вдруг Жиган.— Вот она нога-то! Перевязанная! Левая!
— Верно,— радуюсь я и показываю ногу.
И вдруг стало очень тихо. Все на меня смотрят, дядя Карасев сверху задумчиво кашлянул в кулак:
— Ну-ка, парень, лезь сюда.
— Лезь, лезь,— подталкивают меня с боков. Бахиля на перекладину подул, рукой пригладил:
— Прошу вас, король. Называется — эшафот.
Я поднялся. Дядя Карасев руку подает, хмуро просит:
— Ступи-ка ногами здесь. Я ступаю.
— Те-а-ак,— вдруг суетится участковый.— Теперь вот здесь ступи.
— Похоже?— спрашивают снизу.
— Ну, слезай, парень,— вздыхает дядя Карасев.— Пошли. Участковый тянет меня за руку через толпу.
— Алешка? Господи ты боже мой.— Это голос тети Дуси.
— Я так и знал.— Это говорит Ларискин отец. И еще я слышу за спиной гитару.
— Гражданка Филимонова,— оборачивается дядя Карасев,— никого близко не подпускать. Продавца направьте в отделение.
Дежурный по отделению милиции надел фуражку, слушает доклад дяди Карасева. Кажется, наш участковый говорит очень громко, а я ничего не слышу.
— Садись,— предлагает дежурный.
— Садись же,— подталкивает меня дядя Карасев.
— Ну, на крышу ларька лазил?— улыбается дежурный.
— Лазил,— говорю я.
— Когда?
— Ночью.
— Ах, ночью,— почему-то радуется дежурный.— Значит, темной ночью?
— Темной,— соглашаюсь я.
— А зачем?
— Не скажу.
— Ах, не скажешь! Очень интересно.
— На шухере стоял?— подмаргивает мне дядя Карасев.— Кто с тобой еще был?
— Никого. Я один лазил.
Дежурный привстал, приблизил лицо, спрашивает медленно:
— Так зачем? Для чего? Ты можешь объяснить?
— Не скажу.
— Очень все забавно,— откидывается на спинку дежурный и обмахивается фуражкой.
За дверью шум, голоса. Врывается заплаканная продавщица, за ней бледная Нонка, Лева, Женька и еще ребята. Дежурный фуражку на голову, встал:
— А ну-ка все посторонние, прошу выйти.
— Алешенька, как же так,— не слушает его Нонка.— Я не посторонняя, я сестра его.
— Хорош у вас братец.
— Да, хорош,— наступает Нонка.— За что вы его?
— Он вместе с нами на крыше спал,— галдят ребята.
— Он не виноват.
— А ну-ка, шагом марш, мелюзга. Товарищ Медведев, вывести посторонних,— приказывает он одному из милиционеров.
Лева не отступает, за барьер ухватился:
— Мелюзга, мелюзга… У нас Советская власть…
— Марш отсюдова,— кричит дежурный.— Товарищ Медведев, отставить газету! Исполняйте! А вы, барышня, останьтесь,— обращается он к Нонке.
Милиционер всех выпроводил и опять уселся в дверях, уткнувшись в газету. Мы с Нонкой сидим рядом, напротив продавщицы. Нонка локтем глаза вытирает, носом шмыгает.
Дежурный рассадил нас. Нонку — к продавщице, а я сижу один. Рассматриваю милицию. Нехорошо здесь. Стены зеленые, скамейка какая-то липкая.
Продавщица объясняет, что у нее украдено, и при этом на меня посматривает.
— Так,— шелестит дежурный бумагой и тоже на меня смотрит.
— Похищен ящик конфет.
— Конфет «Мишка»,— подсказывает продавщица.— Ну, с кем был? Куда дел?
— Не брал он ваших конфет,— вскакивает Нонка.— Понимаете, не брал.
— Товарищ Медведев, проводите барышню.
— Никуда я не уйду,— упрямо говорит Нонка.— Отпустите брата, тогда уйду.
— Вот составим протокол, потом дело передадим следственным органам. Там разберутся,— обещает дежурный.
Потом дежурный спрашивает, кто наши родители, где они сейчас. За меня отвечает Нонка:
— С отцом давно не живем. А мама сейчас в больнице.
— Это верно, мать в больнице у них,— подтверждает дядя Карасев.— Она прачка.
Дежурный пальцы под фуражку, поскреб затылок.
— Так, так. А на что же вы живете?
— Нам с маминой работы профком помогает,— говорю я, вкладывая в это слово какую-то весомость, солидность.
— Ане воруешь?— щурится дежурный. И опять вмешивается дядя Карасев.
— Такого за ним не наблюдалось, мальчишка в акурате. Мать у них женщина строгая, уважаемый человек.
Я чувствую, что вот-вот заплачу. Дежурный, задумавшись, на часы-ходики смотрит. Потом встает, мне руку на плечо положил:
— Ну, теперь скажи нам всем, Алеша, что же ты делал на крыше ларька? Вот и сестра послушает.
— Да, скажи всю правду, Алеша,— просит Нонка.
— На окно смотрел,— решаюсь я.
— На чье?
На Ларисино. Шатрова ее фамилия.
— Это из двенадцатой квартиры, что ли? Такая с косичками. Она?— припоминает дядя Карасев.
— Угу.
— И чего тебя туда занесло?— пожимает плечами дежурный.— Непонятно.
Я молчу. Слышно только, как тикают ходики. Милиционер Медведев смеющимися глазами из-за газеты смотрит, Нонка на коленях юбку разглаживает, хмурится и улыбается:
— И как же вы не поймете, товарищ начальник. Продавщица перестала всхлипывать, фыркнула в ладонь.
Дежурный обиделся.
— А чего же тут понимать? Если человек смотрит в чужое окно, значит с какой-то целью.
Дядя Карасев долго разминает в пальцах папироску, хмыкает, головой крутит:
— Да, серьезное дело. Там такие косы…
— А-а-а,— вдруг осенило дежурного.— Так бы сразу и сказал, а то молчит и молчит.
— Нам можно идти?— спрашивает Нонка и берет меня за руку. Дежурный пожимает плечами, на дядю Карасева смотрит.
— Что с вами делать? Идите уж. Товарищ Карасев, оградите палатку от посторонних.
За дверью — топот, гвалт. И вдруг врываются Бахиля и Жиган. В горстях у них конфеты «Мишка». Торжествуя высыпали на стол дежурному.
— Вот, товарищ начальник,— показывает на меня Жиган,— на крыше у него под матрацем нашли.
Кажется, еще громче затикали ходики, слышно, как скрипит портупея на плечах дежурного.
— Алешенька, как же так?— Это шепчет Нонка.
— Вот вам и профком,— медленно тянет дежурный. Дядя Карасев фуражку тискает, в пол смотрит:
— Да, история…
И тут я заплакал. Нонка гладит мою голову, сама всхлипывает:
— Ну, не реви. Эх, Алеша, Алешка. Как же теперь мама?
— Кто тут самый старший?— слышу я срывающийся голос девочки. Это Лидочка Рыжик. Выбила локтем у милиционера Медведева газету, шагнула к барьеру и сразу к дежурному:
— Задержите вот этих двоих!— показывает она на Бахилю с Жиганом.— Я все из окна видела. Вы ему подсунули под матрац конфеты. Вы! Вы!
Жиган за Бахилю скользнул, божится:
— Это все неправда, товарищ начальник. Врет она. Брешет, рыжая.
Милиционер Медведев встал со стула, кобуру поправил, загородил двери.
— Когда это было?— строго спрашивает дежурный.
— Рано-рано утром,— торопится Рыжик.— Я из окна, с кухни на Алешку смотрела. Он еще спал, а я на него смотрела. Вижу эти двое по крыше крадутся, а потом из-за пазухи что-то вынули, ему под матрац запихали. Что, неправда?— кричит Лидочка на Жигана.— Я думала, может, шутку какую решили сделать, а сейчас во дворе все узнала.
— Бред у ней,— шевелит губами Бахиля.— Это бывает в медицине. Спросите хоть у моего отца.
— У меня бред?— кричит Лидочка.— Товарищ начальник, вот вам пионерский салют. Все правда. Сама видела. Вот вам даже честное ленинское!
Дежурный резко встает, кивает на Бахилю с Жиганом:
— Товарищ Медведев, этих двоих в камеру!
— Алешка, ну Алешка же,— тормошит меня Нонка,— ой, какой ты молодец!— Она целует Лидочку, меня, дядю Карасева.
Все понемножку успокоилось. Дежурный фуражкой обмахивается, раздумчиво спрашивает Лидочку:
— Ты что же, рыженькая, подозревала кого, что рано-рано в окно смотрела?
Лидочка мнется, пол рассматривает:
— Нет, это я так просто. Вот на него смотрела,— кивает она, не глядя в мою сторону.
— Зачем?
— Ну… просто так.
— Все по той же причине,— улыбается Нонка.
— А-а-а,— тянет дежурный.— Понятно. Товарищ Карасев, ну и участочек вам достался. Одни любят смотреть с крыши в окна, другие из окон на крышу. Голова пойдет кругом.
* * *
И опять мы сидим на нашей скамейке. В центре доски лупой выжжено: «Это место мое. Кто сядет, тому смерть. Бахиля». Сейчас на этом месте чинно восседает Рыжик. После недавней истории в милиции мы дружно приняли Лидочку в свою компанию.
Лидочку словно подменили. Она уже не хохочет на весь двор, и даже когда маленький Славик показывает ей один палец, Лидочка только хмурится, грозит:
— Вот я тебе!
О чем бы мы ни говорили, будь то о линкорах, самолетах, о кино или пограничниках, Лидочка поднимает рыжие бровки, просит:
— Ну-ка, поподробнее. Это мировецки.
Лариска открыла окно, всем сделала знак рукой: «Привет!» Уселась с гитарой, украшенной синим бантом, на подоконнике, побренчала, побренчала, настроилась, и вдруг полились сверху на наш двор, перечерченный крест-накрест веревками с мокрым бельем, слова неслыханной песни про три эсминца.
Их было три: один, второй и третий,
И шли они в кильватер без огней,
Лишь волком выл в снастях суровых ветер,
А ночь была из всех ночей темней.
Тихо, вкрадчиво рассказывают струны гитары о том, как в далекую тревожную осень девятнадцатого года тихо, без огней вышли из Кронштадта в балтийские воды три патрульных эсминца «Гавриил», «Константин» и «Свобода». Они вышли на защиту молодой Советской республики. Паек — одна тарань, негодное топливо, рваные, истертые на сухопутных фронтах бушлаты, и горячая, страстная вера в революцию, в Ленина. Корабли шли с неполным составом команд; многие буйные матросские головы были сложены на Дону, в Поволжье.
На носу эсминцев стояли по два матроса — впередсмотрящие. Стояли, подняв от брызг воротники бушлатов, напряженно прищурившись в темноту. В карманах, в крошках махорки — пайка хлеба, должен бы быть и сахар, да отдан тонконогой кронштадтской детворе. Застыли у пушек молчаливые комендоры, истомились уши: ждут команду «огонь!».
А потом случилось страшное. В Кронштадт принесли чайки жуткую весть о гибели трех эсминцев.
Лариса поет очень тихо, словно для себя одной, на нашу скамейку даже не посмотрит. Зато мы все задрали головы, не шелохнемся.
Налей, браток, рассказывать нет мочи,
Про смерть людей, про краснофлотский стон…
И вдруг синий бант на гитаре развязался и медленно стал планировать в нашу сторону. Песня оборвалась. Я вскочил, поймал ленту, скатал туго, забросил обратно в окно. Лариса ловко ее поймала, приветливо улыбнулась.
Смотреть противно,— это говорит Лидочка, встает и ныряет под веревки с бельем. Я хочу ее вернуть, но слова этой волшебной песни удерживают меня на скамейке.
Опустевшее на скамейке место с Бахилиной надписью смело занял Славик. Бояться ему нечего: Бахилю вот уже который день мы не видим во дворе. Одни говорят, что его посадили, другие — что его держит отец взаперти. А мне кажется, что ему просто стыдно выходить во двор, встречаться с ребятами.
— Исполни еще что-нибудь, Ларисочка,— упрашивает Лариску Гога из дом пять. Губы у него сердечком, от прически несет чем-то сладким, руку к груди прижимает. Она ему сверху зубы показывает, косой играет.
— Смотреть противно,— говорю я и ныряю под веревки с бельем.
В дальнем углу двора сидят в песке малыши. Около них какая-то девушка в белой блузке, нагнулась, о чем-то расспрашивает. Малыши как по команде пальцами на меня показывают.
— Ты Алеша Грибков?— щурится девушка.
— Я.
Она протягивает ладонь, крепко, весело встряхивает мне руку:
— Будем знакомы. Наташа Ромашева из райкома комсомола. Где все ваши ребята?
Мы ныряем под веревки и предстаем перед нашей компанией. Славик сползает со скамейки, уступает гостье место.
Фу, какая глупость,— читает Наташа Бахилину надпись.— Надеюсь, мне смерть не грозит.
Все уселись. Ждем. Интересно, откуда в райкоме знают МОЮ фамилию? Не удержался, спросил. Наташа рассказала, как в райком заходил наш участковый дядя Карасев и очень просил помочь ребятам заняться интересным делом. Каникулы только начались. Ребят во дворе много. Бывают случаи хулиганства, а вот недавно даже воровство. Ограбили кондитерскую палатку.
— Вот я и пришла с вами познакомиться,— улыбается Наташа.— Ну, кто что умеет делать?
Мы помалкиваем. Уж слишком все неожиданно.
Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось…
Несется из Ларискиного окна. Наташа прислушивается, щурится, определяет:
— Ни слуха, ни голоса. Писк какой-то.
Мне почему-то сейчас приятно слышать эти слова, а Гога из дом пять кричит:
— Ларисочка, погромче.
В этот час ты призналась,
Что нет любви… —
старается Лариска.
— Кошмар какой-то,— ежится Наташа,— и часто так бывает?
— А вас никто слушать не заставляет,— косится Гога из дом пять.— Мы вас не звали.
Наташа внимательно посмотрела на Гогу, словно запоминала, промолчала.
Расстаемся, я не стану злиться,
Виноваты в этом ты и я,—
надрывается Лариска.
— У ней другие песни хорошо получаются, про трех эсминцев,— тихо говорю я.
Оказалось, что Наташа эту песню не знает, и мы рассказываем ей про «Гавриила», «Константина» и «Свободу», про то, как, защищая революцию, они подорвались на вражеских минах.
— Стоящая песня,— серьезно говорит Наташа. Она задумывается, по-мальчишески теребит на затылке короткие волосы и вдруг хлопает в ладоши:— Чудесно! Давайте организуем морской хор. Разучим еще несколько морских песен и выступим в нашем районе в разных дворах.
— Вот еще есть хорошая песня про крейсер «Варяг»,— перебивает Наташу Лева,— у меня все слова записаны.
— «Раскинулось море широко»,— предлагает Женька.— Про кочегара, знаете, я такую скульптуру леплю. Сидит, сгорбившись, усталый матрос на палубе и понуро смотрит далеко-далеко вдаль. И назову ее «Товарищ, мы едем далеко…»
— А рисовать тоже можешь?— спрашивает Наташа.
— Могу. А что?
Наташа уже не сидит, а расхаживает вдоль нашей скамейки и уже знает, как зовут каждого из нас.
— Нужно нарисовать большой задник, как в театре,— широко показывает она руками.— Морские волны. А далеко на горизонте маяк.
Мишка Жаров встревает:
— Если вечером будем выступать, то можно сделать, чтобы маяк светил. У отца спрошу летческий фонарик. Во светит!
Мне немного взгрустнулось..
Без тоски, без печали,
В этот час прозвучали…—
старается Лариска.
— И ничего-то у вас не получится,— довольный, фыркает Гога из дом пять.— Под музыку все надо, а у вас где?
Наташа показывает на Ларискино окно.
— Вон гитара уже есть. Найдем мандолину, балалайку, еще чего. Я поговорю с комсомольцами из музыкального училища. Может, баянист будет.
Наташа взглянула на часы, заторопилась. Мы договорились о следующей встрече. Кирпичом на заборе записали ее телефон, гурьбой проводили до ворот.

— Прорепетируем,— предложил Лева. Мы расселись.
Мишка притащил старое ведро, взял в руки палки. Выучили наизусть слова первого куплета «Варяга», Лева взмахнул руками, и мы запели.
Одно за другим захлопываются окна в нашем дворе. Откуда-то сверху залаял Женькин Король, а в калитку испуганно заглянул наш участковый дядя Карасев.
Потом мы старательно исполнили всю до конца «Раскинулось море широко» и после этого избегали смотреть друг на друга.
Заколыхались веревки с бельем, и перед нами стоит самый уважаемый человек на Плющихе, киномеханик Костя. Пиджак в накидку, наглажен клеш, рубашка «апаш», ромашку нюхает.
— Нона дома?— вежливо спрашивает он меня. Я кубарем по лестнице, стучу в дверь:
— Нонка, скорее, Костя пришел!
Нонка плечиком дергает и продолжает мести пол.
— Ведь Костя ждет,— не понимая, топчусь я.
Она выпрямилась, приблизилась ко мне, говорит по складам:
— Ни-че-го. По-до-ждет.
Домела пол, прошлась к зеркалу, поколдовала над прической, взяла какую-то книгу, уселась к столу, на платье складки расправила.
— Проси.
Я мигом во двор, тяну за руку Костю. У дверей Костя поддул нижней губой свой чубчик, порылся в карманах, сунул мне кусочек настоящей кинопленки.
— Из «Чапаева».

Сейчас на скамейке мы рассматриваем на свет эту пленку. Только я имею право трогать ее руками, все остальные щупают глазами. Мы сгрудились, посапываем в уши друг другу, где-то внизу попискивает маленький Славик.
В кадре как живые Чапаев и Фурманов на мосту. Много кадриков, и все они одинаковые. Женька протягивает ножичек:
— Дели на всех.
Я уже было согласился, но вдруг Лева заорал:
— Да они же все разные! Смотрите! Смотрите!
И верно, если внимательно смотреть, то кадрики действительно все разные. Вот Чапаев чуть повернул голову, а вот уже голова повернута больше, а вот уже Чапаев совсем смотрит на Фурманова и чуть протянул руку. А потом рука протягивается все дальше и дальше, пока не встретилась с рукой Фурманова. И вот они уже поздоровались.
— Ура!
— Ха-ха! Банзай!
— Мировецки!— захлопал в ладоши Славик.
— Что ты видел?— подозрительно спрашивает его Лева.
— Чапаев скачет на коне,— не моргнув, пояснил Славик.
Мы переглянулись. Может быть, нам по-другому кажется. Решили все как следует проверить на ребенке.
Установили Славика на скамейке. Женька сложил ладонь трубочкой, приставил Славику к глазу. Я быстро дернул пленку.
— Ну, что ты видел?
— Еще раз давайте,— просит Славик. Мы повторили опыт.
— Ну?
Славик чуточку задумывается:
— Чапаев утонул. Одна вода осталась.
— Тетя твоя утонула. Катись отсюда. Лева предлагает:
— Спросим у Кости.
Я с пленкой, как со знаменем, бегом домой, за мной ребята. Ворвались в квартиру.
— Костя, открытие! Люди двигаются!
Костя стряхивает лепестки ромашки с колен, берет из рук пленку.
Нонка книгой закрылась. Увлеклась. На обложке название: «Памятка охотнику».
— Значит так,— покашливает Костя,— сейчас у нас в проекторе пленка идет со скоростью двадцать четыре кадра в секунду…
— А раньше восемнадцать в секунду,— подсказывает из-за книги Нонка.
— Совершенно правильно,— поправляется Костя.— Раньше восемнадцать. Усвоила, молодец.
Потом Костя долго повторял разные вкусные слова, как «обтюратор», «мальтийский крест», «эксцентрик», «перфорации» и «синхронно».
Мы ничего не поняли, но слушать его было очень интересно. Нонка вздохнула: «О боже!»— и ушла на кухню греметь посудой.
Лева протер очки, спросил серьезно:
— А как же совпадает изображение со звуком?
Мы все посмотрели на него с уважением. Костя помолчал тоскливо, обернулся на кухню.
— Ну, что же звук? Звук, конечно, совпадает.
— Алешка, сходи за хлебом,— это голос Нонки.
— Славик сходит,— предлагаем мы.— Ему дадут. Сбегаешь, Славик?
— Угу,— соглашается мальчуган.
— Алешка, кончился керосин,— опять голос Нонки.
— А я же тебе плитку починил,— вспомнил я.
— Вот здесь сбоку идет звуковая дорожка,— почему-то вяло начал Костя.
— Алешка, купи к чаю пастилы,— очень тихо просит Нонка, но я все-таки услышал.
Мы дружно направляемся к дверям, и только Лева остался слушать объяснение Кости.
На улице он нас догнал, запыхался:
— Нонка полы начала мыть.
На обратном пути из магазина мы тихонько зашли во двор кинотеатра «Кадр». Вот кинобудка. Дверь открыта. Около аппарата прохаживается Костин помощник. Мерно стрекочет в сиянии голубого света киноаппарат. Наверное, сейчас в нем крутятся, щелкают, жужжат разные обтюраторы, барабанчики, эксцентрики, мальтийские кресты. И несется такая же пленка, что у меня в кармане, со скоростью двадцать четыре кадра в секунду.
А зрители, чудаки, сидят себе в зале, смотрят на экран и ничего этого не знают. Только и умеют, что орать: «Рамку!»
В верхней катушке, или, как называет ее Костя, бобине, сейчас заряжен большой моток пленки и, пока он будет раскручиваться, пока съест его аппарат,— люди увидят, как все ближе и ближе приближаются каппелевские цепи к чапаевцам, увидят, как, стиснув зубы, вцепившись в ручки дрожащего горячего пулемета, выкашивает Анка черные ряды каппелевцев.
Это все будет на экране. А вот здесь, с другой стороны, просто моток пленки и ровно гудит, пощелкивая, киноаппарат. Где-то внутри его спрятаны загадочные эксцентрики и мальтийские кресты.
Зрители услышат оглушающую пулеметную стрельбу, мощные разрывы снарядов и крики «ура!», а здесь, с другой стороны, всего лишь бежит звуковая дорожка. На пленке — это просто маленькие черточки, а в зале слышен голос самого Чапаева:
— Там лучшие сыны народа жизни свои кладут за наше революционное дело. А вы? Кровью искупить вину свою! Я сам впереди пойду!
Мы зачарованно смотрим на все это волшебное царство техники, и я с тоской думаю:
«Зря ты, Нонка, воображаешь перед Костей».
Уже дома перед сном я долго рассказываю Нонке, какое это великое дело управлять киноаппаратом. Нонка моет в тазу голову, и я не уверен, слышит она что-нибудь или нет.
Наконец погас свет, и я с надеждой спрашиваю:
— Ну, как тебе Костя?
— Голова у твоего Кости для противогаза,— говорит сонно Нонка,— целый час сидел и все про киноаппарат. Что я, в политехническом музее, что ли?
— Балда ты,— говорю я вполне уверенно. Утром к нам кто-то стучит в окно.
— Мама!— кричит Нонка.— Алешка, вставай, мама приехала!
Мы открыли двери, суетимся, ждем. И вот мамины шаги. Мы уже на лестнице, помогаем ей. Узелок тащим. Обнимаем, целуем. Она огляделась, бледненькая, похудевшая, гладит нас с Нонкой, то и дело глаза вытирает. Осмотрела мои ботинки, потом до головы добралась.
— Ноночка, там в узле печенье, яблоки. Разделите, от передач осталось.
— А мы тебе пастилы купили,— вскакиваю я.
Сейчас пьем чай всей семьей. Маме не даем двигаться. Нонка тапочки ищет. Я — пулей за керосином. Выскочил во двор. Никого еще нет. Встал посредине, два пальца в рот и как свистну.
Сразу в одном окне — Женька, в другом — Мишка, а вон и Лева за занавеской очки надевает. Выглянул и Ларискин отец с намыленной щекой, нахмурился.
— Мама приехала!— помахал я им бидоном.
Дома я все пытаюсь рассказать маме про кино. Показываю пленку, объясняю, как получается, что Чапаев здоровается с Фурмановым. Она вроде слушает, и глазами все осматривает комнату, часто встает, то на кухню пройдет, то половики поправит.
— Я слушаю, слушаю, сынок,— говорит она, когда я замолкаю.— Ноночка, а где квитанция за квартплату?
— Можно взять вот эту коробку из-под печенья,— продолжаю я,— сюда лампочку, а здесь вырезать для объектива, ну, стекло увеличительное. Посредине пропустим пленку и на стене получится кино.
— Ноночка, а где у нас хозяйственное мыло? Научного разговора не получается, и я с коробкой из-под печенья «Пети-фур» выхожу во двор. Здесь уже все в сборе.
Это всегда так кажется, что все в сборе. Раз есть понимающие люди, значит — все в сборе. А понимающие только Женька, Лева, Мишка, ну еще маленький Славик, связной на посылках. Вот и все.
Гога из дом пять коробку понюхал, сказал:
— Печенье было.
Женька повертел в руках, прикинул:
— Вот здесь дырку вырежем, а сюда лампочку.
Лева картон ощупал, зачем-то постучал по коробке со всех сторон:
— От лампы нагреется. Надо вентиляцию. Мишка на земле трубку рисует:
— Увеличительное стекло в одну трубку вставить, а вторая пуста. И так регулировать. Как в прицелах на самолетах.
— Это чтоб фокус был,— добавил Лева.
— Что?
— Ну, фокусное расстояние.
Мы промолчали. Лева центр наметил, и Женька начал ножичком делать дырку. Славик ему помогает, коробку придерживает, а мы с Мишкой решили разойтись по домам. Ему надо достать патрон для лампочки, а мне где хочешь— вывинтить эту самую лампочку.
Гога из дом пять любуется своими новыми резиновыми тапочками, на Ларискино окно посматривает, между прочим советует:
— Аккуратнее вырезайте. Тут точность нужна. Как будто мы сами не знаем.
— Ты бы лучше электропровод достал,— предлагает ему Женька. Гога только плечами пожал:
— Давайте денег, куплю.
Лампочки бывают разные. Легче всего вывинтить в парадном или из уборной. Но такие очень тусклые, не просветить им насквозь пленку.
Можно вывинтить ту, что в комнате над столом. Приспособить ее на время, а вечером обратно. Но уж очень много будет вопросов: «куда?», «зачем?», «почему?» и, конечно, Нонкин: «Ты что? Тронулся?»
Хоть бы на один из них толком ответить.
За окном свист.
Газету на скатерть, ногами на стол, и вот она, лампочка. Нонка что-то пишет. Похоже на письмо. Никакого внимания. Лампочка противно скрипит, не вывинчивается. Нонка глаза вверх, просветила насквозь абажур, лампочку, меня и опять за письмо. Лампочка вывернулась. Нонка все пишет.
Мишка принес патрон. Озираясь на окна, вынул его из-за пазухи и молча положил на скамейку. Мы ни о чем не расспрашивали.
Во двор спустилась Лариса. Незаметно подошла Лидочка. Гога из дом пять согнал Славика, предложил Лариске место.
— Сюда линзу, сюда лампочку, а посередине лента из Чапаева,— объясняет ей Гога.— Вот как мы придумали. Свое кино будет. И не надо брать билеты в «Кадр».
— Тебе надо брать билет,— говорит хмуро Лева.— Даром в кино не пустим.
— Да я и сам не пойду. Подумаешь, изобретатели.
— А меня пустите?— спрашивает Лариска, разглядывая на свет кинопленку.
— Даже на самый первый ряд,— обещаю я.
— А меня?— беспокоится Рыжик.
Я очень занят подгонкой трубок для увеличительного стекла и потому не отвечаю.
— А меня пустите, Алеша?— тихо повторяет Рыжик.
— Тебя обязательно,— кряхтит Женька, орудуя ножом.
— А я и не пойду,— вдруг объявляет Рыжик и уходит.
— Правильно сделала,— смотрит ей вслед Гога.— Подумаешь, Голливуд какой!
— Сам ты Голливуд,— говорит Мишка.— Катись отсюда.
— И правда, чего я у вас не видел,— пожимает плечами Гога.— Только я не покачусь, а покину вас. Всему есть два понятия. Поняли?
Он ушел.
Мы давно заметили, что у Гоги на все есть два понятия.
Как-то маленький Славик, испытывая новую рогатку, нечаянно высадил форточку в Гогином окне. Немедленно в нашем дворе появился Гогин папа и впереди него Гога.
Славик растворился за нашими спинами.
— Кто?— спрашивает папа и снимает пенсне. Мы молчим.
— Надо быть смелым и честным,— говорит Гога.— Славик, выходи.
Мальчуган понуро вышел.
— Только к маме не ходите,— шепчет Славик,— я достану вам стекло.
— Где твоя рогатка?— наступает Гогин папа. Славик жмется, разводит руками.
— Я спрашиваю, где рогатка? Славик голову в плечи, молчит.
— Я тебя в милицию сдам, родителей засужу,— гремит сверху Гогин папа.
Славик вытаскивает из-за пазухи рогатку.
— Та-а-ак,— брезгливо берет рогатку Гогин папа и начинает ее ломать. Хрупнула рогатулька, потом резинка растянулась вовсю, а не рвется. Гогин папа даже покраснел от натуги. И вдруг хлоп! Гогин папа словно обжегся, сразу пальцы в рот, пританцовывает:
— Засужу, стервецы.
Боязливо подул на пальцы и, не оборачиваясь, заспешил к воротам.
— Все-таки ты гадина,— косится Лидочка на Гогу.
— Ну, это ты зря,— вмешивается Лариска,— Гога поступил правильно.
— Я поступил, как советский человек,— говорит Гога и уходит вслед за своим папой.
Мы усаживаемся на нашу скамейку и молчим. Просто нам нечего сказать. Оглушил нас Гога словами «советский человек». А мы, значит, не советские, мы поступили плохо, что не хотели выдавать Славика.
— Все равно он гадина,— шумно вздыхает Лидочка.
— Конечно,— подтверждает Женька,— вдвойне гадина. Какая-то несчастная форточка — и «советский человек». Вот сравнил!
— А по-моему, советский человек должен быть честным во всем,— горячится Лариска,— да, да, во всем: и в большом и в малом. Гога знает, что говорит.
Мы опять молчим. Уж очень как-то все сложно. Конечно, Гога много знает. У него даже появился свой личный биограф — граф де Стась. Ходит за Гогой с блокнотом и записывает для потомства все мудрые Гогины изречения. Гога знает даже больше Левы, пусть Гога всегда бывает прав, но все-таки мы советские люди. Хоть что хотите делайте, а мы все равно — советские.
Я замечаю, что Гога всегда бывает прав, не тогда, когда это нужно. Часто лезет он не вовремя со своей правотой.
Как-то мы пришли всем классом в Музей Революции…
Мы долго стоим у картины «Штурм Зимнего дворца». Вот рядом с броневиком бегут с винтовками наперевес солдаты в серых шинелях, рабочие в куртках и, конечно, матросы, опоясанные пулеметными лентами. Мощное «ура!» несется над площадью. Грозовые облака прорезают лучи прожекторов. Кажется, вот сейчас невидимый на полотне художника крейсер «Аврора» цепко нащупал дулом орудия эти светящиеся окна дворца и гневно в них плюнул металлом.
Мне представилось, что и мы, мальчишки, здесь, вместе с наступающими отрядами Красной гвардии. Мы ползаем среди убитых и, как парижский мальчишка Гаврош, вынимаем из подсумков патроны, передаем их тем, кто штурмует Зимний дворец.
Я говорю об этом ребятам. Все задумчиво молчат, и только один Гога морщится:
— А какие там еще убитые? За весь штурм Зимнего только и было, что один убитый и двое раненых. Это историческая правда. Не штурм, а веселенькая прогулка.
Мне не хочется этой исторической правды. Сейчас на полотне картины как будто вдруг остановился и поехал в обратную сторону броневик, стихло «ура!», матросы и солдаты вдруг встали, повернулись и спокойно разошлись по своим казармам. На крейсере «Аврора» затянули чехлом грозное орудие, медленно гаснут лучи боевых прожекторов.
— Врешь ты все,— вяло говорю я Гоге.
— Историческая правда,— повторяет он.— Мне отец говорил.
Ребята сочувственно смотрят на меня, и только Лариска откровенно любуется Гогой, насмешливо кивает в мою сторону:
— Смотрите-ка, а он и не знал…
Нам известно, что Гогин папа — адвокат. Что это такое — мы понимаем очень смутно. Мишка говорит, что адвокат — это советчик. Мишкина мать, да и сам летчик часто ходили к нему на квартиру за какими-то советами. Мы с Женькой думаем, что адвокат — это защитник, а Славик убежден, что адвокат — это тот, кто говорит неправду и судит людей.
Однажды в нашем дворе появился настоящий футбольный мяч. С камерой, с покрышкой и шнурочком. Это летчик подарил нашему Мишке. (До сих пор мы играли в футбол самодельным тряпичным мячом.)
Мы все по очереди принялись его надувать. Даже Лариска с Лидочкой тужились, краснели, но мяч все-таки был вялым, дряблым. Позвали Бахилю. Он расставил ноги, надулся, посинел, и вот уже весь Бахилин воздух мы туго перевязали бечевкой. Мяч стал гулким, твердым.
Он лежит посередине двора и даже через ботинки дразнит, щекочет нам ноги.
— Ну-ка я,— говорит Гога. Прищур на мяч, прищур в сторону Лариски, Гога разбегается, бьет. Мяч в воздухе.
— Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
А Славику так и не удалось заключить наши восторги.
С отчаянным звоном посыпались стекла лестничной клетки Женькиного дома. В воротах мелькнула и скрылась Гогина рубашка. Следом метнулись все мы. Отдышались на Бородинском мосту. Гога просит нас никому ничего не говорить.
— Но ведь ты же советский человек,— строго исподлобья смотрит Лидочка и кивает на Славика.— А как же он?
Гога подумал, поморщился:
— Но ведь Славик из рогатки, а я мячом.
— Да, ведь он же из рогатки,— вздыхает Лариска.
— Ну и что же? Стекло-то разбито.
— Видишь ли, Рыжик,— начинает Гога,— любой вопрос можно рассматривать двояко. Так даже сказано в юриспруденции.
Это очень трудное слово. Мы даже переглянулись. Граф де Стась полез за блокнотом.
— Да, стекло разбито,— говорит Гога,— это факт. Но какое стекло? Кто пострадал? Ты? Ты? А может быть, лично Женька? Ты пострадал, Женька?
— Мне все равно,— мнется Женька.— Это же на лестничной клетке.
— Вот видите,— оживляется Гога,— ему все равно. Славик, а тебе?
— Мне тоже,— радуется Славик.
— Государству не все равно,— упрямо говорит Лидочка.— Тогда пусть государство к нам предъявляет счет.
— Почему к нам? Ведь ты же разбил.
— Да, разбил я. Но ведь государство — это все мы. А всем нам все равно. Значит, и государству все равно,— победно оглядывает нас Гога.
Граф де Стась торопливо прыгает карандашом по листкам блокнота. Лариска застегивает пуговку на Гогиной рубашке. А мы подавленно молчим. Даже Лидочка пожимает плечами, хмурится. Только Славик очень доволен:
— Значит, я тоже государство! Мировецки!
* * *
…Наш аппарат почти готов. Лева принес из дому электрический шнур. Присоединили, концы к патрону, вставили в щель ленту и бумажным колпачком закрыли вентиляционное стекло. Теперь только дать ток — и, пожалуйста, смотри кино.
Спустились к нам в подвал. Здесь все как в настоящем кинотеатре: темно, сыро, ступеньками зрительные ряды, побеленная стена — экран.
Начали присоединять наш шнур к электропроводу на потолке.
Женьку здорово током дернуло. Попробовал Лева, и его тряхануло. Взялся было Мишка и тоже заскучал. Я посмотрел на Ларису и отчаянно взгромоздился на лестничные перила, потянулся к оголенному проводу, дотронулся и чуть, не кубарем вниз.
Сидим на ступеньках, помалкиваем. Откуда-то Рыжик взялась.
— Давайте,— говорит,— я попробую. Лева не разрешает:
— Девчонок еще сильнее вдарит. У них сопротивление меньше.
— Ну, что же? Трусите?— хихикает Лариска.— Так и будем сидеть?
Гога из дом пять шевелюру поправил, что-то промурлыкал, молча полез на железные перила.
Я на Лариску взглянул и отвернулся. Она на Гогу как на солнце смотрит. Даже щурится и улыбается. Видеть все это противно.
И вдруг в аппарате вспыхнул свет. Гога спрыгнул и, ни на кого не глядя, уселся рядом с Лариской. Все посмотрели на него уважительно.
— Да на нем же резиновые тапочки,— прыснула Лидочка,— резина ток не пропускает.
Все засмеялись, а я так готов был расцеловать Рыжика. Гога поочередно поднял ноги, разглядел их, пожал плечами:
— А я и не знал.
Кажется, Лариска чуть-чуть от него отодвинулась. А может быть, мне это показалось.
На нашем экране, как говорит Лева, «бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно».
— А где же кино?— ерзает Лариска.
— Пошли, Лариса, на воздух,— предлагает Гога.
— Подождите, граждане, минуточку,— суетится около аппарата Лева.— Нужен фокус.
Он трогает трубку, двигает ее, и вдруг на экране люди.
— Ха-ха,— громко смеется Гога,— все вверх ногами. Сапожники!
— Это они с моста в речку ныряют,— догадывается Славик.
Мы растерялись. Почему же так случилось?
— Надо самим встать вверх ногами, и тогда все будет правильно,— не унимается Гога.
— Граждане, спокойствие,— говорит Лева и осторожно переворачивает вверх ногами аппарат. Теперь на нашем экране стоят на мосту как живые Чапаев и Фурманов.
Долго в тишине мы рассматриваем наших любимцев. Каждую складочку, каждую пуговку на гимнастерках, чапаевскую папаху, боевые ремни на его плечах, саблю, бинокль, кобуру на правом боку у Фурманова.
Славик подошел к самому экрану, хочет погладить или поцеловать лицо Чапаева, но за ним вдруг стало ничего не видно. Мы испугались, закричали на Славика. Он поспешно шлепнулся на пол, и мы опять долго любуемся нашими героями.
— Здравствуйте, я Фурманов,— вдруг говорит голосом Фурманова Женька Кораблев.
— Здравствуйте,— отвечает ему Лева.
— Вот ткачи наши, добровольцы,— это голос Женьки.
— Знаю,— отвечает Лева,— прибыли, к самому делу прибыли. Получен приказ от Михаила Васильевича Фрунзе…
Мы громко захлопали, загалдели. Все получается прямо как в настоящем кино.
Распахнулась дверь. На пороге — Нонка:
— Ой, что тут такое?
Потом пригляделась, засмеялась, сказала:
— Ого! Молодцы! Мама,— позвала она,— посмотри-ка, что эта мелюзга придумала.
Вышла мама, споткнулась о Славика, руки о фартук вытирает:
— Господи, твоя воля. Что это?
— Кино, мама,— торжественно говорю я. Мама трогает рукой экран, беспокоится:
— Оно не загорится?
Мы ее успокоили. Она пошла к дверям, обернулась:
— Подложили бы что-нибудь под себя. Камень ведь. Нонка пробирается через нас к выходу, я ей шепчу;
— А ты говорила — у Кости голова для противогаза… Вот видишь?
— Балда ты,— щелкает меня Нонка и убегает вверх по лестнице. Поднялась Лариска, пошла наверх:
Что же смотреть одно и то же.
За ней Гога. А мы остались. Лева сделал открытие. Оказывается, не обязательно держать вверх ногами аппарат, нужно только пленку вставлять вверх ногами, и тогда все получится правильно. Прямо чудеса!
Мы выскочили во двор и стали зазывать зрителей. Пришла дворничиха тетя Дуся. Тоже поинтересовалась, не загорится ли чего, посморкалась в фартук и тихонько уселась в углу.
Явился «тайный агент кардинала» де Стась Квашнин. Как всегда, с персиком. И где он их только берет? Говорят, у него отец фруктовой базой заведует. Персик без звука отдал нам, уселся рядом с тетей Дусей.
Мишка сбегал за отцом. Летчик пришел быстро. Весело крикнул сверху:
— Здравствуйте, товарищи!
Он так и сказал — не ребята, а товарищи. Мы потеснились. Летчик садиться не стал, только пригнулся, осмотрел аппарат, засмеялся, покрутил головой:
— Ну, прямо братья Люмьеры.
— Чего?
— Изобретатели кино, французы Люмьеры,— пояснил Мишкин отец.
Специально для него мы повторили всю программу сначала. Женька изображал Фурманова, Мишка — Чапаева, а я всплески воды и хоровую песню отряда ткачей-добровольцев.
— Так долго не держите, давайте ему остывать,— посоветовал летчик.— Может пленка вспыхнуть.
— Я же говорила,— ожила в углу тетя Дуся.— Еще подпалят дом. Надо участкового позвать.
Мишкин отец ее успокоил, сказал, что все будет в порядке, уходя, шепнул нам:
— Почаще выключайте, побольше сделайте вентиляцию.
День и еще день мы смотрели, как здороваются и знакомятся Чапаев с Фурмановым. Пора бы уж и подружиться командиру дивизии со своим комиссаром, пора бы уж и воевать вместе, а они все стоят и стоят на мосту.
— Хоть бы уж воевать начали,— ноет Славик.— Я люблю войну…
— А когда у нас война будет?— спрашивает Мишка.
— Когда-нибудь обязательно будет?— обнадеживает Женька.— Повоюем.
— Скорее бы,— вздыхает Славик.
— Глупые вы,— говорит Лидочка.
* * *
…Как давно это было. Но оно же было! О том и дождь нашептывает…
Совсем близко сильный всплеск. Кто-то из бойцов пытается подняться выше, срывается и опять затвердевает по пояс в воде.
Ливень закутывает соседей водяными пеленками. У нас с Григорием Ивановичем и Женькой такая пеленка одна на троих: стоим, прижавшись друг к другу, оглядываемся в ту сторону, откуда должно же когда-нибудь проступить солнце.
Кажется, у меня только макушка сухая: она под каской. Сюда спрятал комсомольский билет, письма.
— Может, вылезем?— это трясется Пончик.
— Я тебе вылезу,— глухо грозит пограничник и прикладывается к своей фляжке.
— На-ка, глотни,— протягивает он Пончику фляжку.
— Наблюдать за противником!— выпрямился Григорий Иванович.
Мы наблюдаем. На стволе винтовки мушка, дождик и, должно быть, невидимый противник.
Моя рука столкнулась с чьей-то холодной рукой: каждый к себе гранату тянет.
— Ты?
— Ну, я,— говорит Женька и отпускает гранату. Кто-то серый, расплывчатый пытается вылезти из окопа.
Его тянут назад, он отбивается и вдруг трассирующая коса прошла над головами: серый тяжело плюхается вниз. Слышится какая-то возня, а потом все стихло.
— Ну, вот один довылезался,— тихо говорит пограничник.— Не рыпаться!— вдруг страшно заорал он на нас.
Мы не рыпаемся.
Кажется, впереди задвигались темные силуэты. Они падают, вновь поднимаются, все ближе и ближе к нам. Кто-то дико подает команду:
— По противнику огонь!
От первого залпа мы оглохли. Уж очень близко винтовка соседей. Ничего не слышно, посылаем пулю за пулей. Силуэты пропали.
— Отогнали,— нервно смеется Григорий Иванович,— продолжать наблюдение!
Вода поднимается выше пояса. Пончик вычерпывает ее каской. Хочет выплеснуть за окоп, но у него не поднимаются руки. Вода обратно льется к нам. Пограничник безнадежно говорит:
— Брось. Пустое это.
Пончик не слушает, черпает и черпает воду. Хороший парень этот Пончик. Женька часто про него говорит:
— Хоть и тюха, а я бы с ним пошел в разведку.
Я бы тоже пошел в разведку с Пончиком. Ему можно верить, хотя он многого боится и очень неуклюжий. Я видел, как он стреляет из своей винтовки. Окопается лежа, рядом под рукой индивидуальный санитарный пакет положит и патроны. Целится долго, долго, а потом, закрыв глаза, нажимает спуск. Выстрельнет, на нас оглянется, сам себе подмигнет и опять долго целится.
Уже дана команда отползать на новые рубежи, а Пончик все стреляет и стреляет.
— Пончик, ползи!— кричим мы. Он все патроны по-хозяйски разыщет в траве, перевязочный пакет в зубы и только потом задом отползает.
Мы знаем, что Пончик обманул всех в райкоме комсомола, заявив, будто ему восемнадцать лет, а в самом деле Пончику только что исполнилось семнадцать. Уже на передовой Григорий Иванович узнал об этом и сердито предложил ему написать рапорт, честно рассказать о своем обмане, и тогда его, Пончика, отзовут домой.
Паренек смотрел на всех большими обиженными глазами, с надеждой заглядывал к нам с Женькой под каски: мол, поддержите, хлопцы, как же так — вы здесь, а я в тыл. Женька хмуро порылся в противогазной сумке, вытащил лист бумаги, неумолимо протянул Пончику:
— Вон садись на пенек и пиши.
Пончик лист в руках вертит, вот-вот расплачется.
— Пиши, пиши,— говорим мы.— В тыл, к маме поедешь. Он угрюмо отошел, примостился на пеньке.
Мы понуро молчим. Пончик пишет очень долго. Я уже успел продумать, как с уходом Пончика скорее перехватить его трехлинейную винтовку. Моя полуавтоматическая десятизарядная хоть и красивая, а стреляет плохо. Все время прикрываю затвор носовым платком, а все равно песчинки попадают, и тогда нужный автомат не срабатывает, хоть плачь. Для парадов, что ли, их наделали.
А Пончик с кем-то успел обменяться винтовками, и теперь его старая трехлинейка безотказно оглушает нас в цепи, когда мы, чертыхаясь, возимся с нашими онемевшими полуавтоматическими. А если и у Пончика вдруг заглохнет, он сапогом по затвору вдарит, и опять за весь взвод старается его верная русская трехлинейка.
Вот Пончик кончил писать, несет рапорт нам. Я любовно смотрю на его винтовку.
— Посмотри, так ли,— говорит он Женьке. Тот крутит листок и вдруг громко хохочет. Мы заглядываем через плечо и тоже смеемся: на листке нарисован замечательный, симпатичный кукиш.
— Пончик,— тормошим мы его,— ты мировой парень! Правда, винтовку твою жалко.
Сейчас под ливнем в окопе, мне думается, Пончик жалеет, что нарисовал кукиш. Уже был бы дома в теплой квартире. У него отец какой-то известный профессор. Наверное, квартира как у Гоги, не то что мой подвал.
Немцы снова пускают ракеты.
— Нервничают,— стучит зубами Женька.— Нас б-б-боятся.
— Наблюдать за противником!— это опять тревожится Григорий Иванович. Ему хорошо. Он высокий. Ему вода всего по пояс, а мы уже стоим чуть ли не по грудь.
Я не знаю, есть ли у меня ноги. А что, если сейчас пойдут немцы? Стрелять мы еще сможем, хотя у нас от холода дрожат руки, плечи: какой уж тут прицельный огонь. А если команда «В контратаку!»? Как же мы вылезем? Куда-то делись ноги. Были, а вот теперь нет.
— Инвалидам на деревянных ногах хорошо,— тихо смеется Григорий Иванович,— им дождь нипочем.
Мы молчим.
— В Африке воевать хуже,— продолжает политрук,— жарища и ни капли воды.
Мы молчим
— Алеша, что примолк?— дышит теплом в мое ухо Григорий Иванович.
— Думаю…
— О чем?
— О квартире.
— Что так?
— Сухо… тепло там.
Григорий Иванович нагнулся к пограничнику:
— Во фляжке еще булькает? Дай-ка им по глотку.
…Немножко потеплело в желудке. Как будто там лампочка зажглась. Потом вспыхнула лампочка в голове. Стало вдруг светло, тепло, уютно.
Почему-то вспомнилась квартира Гоги из дом пять. Почему Женька, Пончик, Григорий Иванович и я должны ее защищать? Почему сам Гога с мамой и папой уехали из Москвы «ковать победу в тылу», как торжественно объявил Гога, а мы все стоим в этом окопе? Все, даже Пончик.
Может быть, потому, что квартира Гоги находится в нашем советском доме, на нашей советской улице, в нашей Москве? Вот мы заодно все сразу и защищаем. А мне не хочется «заодно все сразу». Не люблю я эту квартиру.
Есть такие квартиры, в которые я бы ни за что не вошел. Не знаю почему, но позвонить у дверей графа де Стась, Бахили, Гоги или Лариски для меня просто пытка.
Знаю, что мне откроют двери, знаю, что не прогонят, а вот зайти не могу. В чем тут дело? Может, потому, что они живут хорошо? И я просто не знаю, куда ступить: везде ковры, стулья в чехлах, какие-то безделушки. Дыхнешь— и сломаются.
Но ведь не стесняюсь же я зайти к Лидочке или к Женьке? У Лидочки пианино и даже есть вся Большая Советская Энциклопедия. А у Женьки кругом картины, разные этажерки и патефон. Но к ним я захожу как к себе.
Мать Лидочки откроет дверь, со мной сразу за руку и кричит в комнату:
— Лидок, встречай Алешу! Варенье в буфете, печенье, чтобы ты не слопала, в духовке, а я помчалась.
Когда к Женьке позвонишь, Король лает. Женькина мать меня пропускает и сразу на Короля нападает:
— Ты что? Своих не узнал? Это же Женин товарищ. Смотри-ка, Алеша, Король покраснел. Стыдно ему.
Пальто мое повесит и сразу с вопросом:
— Есть хочешь? Только по-честному. У нас суп горячий. А вот зашел я как-то к Гоге за контурной картой. Ноги вытер, тихонько позвонил. За дверью голос:
— Кто там?
Я объясняю. Долго цепочки разные бряцают, щелкают замки. Приоткрылась щелка. В щелке Гогина мать.
— Тебе что?
— Карту контурную хотел попросить.
— Ну, заходи. Постой тут. Я сейчас узнаю. Она уходит. Потом появляется Гога
— А, это ты? Ну, проходи вот здесь. Только вытри ноги хорошенько.
Мне не хочется заходить в комнаты. Хотя там, я знаю, есть настоящая шкура белого медведя, морской компас, моржовый клык, а на стене барометр.
— Ну, проходи, не стесняйся,— говорит Гога.— Вот тут присядь. Я сейчас карту найду.
Сижу, поджав ноги. Куда руки деть — не знаю. Тихонько волосы приглаживаю. Мимо в халате Гогина мать проходит. Когда ступит рядом с буфетом, там за стеклом жалобно звякают какие-то красивые тарелки и чашки.
— Как учишься?— проходя мимо, спрашивает она.
— Ничего.
Идет обратно, опять спрашивает:
— Где твой папа работает?
— У меня его нет.
Она губы поджимает, оглядывает меня с ног до головы. Я прикрываю заштопанную коленку.
— А мама?
— Мама в прачечной.
— Нюша,— кричит она в кухню.— Ты не забудь сегодня сдать белье в прачечную.
Потом она опять мимо проходит, открывает дверь в другую комнату:
— Гога, ну, где же твоя карта? Ведь мальчик ждет.
Выходит Гога, сует мне карту, я скорее одеваться. Из комнаты голос Гогиной матери:
— Гога, спроси мальчика, может, он хочет покушать?
— Спасибо, не хочется,— я хватаю шапку и долго путаюсь у двери в разных цепочках и запорах.
…Обо всем этом я сейчас в окопе рассказываю, может быть, сам себе, а может быть, Григорию Ивановичу. Он то ли дремлет, то ли слушает. Лица не видно.
— Вы слушаете, Григорий Иванович? Он не отвечает: дремлет наверное.
— Чудаки,— сквозь шум дождя слышу я близко его голос, чувствую на щеке теплое дыхание.— Чудаки. Не могли ко мне на студию приехать. Я бы уж помог.
И опять усыпляюще стучит дождь по каске.
— Алешка,— говорит Женька,— а все-таки мы тогда кино сделали. Помнишь, кадрики собирали?
— Угу,— говорю я.
— Какие кадрики?— шумно ворочается в воде Григорий Иванович.
Я вспоминаю, как приуныл наш двор, как затосковала вдруг вся наша скамейка. Это были грустные дни.
* * *
…Нет у нас новых кинокадров. Костя уехал в отпуск, а больше нам надеяться не на кого.
К Нонке повадился ходить в гости какой-то длинный студент в очках, белых штанах и очень вежливый. Весь прозрачный, как ландрин. Походка на цыпочках, вот-вот вспорхнет и улетит. А Костя по земле ступает твердо, уверенно. Так и кажется, такие как он, то есть рабочий класс, ногами землю отталкивают. Потому она и вертится.
Я сказал об этом Нонке, она чуточку задумалась, сказала:
— Странно.
Потом долго писала письмо. Я крутился около. Уж очень хотелось узнать, кому она пишет, но Нонка, как всегда, выпроводила меня за хлебом. Я тоже сказал: «Странно»— и с неохотой покатился в булочную.
И вот сейчас мы сидим на нашей скамейке и ничего не делаем. Просто опустились руки. Где же нам достать еще пленки. Только один Женька, насвистывая, лепит из пластилина какого-то веселого чертика. Тетя Дуся метет двор, изредка косится на нас. Наверное, ее беспокоит, почему мы вдруг такие смирные.
Лева говорит, ни к кому не обращаясь:
— Сейчас «Чапаев» идет в «Художественном», в «Арсе» и в нашем «Кадре». Вот где пленка-то.
Рыжик, насвистывая, долго следит за метлой дворничихи, потом вскакивает со скамейки и кружится на одном месте:
— А я придумала! А я придумала!
— Что?— спрашиваем мы.
— А вот что. Ведь кинобудки тоже подметают. Так?
— Так,— соглашаемся мы.
— А куда мусор выметается?— все так же кружится Лидочка.
— Во двор, наверное, а что?
Лидочка останавливается, оглядывает нас всех по очереди. И вдруг хохочет на весь двор:
— Не дошло?
— Стоп, тут что-то есть,— говорит Лева.— Ну, конечно, нужно пошарить в мусоре около кинобудок.
Нам стало все ясно. Ведь «Чапаев» сразу идет в трех кинотеатрах. Наверняка на каждом сеансе бывают обрывы ленты. При склейке механики обрезают кусочки и, конечно, бросают их на пол, а потом выметают на улицу.
— Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
Мировецки!— заключил Славик наши восторги.
Ну, конечно, нужно вставать очень рано и бежать к будкам этих кинотеатров, пока дворники не подмели там дворы.
За всю свою жизнь я еще никогда не вставал раньше дворников. Просто не приходилось.
И вот наступило это знаменательное утро. Меня разбудила мама. Она собирается на работу. За окном очень громко прогрохотал первый трамвай.
Наскоро обжегся чаем и скорее во двор. (Уж очень хотелось выйти из дома раньше мамы.)
На скамейке только розовый Рыжик. Зевает и ногами болтает. Сунула мне нагретое яблоко:
— Позавтракай.
Спит наш двор. Тихо. Только очень отчетливо слышно, как перекликаются гудками паровозы на Киевском вокзале и почему-то поют петухи.
Скрипнула калитка. Входит с чемоданом, весь запыленный, отец графа де Стася. Наверное, с поезда. Нам удивленно кивнул и — в подъезд. Мы слышим, как он долго звонит. Вдруг открывается окно на первом этаже, где живет граф де Стась Квашнин, и спиной к нам выползает какой-то лохматый дядя в зеленом свитере.
Нас не видит, юркнул за сараи.
— Жулик,— толкаю я Рыжика. Она приставила мне палец к губам, тихо смеется.
— Нет, не жулик, сиди. Я ничего не понимаю.
— Жулики галстуки не снимают,— шепчет Лидочка.— Вон, смотри, Женька идет.
Подошел Женька, буркнул что-то, уселся рядом, глаза трет. Лева и Мишка выходят из подъезда сразу вдвоем. Волосы мокрые. Наверное, и умывались вместе, под одним краном.
— Истребитель сильнее бомбардировщика,— горячится Мишка,— у него пулеметы, а скорость знаешь какая?!
Лева садится прямо на землю около нас, сладко потягивается.
— Истребители, бомбардировщики… ну тебя. Соснуть бы сейчас.
— Ну, пошли, мальчики,— встает Рыжик. Мы, спотыкаясь, выползаем за ней на улицу.
Вот и наша Плющиха. На тротуарах уже народ. Люди идут торопливо, бодро.
Я еще никогда не видел, как утром люди идут на работу. У многих улыбки, может быть, люди радуются первым солнечным лучам. Наверное, это очень здорово войти в свой цех, сказать всем «здравствуйте!» и принять от товарища из ночной смены нагретые его руками металлические рычаги управления станком.
Но не все идут на работу с улыбкой. Встретились нам и хмурые, угрюмые люди. Они шаркают, безразлично поглядывая по сторонам или хмуро глядя себе под ноги. Наверное, у них на работе что-нибудь не клеится или просто дело не по душе. Уж лучше бы сменили профессию, чем нагонять на других тоску.
Вот и наш кинотеатр «Кадр». Во дворе на земле ни одного следа метлы. Значит, мы успели. У самой кинобудки, в углу у ступенек кучка мусора. Накинулись, как воробьи.
— Есть,— почему-то шепчет Лева.
— И у меня есть,— тихо смеется Лидочка, осторожно дует на кадрик, рассматривает его на свету.— Это Чапаев на коне.
Я тоже нашел два кадрика. Оба — психическая атака каппелевцев.
А больше мы ничего не нашли. Может быть, это лента уж очень новая или на наше горе Костин помощник хорошо знает свое дело. Обрывов больше не было.
На Левином кадрике только одна надпись: «В занятой станице»… И все. Ну, ладно, и надпись пригодится.
Идем по Арбату. Народу на улицах прибавилось. Машин тоже. Сейчас они проносятся очень быстро. Сзади за запасное колесо не успеть прицепиться. Может быть, все правительственные. Ведь Сталин не спит, когда все спят. Наверное, все время ездит и все осматривает.
Один раз мы с Мишкой тоже прокатились на правительственной машине. Это зимой было, в метель. Вышли мы из кинотеатра «Юный зритель» на Арбат. Смотрим, каким бы транспортом добраться до дому. Очень хорошая легковая машина М-1. У нее сзади запасное колесо. За него удобно держаться. На счастье, какой-то затор впереди у Смоленской площади, может быть, из-за метели. Машины еле-еле двигаются. Мы с Мишкой облюбовали какую-то блестящую, .длинную, преспокойно уселись. Держимся за колесо. Машина движется к Бородинскому мосту, что нам и нужно.
Но вдруг у Смоленской площади она развернулась и бешено помчалась обратно, к центру. Снежный вихрь из-под колес залепил нам глаза.
— Прыгай,— кричу я Мишке. Но он боится. Я тоже испугался: уж очень большая скорость. Машина все несется и несется, хоть бы у какого перекрестка остановилась. Ничуть.
И вдруг пошла медленно. Над нашими головами что-то загудело. Глянули: какие-то сводчатые каменные ворота. Машина встала, и тут к нам в тулупе идет красноармеец с винтовкой. Мы не шелохнемся. Сначала он поднял за шиворот Мишку, потом меня.
Мы огляделись, ахнули: да ведь это же Кремль!
Дома я восторженно рассказал о нашей прогулке маме. Она испугалась:
— Смотри, еще посадят тебя.
А вот сейчас мы идем по Арбату и никакие машины не могут нас соблазнить, отвлечь от задуманного.
Во дворе кинотеатра «Арс», у самых дверей будки нас поджидает волшебная кучка мусора. Чуть копнули и сразу обрадовались: киномеханик здесь никудышный. Кадриков много. Здесь и Чапаев с Петькой на тачанке, и Чапаев с картофелинами, и даже Чапаев на чердаке за пулеметом, и Чапаев плывет.
Идем по Арбату, натыкаясь на прохожих, то и дело останавливаемся, смотрим на свет драгоценные находки.
В кинотеатре «Художественный» механик, наверное, очень хороший: ни одного кадрика, кроме огрызка совершенно прозрачной пленки, даже без звуковой дорожки. И зачем таких на работу принимают?

Во дворе на скамейке разложили все кадрики по порядку. Сначала тачанка, потом Чапаев с Фурмановым на мосту, затем Чапаев с картошками и так дальше до самой реки, в которой утонул Василий Иванович. Все как в настоящем кино.
Думаем, как соединить все кадрики в одну ленту. Попробовали конторским клеем — не держит. Женька принес столярный. Разогрели на свечке — не держит.
— Давайте нитками,— предлагает Рыжик,— я их осторожненько сошью.
Я осмотрел свою штанину. Ровный Лидочкин шов до сих пор не заметили дома. Согласился.
Лидочка принесла тонкую иглу и взялась за шитье. Лева сообщил, что в настоящем кино это называется монтажом.
Наконец фильм смонтирован. Лидочка завязывает последний узелок, откусывает нитку. И вот тут Женька предложил написать тушью на прозрачной пленке название картины, а также имена тех, кто ее создал.
Мы, конечно, с криком «ура!» согласились. Вот что у нас получилось:
«ЧАПАЕВ»
Автор сценария и кассир — Лева Гоц Режиссер и старший контролер — Алексей Грибков
Оператор и киномеханик — Михаил Жаров
Художник и пожарник — Евгений Кораблев
Монтажер — Лидия Кудрявцева
Голос Чапаева — Лева Г о ц
Голос Фурманова — Евгений Кораблев
Пулеметная стрельба, барабан и взрывы — Алексей
Грибков
Визг свиньи — Славик
Всплеск воды — Алексей Грибков
Крики «ура!» и стоны убитых каппелевцев — все вместе.
Мы готовы к началу сеанса. Я запасся ведром с водой. Всплески получаются даже лучше, чем в настоящем кино.
Решили на первый сеанс пригласить нашу новую знакомую из райкома комсомола Наташу Ромашову. Кинулись к забору, но ничего разобрать нельзя. То ли ветер, то ли дождь слизнул телефон Наташи, записанный кирпичом.
— Пойдемте сами в райком,— предлагает Лидочка.— Я знаю, где это.
— Не всем же идти,— говорит Лева,— одни будут зал готовить, другие аппаратуру. Мишка не стрижен, Женька заикается. Славка даже не пионер. Идите уж вы с Лидочкой.
Меня причесали, Мишка одеколон принес. Побрызгали. И вот мы с Рыжиком бодро идем в райком комсомола. Прошли Плющиху, потом перешли Зубовский бульвар. Там за оградой райком.
Чем ближе к цели, тем все медленнее я иду.
— Ну, что ты отстаешь?— сердится Лидочка.— Боишься? Нет, я не боюсь. Просто как-то волнуюсь. Ведь мы идем в самый комсомольский штаб. А мне до комсомола еще года два. Как часто мы видели в школе комсомольцев.
Когда они проводят в своих классах комсомольские собрания, мы подолгу подслушиваем у дверей, что там делается.
Это очень интересно. Друг друга они солидно называют «товарищ». У них на собрании выбирается старший. Он часто всех спрашивает: «Кто «за»?» и «Кто «против»!» Если кто-либо с чем не согласен, он может быть «против».. И его обязательно все выслушают, с его мнением считаются.
Они часто собираются все в кино или уходят в далекие лыжные походы. Это они устраивают в школе для нас, малышей, спектакли про гражданскую войну, или вдруг выпустят такую веселую стенную газету, что мы толпимся около нее все переменки, забыв про беготню и школьные завтраки. А какие песни они поют на демонстрациях!
Как-то после уроков они заперлись в самом большом классе. На дверях объявление: «Закрытое комсомольское собрание. Повестка дня: 1) итоги первой учебной четверти; 2) персональное дело комсомольца П. Тюрина».
Мы, конечно, уши к дверям. Тихонько слушаем. Вдруг дверь открылась и нас прогнали, да еще выставили снаружи дежурного. Мы уселись на подоконнике в коридоре, ждем, что будет дальше.
Долго сидели. И вот выходит этот самый Тюрин. Он в школе горнистом. Всегда на демонстрациях впереди с горном ходил. Рядом с самим директором школы.
Вышел Тюрин в коридор, голову вниз и бредет в дальний угол. Сел там на батарейку, в окно смотрит. Только плечи у него вздрагивают. Мы на цыпочках приблизились. Он услышал, повернулся к нам, мы хотели бежать, но остановились. Видим, на глазах у него слезы. Говорит тихо-тихо: Ну вот, ребята, отгорнился я. Из комсомола исключили Отвернулся к окну, лицо спрятал в ладонях, и опять задрожали его плечи.
Знать, большое это дело — комсомол, если даже горнист и тот заплакал.
И вот сейчас вместе с Лидочкой мы идем в самый главный комсомольский штаб нашего района. Зашли за белую ограду, здесь в зелени аккуратный домик. Кругом на дорожках чистота. У входа строгая стеклянная вывеска с комсомольским значком.
Я потоптался, осмотрел свои босые ноги, тронул Рыжика: Подожди меня здесь, я мигом домой. Только ботинки обую.
Вернулся уже в ботинках. Рыжика нигде не видно. Поднялся на ступеньки, заглянул в дверь. Народу в коридоре полно. Все большие. Стоят у подоконников группками, о чем-то громко говорят, смеются. И у всех комсомольские значки.
А вот ребята вроде меня, только чуть постарше. Эти стоят робко. Очень чистенькие, в праздничных костюмах, беленькие воротнички рубашек навыпуск, словно пришли на первомайскую демонстрацию. Только не видно у них комсомольских значков. Друг друга тихонько спрашивают, будто проверяют:
— Что такое нэп?
— Какое правительство сейчас в Испании?
— А когда погиб Чапаев?
Молчат, друг на друга смотрят. Я не удержался, подсказал:
— Пятого сентября девятнадцатого года.
На меня все посмотрели.
— И тебя принимают?— неуверенно спросил меня коротко стриженный, круглолицый паренек в вельветовой куртке.
— Нет, я так просто.
— А нас вот всех сейчас,— кивнул паренек на друзей.—. Страшно. Я весь нервничаю. Не знаешь, где тут туалет?
Открылась дверь напротив. Рыжик выглянула:
— Алеша, ну где же ты? Заходи.
В комнате у открытого окна сидит Наташа Ромашова. За столом еще две девушки. Запуталось солнышко в волосах Наташи, белую блузку просветило, бегает по телефонной трубке. Наташа в трубку кому-то обещает:
— Да, обязательно буду. Сейчас выезжаю.
— Не может Наташа,— шепчет мне Рыжик,— уезжает в Дом пионеров.
Наташа повесила трубку, виновато улыбнулась:
— В другой раз, Алеша, а сейчас не могу. Мне Лида уже все рассказала. Да где же ты был-то?
Я молчу, ботинки рассматриваю.
— Мы вместе сюда дошли,— трогает меня Лидочка,— а потом он застеснялся, убежал вот эти ботинки обувать.
Все в кабинете молчат. Головы от столов подняли, меня рассматривают.
— Ах, вот как,— вдруг серьезно говорит Наташа и задумывается,— тогда пойдем на вашего «Чапаева». Катя просит она одну из девушек,— давай-ка в Дом пионеров. Все тебе ясно?
Девушка понимающе улыбается, выходит из-за стола. Прошла к двери, мою прическу потеребила:
— Эх, ты, Алешка-лепешка.
Наш киносеанс начался. Для Наташи газету подстелили.
Славик незаметно сзади мух отгоняет. От сырых стен подозрительно пахнет одеколоном.
Мы стараемся изо всех сил. Далее хором затянули чапаевскую песню «Ревела буря, дождь шумел…» В темноте не так стыдно. Можно и хором. Визжал, как настоящий поросенок, Славик, булькала вода, бил пулемет, и свистели пули.
Кино окончилось. Открыли дверь во двор, ждем, что скажет Наташа.
— Очень все интересно,— говорит она.— Просто одно удовольствие.
Мы засуетились:
— Можем еще раз. Все сначала.
— Нет, нет,— заторопилась Наташа,— я уже все усвоила. Мы выходим во двор, усаживаемся на нашей скамейке.
— Еще кадриков найдем, будет совсем хорошо,— обещает Лева.— Придете?
Наташа интересуется, где мы достаем кадрики. Все ей рассказали.
— Чудаки,— возмущается она.— Ведь это же помойка. Вы хоть помыли ваши кадрики?
— Нельзя водой, эмульсия слезет,— научно объясняет Лева.
— Ну, тогда попросите у механиков.
— А кто нам даст? Костя из «Кадра» в отпуске, а других мм не знаем.
Наташа что-то записывает в свой блокнот, говорит:
— Я позвоню в кинотеатры, клубы нашего района. Будут вам кадрики.
Мы переглянулись, подтолкнули друг друга, но орать «ура!» и «банзай» не стали. Все-таки сейчас неловко. Только один Славик сказал: Мировецки!
А как дела с хоровым кружком? Помните?— спрашивает Наташа.— Я заходила в музучилище. Сейчас там каникулы. Осенью обещают помочь.
— Плохо у нас с этим,— бухнул Женька.— Не получается, в темноте еще петь можно, а днем противно.
Наташа смеется:
— Ну, раз так, лучше не будем. Беремся за кино. Идет?
Откуда-то появился Жиган. Видит нас, не спеша направляется к скамейке.
— Мое вам с кисточкой,— снимает он кепочку-малокозырку.— Что нового в Голливуде? Боевики «Труп на небоскребе» или «Я убил ее, но, кажется, зря»? Так?
Мы не отвечаем.
— Вот смотрите мое кино,— говорит Жиган. Он усаживается с краю, достает нож, кладет на скамейку руку с растопыренными пальцами и начинает тыкать ножом между пальцами. Ему хочется проделать это очень быстро, но он боится.
Лидочка закрывает глаза, отворачивается:
— Сумасшедший! Так можно по пальцу.
Жиган бледнеет, губы у него дрожат, он подбадривает себя дикими криками, но нож по-прежнему тычется между пальцами, медленно и с выбором.
— Ну-ка, дай мне,— вдруг говорит Наташа. Жиган часто моргает, протягивает ей нож.
— Смотри,— спокойно говорит Наташа и кладет руку на скамейку.
Все быстрее и быстрее стучит нож между ее пальцами. Вот уже не видно стального лезвия. Над пальцами сплошное ослепительное сияние.
Мы не дышим.
Наташа закрывает нож, вкладывает в руку обалдевшего Жигана.
— Как это вы, гражданочка?
— Очень просто,— поправляет Наташа волосы.— В детдоме научилась.
Жиган сидит так, словно его дождик намочил.
— А что вы еще умеете? Например, свистеть?
Наташа заложила в рот два пальца, и сразу откуда-то в панике взвились над двором воробьи.
— А еще?— шевелит Жиган отвисшей челюстью.
— А еще в другой раз,— встает Наташа.— До свидания, ребята, заходите ко мне в райком комсомола,— прощается она с нами. Жиган тоже подает руку, челюсть по-прежнему его не слушается.
Уже давно захлопнулась калитка за Наташей, а Жиган все смотрит то на ворота, то на скамью со следами ножа, цокает языком:
— Из райкома комсомола! Надо же! Коломбина! Сильва! Жанна дАрк! Дуся и Маруся Виноградовы!
Во двор заглянул участковый дядя Карасев. Увидел Жигана, подошел, встал напротив, руки за спину. Жиган смотрит куда-то сквозь него, бормочет:
— Из райкома! Сказка, а не девушка. Василиса прекрасная. Красная шапочка.
— Справку взял?— хмуро спрашивает дядя Карасев. Жиган перестает бормотать, оглядывается и, кажется, только сейчас замечает участкового.
— Ах, справку? Пожалуйста. С печатью.
Он достает бумажку, показывает всем, читает вслух:
— Дана ученику слесаря…
Дядя Карасев похвалил Жигана. Тот сплюнул, сказал, вставая:
— Ну их всех к черту! Запишусь в комсомол, в ячейку.
* * *
Прошло еще несколько дней. Наташа выполнила обещание. .в «Кадре», в клубе «Каучук» и в других кинотеатрах для нас специально механики оставляли обрезки пленки.
Раза два забегала Наташа, торопливо смотрела кино, Хвалила нас и так же быстро исчезала.
В последний раз она задумчиво сказала:
— Ну что же, у вас люди на экране не двигаются. Надо бы свой, настоящий киноаппарат построить.
У меня вдруг запрыгали в голове те самые вкусные названия деталей, о которых нам рассказывал Костя.
— Достанем чертежи самодельного аппарата, и начинайте,— говорит Наташа.— Железок во дворе сколько хочешь.. Пилить, паять научитесь. Вот вам и аппарат. У нас в детдоме ребята такой сами делали.
Сказала и ушла. Словно зернышко в землю бросила. И нет у нас теперь покоя. Ведь это же чудо! Свой киноаппарат! Достаем целую часть от какой-нибудь картины и показываем кино прямо во дворе на простыне. Люди на экране двигаются как живые. Лариска прямо из окна будет смотреть. Дядя Карасев придет в парадной форме, станет уговаривать зрителей не толпиться, спокойно занимать свои места. Ларискин отец, наверное, тоже придет и потом у себя дома сделает открытие:
— Смотрите, какой умный мальчик, а я-то думал…
Моя мама всем скажет:
— Ну, вот, а вы говорили, что, мол, безотцовщина. Нонка распрощается со своим студентом:
— Вершина человеческого ума — это кинотехника. Пламенный привет!
Со всех дворов улицы будут к нам приходить ребята, почтительно здороваться и тихо сидеть во время сеанса.
Мы будем проходить по Плющихе, а нам вслед оглядываться прохожие, говорить:
— Смотрите, смотрите! Эти те самые, что построили свой киноаппарат,
Может быть, про нас напишет «Пионерская правда», и тогда тысячи людей станут ломиться в наш двор, чтобы посмотреть кино и своими руками дотронуться до его создателей.
А что будет в нашей школе! Например, вызвали к доске. Мы ответим заданный урок, а потом так, между прочим, начнем чертить на доске схему настоящего киноаппарата со всеми барабанами, эксцентриками и мальтийским крестом.
Учителя в замешательстве заглядывают в научные справочники, хлопают в ладоши, вытирают слезы и дрожащими руками выводят нам сверхотличные оценки.
— Ах, как мы были к ним несправедливы,— говорят они хором.
Директор школы в физкультурном зале произносит речь, октябрята изнывают и ждут той минуты, когда пора преподносить букеты.
Среди зрителей в нашем кино я, конечно, не замечаю Лариску, то есть замечаю, но не подаю вида. Она будет то и дело отрываться от экрана, оглядываться на меня, но я никакого внимания, кручу себе ручку аппарата, и все.
Она будет смотреть на меня умоляющими глазами, и яркий свет из аппарата охватит ее встревоженное, в слезах лицо, но я останусь холодным и неприступным. Я буду улыбаться Рыжику и вести с ней около аппарата специальный технический разговор. Вроде:
— Пожалуйста, Лидочка, подверни объектив и увеличь обороты.
И тогда Лариска, рыдая, выйдет, из кино, а я, немного помедлив, последую за ней. И где-нибудь около ее парадного она обернется и, задрожав, спросит:
— Алеша, это ты?
— Да, скажу,— это я.
А что делать дальше, я пока не знаю, может быть, погладим друг друга по голове.
Я бы и еще мечтал, но Лева все испортил. Словно на одуванчик дунул:
— Так что же такое мальтийский крест?
Нет, никто из нас этого не знает. Да и вообще мы пока ничего не знаем и ничего не узнаем. Вот приедет Костя из отпуска, он объяснит, он научит.

Мы сидим, решаем важные вопросы кинотехники, а Славик уже приволок две консервные банки, ручку от мясорубки и какую-то железку с шестеренкой на конце. Сложил все у наших ног, деловито заковылял прочь.
Мишка сбегал домой, вернулся с клещами. Начал вытаскивать гвозди с заборных досок. Славик рядом примостился, гвозди на кирпиче выпрямляет. Лева принес будильник без стрелок. Потряс над ухом, прислушался, положил в кучу.
— Тут полно колесиков. Может, для аппарата пригодится.
Не сговариваясь, мы с Лидочкой тоже пошли по домам. Поднялся и Женька.
Я стою посреди комнаты, соображаю, чем можно помочь развитию отечественного кинематографа. Вот мамина кровать. Она на колесиках. А куда ей ездить? Некуда. Молотком отбил все четыре колеса.
В ящике стола попалась вязальная спица, железные петли от форточки, примусная горелка, Нонкина заколка, большой старинный пятак и алюминиевый гребень. Все это я тоже принес в кучу.
Лидочка принесла шпульку от швейной машинки и ножницы. Попробовали на консервной банке — берут.
Всех удивил Женька. Принес ящик от граммофона, сплошь шестеренки, валики и колесики. Самолет можно собрать.
Пришли Гога из дом пять и его личный биограф граф де Стась Квашнин. Граф, конечно, персик мучает.
Гога ковырнул нашу кучу железа, заинтересовался:
— В утильсырье? А что сегодня в «Кадре» идет?
— Нет, это для киноаппарата,— неохотно пояснил Женька.
— Будем настоящий киноаппарат строить,— хвастается Славик,— как в «Кадре». Вот.
Гога смотрит на нас по очереди:
— Правда?
— Правда,— говорит Лидочка,— достанем чертежи и построим. Хочешь — помогай.
Он опять осмотрел нас, хмыкнул:
— Идиоты. Это же высшая математика, на заводах делают.
Мы на него никакого внимания. Следим за персиком.
— Вы серьезно? Без тре? Не бре?— крутит головой Гога.
— Без тре и без бре,— пыхтит над кучей Славик.— Честное октябрятское.
— Умора!— хватается Гога за живот.— Граф, взгляните на нищее королевство и на голого короля.
Граф взглянул и потянулся за своим блокнотом:
— Повтори, Гога, эту фразу.
Мы тоже взглянули. Граф перестал жевать персик, а Гога, отмахиваясь, попятился.
— Ну, ну. Юмор не понимаете.
Во двор впорхнула Лариска. Всем ручкой «привет!», a Гоге «привет» плюс улыбочка.
— Мальчики, что это у вас?
— Мы будем строить настоящий киноаппарат,— объясняет ей Гога.— Вот только чертежи достанем и начнем.
Я встаю, забираю, сколько могу, железок, иду к своему сараю, следом ребята.
На скамейке только Гога и Лариска.
Пришел в сарай и граф де Стась. Молча протянул мне пол персика, помялся в дверях, уселся на пороге:
— А меня примете?
— Что ты умеешь делать?— спрашивает его Лева. Граф голые коленки трет, пожимает плечами. Видно, он об этом никогда не задумывался.
— Строгать, или пилить, или железо гнуть?— подсказывает ему Женька.— Ну?
Де Стась только моргает, коленки гладит.
— Граф он. Не понимает,— сочувствует Лидочка.— Учить его надо.
— А у нас в чулане тиски настоящие есть,— вдруг ожил граф,— и персики. Принести?
— Тиски тащи,— распорядился Лева.
— А персики?
— Валяй и персики,— сказал Женька. Подумал, добавил:— Для натюрморта.
Это были великолепные тиски. Их можно привинчивать к столу. В них можно зажать и большую железку и вязальную спицу. Я принес кусочек сливочного масла. Мы обмазали винт тисков, и теперь губки ходят плавно, бесшумно.
— Вот видишь, граф, почему бывают революции,— говорит серьезно Лева,— станки должны принадлежать тому, кто на них работает.
Граф охотно согласился.
— Молодец, все понял,— хвалит его Лева.— А некоторые не понимают, и тогда начинается гражданская война. Это всем ясно?— спрашивает нас Лева.
— Всем,— отвечает Славик, старательно отрывая крылья у мухи.
Мы решили превратить сарай в настоящую мастерскую. Здесь будем строить киноаппарат. Сложили аккуратно дрова к одной стене, и теперь у нас три стенки свободные. К ним прибьем разные полочки, на них — инструмент.
Взялись за пол. Лидочка пробует его подмести веником, но ничего не получается. Грязи чуть ли не на полметра. Это гнилые щепки, кора, сопревшее тряпье, камни, ржавые листы железа, какая-то труха, битое стекло и очень много мокриц, от которых то и дело визжит Лидочка.
У тети Дуси взяли совок, лопаты, и тут уж началась настоящая работа.
Мы с Лидочкой метем рядом. Лидочка глубоко, честно поддевает лопатой мусор, прямо руками, если нет мокриц, вытаскивает камни. Она раскраснелась, лицо мокрое, руки по локти черные. Славик то и дело вытирает своим платочком ей лицо.
— Когда мы рядом,— тихо говорит мне Лидочка,— я могу работать, сколько хочешь.
Я молчу. Мы с графом выкорчевываем ржавый упрямый лист железа, и мне не до разговоров.
— Почему так бывает, Алеша?— не унимается Рыжик.
— Спроси у Левы, он все знает.
— При чем здесь Лева, я хочу, чтобы ты сказал,— шепчет мне в ухо Лидочка.— Ну, почему?
— Не знаю. Отстань.
Лидочка отворачивается и долго молча шурует лопатой. Потом я расцарапал палец, и она опять оказалась рядом. Высосала грязь с пальца, перевязала Славикиным платочком.
— Алеша, а почему, когда тебе кто сильно нравится, ты ему не нравишься?— снова шепчет Лидочка.
Я задумался. Это верно сказано. Так же у нас с Лариской. И почему так в жизни устроено? Вон она сидит на скамейке рядышком с Гогой. И ни разу не взглянула на сарай. Я даже пробовал петь про трех эсминцев, но опять она никакого внимания.
— Ну, куда ты все смотришь?— сердится Лидочка, подставляет совок.
— Ой, Лидочка!— вдруг заорал я.— Крыса! Лидочка завизжала, бросилась за дверь.
Теперь стало работать лучше. Можно копать и сколько хочешь смотреть на скамейку.
Наконец мы добрались до твердого грунта. Все подмели. Натаскали желтого песку, посыпали пол. Потом Лева принес из дома разных газет, и мы ими обили стены сарая. Получилось очень красиво и уютно.

Мы сидим посредине сарая и любуемся нашей работой. На скамейку я не смотрю, она давно пустая.
— Хорошо,— вздыхает граф де Стась.
— Это тебе не Гогины высказывания записывать,— говорит Лева,— это, брат, настоящий труд!
— Мировецки,— говорит Славик, разглядывая сарай сквозь цветное стеклышко.
Газеты на стенах вдруг наполнили сарай удивительной бурной жизнью. С фотографий на нас смотрели люди в шахтерских касках, пограничники в шишкастых буденовках, бородатые, в зимних шапках полярники. И очень мужественные летчики с лямками парашютов на груди.
Вокруг нас за тонкими стенами сарая бурлила интересная, увлекательная жизнь. Вот на снимке мускулистые люди забивают в шпалы костыли, а вот падает вода с высоты огромной плотины. Прямо на нас движется колонна тракторов. А рядом на другом снимке раскалывает льдины сильный ледокол.
Все кругом работают. Приятно, что и мы сегодня устали от работы. Откуда-то сверху заползла в сарай Ларискина песня:
Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась…
— Глупости,— говорит, поморщившись, Лева. Мы поняли, о чем он, и молча согласились.
Меня толкает Женька, показывает головой на дверь. Смотрю, а во дворе на нашей скамейке сидит с книжкой Бахиля. Мы очень удивились: Бахиля и с книжкой!
— Надо же,— ухмыляется Лева,— наконец-то вырулил.
Мне почему-то жалко Бахилю. С ним никто не дружит, никто к нему даже не подойдет. Говорили, что после той истории с конфетами отец сильно его избил тросточкой и строго-настрого запретил выходить за порог. Лидочка с ним соседка и каждый день слышит, как отец кричит на всю квартиру:
— Если у меня сын вор, кто же теперь придет ко мне лечить зубы?! Парадокс!
— Бахиля,— решаюсь я,— иди сюда!
— Да зачем он тебе?— говорит Мишка.— Ну его! Бахиля смотрит на сарай, заметил нас, закрывает книжку, медленно встает, хочет исчезнуть.
— Иди, не бойся,— пищит Славик,— не тронем!
— Да зачем он тебе?— шипит Мишка.
— Пусть поможет принести железку, что около помойки,— соображаю я,— будет у нас наковальня.
Бахиля подошел, тихо поздоровался, прислонился к косяку двери.
— Ну-ка,— говорит Лева,— покажи, что читаешь?
На обложке книги значится: «Современная кинопроекционная аппаратура».
Мы притихли, нам просто нечего сказать. Лева подозрительно оглядывает Бахилю, подмаргивает:
— Это ты нарочно?
— Почему нарочно?— обижается Бахиля.— Интересуюсь, и все.
Накинулись на книгу. Листаем. От чертежей, рисунков, разных таблиц зарябило в глазах. Мы подавлены.
— А ты что-нибудь понимаешь?— с надеждой спрашивает Женька Бахилю.
— Ничего,— смеется Бахиля,— а вы?
— И мы ничего.
Лидочка тянет к себе книгу, не соглашается.
— Почему не понимаем? Мы все понимаем. Вот написано «ведущий барабан», а это его номер, а стрелка показывает, где он. А вот и он.
Мы рассматриваем этот барабан. Он вроде обыкновенной катушки, только с зубчиками.
— Объектив,— читает дальше Рыжик.— А вот его номер и стрелочка. Пожалуйста, смотрите сюда.
Все рассматриваем объектив. Почти такой же, как и у нас в коробке из-под печенья. Трубка с линзами ходит в другой трубке.
— Мальтийский крест!— заорал Мишка.— Вот он!
Так вот ты какой, мальтийский крест! Вроде старинного ордена. Его мы видели в кино «Чапаев» на груди у белого полковника. Обидно, что такой хороший крест и белогвардейский.
— Где книгу достал?— спрашивает Лева.
— К отцу клиент из кино ходит. Инженер. Я попросил. Он принес.
— Давай дружить,— предлагает Женька и смотрит на меня.— Верно, Алешка?
— Конечно,— говорю я.— Книжка нужная. Пойдем, Бахиля, притащим в сарай ту штангу.
Мы идем к помойке, где лежит эта самая штанга. Славик пыжится приподнять ее за конец, Бахиля буркнул:
— Куда тебе. Катись.
Мы подняли штангу, несем в сарай. Мне видно, как высоко старается держать Бахиля эту тяжелую железяку.
Уже темно во дворе. Из окон домов выглядывают во двор головы родителей.
— Миша, домой!
— Женя! Скорее, папа арбуз принес.
— Стасик! Опять ты с этой компанией! Марш домой! Меня тоже зовет мама. Прощаясь, я спрашиваю Лидочку:
— Признайся, ты Бахиле рассказала про наше кино?
— Я,— виновато мнется Рыжик.— А что, не надо было?
— Молодец, правильно сделала,— решаю я.— Ну, пока!
— Алеша,— удерживает она мою руку,— так почему же, когда тебе кто очень нравится, то ты ему — нет?
— А ты сделай так, чтобы он тебе меньше нравился,— запросто советую я,— тогда все наоборот получится.
— Не могу я,— тихо говорит Рыжик и уходит. Потом вдруг из темноты кричит:— Алешка! Ну и осел же ты! В зоопарке клетка пустует.
— Попробуй только завтра выйти во двор,— грожу я.— Рыжая.
На занавеске Ларискиного окна танцуют тени. Патефон на весь двор хвалится:
Все хорошо, прекрасная маркиза, И хороши у нас дела...
Дома у нас гость. Нонкин студент. Чай прихлебывает из подарочной маминой чашки. (Косте подавали простой стакан.) На столе наш альбом с фотографиями. Студент подносит снимки к очкам, то и дело спрашивает:
— А это кто идет рядом с вами?
— Это? Мой одноклассник.
— А вот это?
— Это мы с тренером на катке.
— Гм, гм… А это?
— Это киномеханик из «Кадра» — Костя.
— Однако… А вот это кто?
— Это мы на пляже в Серебряном бору.
— А кто рядом?
Ах, это. Так просто. Родственник один.
Гм… Родственник.,. А рука как-то у него… Знаете, как-то неудачно получилась.
Я выбрал фотографию Кости, полюбовался, положил сверху. Студент опять ее сунул под низ. Я снова положил сверху. Студент смотрит на меня долгим взглядом.
— Ну, молодой человек, как учитесь? Какие отметки?
— Да как вам сказать…
— Можно в стихах,— вежливо улыбается студент.
— Алеша, спать,— выручает меня мама из-за занавески.. Я развожу руками: мол, ничего не поделаешь, дисциплина — и ухожу.
Засыпаю под бормотание студента:
— А это кто? Ух, какое у него примитивное лицо… А это? Никакого интеллекта… Скажите, Ноночка, почему так бывает? Вот, допустим, один человек сильно любит другого. А тот, другой, его обязательно любит меньше? И наоборот. Какое-то несоответствие. В чем дело?
Я насторожился. Надо же! Кругом одно и то же,
Голос Нонки:
— У Пушкина об этом хорошо сказано.
— Но то была другая эпоха… Мама заворочалась в постели:
— Нона, заведи будильник. Мне завтра в первую смену.
Скрипит пружинка будильника. Хлопнула дверь. Все тихо. Только чуть слышно, как во дворе кому-то жалуется патефон:
Сердце, тебе не хочется покоя,-
Мне не спится. Так и представляется, как танцует Лариска с Тогой. Наверное, там еще девчонки, Ларискины подруги и ребята из Гогиного дом пять. Мать Ларискина, Евдокия Ивановна, конечно, всем чай разливает, а папа патефон подкручивает. Потом они садятся за стол. И этот пижон Гога, наверное, всем объявляет, что он пойдет мыть руки. А Лариска ему полотенце чистое подает. Противно.
Потом, наверное, Гога хвалится велосипедом и своим отцом, знаменитым адвокатом. А когда он капнет на скатерть вареньем, то Лариска и ее мать, конечно, суетятся:
— Ах, ничего, ничего. Отстирается.
После чая опять будут танцевать. И ее папа, наверное, толкнет маму:
— Посмотри-ка на них!
А потом Гога начнет читать свою поэму про полярников.
Как-то у нас в школе был вечер, посвященный покорению Северного полюса. Гога написал поэму. Она называется «Ледяная симфония». Он здорово расписал темные ночи, вой медведей и Большую землю, чья горячая любовь «за тысячу верст согревала челюскинцев».
Когда он прочел свои стихи, мы захлопали, а Лариска кричала «бис!», крутилась на стуле, ко всем оборачивалась:
— Это он сам сочинил! А мне в альбом еще лучше написал. Классик!
Из школы мы идем все вместе. Лариска вплотную с Го-гой, а мы почтительно рядом. Шагаем, слушаем.
— Вообще-то им такую поэму не стоило посвящать,— говорит Гога.— Они там государственный ледокол утопили, а мы кричим «ура!».
— Да ты что? Они же герои,— торопится Женька,— они же на льдине жили.
— Странно,— пожимает плечами Гога,— а куда же им еще деваться? Боролись за свою жизнь, и все.
Мы даже остановились, не знаем, что сказать.
— А почему же ты об этом в поэме не написал? Гога смеется. Смеется и Лариска:
— Чудаки!
— Детский сад!
Дома за чаем я рассказываю о Гогиной поэме и говорю маме, что челюскинцы никакие не герои, они государственный ледокол утопили.
— Сам додумался?— вмешивается Нонка.
— Нет, Гога объяснял.
— Значит, все кругом называют челюскинцев героями, только твой Гога против?— прищуривается Нонка.— Так?
— Ну, так,— соглашаюсь я.
— Значит, они ледокол утопили?— наседает Нонка.
— Тише вы, политики,— косится на окно мама.
— Дурак твой Гога,— заключает Нонка.
— Нет, он умный. Он много знает.
— Много знает, да мало понимает.
— А это не все равно?
Нонка прихлебывает чай, задумывается. Я смотрю на маму. Она качает головой, улыбается каким-то своим далеким мыслям:
— Нет, сынок, это не одно и то же. Я в жизни видела… Вот сейчас он, наверное, читает эту свою поэму, и все слушают. Лариска тоже.
А что хорошего в этой Лариске? Так себе, ничего особенного нет.
Вот в школе на литературе мы разбирали образ одного героя. Я взял в тетрадке провел линию. И выписал с левой стороны все отрицательные качества, а с правой — положительные. Положительных набралось больше. Значит, герои хороший человек.
Необязательно нужно выписывать в тетрадке. Можно и на руках. В темноте это удобно. Пальцы на левой руке — отрицательные качества, а на правой — все хорошее.
Начал с левой руки:
Поет Плохо — раз.
Мышей боится — два.
На правой ноге большой палец картошкой — три.
«Красных дьяволят» не читала — четыре.
Когда играет в пряталки, то жулит — пять.
На меня не смотрит — шесть.
Перешел на правую руку:
Косы белые — раз.
Учится на «отлично» — два.
На гитаре играет — три.
Красивая, зараза,— четыре.
Знает, как звали лошадь какого-то Вронского. «Фру-фру» — пять.
Танцевать умеет — шесть. Кажется, все. Шесть на шесть. Вернулась Нонка, погасила свет, улеглась.
— Нона,— шепчу я,— ты не спишь?
— Чего тебе?
— Научи меня танцевать.
…Утром разбудил почтальон. Нонка кричит:
— Алеша, тебе пакет! Распишись.
Я рывком на кухню. В самом деле на столе пакет, почтальон карандаш сует в руки. На пакете наш адрес, только нет номера квартиры. Внизу крупно написано: Алеше Грибкову, а вверху напечатано: «Киевский райком комсомола».
Нонка пакет не дает, на свет смотрит, осторожно надрывает. Выпал большой лист. На нем чертеж. У угла написано: «Самодельный широкопленочный кинопроектор».

— Фу, какая чепуха!— говорит Нонка.
Я уже во дворе. Выбежал на середину, два пальца в рот, чертеж над головой.
Высунулись ребячьи головы и, конечно, намыленный Ларискин отец.
— Есть чертеж самодельного аппарата!— ору я. Подошла тетя Дуся, потрогала чертеж, подозрительно спросила:
— Самогонку гоните?
Мы сидим на скамейке. Чертеж на коленях подпрыгивает.
— А где же тут мальтийский крест?— трет затылок Лева.
И в самом деле нигде нет мальтийского креста.
— Чем же лента передвигается?— спрашиваем мы друг друга.
Лева водит пальцем по чертежу, бормочет:
— Обтюратор есть, барабаны есть, это осветительная часть, вот фильмовый канал, объектив, бобины, две конических шестеренки. А вот написано: «грейферный узел». Что это? Зачем?
— Крючки какие-то,— говорит Женька и показывает два согнутых пальца. Лева смотрит на Женькину руку, задумывается.
— А ну-ка, сделай еще,— просит он Женьку.— Алешка, тащи нашу пленку!
— Чаю хоть выпей,— говорит дома Нонка.
— Ноночка, некогда,— кричу я.— Дай я тебя поцелую.
— Тьфу, сумасшедший.
Лева пристроил пленку к согнутым Женькиным пальцам. Заставил Женьку водить рукой вдоль пленки сверху вниз.
— Понятно!— кричит Лева.— Вот этими лапками грейфер протягивает пленку. И не нужен мальтийский крест! Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
— Мировецки!— подбрасывает Славик свой картузик с пуговицей.
Из Ларискиного парадного выходит с портфелем ее отец. Остановился, разглядывая нас, нахмурился, идет к скамейке.
— Молодой человек,— говорит он мне,— это просто хулиганство по утрам бандитским свистом пугать весь двор. Я заявлю участковому. Вот так. Твоя фамилия Грибков? Очень хорошо!
Сказал и пошел к воротам, размахивая портфелем.
— Семь,— загибаю я палец на левой руке.— Отец у нее вредный.
— Чего семь?— спрашивают ребята.
— Так просто. Отрицательных больше. Все ясно.
Женька крутит пальцем около моего виска:
— Нельзя тебе, Алешка, сидеть на солнце. Вышла Нонка, подозвала:
— Сейчас по радио хорошая музыка. Идем учиться танцевать.
— Теперь уже не надо,— говорю я.— Отрицательного больше.
— Чего больше?
— Отрицательных качеств больше. Героиня, конечно, не положительная. Все кончено. Ее забыть.
Нонка пожимает плечами:
— Я же предлагала тебе чаю. Вот теперь мучайся.
* * *
И опять мы прилипли к чертежу. Путают нас пунктирные линии и всякие разрезы по линиям «АВ» и «ВС». Просто не разобраться в них. Сейчас детали на чертеже мы обводим пальцами. Это нетрудно. Настанет день, когда эти же детали мы сможем потрогать руками, соединить их, привести в движение. Но когда этот день настанет, никто из нас не знает. Сколько еще ночей мы будем спать на наших простынях, пока на одной из них вспыхнет яркий свет, задвигаются люди, поезда, корабли, поскачет на коне Чапаев.
Пришла Лидочка. Молча уткнулась в чертеж, поежилась:
— Ой, мальчики, сколько тут всего. Справитесь?
— Здесь клятва нужна,— тихо говорит Лева.
— Какая клятва?
— Ну, что мы не отступим.
— Правильно,— говорит Женька,— давайте поклянемся.
— А как?— подняла бровки Рыжик.
— Нужно землю есть,— угрюмо предлагает Лева. Рыжик огляделась, поморщилась.
— Грязная она.
— Это даже лучше,— говорит Лева,— запомнится. Давайте клятву напишем. Славик, тащи карандаш и бумагу.
Вот она, наша клятва:
«Я клянусь в том, что отдам все свои силы на то, чтобы построить настоящий киноаппарат. Строить его буду каждый день.
Уважительные причины, когда я не стану работать:
1) Температура выше 38 градусов.
2) Отъезд в гости (если заставят родители).
3) Не выпускают из дому.
4) Пожар, наводнение, землетрясение.
Клянусь в том, что все деньги на мороженое, на кино буду отдавать на постройку аппарата».
Мы все подписались под этой клятвой и приступили к земле. Так она ничего, только очень скрипит на зубах.
— Хватит,— удерживает нас Лева.— Обрадовались..
— С чего же начнем?— спрашивает Женька.
— Конечно, с инструмента и сырья,— очень солидно говорит Лева.— Организуем экспедицию по берегу Москвы-реки, поближе к заводам.
— Что такое экспедиция?— спрашивает Славик,
— Экспедиция?— задумывается Лева. Мы все с надеждой смотрим на его голову. У Левы мать библиотекарь, она часто приносит ему самые диковинные книги, а потому у Левы в голове настоящее справочное бюро. Он знает все, и что такое Трансвааль, за что воевали отважные буры, откуда получилось слово «хулиган» и даже, где у человека почки и зачем нужна печень?— Экспедиция?— переспрашивает Лева и трогает очки.— Это когда люди куда-то собираются, очень далеко и в полном снаряжении. Вот была такая экспедиция Георгия Седова на Северный полюс. Еще до революции.
Лева любит об этом рассказывать. Как-то мать принесла ему книгу про полярника Седова, но в этой книжке не было последних страниц. Кто-то их оторвал. И тогда Лева придумал свой конец. Он достал тушь и пером печатными буквами надписал внизу под последней страницей: «Вперед,— сказал Седов.— И судно, вздрогнув, утонуло».
А потом Лева придумал рассказ о том, что стало дальше с затонувшим экипажем. Будто бы встает холодное полярное солнце, греет льды океана, прогревает своими лучами толщу воды и на самом дне океана согревает спящих матросов. И вот начинают ворочаться матросы, открывают глаза и встают. Потом друг за другом идут они по дну океана следом за своим капитаном, все вперед, все вперед к полюсу, сжимая в омертвелых, холодных руках флаг земли русской.
— Понимаете, Седов не знал, когда он достигнет цели,— говорит Лева,— он даже не знал, останется ли кто из экипажа в живых, но все же отдал команду: «Поднять якоря!» Вот так и мы с сегодняшнего дня отдали команду: «Поднять якоря!» Впереди у Седова полюс, а у нас киноаппарат. Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
— Мировецки!— подмигнул всем нам Славик.
Мы идем по берегу. Нефтяные пятна, словно маленькие радуги, покачиваются на воде, неподвижно сидят с удочками сгорбленные рыбаки. Около них босоногие стайки мальчишек. Им, наверное, делать нечего. А вот двое в воде учатся водолазному делу. Один сидит верхом на другом и громко считает, сколько тот пробудет под водой. Так и мы когда-то делали. Ничего особенного. Пустая затея.
Все радужнее и темнее вода в реке. Это значит, что мы приближаемся к большому заводу. Здесь работает Левин отец.
— Вон в том цехе,— гордо показывает нам Лева. Мы с уважением смотрим на красное каменное здание, где даже днем горит свет и слышится мощный машинный гул. Где-то там стоит у станка отец Левы. Так и хочется остановить любого прохожего и сказать:
— Вы знаете, вот в том цехе работает его отец. А мы все с одного двора.
— Покричи ему,— просит Мишка. Лева складывает руки рупором:
— Па-па! Па-па!
В окне показалась чья-то голова, кивнула нам и исчезла.
— Видели?— как-то вдруг сверху посмотрел на нас Лева.— Рабочий класс! Главнее на свете ничего нет,
— А летчики?— настораживается Мишка.
— А что летчики без самолетов сделают?
Мы все соглашаемся. Конечно, без рабочего класса нигде не обойдешься. Даже рыболовный крючок и то сам по себе не сделается.
Лева ведет нас к забору. Здесь есть дырка. Только лезть нужно очень осторожно, потому что кругом колючая проволока.
Рыжик оглядывает свое платьице:,
— Я лучше подожду вас. Мы полезли.
Вот это завод! Прямо по двору укутанный в белый пар ходит настоящий паровоз с платформами, краны на цепях проносят по воздуху целые станки. Тут же рядом огромные горы металлических стружек, кругом свалены в кучи почти не ржавые разные железки, гайки, прутья, сломанные напильники, сверла. Выбирай, что хочешь.
Мы нагрузились железками и по дороге к дому рассказываем Рыжику про этот завод. Славик говорит, что он видел, как из одного цеха выруливали готовые аэропланы, из другого выезжали новенькие бронепоезда, а паровоз вез платформы с настоящими саблями и пулеметами.
Лева покосился на Славика, потрогал его затылок, но ничего не сказал. Промолчали и мы. Все-таки приятно, что отец нашего Левы работает на таком заводе.
Всю нашу добычу сложили в сарае, сидим, любуемся.
— А теперь по домам за инструментом,— предлагает Женька.
— У кого что есть, тащи все сюда.
Дома я перевернул все ящики, все коробки и нашел рубанок, щипцы для сахара, шило, масленку от швейной машинки, Нонкину линейку.
В нашем сарае появились зубило, молоток, коловорот, ножовка со сломанным лезвием, напильники без ручки, веник, кусачки и даже кисть с желтой краской.
Мы распределили работы. Мне досталась бобина, вроде большой катушки, куда наматывается лента. Я выбрал большую консервную банку, разрезал ее Лидочкиными ножницами и начал выпрямлять молотком.
Сразу начались неприятности. От молотка на железе по чему-то остаются следы. А нужно, чтобы было все гладко.
— Иди в дом пять,— советует мне Лева,— там кровельщики чинят крышу. Посмотри, как у них получается.
В дом пять меня встретил Гога. Он возился со своим велосипедом, попросил помочь ему натянуть цепь. Я помог.
Мы поочередно катались по двору и даже проехались по Плющихе, и мне удалось обогнать трамвай. Потом я пошел к кровельщикам и, к немалому удивлению, обнаружил, что они работают с железом деревянными молотками.
— Где ты все шатаешься?— строго спросил меня Лева. Я рассказал про велосипедное катание и про то, как я обогнал трамвай.
— Так не пойдет,— хмурится Лева,— нужно, как на заводе.
— Знаешь, что нам нужно?— оторвался от тисков Мишка.
— Что?— спрашиваем мы.
И Мишка, отчаянный сорванец Мишка, произнес слово, которое я всегда с трудом выговариваю.
— Нам нужна дисциплина.
Мы переглядываемся, с интересом, даже со страхом рассматриваем Мишку.
— Да, да, дисциплина. Как у летчиков.
От такого слова я не сразу соображаю, из чего мне сделать деревянный молоток.
Мы все работаем, а Лидочке делать нечего. Веник, который она принесла из дому, сейчас сиротливо стоит в углу. Ведь подметать надо после работы.
Славик нашел занятие: выдергивает гвозди из заборных досок. Он принес и такой гвоздь, который не поместился в его коробке из-под папирос. Мы распрямили этот гвоздище, почистили шкуркой, получилась отличная ось для бобины.
Вдруг во дворе какой-то шум, крики, Женька выглянули сейчас же прикрыл дверь. Мы смотрим в щелки, видим — на землю словно снег выпал и около мечется Ларискина мать.
— Ты где взял гвоздь?— спрашивает Женька оробевшего Славика.
Славик морщится, переминается:
— Ну, там… .
— Где там?
— Ну, к нему веревка с бельем была привязана. Лева отобрал у Славика клещи, сунул в руки гвоздь:
— Иди и прибей как было. Не будем портить отношения с туземным населением.
Мы молча смотрим на гвоздь. Уж очень он хороший. Я беру шкурку и снова тру его. Он блестит еще сильнее. Провел по нему кончиком масленки, и гвоздь солидно залоснился, прямо готовая деталь к аппарату.
— Ладно уж, оставь,— смирился Лева.
Крики во дворе затихли. И опять наш сарай наполнился грохотом молотков и визгом напильников. Я кромсаю вторую консервную банку. Из первой диска для бобины не получилось. Оказывается, нужно обводить круг не с помощью тюбетейки, а циркулем.
Лидочка принесла в сарай портрет Лермонтова, прибила его на стенку. Славика смутили погоны, он спросил:
— А Лермонтов за нас?
Лева объяснил ему, кто такой был Лермонтов, а Мишка подкрепил его рассказ стихотворением Пушкина «Зима, крестьянин торжествуя…»
Славик заявил, что теперь ему все понятно.
Мы посмотрели на дату рождения и смерти великого поэта, подсчитали, сколько он прожил, и решили, что у нас еще есть время стать знаменитостями.
В дверь просунулась голова Жигана. Повертела во все стороны, нехорошо засмеялась, подмигнула Лидочке:
— Славную малину оборудовали. Кровать еще сюда. Мы молчим. Женька за молотком потянулся, я сжал напильник.
— Ну-ну! Уж и пошутить нельзя,— чуть прикрыл дверь Жиган.— Бахиля не заходил?
— Что тебе от него нужно?— хмурится Лидочка.
— Имею интерес,— хлопнул Жиган дверью.
С дисками для бобины я справился. Работу все похвалили. Теперь остается сделать деревянные втулки и к ним прибить диски. Для этого нужна круглая палка. Славику вручили ножик, и он отправился в экспедицию.
Мне доверяют выстрогать и сколотить осветительную часть аппарата. Все размеры должны быть точно по чертежу. Я записал, что мне нужно. Фанера, гвоздики, патрон от электролампы, круглое зеркало, линза (она на чертеже красиво называется «конденсатор»).
Вернулся Славик, принес отполированную чьими-то руками чудесную круглую палку. Мы тут же отпилили от нее кругляки, прибили к ним диски. Бабины готовы. В одну я вставил наш большой гвоздь, и мы все по очереди ее крутили. Вертится ровно, плавно, красиво.
И опять в нашем дворе отчаянные крики. Это шумит дворничиха тетя Дуся. Женька предусмотрительно прикрыл дверь, мы все смотрим на Славика.
Славик садится на землю, тяжело вздыхает:
— От метлы отрезал.
Лева снимает очки, долго смотрит в щелку, оборачивается:
— Придется начинать с крючка к нам на дверь. Это будет самая главная деталь киноаппарата.
Тетя Дуся утихла. Мы молча начали выпиливать крючок. Славик старательно сдувает опилки.
Для осветительной части нужен маленький кусочек электрошнура. Мы думаем, где можно достать. Славик вертит в руках ножницы, предлагает:
— А давайте я схожу домой. Мы поспешно его усадили.
Лидочка предлагает отрезать кусочек шнура от репродуктора.
— У нас очень длинный шнур,— говорит она.— Только я не знаю, как потом соединить. Пусть Алеша со мной идет.
И вот мы дома у Лидочки. Я еще никогда здесь не был. На стенах фотографии ее мамы в разных костюмах. Мать у ней какая-то актриса.
— Почему мама черная, а ты вся такая, ну как тебе сказать? Коричневатая.
— Это я в отца.
— А где твой отец?
— Он в другом городе,— тихо говорит Рыжик.— Он с нами не живет.
— И наш со мной не живет,— говорю я.— Значит, мы безотцовщина. Вот здорово!
— Без отца лучше,— вдруг улыбается Лидочка.— Он маму в театр не пускал.
— Да,— вяло соглашаюсь я,— конечно, лучше.
Мы надрезаем кусочек шнура от репродуктора, откуда как раз сейчас слышится женский голос.
— Подожди, не режь,— останавливает меня Рыжик. Мы замолкли, слушаем новую песню. Как будто растаял репродуктор и вместо него где-то в дымной степи раненый боец очень просит Орленка, чтобы он взлетел выше солнца и всем рассказал, как дрался с белыми погибший отряд.
Песня кончилась, а я все сижу, забыл про ножницы. Потом в репродукторе послышался бодрый мужской голос. Он рассказывал о счастливой колхозной жизни.
— Алеша,— говорит Рыжик,— давай вместе утром по радио зарядку делать. Я подниму руки и буду знать, что и ты сейчас поднял руки. Я ноги и ты — ноги. Я попрыгаю и ты. А потом умываться.
— Давай,— соглашаюсь я.— Только не самую первую зарядку, а потом, которая за ней. У нас по утрам радио трещит.
Потом мы с Лидочкой разыскали фанерные ящики из-под посылок, немножко булавок и свечку.
— Это если вечером работать,— пояснила Лидочка.
На лестничной клетке столкнулись с Бахилей. Он посмотрел на наши ящики, оживился:
— Для аппарата?
— Ага! Тебя Жиган искал,— сказала Рыжик. Бахиля сразу заскучал, уныло спросил:
— Давно?
— Да вот недавно.
Мы было пошли вниз, но Бахиля нас окликнул:
— Подождите, дело есть.
Он скрылся в дверях, долго не возвращался, потом показался довольный, даже радостный. В руках какая-то станина с колесом, на нем ремень.
— Вот, возьмите. Это бормашина ножная. Правда, сломанная. У отца теперь электрическая. А эта не нужна.
— А что с ней делать?— спрашивает Рыжик.
— Почините. Будет, как токарный станок. Знаешь, как крутится здорово. Ж-ж-ж.
— Пойдем к нам в сарай,— приглашаю я Бахилю. Он нерешительно топчется, жмется:
— Нет, не сейчас. Мне Жиган нужен.
— Зачем он -тебе?— спрашивает Лидочка.
— Да так…— отворачивается Бахиля,— дело есть. Ну, пока.
Мы расстались.
— Что-то задумали они,— говорит Рыжик,— вчера вечером Жиган с каким-то лохматым верзилой Бахилю на лестницу вызывал. О чем-то шушукались. Я домой шла, поднялась выше — они сразу замолчали. Стоят, покуривают.
— Надо бы его к нам,— думаю я вслух о Бахиле.— Мне тоже это не нравится.
— Конечно, к нам,— поддакивает Лидочка.
В сарае нам с Лидочкой оказали почести. Кругом неподдельные крики ликования.
Особенно всех радует бормашина. Мы все в сторону и занялись ею. Починили педаль. Женька ее нажимает ногой, и сарай наполняет солидное, ровное, сильное жужжание. Приспособили к ней деревянный патрон, в него вогнали железку. Женька нажимает, ему руками помогает Славик, а я вожу напильником по железке.
Сначала с железки сползла ржавчина, потом она заблестела, засверкала, и даже начали вылетать настоящие искры. Мишка их ловит на ладонь, приплясывает:
— Ха-ха!
— Мировецки!— смеется Славик и подставляет свой картузик.
Наш «токарный станок» покрутили все по очереди, потом Лева смазал его из масленки, и мы занялись своим делом. Я принялся за осветительную часть киноаппарата. Мне помогает Славик. Он мой ассистент. Готовит инструмент и распрямляет гвоздики.
Шкуркой я зачищаю все фанерки. Теперь на них очень приятно чертить карандашом. Переношу все размеры по линеечке, миллиметр в миллиметр. Сострогать все лишнее, и стенки осветительной части готовы.
— Прошу рубанок,— говорю я, не оборачиваясь, Славику, и сейчас же в мастерской — дикий вопль Левы. Оказывается, Славик почему-то пожелал подгонять железку в рубанке молотком. И бьет по острию.
У Славика отобрали рубанок, поручили найти зеркало. Но Лева его вернул, усадил снова за гвозди:
— Ну его. Еще приволочет мамино трюмо.
До чего же приятно, хорошо работать, когда все получается тютелька в тютельку. Я опять зачищаю шкуркой все шероховатости и не могу налюбоваться фанерками.
В другое время, если бы я нашел такие фанерки на улице, то даже бы и не стал разглядывать, а создал бы им ускорение, пусть летят, какая дальше. А вот сейчас хочется их гладить, всем показать и даже прижаться щекой.
Зеркало добыла Лидочка. Оно квадратное, а нам нужно круглое, как указано в чертеже. Женька говорит, что где-то он слышал, будто стекло можно резать ножницами. Только это делается в воде.
Вот это открытие! Наверное, не все взрослые знают, что так можно.
Теперь нам нужно из круглого гвоздя сделать плоскую пластинку. Это будет держатель зеркала. В пластинке просверлить отверстие и в нем нарезать резьбу. В резьбу вставить винт и на конце винта укрепить зеркало. Если крутить винт, то зеркало будет то удаляться, то приближаться к лампочке. Так нужно для настройки.
Я начал расплющивать гвоздь на нашей наковальне, но дело идет слишком медленно и очень оглушает. Все зажали уши, ждут, когда я кончу.
— Хватит,— кричит Лева,— лучше поищи подходящую железку.
Я передаю гвоздь ассистенту, копаюсь в груде железок. Славик отпросился «на минутку».
Нашлась в куче сырья подходящая, но уж очень широкая. Нужно много опиливать.
— Попробуй отруби зубилом,— советует Женька.
— Можно и сломанным лезвием ножовки,— прикидывает Лева.
— Только трудно.
Я долго раздумываю, за что браться. Зубилом, конечно, быстрее, но молоток почему-то только изредка попадает по головке зубила. А ножовкой хватит пилить до вечера.
Вдруг влетает Славик и молча протягивает еще теплый расплющенный в лепешку гвоздь.
Мы тормошим Славика, спрашиваем, где и кто ему это сделал.
Славик садится на землю, обмахивается картузиком, безразлично оглядывает стены. Нас он не замечает
— Ты что? Язык проглотил?— сердится Лева. Славик молча трогает язык, показывает нам.
— Все очень просто,— говорит он в пространство.— На трамвайную рельсу положил.
Мы захлопываем дверь. Прислушиваемся. Все тихо. Лева, заикаясь вдруг, говорит:
— Нам еще не хватало, чтобы трамваи сходили с рельсов.
Дверь сарая кто-то настойчиво трогает. Мы не шелохнемся.
— Отоприте, я это,— слышим голос графа де Стася. Мы открыли. Граф потоптался, не глядя на нас, сказал:
— Мать велела тиски забрать.
Стало так тихо, что я слышу, как за дровами скребется мышь. Славик обнимает тиски, а Лева рассматривает свои ботинки, медленно говорит:
— Никому мы тиски не отдадим. Нам они нужны.
— Стась,— очень нежно воркует Женька,— скажи матери, что мы делаем киноаппарат, что ее пригласим на первый сеанс.
— Я говорил,— жмется граф,— она ни в какую.
— Пусть хоть сама приходит,— решает Лева,— все равно не отдадим.
— Так что же ей сказать?— понуро оборачивается в дверях граф.
— Скажи, когда сделаем аппарат, тогда и вернем. Граф, спотыкаясь, направился к дому. Мы перестали работать. Сидим, ждем.
В открытую дверь видно, как скорым шагом к нам направляется сама мамаша. За руку тянет графа.
— Это что еще за хулиганство?— кричит она.— Сейчас же отдайте тиски. Выманили у мальчика такую дорогую вещь, да я вас всех за это в милицию!
Мы загородили тиски, молчим.
— Ночью сон вижу, будто бы наш чулан обокрали,— брызжет «графиня».— Сейчас глянула, и верно — тисков нет, фруктов нет. И этот подлец долго не признавался,— теребит она за руку Стася.— Что значит — сон в руку.
— А мне тоже сон снился,— тихо говорит Лидочка.— Будто бы сижу я утром на скамейке и вдруг из вашего окна вылезает спиной какой-то дядя в зеленом свитере. Может быть, он чулан обокрал?
«Графиня» хлопает ресницами и смотрит на нас так, словно всех повели на экскурсию на кондитерскую фабрику, а ее одну не взяли.
— Лидочка,— вдруг говорит она тихо.— Какой у тебя красивый воротничок, только сейчас заметила. Сама вязала?
— Сама,— охотно отвечаем мы за Лидочку.
— И это у вас будет настоящее кино?
— Настоящее,— дружно говорим мы.
— Ах, какие умники!— радуется она.— Стасик, почему же ты мне про это не рассказывал? А то молчит и молчит. Откуда я должна знать, зачем вам тиски?
Из сарая она вышла очень довольная и даже у своего парадного погладила графа по затылку. А может, это нам только показалось? Издалека плохо видно.
— Лишь бы она мужу про тиски не сказала,— беспокоится Мишка.
Лидочка тихо смеется:
— Не скажет.
И опять наш сарай наполнился деловым шумом. Я вырезал в фанерке отверстие для линзы, как сказано в чертеже. Вырезал точно по размеру. Обласкал шкуркой, получилась очень красивая дырка. Славик через нее оглядел сарай, а потом мы все загрустили. Самим эту самую плоско-выпуклую линзу не сделать. Купить надо. Пожалуй, слово «купить» самое противное на свете. Это слово всегда тянет за собой другое — «деньги». А где их взять?
Решаюсь идти домой, к Нонке. Может, удастся выпросить. Меня тщательно причесывают, Славик из ведра поливает на руки, застегиваю все пуговицы, отряхиваюсь и пошел.
Нонка сидит, зубрит. Скоро у нее приемные экзамены в институт. Мешать ей нельзя. Присел на краешек стула, так просто предлагаю:
— Давай я за хлебом схожу.
— Хлеб есть,— не отрываясь от учебника, обрезает Нонка.
Делать нечего: беру веник, мету пол. Нарочно стараюсь около ее ног. Увлеклась, не замечает. Щекочу веником. Она голову подняла, отодвинулась и опять в книгу. Так и подмел весь пол, и никто не заметил, никто не оценил.
Начал зеркало протирать. Это Нонка сразу заметила, смотрит подозрительно.
— Что-то ты такой старательный? Деньги нужны?
— Нужны,— вздыхаю я — Линзу нужно купить плосковыпуклую.
— Нет денег,— сухо говорит Нонка и опять — в учебник. Я помялся, помолчал. Дождался, когда страницу перевернет.
— Перед экзаменами особенно нужно людям делать добро,— задумчиво разглядываю я абажур.— А то засыплешься.
— И это не пройдет,— говорит Нонка, не поднимая головы.— Я же сказала: денег нет.
Опять молчим. Дождался еще одной страницы, решаюсь:
— Знаешь, Нонка, я семилетку копчу и работать пойду.
— Это почему же?
— Тебе буду помогать, а учиться можно и в вечерней школе.
Нонка поднимает голову, внимательно на меня смотрит. Затемнил трамвай окна, но мне видно, как она хорошо улыбается.
— Ладно уж, возьми в кармане в жакете. И катись, не мешай.
Я мигом за дверь. Зачем человеку мешать, если он готовится к экзаменам.
Мы идем покупать линзу. Кажется, все прохожие догадываются, зачем мы идем, и охотно уступают нам дорогу. Впереди Женька с Левкой, потом мы с Рыжиком и Мишкой, а сзади Славик. Он все время притормаживает около палаток с мороженым и делает нам знаки. Мы — никакого внимания.
Славик догнал меня, как бы между прочим говорит, что на вафлях с мороженым он прочитал имя «Лариса».
— Не скули!— прикрикнула на него Лидочка.— Ведь знаешь, что денег в обрез.
Так же деловито и независимо мы проходим мимо магазина сушеных фруктов. На витрину стараемся не смотреть.
На углу Смоленской площади палатка инвалида. Он торгует пугачами и пробками. Немножко постояли, посмотрели, пошли дальше. Рядом ларек восточных сладостей. Словно лаком облиты большие орехи, жирно лоснится халва, блестят сахарные петушки на палочках.
Прошли, не задерживаясь. Славик отстал.
В оптическом магазине тихо, прохладно. Угрюмый продавец в белом халате перед каким-то старичком раскладывает на прилавке разные очки. Посмотрел на нас хмуро, лишний товар убрал с прилавка.
Вот она наша плоско-выпуклая линза — «конденсатор».
Просим посмотреть.
— А деньги-то есть?— спрашивает продавец. Я солидно хлопаю по карману. Он вытаскивает линзу, протирает ее, но в руки не дает.
— Сначала деньги. Лидочка обиделась:
— Что мы, жулики, что ли?
Продавец сердито покосился, запыхтел, пальцами по прилавку барабанит.
— Не обижайтесь, барышня, тут сегодня утром зашли трое. Стоят, зубы заговаривают. Двое очки примеряют, а третий прямо с прилавка микроскоп потянул и ходу. Вот только кепка в дверях слетела, а сам удрал.
Он достал из-под прилавка кепку, показал нам.
— Может, вы знаете, чья это?
Мы плечами пожимаем. Лева сказал, что где-то он встречал такую кепку, мне она тоже показалась знакомой.
— Вспомните, мальчики,— засуетился продавец.— Микроскоп очень дорогой.
Как мы ни тужились, но вспомнить не смогли. На всякий случай продавец записал наш адрес, и мы вышли из магазина, по очереди разглядывая в линзу наш шумный Арбат.
Славику купили мороженое. Всякий раз, прежде чем откусить, он рассматривает порцию в линзу, восторженно хихикает.
В наш двор кому-то привезли дрова.
— Можно заработать,— прикидывает Лева.— Распилить, расколоть, сложить — получится объектив с двумя линзами плюс сверла и наждачный камень.
Дрова свалены у Ларискиного сарая, я заскучал:
— Не буду пилить.
— Почему?
— Кому хочешь, только не Лариске.
— Чудак, она и не увидит. Ты будешь в сарае укладывать.
— А как же с них деньги брать? Лучше бесплатно. Лева снимает очки, близоруко меня разглядывает:
— Нет, вы только посмотрите на этого графа Монте-Кристо в заплатанных штанах. Богач какой нашелся. Насквозь благородный.
Лева с Мишкой пошли наниматься к Ларискиной матери. Мы уселись на скамейке.
— Алеша, не надо для нее стараться,— говорит Лидочка,— ну ее.
— А как же объектив, наждачный камень. К бормашине приделаем, и точи, что хочешь. Одни искры.
— Ну, раз искры, тогда конечно,— подперев кулачками голову, соглашается Рыжик.
Вернулись Лева с Мишкой. Оба сразу выпалили сумму. Лева тормошит меня.
— А Лариски дома нет. Уехала с Гогой на велосипеде. Понял?
— Дешево сторговались,— смеется Рыжик,— надо было вдвое дороже. Так, Алеша?
— Втрое,— говорю я.
Пилу взяли у тети Дуси. Женька осматривает ее, стучит по зубцам ногтем.— Острая.
Лева потрогал пилу, поднял на уровне глаза, поморщился.
— Тупая.
Я тоже посмотрел. По-моему, все в порядке. Этой пилой я уже пилил много раз. Даже один пилил. Только нужна пружина от матраца. Один конец пружины — гвоздем к стенке сарая, а другой привязать к ручке пилы. Пилу на себя тянешь — пружина вытягивается, потом отпускаешь, а пружина тащит к себе.
— Чего же в ней хорошего?— говорит Лева.— Развод зубьям нужен. Вправо и влево. И каждый зубец заточить. Мне отец показывал.
Я осмотрел в линзу зубья. И верно, они расходятся в одну и другую сторону.
— Нужен трехгранный напильник,— прикидывает Женька.
Идем в наш сарай. Пилу зажали в тиски. Лева точит зубья. Славик то и дело их рукой трогает.
— Ух, и острая!
Принесли табуретку. Перевернули вверх ногами и на нее полено. Кричим Леве:
— Мы готовы!
Первое полено пилим мы с Женькой. Он очень сильно нажимает вниз: пилить с ним трудно.
— Ты ее не дави,— советую я.— Пусти просто. Она своим весом будет опускаться.
Женька кивает, мол, все понял и опять давит вниз.
Я уже знаю, что не нужно смотреть на фонтанчики из опилок, следить, сколько пропилили и сколько осталось. Просто води себе пилой и посматривай на наш двор, на сараи, на тополь и при этом думай, о чем хочешь. Можно даже о Гогином велосипеде и о Ларискиных отрицательных чертах. Лучше пилится.
Потом мы пилим дрова под песню. Есть такая. Очень веселая и очень бодрая:
Не спи, вставай, кудрявая,
В цехах звеня…
Все ребята поют, только мы с Женькой молчим. Потому что, когда пилишь, орать нельзя.
Лидочка с Левой устанавливают распиленные поленья в ряд, как солдат, а Мишка ходит с топором вдоль строя и делает из одной роты две, потом четыре. В общем, батальон.
Наконец Лева с Мишкой нас сменяют. Теперь я беру топор.
— Трах!— И нет каппелевского полковника.
— Трах!— И нет батьки Махно.
— Трах!— И завяз топор. Это значит — враг сопротивляется.
Скрипит калитка. Во двор сначала въезжает переднее колесо велосипеда, за ним Лариска и Гога. Сделали круг по двору, остановились около кучи дров, слезли.
А топор все не вынимается. Скрипит, а не вылезает. Хоть бы уж Лариска не смотрела, шла бы себе домой. Лидочка побежала в мастерскую, вернулась с молотком, Лева с силой ударил им по топору, и полено нехотя развалилось.
— Ничего,— утешает меня Лидочка,— тут сучок во какой! Попробуй вот это.
И опять топор революции крушит надвое, четвертует Юденича, Деникина, Колчака.
— И Врангеля,— говорит Лева и подставляет черное, обугленное полено.
Славик пыхтит, устанавливает толстый обрубок.
— Это рыбий жир,— говорит он,— вдарь-ка, Алеша. Лариска смеется, подталкивает к нам Гогу:
— Попробуй поколоть.
— Это не для меня,— серьезно говорит Гога и садится на велосипед.
Мы переглядываемся. Гога вихляет рулем и отъезжает.
А может, правда, колоть дрова не для него?
Мне вспомнилось, как-то Пелагея Васильевна спросила нас, кто кем хочет быть?
Мы застеснялись. Просто как-то неловко встать и всем сказать, кем я хочу быть. В классе тишина. Сидим, переглядываемся, подталкиваем друг друга: «Давай ты».
— Хорошо, ребята,— говорит Пелагея Васильевна,— если не хотите устно, давайте на эту тему напишем сочинение. Только, чур, писать все честно.
— Конечно, честно,— закричали мы. Но честно получилось только у Лидочки.
Мы все знаем, что она мечтает стать актрисой, так она и написала в тетрадке.
А я и в самом деле не знал, кем хочу быть. Просто не задумывался. Но уж очень захотелось написать что-нибудь приятное для Пелагеи Васильевны. И я добросовестно написал четыре страницы, на которых убедительно доказывал, что быть учителем — моя мечта.
Женька тоже наврал. Он написал, что всю жизнь мечтает стать шахтером. Но ведь я-то знаю, что он бредит глиной, мольбертом и палитрой.
У Мишки тоже перо пошло вкось. Написал, что хочет быть комбайнером, а сам дальше Тушина никуда не ездил. Где он видел комбайны?
Лариска, оказывается, захотела стать ткачихой на фабрике «Красная Роза», а Гога с малых лет мечтал быть слесарем или токарем.
Я так и не понял, почему мы все написали неправду. На переменке мы сидим на батарейке, не смотрим друг на друга. Около нас крутится Славик.
— Послушайте, ребята,— сердито говорит Лидочка,— зачем вы все наврали. Ведь ты же, Мишка, мечтаешь стать летчиком.
Мишка мнется, ежится:
— Пелагея не поверит… Еще скажет, я рисуюсь.
— Но ведь ты же правда хочешь быть летчиком?
— Правда.
— Зачем наврал?
— Эх, вы,— вздыхает Славик,— написали бы, что хотите быть пожарниками.
Мишка молчит, пуговицу крутит.
— Так зачем же наврал?— повторяет Лидочка.
— А затем наврал,— говорит Гога,— что сейчас самые модные профессии рабочего человека. За это и отметку повысят.
— Глупости,— фыркает Лидочка.— А вот ты, Гога, кем хочешь быть?
— Я?— Гога задумался, помолчал.— Я? Если правду?
— Ну, конечно, взаправду,— с готовностью просим мы.
— Значит, сказать правду,— задумчиво тянет Гога.
— Ну да, правду,— киваем мы.
— Ну, так слушайте: я хочу стать вождем. Даже Лариска отшатнулась.
Вот это да! А мы и не знали…
Сейчас Гога снова появился, когда уже все дрова были красиво сложены в сарае. Походил вокруг, в сарай заглянул, сказал, что мы неправильно дрова сложили. Из березовой шкурки колечко на пальце скрутил, полюбовался, спросил:
— Сколько заплатят?
Славик плечами пожимает, я на Леву смотрю, Лева на меня. Мишка начищает шкуркой свой топор, тетя Дуся сердито выметает щепки.
Гога колечко языком гладит.
— Подумаешь, мне ваши деньги не нужны.
Во двор зашел Жиган, за ним насупленно плетется какой-то лохматый верзила.
— Бахилю не видали?— спрашивает Жиган. Никто из нас Бахилю не видел.
— Покурить ни у кого нет?— сипит лохматый и, не получив ответа, грызет ногти.
Скрипнула калитка. Это Мишкин отец. Подтянутый, в желтых ремнях, в голубой фуражке. Прошел мимо, кивнул нам:
— Здравствуйте, товарищи!
— У вас папиросочки не найдется?— заискивает лохматый.
Летчик обернулся, нахмурился, покачал головой:
— Не курю. Да и тебе не нужно.
Лохматый садится на корточки, сплевывает вслед летчику.
— Не летчик, а ледчик. Лед на подводе возит.
Жиган громко хохочет и вдруг, словно подавившись, вытаращил глаза, пятится. На лохматого медленно надвигается бледный худенький Мишка, в руках дрожит топор:
— Повтори, гад, что сказал!
Взвизгнули девчонки, шлепнулся, споткнувшись, Славик. Женька прыжком сзади обхватил Мишку. В калитке застряли лохматый и Жиган.
* * *
Утром следующего дня я выскакиваю во двор и сейчас же натыкаюсь на участкового дядю Карасева. Рядом с ним Мишкин отец. Задрав головы, они смотрят на Мишкины окна. В рамах — ни одного целого стекла.
— Ничего, товарищ, разберемся,— козыряет летчику дядя Карасев.— Счастливого полета.
Кто-то тянет меня за рубашку. Оглянулся — за спиной Лидочка.
— Дело есть,— приставляет она палец к губам,— пойдем-ка.
Мы садимся на скамейку. Лидочка смотрит по сторонам, торопливо сыплет словами:
— Вечером мету пол. Так? За дверью на лестнице голоса. По-моему, Бахилин, Жигана и еще этого лохматого. Так? Жиган говорит: «Если завтра золота не будет, я пишу твоему отцу письмо без подписи. А в письме расскажу про твою кепочку». А Бахиля умоляет подождать. Лохматый про какие-то отполированные копейки намекает: «Подложи,— говорит,— копейки вместо дисков, и каждый день начищай. Отец и не заметит». Бахиля чуть не плачет, говорит: «Отец не заметит, так клиент потом заметит, скандал будет». А лохматый свое: «Все клиенты-интеллигенты, они в день по два раза зубы чистят. Сами надраят». Жиган горячится, опять грозит: «Не будет дисков, гони назад мой кинжал и еще про кепочку напишу». А Бахиля ему: «На, возьми свой кинжал». А Жиган смеется: «Казак назад не пятится, корова не бодается». Потом что-то их спугнуло, они стали говорить шепотом, и я ничего не поняла. Вот, Алеша. Что делать будем?
— Скорей ребят собрать. Пока никому ни слова. Молчок,— говорю я Лидочке. Она понимающе кивает.
И вот мы в сарае. Славик караулит снаружи у дверей. Лидочка торопливо рассказала все сначала. Лева снял очки, щурится в потолок, что-то вспоминает:
— Так, так. То-то тогда в магазине кепочка показалась знакомой.
— Чья она?— спрашивает Мишка.
— Бахилина,— подсказываю я.
— А ведь верно. У Бахили такая,— охает Лидочка.
— Давайте позовем Бахилю и все начистоту.— предлагает Женька.
— Иди, Рыжик, зови,— говорит Лева.
— Я боюсь. У него кинжал какой-то.
— Ну, иди с Алешкой.
— А если он не пойдет?— прикидываю я.
— А вы скажите, что мы нашли его кепку,— советует Женька.— Бегом прибежит.
Мы пошли. Я звоню у дверей, Лидочка за моей спиной.
— Кто там?— голос Бахили.
— Сережа, это мы,— говорю я.— Выйди на минутку.
— А зачем?
— Ну, дело есть.
— Какое дело?— осторожно спрашивает Бахиля из-за двери.
— Мы твою кепку нашли,— прильнул я к щели в двери. Дверь раскрывается. Бахиля быстро выскользнул к нам, осторожно защелкнул замок.
— Какую кепку?— дрожат у него губы.
— Твою,— спокойно говорит Лидочка.— Пойдем в сарай. Он послушно идет рядом, по очереди засматривая нам в лицо.
— А где вы ее нашли?
— Сейчас все узнаешь.
— А если я не пойду?— останавливается Бахиля.
— Тогда кепку не получишь,— оборачиваюсь я.
— Стойте, ребята. А кто у вас в сарае?
— Никого. Только киношники,— успокаивает его Лидочка.
Бахиля нерешительно двигается за нами. Мы заходим в сарай, усаживаемся. Бахиля стоит, не садится. Ему не терпится.
— Ну, где кепка?
Женька поднимается к двери, накидывает крючок, оборачивается:
— Давай микроскоп, получишь кепку.
Бахиля часто моргает, проглатывает слюну, садится.
— Какой микроскоп?— шепчет он.
— Такой. Что был в оптическом магазине,— кладет ему Лева руку на плечо.— Откройте дверь, темно. А ты, Славик, погуляй.
Солнце вбежало в сарай, и сейчас видно, как подрагивают у Бахили пальцы, как вдруг побелели его щеки.
— Вы все знаете, ребята?— заикается он.— Только отцу не говорите. Ладно? А Карасев знает?
— Где микроскоп, Сережа?— спрашивает Лева.
— У Жигана дома.
Мы ни звука. Молчит и Бахиля, щепкой царапает носок ботинка.
— Как же так случилось, Сережа?— тихо говорит Лева.— А ведь хотел с нами работать. А сам все с Жиганом.
— Я не хотел,— не поднимая головы, медленно роняет слова Бахиля,— он мне свой кинжал подарил. Сам его в цехе сделал. А потом подговорил микроскоп взять.
— Украсть?— уточняем мы.
— Ну, украсть. Я не хотел, а он кинжал обратно просит.
— Какой кинжал?
Бахиля лезет рукой куда-то сразу под рубашку и штаны.
— Вот он.
Блестит, искрится на солнышке полированное лезвие. Каждый из нас подержал кинжал, полюбовался, осторожно потрогал острие.
— Здорово сделал!— не удержался Женька. Бахиля показывает ножны, поспешно прячет кинжал, убежденно говорит:
— Отдам ему назад. Мучение одно.
— Какое же мучение, Сережа?— спрашиваем мы.
— Да так, разное,— уклоняется Бахиля.
— А я знаю,— вдруг встает Лидочка.— Жиган и тот лохматый требуют, чтобы ты золотые диски, которые для зубов, у отца украл. Так? А если не украдешь, то отцу напишут, где твоя кепка. Так?
— Так,— еле слышно соглашается Бахиля и, согнувшись, вытирает глаза.
Мы задумываемся, что же нам делать.
— Давай ты, Алешка. Ты король, ты и придумывай,— предлагает Мишка.
— Берите кто напильник, а кто молоток, пошли к Жигану,— решаю я,— отберем микроскоп.
— Вот это здорово!— радуется Мишка.— Пошли.
Мы гурьбой выходим из сарая, Бахиля плетется сзади.
— А ты не бойся,— тянет его Рыжик.— Нас много. Глухая бабка Жигана впустила нас в комнату. Жиган сидел за столом, рассматривал под микроскопом муху, увидел нас, насупился.
— Вам чего надо?
— Мы все знаем. Давай микроскоп,— говорю я, приподнимаясь на цыпочки.— Бахиля, проходи сюда.
Жиган обалдело смотрит на Бахилю, потом что-то соображает, оглядывает нас, хочет улыбнуться, показывает на Мишку:
— Этот псих опять с топором?
— С молотком,— уточняет Мишка.— Давай микроскоп.
— Ах, микроскоп,— разводит Жиган руками,— пожалуйста, берите. Краденого нам не нужно. Я уже сам собрался сообщить в милицию на этого субъекта и на всех вас,— заторопился Жиган.— Украл такую дорогую вещь, а мне сказал, что это вам нужно для аппарата. Стеклышки разные.
— Врешь,— вскрикивает Бахиля.— Сам подговорил украсть, а теперь еще золото требуешь, хочешь отцу про кепку написать.
— Какой бред, джентльмены, где свидетели?— обиженно осматривается Жиган.
— Я свидетель,— вдруг краснея, говорит Лидочка,— я все слышала, о чем вчера вы на лестнице шептались.
Жиган шлепается на стул, сверлит глазами Лидочку:
— Ох, рыжая…
Глухая бабка старательно водит по микроскопу тряпкой, несет к буфету.
— Не сюда,— кричит ей на ухо Жиган.— Вот им отдай. А я в милицию и к прокурору: рабочий класс оскорбляют!
— Может, чайку они попьют?— переступая шлепанцами, оглядывает нас бабка.
— Какавы им с кофием!— орет Жиган.
Мы выскакиваем на улицу. Я бережно несу микроскоп. В сарае сначала по очереди заглядываем в объектив микроскопа, потом решаем, что с ним делать дальше.
— Пусть сам отнесет в магазин,— говорит Лева,— войдет, извинится и отдаст продавцу.
Бахиля ежится, ерошит затылок:
— А если он позовет милицию?
— Ну и пусть зовет, а ты все объяснишь, скажешь, как было. Скажешь, что понял свою вину. Попросишь простить.
— Вдруг не поверят. Меня заберут и отца вызовут. Лидочка оглядывает нас, недоумевает:
— Так мы же все свидетели, мы все пойдем.
— Правильно, все пойдем,— шумим мы,— не бойся.
— Все равно заберут,— глухо, будто самому себе, говорит Бахиля.— Ведь у меня уже была история, ну, с конфетами. Кто же теперь мне поверит?
Мы опять примолкли, ломаем головы, что придумать.
— В райком надо, вот что!— вдруг хлопает в ладоши Рыжик.— К Наташе! Она же нас знает.
И сразу все заулыбались, засуетились. Конечно, нужно идти в райком. Вместе с Бахилей и с микроскопом. Наташа поймет. Она такая, что все может понять.
Мы разбежались по домам, вернулись с чистыми руками, причесанные, в праздничных рубашках. Женька даже из кармана курточки вытянул кончик носового платка.
У входа в райком потоптались, оглядели друг друга. Лева серьезно говорит всем нам:
— Только ничего не врать. Все начистоту. Это райком. Понятно?
Нам все понятно. Мы открываем тяжелую дверь.
Наташа принесла еще стулья, всех усадила. Перед ней на столе микроскоп. Лева начал рассказывать. Несколько раз звонил телефон, но Наташа не поднимала трубку. Какой-то паренек в очках открыл дверь и делает Наташе знак. Она морщится, отмахивается.
— Потом, я занята.
Лева кончил рассказ. Мы нетерпеливо смотрим на Наташу. Она о чем-то раздумывает, потом весело кивает Бахиле.
— Ничего, Сережа. У нас в детдоме и не такое бывало. Пойдемте все в магазин.
И опять мы идем по нашему Арбату. Под ногами путается Славик. Бахиля бережно несет микроскоп, то и дело посматривает на Наташу. Она молча кивает ему, подбадривает:
— Так, Сережа, так. Молодец.
Падает маленький дождь. Бахиля прячет микроскоп под рубашку, улыбаясь, подставляет лицо холодным каплям. У самого магазина Бахиля вдруг сбавляет шаг, замялся.
Наташа обнимает его, подбадривает:
— Ничего, Сережа, все будет хорошо.
Он протягивает ей микроскоп, тихо просит:
— Отдайте вы. Я боюсь.
Наташа хмурится, говорит сердито:
— Будь мужчиной. Ну-ка, выше голову, смелее. Все вместе мы входим в магазин.
Бахиля прямо к прилавку, ставит микроскоп;
— Вот,— говорит Бахиля растерянному продавцу. Тот засуетился, из-за прилавка выкатился, всем руки жмет, а Славика поднял, поцеловал.
А потом мы все по очереди рассматривали в микроскоп каплю воды, волос, кусочек газетной бумаги.
Продавец нам не мешал. Он стоял с Наташей в углу магазина и о чем-то с ней тихо переговаривался. Потом он подошел к нам и стал расспрашивать про киноаппарат.
— Нам бы линзу посильнее,— говорит Лева,— чтобы яркий экран был.
— А сколько диоптрий?— участливо оглядывает нас продавец.
Я сказал, что не знаю, а Мишка бухнул:
— Побольше бы.
Продавец долго смеялся, вместе с ним смеялся и Лева. Ведь Лева носит очки, а потому давно знает, что значит диоптрии. Потом продавец стал объяснять нам, что такое единицы светосилы и как их люди рассчитывают. Он подобрал нам чистенькую голубоватую линзу, назвал ее линзой «мениск» и стал заворачивать в замшевую тряпочку.
Мы тоскливо переминаемся, шарим руками по пустым карманам.
— Ну, берите,— протягивает он линзу «мениск». Мы друг на друга смотрим. Он догадался, смеется:
— Это мой вклад в развитие отечественного кинематографа. Дарю, ребята.
Из магазина мы выпорхнули шумной воробьиной стайкой. Лева линзу несет, а мы все его конвоируем. Наташа укоризненно говорит:
— Как же вы, ребята, с диоптриями опозорились.
— А мы их не проходили.
— А вообще-то вы повторяете, что проходили? Ведь скоро в школу.
Мы замялись. Собственно, а когда же повторять, если мы все время заняты?
— Славику нужно помочь. Готовьте его к занятиям. Таблицу умножения почаще спрашивайте,— советует Наташа.
— Славик,— зовет она,— сколько будет семью шесть?
— Сорок три,— без запинки говорит Славик.
— Да, приблизительно так,— шутит Мишка,— сорок два, сорок три.
Мы все хохочем.
— Семью семь?— громко говорит Наташа.
— Сорок девять,— весело отвечаем мы.
— Семью восемь?
— Сорок восемь,— кричит Славик.
— Да, приблизительно так…— снова прикидывает Мишка,— сорок восемь, сорок девять.
Наташа взялась за голову, остановилась.
— Ты что, нарочно?— спрашивает она Славика. Он краснеет, мнется.
— Ну-ка, не валяй дурака. Семью восемь?
Славик смотрит в тротуар, за спиной пальцы загибает:
— Пятьдесят шесть.
— Ну, то-то. А семью девять?
Он опять смотрит в тротуар, отвечает сердито:
— Шестьдесят три.
— Вот что, дружок,— строго говорит Наташа,— каждое утро будешь приходить ко мне в райком. Начнем с тобой заниматься умственной гимнастикой. Безобразие. Позор. Ведь скоро в школу.
На Смоленской площади мы расстаемся с Наташей. Ей в райком, нам на Плющиху.
Наверное, никогда еще такого не видела и не слышала наша Плющиха. Мы идем дружно в ногу под Лидочкину команду:
— Пятью пять!
— Двадцать пять,— громко отвечаем мы.
— Шестью восемь!
— Сорок восемь.
— Вас не спросим,— бурчит сзади Славик.
Бахиля и Славик идут в стороне. Мне слышно, как Сережка терпеливо объясняет Славику, почему одиножды один будет один, а не два.
— Ну, теперь понял?— спрашивает его Бахиля.
— Понял,— говорит Славик и недоверчиво смотрит на своего учителя.
У ворот нашего дома Жиган. Скучает. Семечки лузгает и ногой дрыгает. Кепочку снял:
— Привет!
— Привет,— говорим мы. И торопимся к калитке.
— Бахиля, останься, Дело есть.
Бахиля переминается, на Жигана, на калитку, на нас смотрит.
— Ну, что тебе?
Жиган не спеша шелуху выплевывает, выжидает. А мы не уходим. У Лидочки вдруг тапочка развязалась. Нагнулась, шнурки долго распутывает. Женька молча ладонь подставил. Жиган нацедил ему семечек. Женька со мной поделился, я с Мишкой. Стоим, поплевываем.
Лева очки протирает, а Славик обломок кирпича поднял, на тротуаре классики чертит.
Жиган семечки в карман, ладонь о штаны вытирает:
— Ну, чего же вы встали?
— А куда нам спешить?— спрашивает Лидочка.
— Я же Бахилю просил, а не вас.
— А Бахиля без нас не считается,— Лидочка выпрямляется, волосы поправляет.— Тебе чего от Сережки надо?
— Ну ты, рыжая, замолкни.
— Коричневая она,— поправляю я.
— А тебе чего надо?— поворачивается ко мне Жиган.— Ты что, влюбленный, лезешь?
Женька за рукав Жигана трогает, опять ладонь протягивает.
— Ты чего?— не понимает Жиган.
— Дай еще семечек.
— Что у меня, фабрика, что ли?-а все-таки отсыпал. Стоим и опять молча поплевываем.
— Интересно все получается,— говорит Жиган и задумчиво ковыряется в зубах.— Ну, прямо цирк.
— Что интересно?— спрашивает Лева.
— Да ничего. Так просто. На моих глазах погибает порядочный человек, светлое лицо.
— Кто?
— Ну, хотя бы Сережка Бахиля.
— Почему же он погибает?— интересуется Лидочка.— Может быть, кто другой погибает?
— Ну ты… коричневатая. Тебе-то чего надо? Брысь. Тут мужчины стоят.
А потом произошло непонятное. Треск по одной щеке, треск по другой. Славик вежливо кепочку поднял, протянул Жигану.
— Ах, вы так?— захлебывается Жиган.— Ну-ка, рыжая, пройдем во двор.
— Зачем ей проходить?— говорит Женька.— Она и Славик пусть у ворот останутся и никого не впускают. А мы пройдем.
— Хорошо!— орет Жиган.— Пройдем!
Мы все прошли. А Лидочка к Славик караулить остались.
Потом Славик целый день всем рассказывал, как он слышал из-за калитки что-то вроде шумных аплодисментов. И почему-то высоко над забором один раз высоко взлетела кепочка Жигана.
И снова мы сидим на нашей скамейке. Я в руках нож верчу. Красивый. Блестящий. Бахиля на лбу синяк уминает. Лева над очками вздыхает. Треснуло одно стекло. Вынул из-за пазухи подаренную нам линзу «мениск». Примерился было и опять ее за пазуху. Мишка осторожно на свой кулак дует, а Женька с интересом зуб трогает. Славик ему в рот заглядывает, радостно сообщает:
— Качается! Это молочный. У меня так было. Потом настоящий вырастет.
Рядом на земле Жиган сидит. Отплевывается. Никому ни слова. Поднялся, побрел к калитке. Лидочка негромко спрашивает:
— Ребята, сколько будет семью семь?
Мы не отвечаем. Почему-то сейчас все позабыли таблицу умножения.
Славик поколдовал что-то кирпичом на земле, довольный, выручил:
— Сорок девять!
— Алешка,— спрашивает Лидочка,— ты делал сегодня зарядку по радио?
— Вообще-то, да.
— Когда начали, ты какую ногу поднял?
— Какую еще ногу?
— Ну, когда начали, ты сразу какую ногу поднял?
— Какую-то поднял. А что?
— Нет, Алешка, ну, мы же с тобой условились. Помнишь? Я разозлился. Да и перед ребятами стыдно.
— Чего ты сейчас лезешь? Какое тебе дело? Ну, сразу две поднял. Ясно?
— Дурак ты,— говорит Лидочка.— Ну просто дурак.
Встала со скамейки, Бахилин синяк пальчиками потрогала и пошла. Калитка захлопнулась, и все.
Славик у самой скамейки на земле большие цифры рисует. Что-то пришептывает. Лева очки то снимет,' то снова наденет.
— Подобрать такое стекло. С одинаковыми диоптриями, и все будет как надо.
— Конечно,— говорит Славик и удивляется, почему у него на земле получилась цифра «6», а если смотреть наоборот, вверх ногами, то будет «9».
— Алешка,— тихо говорит Женька,— хоть ты и король, а ни фига не понимаешь. Ведь она же тебя любит.
Какое это новое, непонятное, тревожное и очень зовущее слово «любит». Как горн, как барабан, как красное знамя. Любит!
Я на Женьку смотрю. Вот сказанул!
На Леву смотрю. Тот плечами пожимает.
А Мишка долго в небо смотрит. Наверное, там сейчас летает тот, кто любит его маму.
Славик на земле царапает слово «любовь». Так просто пишет. Написал шесть букв, прочитал, доволен. А потом все ботинком заровнял. Глупый еще.
— Ну, что замолк, Алешка? Это Лева.
— Что-то непонятно мне, ребята. Вот если все по-честному, то как-то страшно.
— А что страшно?— говорит Женька.— Любит она тебя, и все.
— А что дальше делать?
— А фиг его знает,— говорит Женька.— Ну, значит, ухаживать надо.
— Это как?
— Ну, чего-нибудь скажи ей.
— Чего?
Мишка вмешивается:
— Ну, как у взрослых. Скажи ей что-нибудь.
— А чего сказать? Лева:
— Ну, ничего не говори. Ходи рядом, и все.
— Долго?
— А кто ее знает? Ну, ходи и ходи.
— А она что будет делать?
— И она будет ходить.
* * *
Открываем наш сарай. Надо из большой консервной банки жесть вырезать. А у ней края загнутые. Ножницы отскакивают. Все по очереди нажали — пальцам больно.
Я о Лидочке подумал, взял из рук Мишки ножницы, нажал, прорезал. Сдается консервная банка. Вырезал все годное, а донышки в сторону. Не нужны.
Потом мы распрямили деревянным молоточком эту жесть. Вот теперь что хочешь, то и делай. Ровненькая.
— А чего из этой железки вырезать?
Со стола все сдунули, осторожно разложили чертеж.
Советуемся.
Ведь что же у нас получается? Детали на чертеже маленькие, железка большая. Жалко ее на мелочи пускать. Водили-водили пальцами по чертежу.. Все запачкали. Ничего не придумывается. И вдруг свалился на нас чей-то голос.
— Обтюратор надо делать. Обернулись, а это Лидочка.
— Вот же стрелка показывает. Давайте мерить.
Ребята за линейку, чертеж пачкают, а я на Лидочку смотрю. В общем, долго смотрел. А она на меня никакого внимания. Я думаю, что же ей сказать? Да еще ходить около надо!
— Пришла?— спрашиваю.
— Пришла,— отвечает.— А ты как думал?
— Ничего я не думал.
Начали мы вырезать обтюратор, Это такая лопасть, что перекрывает свет, когда кадрик двигается. А как встанет кадрик, лопасть убегает, прячется. И свет себе вовсю дует прямо на экран. А вместе со светом застыл кадрик. Только все это очень быстро делается. Пошел дальше кадрик, а обтюратор его подкараулил и опять перекрыл свет. Пусть, мол, двигается, пока никто не видит.
А потом открыл. Совсем чуть-чуть открыл, и замер кадрик. Говоря по-ученому, кадрик проектируется на экран.
Ничего этого зритель, конечно, не замечает. Потому что пленка рывками передвигается со скоростью двадцать четыре кадрика в секунду.
Пока у нас все идет хорошо. На киноаппарат уже можно смотреть, его можно потрогать руками, он солидно высится на столе. Не хватает отдельных мелочей и одной очень важной вещи — двух совершенно одинаковых конических шестеренок.
Этого сделать из консервных банок и разных железок, конечно, мы не можем. Конические шестерни — заводская работа.
— Конические шестерни…— вдруг среди работы вздыхает Женька, и мы все тоскливо смотрим друг на друга. Просто опускаются руки.
— Молчал бы уж лучше,— советую я Женьке.
— Молчи не молчи, а без шестеренок не обойтись,— говорит Женька.— Что же придумать?
Вот люди живут себе и даже не знают, что одна шестерня может передать другой вращение под прямым углом.
Сколько раз в школе нам говорили про этот прямой угол, а мы не слушали. Думали, что он нам ни к чему. Обойдемся и без него. И вот сейчас он нас подстерег, спрятавшись в киноаппарате. Без этого прямого угла ни один киноаппарат не работает.
В каком-нибудь будильнике или ходиках можно без прямого угла. Там у них стрелки движутся плавно, без скачков. Когда они ползут себе по кругу, их никто не перекрывает. Их все время видно. А если эти стрелки начнут двигаться скачками, то все люди будут прыгать.
Вот проснулся, допустим, Ларискин папа. Ну, конечно, на часы посмотрел — все в порядке. Не опоздал. Умылся. Делает зарядку. Потом бреется. Потом в окно на нас смотрит. Ну, потом, наверное, завтракает. Лариска, конечно, тут же. Он в окно смотрит, про нас что-то говорит.
Идут себе часики плавно. Значит, позавтракал Ларискин отец и, как в кино показывают, поцеловал жену, Лариске пальчиком погрозил и на лестницу. Ну и конечно, мимо нас прошел.
А вот, если часы сделать скачками, то что будет?
Не успел умыться — тебе скачок: давай, мол, дальше. Только за бритву — опять подталкивает: давай дальше. Только он захочет сказать, что мы хулиганы, а ему стрелка — раз! Давай дальше.
Но так в часах не бывает. Просто это людям не нужно.
А вот в кино обязательно лента должна идти рывками. И каждый ее рывок прячет от зрителя наша жестянка из консервной банки. И эта жестянка в форме лопасти должна вертеться под прямым углом к движению ленты. Вот почему нам нужны две конические шестеренки. А где их взять?
Достали дверную медную ручку. Попробовали из нее выпилить трехгранным напильником. Зажали в тисках. Один зуб еще кое-как получается, а вот остальные пятнадцать нет. Уж очень точная работа. Наверное, ни один профессор не выпилит все шестнадцать зубцов, да еще на конус.
Женька предложил отлить эти шестеренки из олова. Он из пластилина, не дыша, ланцетом делает формочку. Мы у него за спиной. Как у него спина занемеет, мы ее дружно растираем, и он опять ковыряется ланцетом в пластилине.
Теперь нужно достать олово. У Ивана Ивановича выпросили оловянную палочку. Он часто дома что-нибудь паяет.
С тех пор как Женька подарил ему пластилинового конармейца на коне, Иван Иванович всегда останавливал нас около своего окна, интересовался, как идут дела, кашляя, спрашивал:
— А инвалидам кино бесплатное?
* * *
У меня дома разогреваем олово в консервной банке на керосинке.
Поплевываем в банку, трогаем олово палочками, а оно не плавится.
Нонке это не нравится. Она нас выпроводила. Пришли домой к Женьке. Развели на кухне примус. Женькина мать походила вокруг, спросила:
— Вы что там жарите? Оно не взорвется? Мы ее успокоили, и она ушла.
На примусе прямо чудеса получаются. Дрогнула, размягчилась оловянная палочка, и вдруг из-под нее потекли блестящие капли. А потом и вся она медленно растаяла и стала одним сплошным чистым зеркалом.
Мы шепчем: - Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
— Мировецки,— говорит Славик, тянется на носках и всех спрашивает, что сейчас происходит в консервной банке.
Жирная пластилиновая форма наготове. Женька осторожно плоскогубцами снимает с огня банку и медленно наклоняет ее к пластилину. Потекло жидкое зеркало струйкой в формочку, и сейчас же началось шипение, треск и все окуталось едким дымом.
На наших глазах формочка как-то лениво развалилась, и олово весело скользнуло со стола на пол. И сейчас же и на полу и на столе вспыхнули голубые огоньки.
Мы даже ничего не успели сообразить, как олово отчаянно зашипело и вся кухня окуталась паром. Лидочка спокойно поставила чайник на стол, покрутила пальцами около виска:
— Фантазеры. Вы бы еще из мороженого форму сделали.
В общем, опыт с литьем не удался. Один Славик охотно собирает на полу блестящие шарики и очень доволен.
— Давайте еще так,— предлагает он.
И опять к нам в сарай заползло противное уныние. Где же достать эти несчастные шестеренки?
Пришел Бахиля. Посмотрел на нас, все понял, молча уселся на пороге.
— Может, в гипсе попробовать отливать. У отца есть гипс. Я принесу.
Женька не согласен. Говорит, что гипс тоже не выдержит. Женька скульптор, ему виднее.
— А что, если из двух ластиков?— предполагает Лидочка.— Вырежем из ластиков два кольца. Тесно их прижмем друг к другу, вот так,— показывает она,— ведь у резины большое трение. А?
Мы обдумываем, молчим. Один Славик подтвердил, что у резины большое трение, и напомнил про тетрадь с дырками.
Из двух ластиков вырезали два конуса. Плотно посадили их на оси, прижали друг к другу: вращаем одну ось, вращается и другая. Закрепили на оси нашу жестяную ось. Пробуем. Вращается.
Сейчас только Славик крикнул:
— Мировецки!
А мы все помалкиваем. Дело в том, что с нагрузкой резиновый конус все-таки, как ни нажимай, проворачивается.
Отдали оба конуса Славику. Ведь скоро в школу. Скоро он раскроет новенькие, без клякс, тетради.
Целыми днями не выходят из головы эти проклятые шестеренки. Мы бредим ими, мы спрашиваем о них у взрослых, а Славик даже тайно от нас исследовал дома швейную машинку, после чего три дня его не выпускали на улицу.
Мы ищем эти шестеренки во всем, что хоть чем-нибудь напоминает технику: в мясорубках, в электрическом звонке, в будильнике и даже в уборной, в сливном бачке.
Неудачи расхолаживают нас. Славик начал строгать себе пистолет. Мишка принялся выпиливать расческу. То же самое немедленно подхватили Женька с Левой.
Дело в том, что у нас вдруг как-то сами собой незаметно появились шевелюры. В моду входил «политический» зачес. Это значит, волосы смачиваются водой, а потом зачесываются назад и весь день прижимаются тюбетейкой. К вечеру тюбетейка снимается и, пожалуйста,— днем был просто Женькой, а сейчас, вечером, полюбуйтесь: Евгений Кораблев с «политическим» зачесом, да еще поверх куртки с «молнией» белеет воротничок рубашки «апаш».
Ну, это все ничего. Пусть ребята пофорсят. Меня и Лидочку пугает другое: мы перестали по-настоящему работать.
Днем еще кое-как водим напильниками по железкам, а к вечеру, когда засеребрятся от света из окна листья тополей, ребята чутко прислушиваются к разным звукам в нашем дворе.
Я знаю, чего они ждут. Это Ларискин патефон. Гога из дом пять и Лариска со своими хохочущими новыми подружками вытаскивают прямо во двор патефон, и с этой минуты наши напильники двигаются в такт «Утомленному солнцу».
Первым не выдерживает Женька.
— Пойду посмотрю немножко,— говорит он и виновато просит Лидочку полить ему из кружки на руки.
Потом, сняв тюбетейку, «чуть-чуть посмотреть» уходит Мишка, за ним Лева. А потом и я, избегая взгляда Лидочки. Славика загоняют домой, и только одна Лидочка остается в сарае. И еще долго электрический свет сквозь щели сарая мучает нас, не дает спокойно танцевать.

Гога утешает:
— Да брось ты на свой сарай любоваться. Не все же работать. В жизни только раз живем. Хватай вон ту с косичками. А я Лариску. Лариса, прошу вас,— наклоняется он перед Лариской.
Я иду к сараю. Здесь Лидочка подметает пол, раскладывает по полкам наш инструмент.
— Ты чего же вернулся?— спрашивает она.
— А ты что думала? Так я и уйду?
— Ничего я, Алешка, не думала. Просто скоро в школу, а еще столько нужно сделать.
— Какое число сегодня?
— Пятнадцатое августа. Через три дня День авиации. Забыл?
Я молча помогаю ей убираться. Потом приходит Мишка, садится на стол, натягивает свою тюбетейку.
— А ты чего пришел?— спрашивает его Лидочка.
— Не танцуется,— вздыхает Мишка.— Сейчас отца проводил. В ночной полет. Тренировка у них ко Дню авиации.
Во дворе хохочут девчонки, патефон разоряется:
Все хорошо, прекрасная маркиза, И хороши у нас дела… Но вам судьба, как видно, из каприза, Еще сюрприз преподнесла…
Лева с Женькой возвращаются вместе.
— Ну их,— говорит Лева и разыскивает свою тюбетейку.
— Где их достать, эти несчастные шестеренки?— смотрит в потолок Женька.
Мы помалкиваем.
Патефон надрывается совсем близко у сарая. Лева выглянул, засмеялся:
— У самой двери установили. Взвизгивает, дразнит патефонная пластинка:
Раз живем на свете
Настя, Настя, Настенька…
Раз ведь молодость бывает нам дана…
— Ребята,— говорю я,— так дальше нельзя. Ведь скоро в школу.
— Ну, а где достать шестеренки?— горячится Мишка.— Все равно дальше тупик.
А за стенкой сарая патефон настойчиво сообщает:
Марфуша все хлопочет,
Марфуша замуж хочет,
И будет верная жена…
Лева косится на дверь, морщится, потом встает, медленно всех обводит очками:
— А как же наша клятва? Ведь даже землю ели.
— Не будем больше танцевать!— горячится Женька.
— Ты ведь первый уйдешь, как патефон услышишь,— говорю я. Женька не отвечает, долго лохматит свой «политический» зачес.
— Придумал,— упавшим голосом говорит Лева.— Нужно всем остричься наголо.
Мы задумались. Молчим.
— Правильно!— вдруг кричит Мишка.— Тогда отступать будет некуда. Как говорится, позади Москва.
— Все-таки жалко,— мнется Женька.— На солнце не так печет.
Мы осторожно трогаем дорогие нам зачесы, смотрим на Лидочку. Она смеется:
— Волосы потом еще лучше будут расти. А какое теперь солнце? Уже осень скоро.
— Ну, так как?— спрашивает Лева и смотрит не на нас, а на аппарат.— Решили?
— Решили,— тихо отвечаем мы.
За дверью радостно захлебывается патефон:
А Маша чаю, чаю наливает, И взор ее так много обещает…
Лидочка встает, поднимает руки:
— Ребята, нам нужен свой гимн. Я предлагаю «Не спи, вставай, кудрявая…» Начали.
Лидочка весело дирижирует, а мы все хором:
Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река, Кудрявая, что ж ты не рада Веселому пенью гудка…
Хорошо звучит песня в тесном сарае. Бьется она о стенки, взлетает к потолку.
Мишка дверь открыл, и бодро, задорно понеслась песня в темный двор:
Не спи, вставай, кудрявая, В цехах звеня, Страна встает со славою Навстречу дня…
Нам видно, как Гога и его дружки осторожно оттаскивают стул с играющим патефоном подальше от нашего сарая.
Утром я первым делом — к зеркалу. Рукой прикрыл свой зачес. Ничего получается. Можно стричь. Сойдет. Боком повернулся, тоже ничего. Жалко, не видно, что получится сзади. Ну, наверное, сзади как спереди.
— Ты чего там вертишься у моего зеркала?— Это сонный голос Нонки.— Ведь еще молоко на губах, а уже фасон. Все девочки на уме.
— Эх, Нонка, Нонка…
— Что, Алешка?
— Ничего-то ты не понимаешь.
— Я все понимаю. Постарше тебя. Пережила это.
— Что это?
— Ну, вот это самое.— Она высунула руку из-под одеяла, рисует что-то вроде головы и кудрей.
Что с ней говорить!
Просто не о чем с ней разговаривать.
Во дворе на скамейке — все ребята.
— Долго ты,— говорит угрюмо Женька.
— Нонка задержала.
— Чего она?
— Да хочет тоже остричься… Все советовалась. Лидочка заинтересовалась:
— Как? Совсем?
— Да как тебе сказать… Что-то там оставить, а что-то отрезать.
Лидочка успокоилась.
Женька осторожно свою шевелюру потрагивает. На нас не смотрит, все больше к Лидочке обращается:
— Вообще-то ребята… Вот возьмем древних греков.
Мы переглянулись и взяли этих «древних греков». Женька продолжает:
— У них все скульпторы, поэты там разные все с прической…
— А кто же наголо бритые?— спрашивает Лидочка.— Я в музее видела. У них много без волос.
Ну, это разные мудрецы, ученые, изобретатели — те, верно, лысые.— Подумал, уточнил: — А может, стриглись наголо… Я не знаю.
— Ты куда, Женька, гнешь?— вдруг сердится Лидочка.— Жалко волосы? Так бы и сказал сразу. А то — поэты, скульпторы… Алешка, ребята, пошли…
Мы идем. Это только так говорится: «Мы идем». А в самом деле мы передвигаемся. Скачками, как кинопленка.
У входа в парикмахерскую переминаемся. Фотографии разные и парики на витрине рассматриваем.
— Алеша,— говорит Лидочка.— Ну? Что же ты встал? Я шагнул в зал, словно в школе к врачу на уколы. Обкрутили салфеткой. В зеркале мне видно: суетится около черненький, сухонький парикмахер, весь в белом. Над головой ножницы пробует, воздух стрижет.
— Как вас, молодой человек? Я молчу.
— Бокс? Полубокс? Полечку?
— Стригите наголо,— слышу я голос Лидочки. Ножницы застыли.
— Как вы, барышня, сказали?
— Стригите наголо. Ну, чего же ты молчишь, Алеша?
— Наголо,— подтверждаю я. Остригли.
Потом сразу Женьку и Мишку остригли. Мы ждем, пока и Леву остригут.
— Это почему же вас всех наголо?— участливо спрашивает пожилая парикмахерша, пригнув Левин затылок так, будто хочет приклеить его подбородок к груди.
В больших зеркалах нам все видно. Мы любуемся стрижеными головами, друг другу подмигиваем. Вообще-то ничего получилось.
— Это зачем же вы так? Все вдруг наголо?— опять спрашивает парикмахерша.
— В армию они идут,— серьезно говорит Лидочка. Парикмахерша губы поджала, дальше стрижет Леву молча.
А наш черненький худенький мастер то сидел тихонько в своем кресле, одеколоны разные на себе опробовал, а тут вдруг встал, расческой по стеклянному столику постукивает:
— Кларцета Федоровна, нужно читать прессу. Между прочим, мы на салон получаем газету. Что я вам всегда говорил? Я вам говорил, что будет война.
Мы поскорее друг за другом к выходу.
На улице как-то холодно без волос. Ну, ведь это еще утро, а скоро солнце припечет. Прошли гуськом в наш двор, и скорее в сарай.
Сначала зашелестел чертеж, а потом к утренним шумам Плющихи присоединилась вся наша техника: напильники, молоток, сверло.
В общем, стараемся.
Оно бы все хорошо. Да вот поджидают нас две конические шестерни.
В дверях Славик нарисовался. Яблоко жует. Присел прямо у входа, сам себе подмигнул, задумался:
— Это вы нарочно?
— Что, Славик?
Он по затылку яблоком трет:
— Ну, волосы? Это вы нарочно?
— Так надо, Славик. Вот, давай как мужчины с мужчиной…
— Давай,— вяло соглашается Славик и нерешительно трогает свой чубчик.
Лидочка берет его на руки, осматривает мордашку, сердится:
— И в чем это у тебя лоб?
— Где?
Она показывает. Славик искренне удивляется:
— Неужели не догадались? Ведь я же на чердак лазил. Там от гитары была штука такая с шестеренками, крысоловки разные, а ботинок на крепкой резине сколько хочешь. Пошли, посмотрим.
В дверях обозначился граф де Стась. Конечно, с персиком.
— Граф, подари персик Славику,— предлагает Лидочка. Он на аппарат засмотрелся: что означает — не слышит.
— Граф, отдай персик Славику.
Плечами пожимает. Куснул чуть персик, протягивает Славику:
— Пожалуйста. А что?
В сарай Жиган заглянул. Хмурый, усталый. На нем рабочий комбинезон в масле. Жиган прямо из ночной смены. Знать, так и шел от самого завода в спецовке. Наверное, хвалился перед прохожими: вот, мол, я иду. Рабочий человек.
— Бахилю не видели?
— Нет, не видели.
Он присел на порожке, потянулся, закурил.
— Ну и устал я сегодня, ребята,— говорит Жиган. Мы молчим.
— Понимаете, цех срочное задание получил,— он помолчал, огляделся, сказал шепотом: — военный заказ.
Мы молчим.
— Всю ночь вкалывали, как черти. Мастер благодарность вынес.
Один Славик заинтересовался, на Жигана смотрит, а мы своим делом заняты.
— Устал же я,— опять вздыхает Жиган. Мы с чертежами возимся…
— Что же вы молчите?— тихо спрашивает он.— Что же вы молчите, черти лысые?
Согнулся Жиган, папироской на порожке точки делает.
— Ведь я же устал,— говорит он сам себе и потом долго молчит.
Пришел Сережка Бахиля. Жиган на него — никакого внимания. Сидит и молчит. Потом встал, подошел к столу, аппарат разглядывает. Попробовал осторожно ручку покрутить, удивился, что все вдруг завертелось, кроме обтюратора. Пальцем его потрогал, подумал, сказал:
— Сюда нужны конические шестерни.
— Сами знаем,— говорит Женька.— А где достать?
— Где?— удивился Жиган.— Сделать надо. На заводе.
Лидочка ему скорее чертеж подсовывает. Он быстро, почти без нашей помощи разобрался, где должны быть шестерни, на сколько зубцов и какого размера. Закурил, пустил дым в потолок:
— Ладно, сделаю.
— Когда?
— Дня через два. Слово — закон.
Мы смотрим на Жигана и не знаем — кричать ли нам, прыгать ли. Только Славик сказал:
— Вот мировецки!
— А для чего вы все остриглись?— спросил Жиган.— Школа требует?
Мы все ему рассказали. И про танцы, и про нашу клятву, и про то, что скоро в школу.
Он слушал, крутил головой, улыбался. Потом нахмурился, снова за папироску, дым в потолок:
— Ладно, завтра будут шестеренки.
— Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
— Мировецки!— Славик подставляет Жигану консервную банку.— Вот сюда пепел.
И только сейчас Жиган заметил Бахилю, на нас показывает:
— Вот, Сережка, учись. Академиком будешь. Он шагнул к дверям, оглянулся:
— Эх, и устал же я сегодня.
— Еще бы,— говорим мы,— ведь военный заказ. Иди поешь и поспи.
— Ты на правом боку спи,— советует ему Славик.— Тогда сердце не устает.
Он слабо улыбнулся, потрепал голову Славика, хотел что-то сказать, да махнул рукой, отвернулся, вышел.
— Спокойной ночи,-^ кричит ему вслед Славик.
Наступило утро следующего дня. День авиации. Небо такого цвета, как если капнешь синими чернилами в стакан чистой воды.
У Мишки есть один пригласительный билет на аэродром в Тушино. У нас нет ничего, кроме тонкой резинки. Этой резинкой Мишка должен послать нам свой билет обратно через цепи милиционеров. Мишка завязывает резинку на пальцах, прикидывает:
— А если заметят, то скажем, что мы родные братья. Снимем тюбетейки и, пожалуйста,— все одинаково лысые.
— А как же я?— спрашивает Лидочка и рассеянно крутит в руках мамин театральный бинокль.
Мы смотрим на Лидочку. Думаем.
— Очень просто,— говорит Славик.— Отдадим ей билет. Мы же мужчины. Протыримся. Я скажу, что потерял маму. А вы скажете, что потеряли меня.
Лева хмурится:
— Подожди. Но ведь тебя же никто не берет.
— А мне мама разрешила. Вот и бутерброд дала.
— Ну и протыривайся вместе со своей мамой.
Славик смотрит на нас, как на самых последних предателей. Он даже не утирает слез. Он просто удивленно смотрит на всех по очереди и молчит. Даже не молчит, а говорит мокрыми глазами.
— Ладно, пойдем,— не выдерживаю я.
* * *
В общем, или милиция очень любит детей, или дети очень любят авиацию, но мы на Тушинском аэродроме.
Народу полно. У всех какие-то бумажные козырьки от солнца, все смотрят в небо, а еще тянутся на носки, смотрят туда, где очень далеко на трибуне стоят люди в белом. Мишка спрыгнул с моей спины, почему-то шепотом сказал, что он видел Сталина.
И какой бы самолет с могучим ревом ни пролетал над нашими головами, Мишка машет и громко кричит:
— Папа!
— Сколько же у тебя пап, мальчик?— смеются вокруг. А потом самолеты начали «воздушный бой». Их пулеметы распарывают небо, дико завывают моторы.
В небе — бомбардировщики. Они точно бомбят фанерную цель. В бинокль видно, как от земли подскакивают вверх в дыму, в огне какие-то куски дерева, листы фанеры.
— Алеша, так и на войне будет?— прижимается ко мне: Лидочка.
— На войне еще страшнее,— радуется Мишка.
— Глупый какой,— говорит Лидочка.
Небо расцветилось куполами парашютов. Радио разносит над аэродромом бодрую песню:
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью… Преодолеть пространство и простор…
Славик хлопает в ладоши, смеется прямо в небо. Ему сейчас очень хорошо. Он ничего не боится. Он здорово устал и, наверное, сегодня очень спокойно уснет. А чего ему бояться, если наша авиация самая сильная в мире!
Уже стемнело, когда мы доплелись до дома. У сарая Жиган сидит, покуривает. Поздоровался и сразу в карман. На ладони желто поблескивают новенькие конические шестеренки.
— Вот, возьмите…
Присел на корточки, папироску раскуривает. Лидочка его сзади тихо за плечо трогает, он молчит.
— Жиган,— говорит Лидочка,— как тебя зовут?
Он удивленно на всех нас смотрит, не поймет, о чем его спрашивают.
— Жиган — это прозвище,— замялась Лидочка,— а зовут как?
— Ну, Колька. А что?
— Спасибо, Коля.
Он встает, отряхивается.
— А ну вас…— и медленно идет к калитке. Обернулся, замялся, спросил:— Та из райкома у вас не появляется? Нет?' Как придет, то приветик ей.
Хлопает калитка. Мы открываем свой сарай и сразу прилаживаем шестеренки.
— Влюбился он,— говорит Лидочка.
— А как ты знаешь?
— Когда задумчиво говорят, то всегда влюбляются. Мама так все роли про любовь учит.
— Может быть,— неопределенно соглашаюсь я.
— Ты бы хоть раз задумчиво что-нибудь сказал,— шепчет Лидочка,— а то только и умеешь, что орать.
— Лидочка,— говорю я задумчиво,— а в твоем бинокле хорошие линзы. Давай его разберем.
— Нет, вы только посмотрите на него,— удивляется Лидочка.
— Тише вы,— сердится Лева,— Алешка, прижми клещами этот винт.
Наконец-то тесно прижались друг к дружке шестеренки. Наконец-то закрутился, как пропеллер самолета, наш обтюратор.
Аппарат на пол поставили, сами расселись на верстаке. Сидим, молчим, любуемся.
— Сделали все-таки,— говорит Женька.
— Сделали,— сам себе удивляется Мишка.— Надо же.
— Чудно как-то все,— протирает Лева очки.
— Ну-ка, еще крутани,— прошу я Лидочку. Она сначала осторожно, а потом все увереннее, все быстрее крутит ручку нашего аппарата. И все в нем крутится, все в движении, все солидно жужжит, пощелкивает.
— А вон тот гвоздь мой!— радостно сообщает Славик.
— Собственник несчастный,— улыбается Лева.— Все это наше, общее.
Славик не понимает, беспокоится:
— А зачем вы меня тогда ругали за тот гвоздь? Можно, я покручу?
Крути, Славик! Крути. Ведь там и твой гвоздь. Все накрутились вволю. Сидим, друг на друга смотрим. Все-таки все очень хорошо на свете! Ну, просто здорово!
— Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
— Мировецки!
— Алешка, ну скажи что-нибудь задумчиво,— просит Лидочка.
В дверях — Гога из дом пять. За ним — всем «здравствуйте» — Лариска.
— Вы чего тут разорались?— спрашивает Гога. Мы дружно болтаем ногами.
— Аппарат закончили. Вот, смотри.
Он пригибается, обходит аппарат вокруг:
— Мне можно покрутить?
— Валяй!
Потом покрутила Лариска.
— Ну, хватит,— останавливает ее Лидочка,— его еще нужно смазать.
— Правда, обтюратор похож на самолетный пропеллер?— спрашивает Славик Гогу.
— Нет, это просто кусок консервной банки,— морщится Гога.— Самолетный пропеллер — это знаешь какая вещь? Там все изогнуто.
Славик не соглашается.
— А я видел сегодня. Когда быстро крутится, то похож.
— Где ты видел?
— Ну, на празднике… на аэродроме.
Гога плечами пожимает, на Лариску смотрит.
— Что ты там увидел?
— Настоящие боевые самолеты,— упрямится Славик.
— Он видел самолеты,— пожимает плечами Гога.— Вы только посмотрите на него. Какие? Табуретки?
— Нет, боевые. И они стреляли.
— Ребенок, это же чепуха. Вот у немцев самолеты, так это настоящие боевые. Я у отца в заграничном журнале видел. Вот это© самолеты! Сильнее наших.
— Врешь ты,— тихо говорит Мишка. Гога на Лариску оглядывается, торопится.
— Почему вру? Пожалуйста, принесу журнал.
— А летчики?— спрашивает Мишка.
— Что летчики?
— Где летчики лучше?
— Наши летчики, конечно, хорошие,— тянет Гога,— но, понимаешь, Мишка, у них опыта нет. Они же еще не воевали. Так?
Все молчат, только одна Лариска кивнула Гоге.
— А какой у тех опыт?— это хмурится Лева.
— Ну как, какой? Они вот бомбили Абиссинию, Испанию…
— Значит, мирных жителей?— спрашивает Женька.
— Ну, значит, цель,— недоумевает Гога.— Как вы не поймете. Значит, меткость.
— Папка никогда так бомбить не будет,— медленно говорит Мишка.— Я знаю. Он хороший.
— Ну, твой не будет. А другие будут.
— И другие наши не будут.
— Почему?
— Потому что они папкины товарищи.
— А что же они будут делать?— это спрашивает Лариска.— Их же пошлют.
Гога добавляет:
— Им же за это платят.
— Они будут сбивать врага в воздухе,— говорит Лидочка.— И не за деньги.
Распахнулась дверь сарая.
— Здравствуйте, товарищи!— Это Мишкин папа. Улыбается:— Ты здесь, Миша? Ну, как, прошел на аэродром?
Окружили мы летчика, трогаем его, радуемся:
— А мы все протырились. Все были. И вас видели.
— И я вас видел,— смеется он.— Крылом качнул, помните?
И все вдруг вспомнили. А ведь действительно нам кто-то качал крылом.
— Вы на бомбардировщике?— догадывается Лева.— Один нам качнул…
— Нет, на истребителе.
— Ну, все равно нам кто-то качнул крылом.
— А это что у вас?— удивляется летчик — Аппарат? Закончили?
— Покрутите за эту ручку,— просим мы.— Не бойтесь. Он крутит, а мы все улыбаемся.
— Можно еще. Ну, пожалуйста.
Он опять крутит. Наш аппарат работает ровно, четко, наверное, как настоящий боевой самолет.
— Правда, наш обтюратор похож на пропеллер?— спрашивает Славик.
— Правда.
— А правда, что наша авиация самая сильная в мире?— спрашивает Женька.
Летчик зачем-то снимает фуражку, задумчиво поправляет на ней красную звездочку, говорит строго:
— Будет.
Козырнув нам, он уходит, прихватив с собой Мишку. Я наклоняюсь к Лидочке:
— Вот он тоже говорит задумчиво, значит, по-твоему, влюблен?
— Конечно.
— В кого?
— В самолеты и в Мишкину маму. Наш двор оглашается криками:
— Лева, немедленно чай пить!
— Ларисочка, доченька, скорее домой! Папа торт принес.
— Славик, а ну-ка домой! По тебе ремень плачет!
— Алешка!— это голос Нонки.— Домой! Мы прощаемся с Лидочкой.
— Знаешь что?— говорю я задумчиво.
— Что?
— Давай всегда дружить. Мне хорошо с тобой. Она зажмурилась, крепко трясет мою руку:
— А мне с тобой ну просто очень, очень хорошо!..
* * *
У нас дома в гостях незнакомая женщина. Чай пьет из маминой чашки. В пепельнице окурки со следами губной помады.
— А мы аппарат закончили,— громко объявляю я. Но никто не радуется.
— Этот?— спрашивает женщина, оглядывая меня с ног до головы.
— Этот,— улыбается мама.— Разбойник мой.
Мама суетится, подливает ей чай, двигает вазочки с вареньем. Лицо у нее жалобное, как будто она что-то выпрашивает, ждет.
— Ну, что же, такой рост с базы получим. Как раз перед учебным годом.
— Спасибо, Матвеевна, спасибо,— торопится мама.— Я уж отблагодарю.
Женщина останавливает ее, говорит, что-то подсчитывая:
— Значит, тридцать первого часов в шесть утра подходи к магазину.— Она опять смотрит на меня, прикидывает: — Да, на его рост будет.
Я понимаю, о чем идет разговор. Скоро в школу, а у меня нет костюма.
— Спасибо, Матвеевна, большое спасибо,— суетится мама. И пока та в кухне надевает макинтош, мама торопливо отодвигает ящик комода, шелестит бумажкой.
— Дай ты,— шепчет она Нонке,— я не знаю как. Нонка брезгливо морщится, отказывается. Мама неумело складывает бумажку в несколько раз, виновато выходит на кухню.
Слышно, как хлопает дверь. Мама возвращается повеселевшая, садится за недопитый чай.
— Ну вот, Алеша, будет у тебя костюм. Добрый человек помог.
— Я бы ее в милицию,— сердится Нонка,— а ты ей взятку сунула. Жулик она. Вот кто.
Мама часто моргает, чашка дрожит у нее в руках:
— Нона, а как же быть? Парень уж жених. А в магазинах пустые полки. Как же он в школу пойдет? С заплатками?
Потом она долго молчит, пьет чай. Нонка вдруг что-то вспоминает:
— Где ты целый день гонял?
— На воздушном параде. В Тушино. А что?
— Тебя Костя спрашивал. Какую-то вещь тебе оставил. Вон на окне.
Я мигом к окну. Торопливо развертываю увесистый сверток. Ну, так и есть — кинопленка. Туго, аккуратно скрученная, она загадочно поблескивает у меня в руках. Сразу ее на свет. Рассматриваю. Этот кусок из какого-то киножурнала.
Вон спускается на воду корабль, а вот маленькие дети в яслях… Дальше смотреть не стал, скрутил ее, сунул за пазуху и к двери:
— Мама, я только на минуточку в сарай.
Долго не попадает ключ в замок. Никак не мог нащупать выключатель. Об гвоздь расцарапал руку. Наконец вспыхнул свет. Вот он, наш аппарат. Я заряжаю тяжелый моток в верхнюю бобину. Послушно вставляется гибкая пленка в фильмовый канал, и через валики попадает в нижнюю бобину. Пленка почему-то вдруг липнет к рукам, и я с трудом соображаю, что это моя кровь.
Зализал царапину, включил свет в аппарате. Прямо на стенке сарая вспыхнул ровный прямоугольник.
Вот и все. Осталось закрутить рукоятку, и на этой стене задвигаются люди, поплывут корабли, поскачет конница.
Я закрываю глаза, кручу ручку. Аппарат мерно, четко стрекочет. Открыл глаза и даже стало жутко — на стене надпись: «Англия уже потеряла господство на морях…» А потом прямо на меня, покачиваясь на волнах, движется корабль. На палубе суетятся матросы. Зашевелились, нащупывая цель, орудия. И какой-то моряк быстро-быстро размахивает флажками.
Я остановил ручку, и сейчас же замер матрос с флажками.
В дверь сарая кто-то настойчиво стучит, какие-то крики. Открываю. А это Мишка, Женька, Лева. За ними встревоженная Лидочка.
— Я вижу из окна свет в сарае,— отдувается Мишка,— скорее за Левой. Думал, жулики. А он уже сам выбегает. Ты что тут делаешь?
Я молчу. А что им говорить? Разве они сами не видят? Начинаю крутить ручку, минуту все молчат, а потом поднимается такой шум, будто на Красной площади в день Первого мая.
— Это Костя пленку принес,— объясняю я, но меня никто не слушает. Мишка делает на голове стоику и отчаянно орет. Лидочка, присев, зажимает уши и пронзительно визжит. Лева и Женька вдруг схватились бороться.
В одних трусиках прибежал перепуганный Славик, за ним в сарай ворвалась его мать.
— Славик, крути ручку ты,— кричу я.— Смотрите, мама, что ваш сын сделал!
Славик осторожно крутит ручку, и на экране по каким-то горам друг за другом двигаются пограничники с собакой, а потом надпись: «Большой любовью пользуется новый душ у рабочих завода «Красный пролетарий». Какие-то голые дядьки брызгаются и смеются под струями воды.
— Не надо так быстро крутить,— слышим мы голос от двери. Это в одном халате прибежала мать графа де Стася.— Я тиски для них не пожалела,— говорит она Славикиной матери.
— Подумать только,— удивляется мать Славика,— и мой все лето без воздуха. Сарай да сарай.
Мы снова заряжаем пленку. Женька предлагает показывать кино прямо во дворе. Я бегом домой за простыней. Мама сердится, не дает:
— Какое еще там кино?
— Ну, выйдем, посмотрим,— тяну я ее и Нонку.
— Так я и пойду непричесанная,— упирается Нонка.— Выдумывает тоже.
Простыню все же дали. Кое-как мы пришпиливаем ее к забору, и вот луч аппарата прямо из сарая проколол темный двор и сразу ярко забелела простыня.
Откуда-то появился Гога из дом пять. Суетится, наводит порядок, зрителей рассаживает. Кого на скамейку, кого на кирпичи, сам уселся вместе с Лариской впереди всех, командует:
— Давайте. Можно начинать!

Я кручу ручку. И вот на моей простыне настоящее море. По нему плывут настоящие корабли…
Изо всех окон двора свесились головы жильцов. Кто-то тихонько гладит мой затылок. Оглянулся: Иван Иванович. Ему трудно стоять на костылях. Лидочка где-то стул достала, осторожно усаживает бывшего пулеметчика революции.
Рядом Ларискин отец. Стоит, хмыкает, подтяжками щелкает. Мне видно, как Гога из дом пять, будто нечаянно, по дожил руку на Ларискино плечо: увлекся, мол, фильмом. Ну, прямо все как у взрослых в настоящем кинотеатре.
Я перестал крутить аппарат, а он руку не снимает.
Зрители зашумели, засвистели, затопали. Кричат:
— Сапожник!
В общем, все как в настоящем кино.
Раз пять мы прокрутили нашу пленку, а народ не расходится, требует еще и еще. Потом все стали аппарат рассматривать.
— Так вот где колесики от кровати,— удивляется моя мама.
А это ремень от моей швейной машинки,— почему-то хмуро делает открытие мать Славика.
— Позвольте, позвольте,— близко нагибается к аппарату Ларискин отец,— да ведь это же электропатрон с нашей лестничной клетки…
Я выключаю свет. Во дворе темень.
…Хорошо засыпать на простыне, которую только что обласкало море.
С утра мы уже в сарае. Женька тонкой кисточкой разрисовывает на плотной бумаге пригласительные билеты для райкома комсомола.
Чего только не нарисовала веселая кисточка на этих билетах! Здесь и голубой луч, и сверху красная звезда, серп и молот, и даже по углам якоря. Зачем якоря — не знает даже Женька. Но, в общем, все очень красиво. На одном из билетов чернилами написали (Лидочка писала. У нее самый аккуратный почерк):
«Уважаемый товарищ Наташа!
Кино готово наше!
Приходите, когда стемнеет,
Мы все вас очень ждем».
Внизу все подписались. Славик добавил к своей подписи: 6X8 = 48.
Так. Билеты готовы. Еще чуть подсохнут и готовы.
Мы на них по очереди дуем. А упрямая краска не сохнет. Обидно, если размажется.
— Понесем в руках,— предлагает Лидочка.
Мы идем в райком комсомола. Идем к Наташе.
Перешли Садовое кольцо. Вот он, в зелени, веселенький, аккуратный, словно тортик, райком.
— Значит, так,— останавливается Лева.— Сначала вытрем ноги, а потом всем скажем «здравствуйте!».
— А потом?
— Ну, а потом отдадим билеты, и все.— Не отдадим, а вручим.
— А как это — вручим?
Стоим, переглядываемся: ни мы, ни нам еще никто никогда ничего не вручал. Мишка говорит:
— Пусть один выйдет вперед, а мы все позади. И пусть он скажет: «Дорогая Наташа…»
— А мы что будем делать?
— А мы? Ну, наверное, улыбаться…
— Как?
— Ну, как Джоконда,— предполагает Женька. Меня просто зло берет:
— Да ну вас, с вашей Джокондой. Скажем просто: «Мы построили киноаппарат. Приходите, посмотрите». И чего тут выдумывать?
— Нет, так просто нельзя. Надо, чтобы все было торжественно. Вот как по радио: «Рапортуем вам и рады доложить, товарищ Сталин…»
Ну уж, если так, тогда, конечно. Идем. Славик спрашивает:
— Мне тоже можно?
Входим в райком. Я коврик ищу. Меня в спину подталкивают. А коврика нет. Тех ребят в коридоре, что в комсомол принимали,— тоже нет. Одно все время вертится: надо вручать билет, надо рапортовать… А как это делается?
— Ну, Алешка,— это толкает Лидочка.— Ну, что ты? Вот и ручка в комнату Наташи. Сама дверь открылась, меня потащила:
— Здравствуйте!
Совсем рядом Наташа. В телефон что-то говорит.
— Здравствуйте,— топчемся мы.
Она нам кивает и опять в свой телефон. Ребята напирают. Я билеты протягиваю.
— Аппарат вот построили…
Она рукой знаки делает, нас приглашает садиться, торопится, на кого-то в трубку сердится:
— Есть же рисунки, картины… есть свои таланты, художники-строители… Почему негде выставить? Прямо на стройке… Ну, прямо на доме. Пусть все видят. Ничего, не размоет.
Она нам рукой показывает: мол, садитесь. И опять — в телефон.
Наконец положила трубку, а нас не видит. Встрепенулась и уже обращается к девушке напротив:
— Ну, Клава, все поняла?
Потом волосы пригладила и — к нам:
— Ну, что у вас, ребята?
Я ей билет подсовываю. Она читает и ничего не понимает.
— Так что же это?
— Ну, билет пригласительный.
— До свидания, Наташа,— это нам мешает Клава.— Я к ним поехала… Все поняла.
— Подожди, Клава, минуточку. Извините, ребята. Мы, конечно, извиняем.
— Ты им расскажи,— медленно, строго говорит Наташа,— про сегодняшний поезд. Расскажи, как детей из лагеря встречали…
Клава кивает:
— Все ясно, Наташа. Ну, я пошла.
За дверь взялась, нам, улыбаясь, кивнула и ушла.
Мне как-то обидно. Вот они сразу друг друга понимают. А мы все лето уткнулись в аппарат и ничего не знаем. Какой поезд? Какие дети из лагеря?
— Ну, садитесь, ребята,— приглашает Наташа. И сама вдруг смеется: — Да ведь вы уже сидите.
Наш пригласительный билет в руках вертит, говорит:
— Хорошо, хорошо, ребята. Молодцы.
А мне видно, что никак еще она не поймет, в чем дело. То на телефон поглядывает, то на дверь, где только что была Клава.
— Наташа,— решаюсь я,— какой поезд из лагеря? Какие дети?
Она встает, ходит по комнате, ловко, сильно щелкает пальцами. Кто-то у меня за спиной так же пробует. Оглянулся: это Мишка. Смутился, руки в карманы.
— Так вот какой поезд,— садится Наташа и подпирает руками голову.— Вчера ребят из лагеря встречали. Вокзал.
Перрон. Мамаши толпятся. Поезд подходит. Мы около райкомовского знамени стоим. Рядом барабанщик, горнист. Ну, вся детвора с цветами, скорее из вагонов к родителям. Соскучились. Такой гвалт — ничего не разберешь. Все отряды перепутались.
Ну, конечно, целуются, смеются. И вдруг слышу: «Мама, кормили гадко. Скучища была страшная. Будили рано. Ни за что больше не поеду».
Смотрю, повис на шее у худой мамы толстый верзила. Ну, наверное, пятый-шестой класс. Вот как вы. А что мне было делать?— беспомощно разводит руками Наташа.— Вмешаться? А тут кругом цветы, ребята загаром хвастаются.
Наташа опять присела, задумалась, наш пригласительный билет в руках вертит.
— Сегодня в пятнадцатой школе интересный вечер будет. Комсомольцы собираются. Клава туда поехала.
— Это же наша школа,— довольные, переглядываемся мы.
— А какой вечер?
Наташа молчит, нас по очереди оглядывает. На дверь осторожно посмотрела, к нам придвинулась:
— Вот слушайте. Из фашистской Германии к нам тайно бежал революционер. И он будет сегодня выступать в пятнадцатой школе. Мы в зале свет погасим, чтобы никто его лица не увидел. И он будет рассказывать. А когда кончит, уйдет, мы опять свет зажжем. В общем, будет встреча комсомольцев в честь нового учебного года. Понятно? А остальное — тайна.
Я смотрю на Леву. Лева — на Мишку. Мишка — на Женьку, Женька — на Лидочку, а Славик — на всех сразу.
— Можно мне туда?— спрашивает Славик.— Я буду очень тихо. Я воды в рот наберу. Вот хотите — прямо из этого графина.
Наташа улыбается, Славика по голове треплет:
— Можно, Славик.
— А нам? Мы ведь не комсомольцы.
Она на часы смотрит, потом снова читает наш пригласительный билет.
— А как же кино?
— Ну, кино после вечера.
— После вечера я не смогу,— почему-то виновато говорит Наташа.— Меня ждут.
— Кто?
Наташа мнется, не отвечает.
Лидочка тихонько меня толкает. Я — Леву. Лева — Мишку. А Мишка — Женьку. Только Славик ничего не понял, головой вертит:
— А вы скажите, что с одним революционером в темноте встречались, и все.
Наташа отворачивается, ищет рукой телефон, потом в окно смотрит, пальцем по стеклу водит. Мне кажется, она беззвучно хохочет. Успокоилась. Повернулась к нам какая-то вся ясная, повеселевшая.
— Ну, ребята, пошли. А кино давайте на завтра.

Вот она, наша пятнадцатая школа. В Москве школ много. А вот наша — пятнадцатая — самая лучшая. Она старенькая. В ней раньше гимназия была. И нам рассказывали, что в революцию в этой школе бои были. То белые ее занимали, то красные. А вот теперь мы. Мишка, Лева, Женька, Лидочка, Славик и я. И еще Лариска. Ну, и Гога из дом пять.
Вошли в школу. Ой, какая она вдруг маленькая! У лестницы на полу большой плакат сохнет; «Добро пожаловать!» Над плакатом важные старшеклассники согнулись, подмазывают кисточками буквы, прищуриваются, покашливают.
Мы идем за Наташей в физкультурный зал. С ней все здороваются, все ее знают. Я вижу нашу учительницу по русскому и литературе Пелагею Васильевну. Еле удержался, чтоб не кинуться к ней. Спрятался за колонну. Еще скажет, что нам нельзя на этот вечер. Прошла мимо. Остановилась. С кем-то заговорила. Я на нее смотрю. Все такая же она, только одета по-другому. Добрая. И улыбается все так же.
— Пелагея Васильевна!— не удержался я и скорее за другую колонну. Она по сторонам смотрит, руками разводит, вся такая радостная, хорошая. Может быть, мой голос узнала.
В физкультурном зале одни старшеклассники. Наташа сразу потерялась, а нас в угол зажали и еще подозрительно осматривают. Все больше на Славика косятся.
— Ты почему здесь, шкет,— больно щелкает его по затылку длинный, лопоухий, весь в прыщах старшеклассник.— Мелюзге сейчас нельзя.
— Ему можно,— выручает Лидочка,— он сын директора школы.
Лопоухий пожал плечами, очень удивился:
— Я знаю его сына, мы с ним в одном классе. Это не тот.
— А этот недавно родился,— убеждает Лидочка.
Лопоухий отошел к своим товарищам, что-то им пошептал, и они все с интересом уставились на Славика. Потом лопоухий протиснулся к Славику, протянул ему перочинный ножичек.
— На, в подарок. Карандаш точить. Я не хотел тебя обидеть, мальчик. Стой, пожалуйста. А спросят дома, где взял, скажи — я подарил. Фамилии не надо, а наружность опиши.
— Угу,— соглашается Славик и сразу увлекся ножичком.
Вдруг в зале гаснет свет. В темноте голос Наташи. Она говорит о том, что сейчас комсомольцев школы будет приветствовать немецкий коммунист.
Ничего из его слов разобрать нельзя, а вот по голосу, по тому, как он то громко, то тихо говорит, я себе представил, что ему было очень трудно пробраться к нам, в Советский Союз. Я даже услышал, как он перепиливал решетку и по нему стреляли фашисты. И еще он, конечно, говорит, что немецкие рабочие никогда не начнут войну с советскими рабочими.
Он закончил. Мы все хлопаем. Старшеклассники кричат: «Рот фронт!»
Потом учительница по немецкому стала переводить. И надо же! Все совпало. Как я думал, так и есть.
Мы опять долго хлопаем. Вспыхивает свет. За красным столом только Наташа, наш директор школы и учительница по немецкому языку.
В зале нарастает торжественная и какая-то очень тревожная песня. Словно чапаевский горнист зовет дивизию в атаку:
Заводы, вставайте,
На битву шагайте…
Я смотрю на Мишку. Он весь подтянулся, руки по швам, глаза направлены куда-то далеко-далеко, может быть, туда, откуда бежал немецкий коммунист. Мишка поет как-то очень сурово, даже грозно:
Не страшен нам белый
фашистский террор,
Наш лозунг — всемирный
восстанья костер.
Так же торжественно поют все ребята, и только Славик стоит молча, крепко зажав в руке свое оружие — маленький перочинный ножичек.
Из школы мы вышли вместе с Наташей.
Она смотрит на часы, торопится:
— Мне к метро, ребята.
— Мы вас проводим.
Наташа разрешает только до угла.
— А теперь я сама дойду. Спасибо.— Она быстро жмет нам руки, делает пионерский салют и исчезает за углом.
— Пошли за ней,— предлагает Мишка.
— С ума сошли,— говорит Лидочка,— дети. Какое вам дело, кто ее ждет? Ну-ка, домой.
— А я знаю,— тоскливо говорит Женька,— ее какой-нибудь парень ждет.
— А тебе что?— набрасывается Лидочка.
— Ну, все-таки… Ведь она же наша, Наташа… Нельзя так.
— Что нельзя?
Женька переминается, на нас смотрит.
— Эх, была бы сейчас зима,— вздыхает Мишка,— я бы ему снежком залепил.
— За что?
— Да так просто. Пусть с ней не ходит.
— Вот дикари!— громко удивляется Лидочка.— А ну, марш домой!
Идем гуськом друг за дружкой. Мишка приотстал, все оглядывается.
— А все-таки жаль, что сейчас не зима,— переживает он.
* * *
Утром будят очень рано. За окном еще не ходят трамваи. В комнате все серо.
— Скорее,— торопит мама.— Поближе очередь займем. Она пересчитывает деньги, прячет их куда-то под синий платок, мне сует авоську, будит Нонку:
— Ну, мы пошли за костюмом.
Нонка что-то бормочет, поворачивается к стенке.
Выходим во двор. Кругом все тихо. Даже воробьи спят.
Из Мишкиного парадного выходит военный. Я было поднял руку для салюта, но это не летчик. У него другая форма. И он какой-то весь хмурый. Руку держит на расстегнутой кобуре. За ним показывается Мишкин отец. Увидал нас с мамой, как будто что-то сказать хотел, да только слабо улыбнулся, махнул рукой. За его спиной еще один военный. На нас строго посмотрел, ладонью подтолкнул летчика в спину. Скрипнула калитка и закрыла всех троих. За воротами вдруг затарахтел мотор отъезжающей машины.
Мне страшно.
— Что это, мама?— трогаю ее за рукав. Она стоит, не слышит.
В раме окна — белый Мишка.
— Что это, мама?
Она все так же стоит, зябнет.
К нам бежит Мишка. Уткнулся в мамину грудь, дрожит.
— Ничего, Мишенька, ничего, сыночек,— гладит его по голове мама.— Разберутся… все будет хорошо… Ничего, сыночек.
Спотыкаясь, выходит Мишкина мама. Она в одной тапочке.
— Ничего не пойму… Ничего не знаю,— дрожат у нее губы.— Пойдем, сынок.
Она уводит Мишку, согнутого, сжатого в комок.
— Что это, мама?— опять спрашиваю я.
— Не знаю, Алеша,— маму всю трясет, она ищет рукой стену, бормочет:— Может, самолет он поломал… не знаю… Пойдем скорее.
Мы бредем по пустой Плющихе. Мама разговаривает сама с собой:
— Господи, на каком же трамвае нам? Всю память отшибло. На пятнадцатом? Нет, сорок седьмой. Или на пятом?
— Мама, я к Мишке вернусь,— говорю я.— Костюм потом купим.
Она тянет меня за руку, сердится:
— Еще чего захотел. Ну, господи, какой же наш трамвай?
Наконец мама вспоминает номер трамвая, и мы, обнявшись, стоим на пустой остановке.
И все-таки мы опоздали. Уже с Каменного моста видно много людей. В толпе разъезжают конные милиционеры. Мама тянет меня в самую гущу. Но к дверям магазина не пробиться. Там люди тесно прижались друг к другу, руками сплелись.
— Алешенька, как же мы так,— шепчет мама,— опоздали. Давай пролезай вперед.
Я не могу пролезть. Пуговицы от рубашки вдавились мне в грудь. Лицо сплющилось об чью-то спину.
— Осади! Осади!— кричат сверху милиционеры.
— Алеша, где ты?— слышу я голос мамы.
— А ну, осади! Назад!— хранят над головой лошади.— Гражданка, назад! Гражданка в синем платке! Назад!
Я вижу, как конный милиционер оттаскивает за платок маму. Она вырывается, платок соскользнул.
Я бью ногами лошадь, молочу кулаками по коленке милиционера, кусаюсь.
— Сволочи!— кричу я.— Я Сталину напишу!
Конный отпустил маму и — на меня. Я под лошадь. Он завертелся в толпе, потерял меня. А я потерял маму.
И вдруг поток людей всех потянул к дверям. Магазин открылся.
Меня вышвырнуло из этой лавины. Мамы нигде не видно. Наверное, уже в магазине. Я побежал на мост. Отсюда сверху все хорошо видно и даже слышно, как трещат большие двери, звенят стекла.
Около меня стоят два милиционера. Один устало махнул рукой, потянул за рукав другого:
— Ну их всех. Пошли, Степан.
С моста виден Кремль. Там живет правительство. Вот бы сейчас Сталин посмотрел из окна на этот магазин. Вот бы он всем дал прикурить.
И вдруг я вижу мою маму. Она вырвалась из толпы растрепанная, растерзанная и к груди прижимает сверток.
Я бегу к ней. Она видит меня, улыбается.
— Ух, Алеша,— дышит она,— вытри мне лицо.
Мы едем в трамвае домой. Я уже надорвал сверток, пощупал и понюхал черную жесткую ткань костюма. Моего костюма. Первого костюма в моей жизни.
Во дворе на скамейке вся компания. Я поднимаю над головой сверток, сообщаю:
— Покупочка!
Но никто не радуется, никто ничего не спрашивает. Мама берет у меня из рук сверток, хмурится:
— Вот, хвальбун!
В центре скамейки — Мишка. Согнулся, коленки трет. Рядом молчат ребята.
Славик настойчиво сует Мишке свой ножичек:
— Возьми насовсем.
Но Мишка ничего не видит, ничего не слышит. Лидочка тихо говорит:
— Вот помните, тогда Алешку забрали в милицию из-за конфет. А потом разобрались и отпустили. Так и здесь будет. Разберутся.
Гога из дом пять смеется:
— Сравнила тоже. А если он враг народа?
Мы долго молчим. Какие это страшные два слова «враг народа».
— Летчики не бывают врагами народа,— уверенно говорит Лева.— Сам ты, Гога, враг народа.
Ну-ну, потише,— обижается Гога,— за такие слова ответишь.
Мишка согнулся еще ниже, плечи у него дрожат.
— Не надо, Миша,— гладит его Лидочка.— Вот, честное ленинское, во всем разберутся. Мы все письмо напишем про твоего отца. Мы же его знаем. Он хороший.
— Чего захотела,— ежится Гога.— Еще самих заберут.
— Слушай, ты!— медленно говорит Женька.— Катись отсюда. Ну! Быстро! Славик, дай-ка ножик.
— Пошел с нашего двора!
— Кто тебя сюда звал?
— Гога, Жога из дом пять, не ходи ты к нам опять,— сочиняет Славик.
Гога послушно идет к калитке, поворачивается, медленно сплевывает, старательно растирает землю ногой.
Наступило первое сентября.
С утра наскоро проверяем, как Славик знает таблицу умножения, все вместе торопимся в школу. Лидочка несет наш общий букет цветов. Славик весело подпрыгивает рядом со мной, то и дело смахивает пылинки с моего нового костюма.
Мишка все отстает, еле передвигает ноги. Всю дорогу его тормошит Лидочка:
— Миша, сколько будет семью семь? Он молчит.
Высоко в синем небе гудит самолет. Мишка поднимает голову, останавливается, по его лицу текут слезы.
— Миша, а сколько будет пятью пять?
— Слушай, Миша,— предлагает Лидочка,— неси ты букет. Почему все я да я.
Он прижимает букет к груди, прячет в него лицо.
— Правда, здорово пахнет?— суетится Славик.
…Мы расселись за свои парты. Так же, как и в прошлом году. Я с Левой. Лариска с Гогой. И только Мишка один. Его сосед, верзила-второгодник, еще летом уехал жить в другой город.
Пелагея Васильевна очень весело всех нас по одному осматривает, остановилась на Мишке, задумалась, прошлась по классу, сказала:
— Лидочка, ты будешь сидеть рядом с Мишей. Хорошо? Лидочка поспешно собирает свои книжки.
— Спасибо, Пелагея Васильевна,— тихо благодарит Лидочка.— Мы будем очень хорошо сидеть.
Пелагея Васильевна еще раз всех нас поздравила с новым учебным годом, заметила, как мы подросли, и сразу предлагает писать сочинение.
Она медленно, очень красиво пишет на новенькой доске название темы: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
* * *
…Сейчас у нас за спиной Москва и то далекое сочинение. Наверное, хранятся наши листки где-нибудь на полках в школьных шкафах. Разные нам тогда поставили отметки. Помню, что у Гоги было — «отлично». Способный… Вот, наверное, сейчас в Ташкенте старается для нашей победы.
…Связисты протянули к нам провод. Тонкий, смоленый, он идет по стенкам окопа, всем внушает надежду, уверенность. Ведь там где-то далеко на другом конце провода наш комбат. А от него провод идет к командиру полка, а еще дальше — к командиру дивизии, которого мы видели и слышали всего один раз.
Это случилось в самое жаркое время, когда все в батальоне потеряли друг друга и даже мы с Женькой разъединились. Вооруженной толпой мы шли по пыльным дорогам Смоленщины, ломились сквозь кустарники, топтали рожь. Вперемежку с бойцами в этом сером густом потоке шли небритые командиры и никто не знал, что делать, никто не подавал команд.

Сквозь пыль проступали мокрые спины впереди идущих. Усталые руки уже не держались за ремни винтовок. Руки болтались, словно плети, а винтовки, почуяв свободу, сползали с плеча, глядели дулами назад. Заглядись — и штык впереди идущего проткнет глаз.
Какой-то сержант тащил, словно коромысло, ручной пулемет, упрашивал его сменить, но никто не слушал. Его толкали, от него отмахивались.
Сержант ругался, всхлипывал, кому-то грозил и опять, спотыкаясь, не разбирая дороги, шел в пыльном облаке.
Никто ни с кем не разговаривал. Хотя уши жадно, настороженно ловили любой звук. Уши боялись только одного слова «Окружили!»
И вдруг это слово надрывно, с визгом, заметалось в толпе. Люди ускорили шаг, сталкивались друг с другом. В лохматых от пыли веках страшно застыли белки глаз.
— Окружили!
И толпа заметалась. Толпа побежала.
И вдруг я увидел самое страшное: кто-то на ходу рвет с воротника петлицы с кубиками, путается в ремнях, сдергивает командирскую портупею.
— А как же мы?— кричу я.
Сержант держит пулемет, словно винтовку, ошалело повторяет:
— Где? Где? Где?
Рядом рыжий боец без пилотки ставит гранату на боевой взвод. Руки у него трясутся. Кому-то радостно обещает:
— Сейчас! Сейчас!
Меня толкают, куда-то неудержимо влекут.
Впереди кто-то большой, сильный крутит над головой винтовку, словно палку, кричит:
— Стой! Спокойно, товарищи! Коммунисты, стой!
Это же наш Григорий Иванович. Я проталкиваюсь к нему, вижу рядом с ним Женьку, Пончика. В поднятых руках Женька держит гранаты, кричит что-то страшное.
Григорий Иванович узнал меня, показывает:
— Вот связной из штаба полка! Никто нас не окружил! Алеша, говори!— приказывает он.
Стало вдруг очень тихо.
— Ну, докладывай же. Тут все свои,— прикрикивает политрук.
Я начинаю что-то соображать.
— Никто нас не окружил,— ору я,— Это подмога идет. И вдруг резкие автомобильные гудки. Толпа шарахается.
Из пыльного вала выскакивает с раскрытыми дверцами «эмка». На подножке — седой человек без шапки. Я вижу генеральские лампасы и алые большие петлицы.
— Кто за старшего?— кричит генерал.
Григорий Иванович оглядывается, потом винтовку к ноге, делает шаг вперед.
— Политрук Бритов.
— Кто кричал, что нас окружили?— сурово спрашивает генерал. Мне видно, как его шофер в машине держит на изготовку немецкий автомат.
— Я спрашиваю, кто видел, что нас окружают?— гремит сверху генерал.
— Никто не видел, товарищ генерал,— опять оглядывается Григорий Иванович,— просто один с перепугу закричал, другие услышали, подхватили. Вот и все.
Сейчас очень тихо. Только урчит мотор запыленной «эмки», да кто-то шумно дышит мне в затылок.
Генерал устало потер лоб, присел на подножку машины и уже просто, как-то по-домашнему расстегнул ворот, платком шею вытирает.
— Ну вот что, дорогие товарищи, за «слыхал» буду расстреливать, а за «видел» — награждать. Всем ясно?
Мы глухо, вразнобой отвечаем:
— Ясно, товарищ генерал.
Он всех оглядывает и вдруг подмигивает:
— Ну, у кого закурить есть?
Шофер ему из машины папиросы протягивает, но он тянется к солдатским кисетам, ловко рвет бумажку, раз — лизнул языком — и самокрутка готова. Задымил, поморщился:
— Кошачий хвост. Клопов и тещ морить.
Сначала несмело, потом все громче, дружнее смеются бойцы.
Вот так мы познакомились с нашим комдивом.
И сейчас, когда я смотрю на телефонный провод, мне уютно, покойно на сердце: ведь там на другом конце провода наш комдив, наш генерал. Он такой же, как и мы все, он не даст нас зря в трату. А если в мыслях пойти дальше, то даже дух захватывает: от генерала провод идет к командующему фронтом, а потом в Москву, в Кремль…
Я тихонько подергиваю провод:
— Товарищ Сталин, мы здесь…
* * *
Дождь давно прошел. Солнце поднимается выше. От гимнастерок шинелей курится парок.
— Алешка,— толкает Женька,— прислушайся! Я прислушиваюсь, но ничего не слышу.
— Да птицы же.
Где-то совсем рядом птичьи голоса. Они встречают утро. Наверно, умываются, прыгают. Могут над немцами пролететь, им почирикать, потом к нам обратно.
Вода уже почти сошла. Тянет голову каска. Спать хочется. А тут голос Григория Ивановича. Он говорит, что к нам идет пополнение.
Это же хорошо! Может быть, нас отведут в тыл на отдых?
Наши спины неуверенно трогает солнце. Куда-то медленно уходит вода из окопа. Григорию Ивановичу она уже до колен. Нестерпимо хочется есть. Сухари, пшенные концентраты и сахар слились в одну клейкую массу. Из вещевых мешков мы пригоршнями черпаем эту замазку и в рот.
— Теперь бы и закурить,— сытно, довольно жмурится пограничник и просительно оглядывает нас. Махорка у всех промокла и только некурящий Пончик сохранил курево в стеклянном флаконе из под «Тройного» одеколона. Там же у него спички и кусочки коробка.
— А бумажка?— умоляюще смотрит пограничник. Бумаги нет. У меня под каской только письма. От мамы, сестры, Левы, Лидочки и одно Ларискино.
Отдал конверт от Ларискиного письма. Пограничник распрямил его на коленке, прочитал обратный адрес, заулыбался:
— Спичек не надо. Сама загорится.
По окопу начали бить немецкие минометы. Визг мин короткий, противный, словно провели гвоздем по стеклу. Пронзит уши секундная тишина, а потом нас встряхивает.
— Мимомет!— пытается шутить пограничник, отряхиваясь от земли.
Какой уж тут смех! Немецкие минометы — страшная вещь. Пригнет визгом наши головы, потом рванет уши взрывом и сразу крик: «Санитара сюда!»
Григорий Иванович при каждом свисте нагибается, нас к земле прижимает, неизвестно кого ругает.
Минометный огонь стих. Над окопом вонючий запах взрывчатки.
Пограничник закуривает, усаживается на корточках вплотную, спиной к окопу, вспоминает:
— У нас на заставе был один миномет.
— Какой он?— спрашивает Женька.
— А, чепуха одна. Кусок водопроводной трубы на подставке. Вот и все. Суй в нее мину, она обратно сама вылетает.
И вдруг по окопу тревога:
— Комбата убило!
Рванулся, цепляясь за бойцов полевой сумкой, и куда-то исчез наш командир роты. Из глубины окопа его голос:
— Бритов, остаешься за меня!
Григорий Иванович губы кусает, лицо серое, растерянное:
— Спокойно, ребята…
Низко над нами с ревом проносятся самолеты. На крыльях желанные, родные красные звезды.
Слева нарастает: «Ура!» Это наши соседи оставили окопы, поднялись в атаку.
— За Родину! За Сталина!— кто-то громко командует нам.— Вперед, товарищи!
Чертыхаясь, мы вылезаем на бруствер, и сейчас же оглушительное «ура!» несет нас, словно на крыльях.
Рядом со мной бежит какой-то длинный худой боец. Он низко согнулся, кажется, вот-вот упадет лицом в землю.
— Не останавливаться! Не останавливаться!— кричит он, и только сейчас я заметил у него на груди пулеметный щит от «Максима». Привязан ремнем за шею и тянет, тянет бойца к самой земле.
Женька, не останавливаясь, стреляет на ходу, что-то кричит мне, но ничего не слышно.
Ткнулся головой в землю боец с пулеметным щитом на груди. Винтовка отскочила далеко вперед, пальцы землю царапают. Пончик от него шарахнулся, споткнулся, упал. Вскочил ошалело и опять бежит рядом.
— Ура-а-а-а! За Родину! За Сталина!
Ощетинившись штыком, пригнувшись, легко бежит чуть впереди пограничник, манит, зовет нас его зеленая фуражка.
— За мной!— оборачиваясь, кричит он перекошенным ртом.
Кажется, что все кричат: «За мной!», Григорий Иванович нам с Женькой, я — Пончику, а Пончик сам себе.
…Сама собой увяла, свернулась наша атака. Лежим, прижимаемся к земле и потихоньку начинаем отползать обратно к окопам. Какой-то сержант поднялся рядом со мной с пистолетом, повернулся к нам, потрясая руками:
— Вперед!
Но сейчас же опрокинулся на спину, каблуками царапнул землю и затих.
Снова мы в окопе. Сейчас у нас спокойно. Григорий Иванович уже давно прилип к биноклю. Молчит, не шевелится.
— Ну, что там?— время от времени спрашивает пограничник.
— Черт их знает. Посмотри-ка сам.
Пограничник фуражку прочь, как-то по-особому, по-своему смотрит. Кажется, навел бинокль прямо в землю за бруствером и медленно, медленно поднимает «цейс»…
Повернулся к Григорию Ивановичу, говорит только ему, но нам все слышно:
— Могут бросить танки…
Григорий Иванович опять за бинокль, долго неотрывно всматривается. Нагнулся к пограничнику:
— Где ты их увидел?
— Да вон пыльное облако. За деревней. Григорий Иванович плечами пожимает, удивляется:
— Но ведь все тихо… Не гремит…
— Ветер от нас. К ним ветер-то.
— Нет, не нравится мне эта тишина,— озабоченно говорит наш политрук.
С танками мы еще не встречались. Наслышались всякого, а вот видеть не видели. Где-то они на других участках прорывались. Иногда до нас доносил ветер их мощный звериный рев, грохот металла. Пограничник с ними встречался, но вспоминает об этом хмуро, неохотно.
Против танков у нас есть инструкции, отпечатанные типографским путем. Их называют «памятки». С ними спокойно. Ведь не как-нибудь от руки написано, а отпечатано в типографии. На листке все расписано, все указано.
У каждого из нас бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью. Инструкция учит:
Танк идет на тебя, а ты замри в окопе, пригнись. Танк прошел, ты поднимайся и бей бутылкой ему в решетку, откуда выходят выхлопные газы. Бутылка разбивается, горючая смесь от соприкосновения с воздухом вспыхивает, проникает в решетку, растекается по всем щелям на броне, и танк горит. Экипаж выпрыгивает из люков, а ты только успевай стрелять. Вот и все.
Есть у нас еще и другие бутылки. В них бензин. К бутылке двумя резинками, словно аптечный рецепт к флакону, прикреплена длинная спичка, сплошь облитая серой. К ней прилагается терка. И дальше: пропускай танк через себя. Теркой — об эту большую спичку и скорей кидай бутылку в решетку. Такая спичка, пока летит, не гаснет. Бутылка кокается о бронь танка. Бензин вспыхивает, течет в щели. Танк горит. Вот и все.
Еще мы вооружены противотанковыми гранатами. Правда, у нее ручка короткая — далеко не закинешь. Да и сама очень тяжелая.
Помню, мы ехали в грузовиках к фронту и какой-то инструктор, длинноногий капитан в пенсне, показывая на гранаты пальцем (они покоились в раскрытом ящике) объяснил, что если такой гранатой угодить под гусеницы, то танку — смерть. Закрутится на одном месте, и все. Дальше клей на мушку танкистов.
— Только считайте секунды,— осторожно дотрагивается капитан до ящика.— «Раз», «два», а на «три» — скорее бросай. Не успеешь — рванет в окопе. Итог: общая братская могила.
Мы с уважением разглядывали ящик с гранатами, просили разрешения потрогать, но капитан отстранял наши руки, машинально взглядывая на часы. Потом пальцем указал, где примерно у этих гранат предохранительная чека и в какую сторону ее следует дергать.
Вблизи самой передовой нам раздали эти страшные гранаты. Неуклюжие, тяжелые. Сунуть их некуда. Только и думай: «Считай: «раз»… «два»…, а на «три» — бросай…» Но бросать пока некуда. Танки от нас еще где-то далеко. Иногда мы их слышим и только.
Вскоре все привыкли к этим «клюквам». Привязали к поясу на бечевках, вот так она и постукивала по нашим задам всю Белоруссию. Где уж тут «раз», «два»… «три»… Пограничник ею даже сахар колет, и никто не морщится.
Сейчас Женька отвязал свою, положил рядом, смотрит на Григория Ивановича:
— Ну, что там? Не движутся?
Политрук долго после бинокля трет глаза, пожимает плечами:
— Ничего не пойму.
— Да чего там понимать,— машет рукой пограничник,— подойдут, так и услышим. Послал бы кого за табаком.
— Нет, не нравится мне эта тишина,— хмурится Григорий Иванович и опять поднимает бинокль.
А нам тишина нравится. Мы переобулись, заново туго скатали наши шинели, щепочками, прутиками поскоблили сверху винтовки. Пограничник снял гимнастерку, вывернул наизнанку, исследует швы, от нас отворачивается, чертыхается.
Женька надоедливо просит меня описать, какой он есть. Дело в том, что у нас нет ни одного зеркальца. Мало кто догадался захватить из Москвы. Папиросы, иголки, нитки, носовые платки, теплые носки, конверты,— это все взяли, а вот про зеркальца забыли. Наверное, потому, что многим из нас нечего еще брить. У меня было Нонкино, круглое, да хряснуло в нагрудном кармане после первого ползанья по-пластунски. Так и у остальных.
Правда, есть зеркальце у Григория Ивановича, но он почему-то упрямо не дает нам посмотреться: «Не девицы красные».
Мы уже давно не знаем, какие мы. И вот сейчас Женька просит меня описать словами, какой он есть. Не хочется говорить всю правду, и я сочиняю.
На меня смотрит Женькино лицо. Худое, грязное. Острые позеленевшие скулы и нетерпеливый вопрос в запавших красных глазах.
— Ну?— спрашивает Женька. Я раздумываю.
— Ну?— переминается он и лихо сдвигает набок каску.
— Красивый,— решаюсь я.— Что-то в тебе есть.
— Как до войны?
— Еще лучше. Что-то мужественное. Лицо как на бронзовой медали.
Женька трогает подбородок, сокрушается: — Жаль, не растут…
— Теперь ты меня,— прошу я.
Женька разглядывает меня, цокает языком.
— Вообще, что-то есть… Что-то такое есть…
— А что «что-то»?
— Глаза большие, Алешка. Круглые.
— Это у него от страха,— уточняет пограничник. Пончик просит Женьку описать и его тоже. Покорно моргает грустными глазами, трет полосы на щеках. Женька отказался, заявив, что у него не хватит красок достойно описать славного защитника Родины Пончика.
Я прошу зеркало у Григория Ивановича, он не слышит, увлекся биноклем. Пограничник тоже попросил. Ему политрук дал посмотреться и сейчас же отобрал, спрятал в карман: «А вы не красные девицы»…
— А он?— показывает Женька на пограничника. Григорий Иванович опять ничего не слышит, прилип к биноклю. Нарочно он, что ли?
Пограничник уселся поудобнее на дне окопа, изучает подметку сапога, ушел в воспоминания.
— В этих «джимми» в увольнение ходил. К Насте… Мы трогаем великолепные хромовые голенища.
— Н-н-да,— вздыхает пограничник,— когда началась война, я выскочил от Насти разогретый, без сапог… в одних часах…
— Перестаньте,— сухо говорит Григорий Иванович.
— Виноват, товарищ политрук.
Мне неловко. Женька по сторонам смотрит, а Пончик за штык спрятал лицо и на красной щеке долго качается тень штыка.
— Ну, значит, началась война,— косится на политрука пограничник,— И расстались мы с Настей. Ты слышишь, Григорий Иванович?
— Угу,— отвечает политрук,— слышу.
— Вот, значит, все бы хорошо, с мужем у ней развод намечался…— ты слышишь, Григорий Иванович?
Григорий Иванович кивает.
— Я ее сынишку на Первое мая к нам на заставу привел. На детский праздник. И командир заставы — тот ничего. Яблоко дал, спросил, когда ему в школу. Слышишь? Григорий Иванович?
— Угу.
— Ну вот, значит, как было…— он задумывается, рукавом натирает разбитый лакированный козырек своей зеленой фуражки.— Эту фуражку Настя любила примерять,— сообщает он и любовно нюхает подкладку.
— Вы бы лучше сменили фуражку на каску,— советует пограничнику Женька.— А то так и не встретитесь со своей Настей.
— И то правда,— вздыхает пограничник и медленно, медведем пробирается вдоль окопа.
Вскоре вернулся. На голове — чья-то помятая каска. Попросил зеркальце у Григория Ивановича, полюбовался, сказал:
— Никогда не носил. Целоваться в ней несподручно.
— Зато спать хорошо,— говорит Женька.— Внутри ремни. Голова все равно, что на подушке.
— Григорий Иванович, вам не приходилось обниматься в этой кастрюле?
Политрук не отвечает. И вдруг по окопу понеслось:
— Танки!
— Внимание! Танки!— почему-то приседает Григорий Иванович.— Спокойно, товарищи! Спокойно! Гранаты, бутылки к бою!
Мы слышим далекий рокот, тяжелый лязг металла. Со стен окопа осыпается земля. Я выглядываю из окопа, вижу несущуюся на нас стену пыли и впереди нее, блестя металлом на солнце, будто не касаясь земли, несутся танки. Подпрыгивая, они кланяются на ходу длинными стволами пушек.
Грохот все нарастает. Уже не слышно никаких команд. Сплошной рев моторов, скрежет металла. Кажется, гудит на голове каска.
— Алешка!— тормошит меня Женька.— Чиркай бутылку!
Нестерпимый грохот над головой, в самом окопе, даже под землей.
— Чиркай!— кричит Женька.
В руках у меня клокочет пламя длинной спички и вдруг что-то лязгающее черное над головой мгновенно обдает жаром, горячим маслом и мигом пропадает. Куда-то за окоп, в клубы пыли, дыма кидаю обжигающую руку бутылку.
Вижу, как трясутся руки у пограничника. Он резко встряхивает ручную гранату, размахивается, но граната срывается с руки, плюхается на дно окопа. Она шипит, крутится. Вдруг жуткая тишина сжала уши.
— Раз… два,— почему-то считаю я и вижу — пограничник накрывает гранату своей каской, плюхается на нее сверху животом. Страшный взрыв вышвыривает меня из окопа. В глазах огонь, земля и, кажется… сапоги пограничника…
…Мне жутко. Куда-то отлетела винтовка. Ползаю в едком дыму, шарю по траве. Наткнулся на Пончика. Он лежа беспрерывно клацает затвором, стреляет. А вот, кажется, и моя винтовка. Рванул затвор: заряжена. Совсем рядом на наш окоп бегут фигуры людей в чужой форме.
— Так это же немцы!— соображаю я и, не целясь, дергаю спуск. Лишь бы скорей, лишь бы успеть. Они залегли близко за нашим бруствером. Чья-то команда, кажется, это Григорий Иванович:
— Гранатами, огонь!
За окопом частые взрывы, фонтаны из огня, дыма.
— Товарищи! В штыки! За нашу Советскую Родину!
— В штыки!— дико визжит мне в ухо Пончик. Винтовка трясется у него в руках.— Они боятся штыков!
— За Ро-о-о-дину-у! За Ста-а-а-лина-а!— оглушительно, несется над полем.
Я вижу карабкающихся на бруствер бойцов, множество их уже бежит впереди окопа с винтовками наперевес. Откуда-то всплеснулось Красное знамя. Я вижу его впервые. На ходу мы сбрасываем шинельные скатки…
Немцы штыкового боя не принимают. Они бегут к деревне, зажав под мышками дулами назад автоматы и, не оборачиваясь, с ходу стреляют.
У самой околицы деревни прижал нас к земле сильный пулеметный и минометный огонь. Залегли. В горячке расстреливаем обойму за обоймой.
Дана команда отползать на исходные рубежи. Мы, разгоряченные боем, возбужденные преследованием, неохотно отползаем, на ходу подбирая шинельные скатки. Неважно, чья какая. Была бы на ночь шинель.
Противник вдруг ослабил огонь, и мы без опаски ползем обратно. Глубокие следы танковых гусениц ведут к нашим окопам. Можно продвигаться, не поднимая головы. Где-то эти танки захлебнулись у нас в тылу. Их не слышно.
Какой-то боец наткнулся на немецкий котелок с медом. Тащит ползком с собой. За ним ползет Женька, хрипит, уговаривает:
— Выброси, может, нарочно подкинули. Отравлено. Боец жалобно морщится на котелок, наконец, швыряет его в канаву. Женька вьюном в ту сторону.
В окопе мы блаженствуем. Едим мед прямо ложками. Пончик держит на коленях истерзанную зеленую фуражку пограничника, неподвижно смотрит себе под ноги, отказывается от меда.
— Не могу, тошнит,— говорит он и отворачивается.
Мы тоже перестаем есть, и только Григорий Иванович невозмутимо бряцает ложкой о котелок, хмуро скользит по нашим лицам. Потом он роется в карманах, извлекает мятые письма, красноармейскую книжку, сверху кладет пластмассовый медальон.
— Напишем родным всю правду,— говорит политрук, медленно развинчивая трубочку.
Мы начали писать. Вернее, примостившись на корточках, пишет только Григорий Иванович, а мы неподвижно следим за острием его карандаша. Когда карандаш как бы в нерешительности останавливается, кто-либо из нас тихо подсказывает:
— Спас своей жизнью товарищей…
— Многому научил нас…
— Отомстим…
— Дойдем до его заставы и до Берлина…
— После войны приедем к вам, дорогие родные, и все подробно расскажем.
Кончили писать. Все по очереди расписались, указали свои домашние адреса. Пончик откалывает от зеленой фуражки красноармейскую звездочку, опускает в конверт с письмом…
В окопе удивительно пусто, просторно. Какой-то младший командир в разорванной до пояса гимнастерке, под которой белизна бинтов, лежит на шинели, мечется, бредит:
— Приготовиться к отражению атаки!
Мы с Женькой осторожно наблюдаем за противником. Но там тишина, ничто не движется.
Григорий Иванович отдал нам свой бинокль, и сейчас очень здорово видно деревенскую улицу, огороды и желтый вал земли впереди деревни: это фашистские окопы. Мне радостно, что фашисты тоже в окопах. Значит, боятся.
В бинокле ясно обозначилось большое одноэтажное здание с широкими окнами. Наверное, школа… Помню, мы в своей школе писали сочинение на тему «За что я люблю свою Родину».
…Это было в день рождения нашей учительницы Пелагеи Васильевны.
Вспоминается… Пелагея Васильевна сегодня в новом платье.
Вошла в класс, положила на свой столик какую-то длинную бумажную трубку. (Наверное, таблица на правила грамматики.) На доску взглянула, поморщилась:
— Кто сегодня дежурный? Встает Лариса.
— Почему доска грязная?
Я пулей к доске, помогаю Ларисе вытирать.
— Спасибо,— шепчет она, когда нечаянно столкнулись наши руки.
Пелагея Васильевна к окну подошла. И долго, долго так стоит. Просто смотрит в окно, и все. Про классный журнал забыла.
Почему же она к нам не повернется?
И мы в окно смотрим. Снег идет. Лохматый, спокойный, и, наверное, теплый.
— Сейчас про капитанскую дочку будет спрашивать,— тихо толкает меня Женька.— Про метель в степи.
Осторожно на всякий случай листаю учебник.
Пелагея Васильевна все стоит и стоит к нам спиной. На ней новое платье.
Прилепились снежинки к окну, к ним другие потянулись. Очень тихо там за стеклом, очень тихо сейчас в классе.
И вдруг за спиной:
— Ребята!— Я прямо вздрогнул.— Ребята, сегодня у Пелагеи Васильевны день рождения,— уткнувшись куда-то в парту, говорит Лидочка.
Мы все косолапо захлопали. А она все стоит у окна и как будто считает снежинки. Потом подходит к своему столику, журнал листает, очень долго читает.
Мне под партами записка пришла. Читаю.
«Ничего страшного. Просто в трубке по запаху копченая колбаса».
— Ребята,— обычным голосом говорит Пелагея Васильевна,— сейчас будем писать сочинение на тему…— Она класс оглядывает:— Ну-ка, дежурный, к доске.
Лариска выскакивает. Стоит у доски, мел в руках греет.
— Тема сочинения,— диктует Пелагея Васильевна,— «За что я люблю свою Родину». Так и пиши, Лариса.
Мы сидим и пишем.
На чистом листе красиво, с нажимом вывел название темы. А дальше что писать — не знаю. Уж очень все неожиданно. Вот бы сейчас придумать первую фразу, и все пойдет хорошо.
У Женьки в тетради очень красиво смотрится название. Он тоже сидит и дальше ничего не пишет.
Да и вообще в классе все сидят и никто не пишет. Только один Гога часто макает в чернильницу и все скрипит, скрипит пером. Вот он уже прошелестел страничкой. Весь класс вздрогнул, даже как-то съежился. И опять Гога макает и скрипит. Уж очень все слышно.
А я ничего не пишу. Через окно на снег смотрю. Очень любопытные эти снежинки: к стеклу прильнут, на класс посмотрят и, наверное, от удивления тихо исчезают.
Издалека они прилетели к окну нашего класса, нашего седьмого «Б». Сколько всего они видели, пока летели? Наверно, весь наш земной шар.
А земной шар — это вроде глобуса. Где окрашено в синий цвет — там вода. Все другие цвета — земля. Красный — наш Советский Союз. Это моя Родина. Только она очень большая. И нигде, кроме Москвы, я еще и не был. Например, на Дальнем Востоке не был. Ну и что же, что не был? Но ведь я же его люблю, этот Дальний Восток. А почему же люблю, если не был и не видел?
Наверно, потому, что по нашей Плющихе однажды шагал батальон красноармейцев. И тогда услышала улица:
Дальневосточная, опора прочная,
Союз растет, растет непобедим…
Значит, моя родина — Плющиха. Здесь живет мама. Здесь моя школа вместе с Пелагеей Васильевной. У нас во дворе Иван Иванович — пулеметчик революции, здесь наш кинотеатр «Кадр», здесь все мои дружки и наш киноаппарат.
Значит, все это вместе — моя родина.
А в других странах? Там тоже есть свои улицы. Там тоже есть окошки. И в эти окошки смотрят мальчишки. И девчонки, наверное, тоже очень хорошие.
Значит, у меня есть родина и у тех мальчишек — тоже родина. Они любят свою родину, а я — свою. И все-таки моя лучше, моя главней.
А почему?
Вот так же возьмут мальчишки всех стран и спросят:
— Почему твоя лучше, почему твоя главней?
Я тогда скажу мальчишкам. Вот так встану и скажу:
— Потому, что мы — ледокол. Мы первые идем. Мы раскалываем лед. А вы все идете за нами. Ну-ка, кто из мальчишек не хочет быть первым.
— Грибков,— это голос Пелагеи Васильевны.— Скоро звонок. Когда же начнем писать?
И в самом деле уже давно пишут. Гога откинулся, отдыхает. Лампочкой любуется. У него на парте пусто.
Лидочка с Мишкой пишут. Женька рядом пыхтит. Только у меня один заголовок «За что я люблю свою Родину?»
Эх, а чего там долго выдумывать! Вот как сейчас все представил, так и напишу. Только еще про Красную площадь расскажу, про воздушный парад в Тушино…
В общем, начал со снежинок, и только добрался до Красной площади, как уже звонок.
Почему-то сегодня я ему не рад, я его даже не хочу. Так иногда бывает. Редко, но бывает.
На звонок даже злишься, если он вдруг, нахальный, никому ненужный ворвется в тишину, когда в пригороде Петербурга, на Черной речке стоят друг против друга два человека и молча поднимают пистолеты. А потом встревоженные кони, храпя, несут на Мойку карету, и в ней за бархатную обивку бессильно цепляются синие пальцы поэта.
И в это время школьный звонок. Он сейчас просто лишний.
Или вдруг зальется звонок в ту минуту, когда царь Петр I обращается к своим притихшим полкам с речью. Нервно дрожит ус Петра, прыгает щека, мнет царь в руках свою треуголку.
— Русские воины! Потом и кровью создал я вас, не жалея живота своего. Не помышляйте, что сражаетесь за Петра! Нет, вы сражаетесь за Россию!
Полки слушают, полки ощетинились штыками, полки готовы здесь, на земле Полтавщины, огнем и сталью сказать шведам «спасибо!» за то, что научили воевать. И вот полки пошли… И в это время, взглянув на часы, поплелась из своей дежурки тетя Агаша. Поплелась нажать кнопку звонка.
Дала, старая, своим звонком передышку шведам. Теперь до следующего урока истории в наших портфельчиках и ранцах .будут бряцать отточенные, готовые к бою штыки. Будут глухо стукаться друг о друга чугунные ядра и шелком шептаться свернутые русские знамена.
Вот что такое тетя Агаша со своим звонком. Она не королева, не даже министр, а взяла да и временно отложила Полтавскую битву.
На перемене спрашиваем друг друга, о чем кто писал.
Женька рассказал про Горького, про Шмидта, которых он очень любит лепить.
— А при чем же здесь тема сочинения?— горячится Гога.— Ведь тебе ясно было сказано: «За что я люблю свою Родину?» Понятно?
Женька часто моргает, на всех нас смотрит:
— Значит, ребята, я не о том написал?
— А как ты написал?— это хмуро спрашивает Мишка.
— Ну, я написал про Горького.
Вот про то, как он был на пароходе посудником и выбрасывал за борт помои. Гога смеется:
— Вот дал! Вот это дал! Тебя же про Родину спрашивают, а ты про помои. Ничего себе сравнил!
Женька опять долго моргает, рукой трогает батарейку, садится на нее, молчит и в окно смотрит.
— Подождите,— говорит Лидочка,— он же не все сказал,— она тоже батарейку тронула, поморщилась, уселась рядом с Женькой:— Ну, давай, рассказывай.
Женька слюнявит чернильные пятна на руке, сердито оттирает их о штаны, говорит как будто сам себе:
— Ну, вот значит, Горький был посудником на пароходе. Вот он выбрасывает за борт помои. А куда он смотрит, когда выбрасывает? Он в небо смотрит. Я такую скульптуру вылепил. Он так в небо глядит, словно ищет буревестника. А помои, ну, это все, что людям не нужно, их — за борт.
Женька остановился, руку запустил в зачес, на нас смотрит: мол, понимаем ли мы, о чем он говорит? Я где-то понял, но, правда, еще не до конца. В общем, про что-то интересное' рассказывает Женька.
Женька опять молчит и сам себе бормочет:
— Я пробовал Ленина лепить, да пока не получается… Глина такая же, и инструмент такой же, а вот не получается. Похож, а не Ленин. И бородка и усы — все это есть. И даже костюм с жилеткой…
Мишка тихо перебивает:
— А я про летчиков писал…
— А ты о чем?— спрашиваем мы Лидочку.
— Я даже сама не знаю… Писала и писала. Вот только звонок помешал.
— А ты, Гога?
— Я?— он лезет за расческой.— Ну, прежде всего, слово «Родина» большое понятие. Это не просто Горький или там
Шмидт со своей льдиной. Родина это знаете что такое?
Гога широко разводит руками.— Это наша Отчизна.
— А отчизна что такое?
— Отчизна? Ну, это… как бы вам сказать… Ну, значит, отечество…
— А отечество?— Он чуточку думает, просветленный поясняет:
— Значит, наша держава, согретая сталинским солнцем.
— Так за что же ты любишь свою Родину?— не выдерживает Лидочка.
— Об этом я написал в сочинении,— значительно говорит Гога.
Очередной звонок тети Агаши дружно сметает нас с теплой батарейки.
Лидочка идет в класс вместе с Мишкой. Я заметил, что они уже давно ходят рядом. И на переменках, и в школу, и из школы. Мне почему-то досадно.
По коридору навстречу нам торопится в учительскую Пелагея Васильевна в своем новом платье. В руках наши тетради и трубчатый сверток. Остановилась, довольная, проводила нас глазами, Женька обернулся, засмеялся:
— С днем рождения вас, Пелагея Васильевна.
— Спасибо, Женя,— говорит она.
— С днем рождения вас!
— С днем рождения, Пелагея Васильевна,— наперебой говорим мы, и нам очень приятно, что сейчас наша учительница, прижав к груди тетради, прислонилась к стене коридора и всем по очереди кивает.
— С днем рождения!— говорю я ей и вижу, как сыплются у нее из рук наши тетради. Мы подбежали, помогаем ей, а тетради все падают и падают.
— Спасибо, ребята,— отворачиваясь говорит она.— Ну, бегите. Уже урок начался. Я сама…
— Спасибо вам, Пелагея Васильевна.
— За что, Алеша?
Я не знаю, что сказать, на ребят смотрю, на нее. Так ничего и не сказал, повернул в класс. .
Уже за партой Женька с укором говорит:
— Сказал бы ей за то спасибо, что она нас учит. Ну, хотя бы за Пушкина… за Полтаву…
Я молчу.
А все-таки хорошо, что на свете есть Пелагея Васильевна.
…Вдоль окопа понеслась команда: — Оставшихся бойцов переписать!
Григорий Иванович оглядывает нас, очень медленно слюнявит карандаш, словно собрался нам всем ставить отметки, кто как жил, кто как живет сейчас…

Случалось, в наш двор врывались войны. Они начинались девчачьим писком, лаем Женькиного Короля и торопливым прощаньем Гоги: «Пока, ребята, у меня дома дело есть».
На заборе появлялся со всей своей армией соседский мальчишка Ленька Косой. Его имя наводило ужас не только на наш двор, но и на все соседские. Помню, как однажды граф де Стась, рассовывая по карманам персики, стращал ею нашу скамейку:
— Вот погодите… Научу Леньку Косого, тогда будете знать…
И вдруг сейчас на заборе сам Ленька Косой, а следом за ним с диким свистом вся его армия. В руках у Леньки рогатка, на шее болтается запасная.
Окружили нас.
— Руки вверх, гады! Стрелять буду!— орет Ленька и натягивает рогатку.
— Сначала попади,— говорю я не совсем уверенно.
— Во что?
— Во что собрался,
— Хочешь в тебя?
— Бей!
— Бью!
— Бросьте вы, ребята,— говорит Лева.— Мы вас не трогали, и вы нас не трогайте.
Ленька медленно поднимает рогатку к моему лицу. Вся резина вытянулась, стала совсем прозрачная. Туго дрожит в руке рогатулька. Резина все тоньше, тоньше…
— Бью.
— Бей!
— Ну ты, дурак, погоди,— хочет загородить меня Женька.
И вдруг что-то меня подстегнуло, а что — и сам не знаю.
Одной рукой за струну резинки, другой Леньке в морду. Шагнул вперед и еще раз, только сильнее.
Армия подняла своего вожака, отряхнула, обдула, установила.
— Значит, ты так?— интересуется Ленька кровавыми плевками на земле.— Значит, ты так?
— Значит, так. Снимай с шеи рогатку.
— Чего?
Кто-то сзади кладет мне в руку кирпич.
— Снимай рогатку, гад! А ну!!— Вся Ленькина армия за забор. Торчат одни макушки.
Ленька снимает рогатку, а она цепляется резинкой за лохматый затылок, не поддается.
Сорвал ее. Пробую. Хорошая резина. Упругая, тонкая и длинно тянется.
— Давай патрон!
Он по карманам ерзает.
Достал кругленький камешек-голышек, протягивает:
— Вот и все… этот?
— Не пойдет! Давай свинец или подшипник.
— Нету,— водит по карманам Ленька.— Вот только голышки…
— Оставь себе. Тут дело серьезное.
Я уже давно чувствую, что кто-то тянет меня за рубашку. Оглянулся, а это Славик. В протянутой ладошке бегает как ртуть шарикоподшипник.
— На, Алеша…
«Эх,— думаю,— или я здесь король, или одуванчик». Зарядил рогатку подшипником, кричу Леньке:
— А ну, становись!
— Я и так с-с-стою,— говорит Ленька и закрывает лицо руками.
Гудит резина, растянутая на всю ширину рук, рогатулька вот-вот вырвется из пальцев. Повел рогаткой по верхней кромке забора — макушки словно слизнул кто. А Ленька все стоит, закрывшись руками, глухо бормочет:
— А за это знаешь что будет?.. Милиция тебе будет…
— Люблю милицию,— говорю я.— А ну, гад, ни с места!
— Твоим родителям влетит.
— Люблю своих родителей…
— Тебе тюрьма будет…
Целю ему в лоб между пальцами.
— Алешка, стой!— кричат ребята.— Ну его. Пусть отсюда катится.
— Ну, вот смотри,— говорю я Леньке,— как надо стрелять.
Огляделся, а стрелять некуда. Славик заторопился на поиски мишени. Рядом Лидочка оказалась, остановила Славика:
— Не ходи. Стреляй, Алеша, в пуговицу.
Она скинула пальто, повесила его на гвоздь, на стенку сарая, распрямила:
— Бей в пуговицу.
— В какую?
Почему-то Жиган рядом хлопочет, рогатульку из моих рук вынул, осмотрел, опять вложил. Кричит на забор;
— Ну вы, шкеты, сползайте! Смотрите, как бить надо! Ленькина армия нерешительно сползла с забора.
— А ты становись вот сюда, учись,— подталкивает Жиган Леньку Косого.— Ну, давай, Алешка, только не торопись.
— В какую бить?— спрашиваю я.
— В среднюю,— заказывает Лидочка.
В разрезе рогатульки пляшет, медленно успокаиваясь, средняя пуговица. Кожица рогатки с подшипником на уровне правого глаза. Резина натянута до предела. Застыла пуговица, не шевельнется.
Сейчас мои руки на уровне пуговицы. Теперь важно под прямым углом к моему корпусу и к стенке сарая, вернее к пальто, держать резину. Ветра нет. Значит, никаких отклонений. На вес подшипника чуть прибавить, чуть приподнять рогатульку всего лишь на толщину папиросной бумаги,
— Огонь!
— Ф-ф-р-р!— огрызнулась рогатка.
— Бенц!— заорали ребята за спиной.— Попал!
— Алешка! Попал!— Бежит к сараю Лидочка.— Давай в другую!
Бить в другую мне что-то не хочется.
— Потом,— говорю я.
— Нет, пусть бьет,— оглядывается на свою армию Косой.— Пусть еще. Правда, пацаны?
Ленькина армия соглашается, глухо настаивает:
— Бей еще! Давай, давай!
Жиган опять рогатку осматривает, сует мне в руки.
— Давай, Алешка,— спокойно просит он.
— Пальто жалко,— говорю я.
— Ничего, у меня еще есть такие пуговицы,— торопится Лидочка.— Бей!
— И тебе не жалко?
— Ни капельки. Бей!
— Ты подумай, Лидочка!
— Ничего, подумала. Бей!
И тут меня прямо зло взяло. Медленно вплывает в развилку пуговица. Установилась, не двинется, не вздрогнет.
— Прямой угол, гипотенуза, катеты,— бормочу я.
— Огонь!
— Бенц!— орут ребята.— Вдребезги!
И как это я попал? Просто сам удивляюсь.
— Ну, хватит,— говорю я.
— Нет, пусть еще бьет,— чей-то голос за спиной. Оглянулся, а это Гога.— Пусть уж до трех раз,— говорит он.— Надо все до трех раз.
— Нет, больше не надо,— вмешивается Лидочка.— У меня только две таких запасных, больше нет.
— Жертвую от своей куртки,— говорит Гога и, натужась, отрывает пуговицу.— На, бери.
— Так ведь эта мне не подходит, дурачок,— сердится Лидочка.
— Ничего, укрепим отдельно на доске,— торопится Гога к сараю.
— Эй, пижон, подожди,— говорит Жиган.— Иди сюда. Возьми пуговицу в руки. Держи пальцами за кончик. Вот так. Теперь поднимай над головой. Вот так. Алешка будет стрелять. Верно, Алешка?
— Буду,— решаюсь я.
— Ну иди, иди к сараю,— подталкивает Жиган Гогу.
— А почему я?
— Ты, ты должен,— говорит Жиган.— Ведь сам же говорил, что до трех раз. Вот сейчас и будет третий. Так, ребята?
Все шумно согласились.
Жиган с удовольствием крякает, потирает руки и смотрит на Гогу.
— Но почему же я?— упирается Гога.— Я вас не понимаю. Мне некогда.
— Вы не смеете его трогать!— вдруг сверху из окна раздается Ларискин голос.— Что он вам сделал? Гога, уходи от них. Хулиганье!
— Хулиганье,— подтверждает из окна Ларискин папа.— Мальчик, иди к нам. Завтра же все участковому сообщу!
И откуда он взялся? Сердитый, Лариску от окна отгоняет.
Я смотрю на Гогу, он вертит в руках пуговицу, молчит.
— Давай мне,— подошел к нему Ленька Косой.— Я встану. Бей, Алешка.
Гога не отпускает пуговицу, в землю смотрит.
— Ну, давай,— хочет разжать кулак Ленька. Из окна Ларискин голос:
— Гога, ну что же ты? Будь, как Лермонтов… Докажи им…
— Уйдите все,— глухо говорит Гога.— Я сам.
Он подходит к сараю, поднимает руку с пуговицей.
— Бей!
Пляшет пуговица в рогатульке. Даже рука целиться устала. Решил передохнуть и нечаянно провел рогаткой по окнам. С треском захлопнулось ее окно. Только белый папин кулак мелькнул и пропал в глубине.
— Готов?— спрашиваю Гогу.
— Бей!
— Возьми в левую руку,— советую я.— Правой писать пригодится.
И опять прыгает в разрезе рогатульки пуговица. Но вот она установилась, успокоилась.
Мне надо попасть, и попасть точно в пуговицу. Это я твердо знаю. Но палец, ох этот Гогин палец!
— Огонь!
Ф-р-р!— ответила рогатка.
* * *
Утром на следующий день к нам пришел дядя Карасев. Не во двор, а прямо к нам домой, к маме.
Присел на стул, фуражку не снимает. Сердитый, строгий. Вздыхает, сморкается не долго, молчит.
— Ну что же, Григорьевна, может, в колонию отдать?— смотрит куда-то в угол дядя Карасев.— Вот опять история.
Палец мальцу разбил… Заявление пришло… Гогины родители подписали, да еще один жилец.
Мама тихо плачет, закрыв лицо передником, на меня не смотрит. Устало махнула рукой:
— Как хотите, дядя Карасев, нет моих сил больше. Дядя Карасев за чай взялся, на меня посмотрел, нахмурился, отвернулся.
— Дядя Карасев, я нечаянно в палец попал,— говорю.— В пуговицу целил, а вот так случилось.
— В какую еще пуговицу?
Я все рассказал. Все как было с самого начала. Только не назвал Леньку Косого. А так просто: какие-то ребята на наш двор налетели. И все.
— А какие ребята?— спрашивает участковый.— Откуда?
— Не знаю… наверное, с Дорогомилова… Участковый поскрипел стулом, глаз почесал, крякнул:
— Ну, это не моего участка.— Маме чашку протянул: — Григорьевна, налей-ка погорячей.
Теперь сидим пьем чай все вместе: мне тоже дали. Дядя Карасев нет-нет на меня посмотрит, отвернется, чай прихлебнет и сам с собой советуется:
— Надо бы участковому с Дорогомилова сообщить… Пусть за ребятами присматривает… А я думал, это все наш Ленька Косой… А тут, вишь ты,— дорогомиловские…— удивляется дядя Карасев и опять на меня посматривает.— Вот ведь бывает на человека подумаешь плохое, а он совсем не виноват,— помолчал, сам себе поддакнул,— бывает. Так, Алеша?
Я чаем обжегся, поперхнулся.
— Так,— говорю,— все бывает…
— А вы бы взяли Леньку Косого в свою компанию,— помолчав, говорит дядя Карасев.— Он парень хороший… Отец у него в прошлом году умер… Асфальт варил… Вот около нашего дома аккурат его работа…
Он молчит, скатерть поправляет, сахарницу поднял, на свет рассматривает. Суетится мама.
— Дядя Карасев, а Жиган хороший?— спрашиваю я.
— Жиган? Жиган… тоже хороший парнишка.
К нам в дверь стучат. Мама поспешила открыть: За дверью разные голоса и чей-то требовательный сердитый:
— Участковый у вас?
Заходит Гогина мать, за ней — Гога. У него вся рука в бинтах и еще широкая черная перевязь с шеи руку поддерживает.
— Вот полюбуйтесь!— кричит его мать.— Полюбуйтесь, что этот бандит натворил. А вы тут чаи распиваете… В колонию его, в тюрьму!
— Подождите, гражданка, при чем здесь чай,— отодвигает дядя Карасев чашку,— мы разбираемся…
— Милиция должна действовать, а не разбираться,— все так же шумит Гогина мать,— мальчику руку разбили, а вот вы все разбираетесь,— тычет она пальцем в дядю Карасева.
— Гога, садись. Садись, мальчик.
Гога присел, руку на повязке вперед выставил, в окно смотрит.
Я пугаюсь Гогиных бинтов, черной повязки.
— Послушай, Гога, ведь я же тебе в палец попал, зачем же вся рука?
Он на меня не смотрит. Может, не слышит?
— Ты расскажи все, как было,— прошу я.— Ведь я же в палец не нарочно. Ты же сам захотел встать с пуговицей. Ведь так?
Гога на руку дует, в окно смотрит.
— Ну, говори же, Гога,— прошу я. Гога руку раскачивает, морщится.
— Нечего тут говорить,— вмешивается Гогина мать.— Дядя Карасев, принимайте меры на этого бандита, или я обращусь к мужу. Вам известно, кто Гогин отец? Вы знаете?
— Знаю, знаю,— отворачивается дядя Карасев и снова тянется к чашке.
— Гога, домой,— торопится его мать.— Пошли. Тут одна шайка.
И опять к нам в дверь стучат. Мама открыла. Слышно на пороге кашель, деревянный стук — и вдруг голос Ивана Ивановича:
— Григорьевна, участковый у вас? Ну-ка, где вы тута?
В дверях на костылях — Иван Иванович, пулеметчик революции. Его под руку Жиган поддерживает, а за их спи нами все ребята: Женька, Лева, Лидочка… Позади всех ежится Ленька Косой.
Иван Иванович согнал меня взглядом со стула, уселся. Костыли между ног установил, отдышался.
— Ты, милиция, чего тут?— спрашивает он сердито дядю Карасева.
— Я ничего, Иван Иванович, а ты чего?
— Я-то… Вот то-то… Во всем разобраться надо.
— Вот мы и разбираемся… Надо же все как положено. Хлебни-ка чайку. Разберемся, и все будет как надо. Вот заявление поступило. Тут граждане подписали…
— А чего они подписали? Я все видел, а они подписали. Надо бы ему в лоб из рогатки всадить. Вот и все.
Дядя Карасев машет на пулеметчика революции:
— Ну, чего ты? Чего расходился? Да еще при детях. Разве так можно? В лоб из рогатки! Сказанул!
Иван Иваныч хмурится, костыли перебирает.
— Иван Иванович, может отдохнешь пойдешь?— спрашивает дядя Карасев.— Поспишь. А?
— Нет, я потом спать,— как-то вдруг обмяк старый пулеметчик. Склонился над столом, головой уткнулся в тяжелые руки, глухо бормочет: — Нет… товарищ Карасев. Отдыхать — это потом… Обида у меня в душе… Вот хочешь расскажу…
Мама вокруг неслышно ходит, глазами на дверь показывает.
Мы тоже чего-то поняли, послушно за дверь, на кухню. А дальше не пошли. Стоим, прислушиваемся. Из-за двери голос Ивана Ивановича:
— Думаешь, у меня так не было? У, брат, еще как… Все было… Не виноват, а заляпают грязью. Вот была в эскадроне Мотька. Мы ее Матильдой звали. Ух, какая! Огонь! Ракета! Порох! Не ухмыляйся, товарищ Карасев, поясняю: жена нашего командира… Ну, значит, вызывает командир, толкует приказ и прямо мне в глаза смотрит:
«Давай,— говорит,— Ваня, отправь ее на тачанке к родичам. Постели сена и отправь. Тут завтра бои начнутся, и нечего ей здесь делать». У меня от этого приказа сначала сердце захолонуло, но все же бодро ответил: «Есть!» — а потом опять сердце… Это самое. Ну, все-таки сказал: «Есть!»
…Везу ее и все думаю: почему командир мне в глаза смотрел? Едем. И она, понимаешь, мне в глаза заглядывает. Спросит что-либо, я обернусь, а она своими глазищами мою голову держит, обратно не повернуться. Я по лошадям вдарю и вроде легче мне.
Потом зло меня взяло. Что ж, думаю, я есть пулеметчик революции, а такую интеллигентскую слабость проявляю. Ну, чтобы отвлечься, стал я ей, не оборачиваясь, так сказать, заочно объяснять, зачем в пулемет вода заливается, какие обязанности второго номера, как большим пальцем расстояние до противника определить и разное другое. Она слушает. Умно так слушает, а иногда и чего дельного спросит. Вот, думаю, толковая какая. Ее бы чуть подучить и к нам в пулеметную команду. Так всю дорогу про пулемет, а потом про нашего командира ей рассказывал. Какой он есть орел и герой революции.
К родичам доставил, честь отдал, сундучок ее в избу внес и опять честь отдал. Сел в тачанку и давай хлестать лошадей. За что и сам не знаю. А еще всю дорогу песни пел.
Прибыл, доложил. И как-то хорошо мне стало… Светло. Словно на душе котята играют. Только вижу — командир так грустно на меня смотрит, ногами переступает, шпорами звякает.
Достает он из кармана гимнастерки смятую записку: «Вот,— говорит,— подбросили мне. Прочитай».
Распрямил я бумажку, читаю — и буквы в глазах запрыгали. Я ее и сейчас помню. Вот какие там слова были: «Товарищ командир! Чем нам, рядовым бойцам, гайки все туже закручивать, лучше бы над супругой дисциплину установил. Сегодня в степи ее и пулеметчика Ивана наша конная разведка в бинокль уследила, А мы все за Советскую власть, но без твоей дисциплины. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Ну так кому же верить?»— тихо спрашивает командир. Ничего я ему тогда не сказал, хотел выругаться, а только заплакал. А тут труба заиграла: «Тревога!» Кто на коня, а я в тачанку. Пулемет лапаю. Лишь бы что не заело, лишь бы что не запуталось.
Ну, тогда все с пулеметом в отряде было. Нажимал на чашечку, бил по белякам, все казалось, что стреляю в того, кто грязную записку писал. От ярости со своей тачанкой чуть ли не в самую сабельную сечу ворвался.
Замолчал Иван Иванович. Тихо и у нас за дверью. Кажется, мы давно не дышим. Иван Иванович шумно чай прихлебнул, прокашлялся:
— Ну, значит, кончился бой. Командира нашего конь за стремя приволок. Не смогли мы саблю из его мертвой руки вынуть. Словно впаялись пальцы в рукоять. Комиссар сказал, чтоб так с саблей и хоронили.
Ну, похоронили, значит. Салют дали. Все разошлись, а я сижу у холмика, встать не могу. Кто же теперь тебе, командир, всю правду скажет и про Матильду и про меня?
Замолк пулеметчик, тихо за дверью.
— Ну, а потом как же, Иван Иванович?— Это голос мамы.
— Потом? Потом нашел я того, кто записку писал. Сам он по пьянке проболтался. Дурак дураком. Стоит, смеется. Такого рубануть — два дурака получится — так комиссар сказал, когда прыжком очутился между нами. Взял он за грудки того дурака.
— Пусть,— говорит,— этот гад при всем эскадроне над могилой командира всю правду скажет.
Наутро весь эскадрон снова окружил могилу. Тот гад на колени встал, чего-то лепечет.
«Громче,— кричат бойцы,— пусть мертвый услышит!» Он громче. А комиссар ему подсказывает: «Чтоб пролетарии всех стран верили друг другу и не боялись доверять один другому самое дорогое, что есть в жизни!»
Слышно за дверью, как мама чай разливает да покашливает старый пулеметчик.
Як чему это рассказал,— снова голос Ивана Ивановича,— чтоб ты, милиция, знал, что человека могут забрызгать грязью и словами и на бумажке. Подумаешь, тебе заявление написали, а я вот сам все видел. И говорю тебе, как бывший конармеец, что Алешка не виноват. И надо, чтобы Гога при всем дворе сказал всю правду, как тогда у нас в эскадроне.
— Как же это сделать?— тяжело вздыхает дядя Карасев,
Как? Ну, вот так. Пойду к его отцу и скажу, что все напишу в «Пионерскую правду», все, что сам видел. Конармейцу, пулеметчику в редакции поверят. Глаз пулеметчика видит все правильно. Иначе не попадет. Мало было пулеметов в гражданскую. А один мне доверили…
* * *
Сейчас у нас в окопе пулеметов хватает. Это нам всем доверили. Настоящее боевое оружие — и прямо в школьные руки. Значит, здорово в нас поверили…

Высоко над нами повисла немецкая «рама». Это тихоходный двухфюзеляжный самолет-разведчик. Наверное, окопы фотографирует.
Расстреляли по самолету не одну обойму, а «раме» хоть бы что. Кружит и кружит себе в высоте. Что-то отделилось от самолета и все быстрее, быстрее приближается к земле. Вдруг это что-то рассыпалось в небе и уже опускается на окоп белыми снежинками. Кто-то кричит:
— Листовки! Хватай на курево!
— Не стоит рук пачкать,— сердито кивает Григорий Иванович на бумажные снежинки.
Мне нестерпимо хочется подержать в руках немецкую листовку. О чем они пишут? Чего хотят? Ведь это же «их» листовки.
Один листок тихо опустился на бруствер, покачнулся и скользнул в окоп. Я хочу поднять, но почему-то стесняюсь Григория Ивановича. Наступил сапогом, помалкиваю. Листовка жжет подметку, не дает успокоиться. Я на Григория Ивановича посматриваю, он будто ничего не видит, неотрывно следит прищуренными глазами за «рамой».
Отодвинул чуть ногу, но ничего не прочтешь. Какие-то рисунки и слитно буквы.
— Ладно уж читай,— не отрываясь от «рамы», вдруг говорит политрук.
— А можно?
— Чего уж там,— машет рукой Григорий Иванович,— не маленький.
Мы с Женькой поднимаем листовку.
— Читай вслух,— просит Григорий Иванович.— А вы, товарищи, слушайте,— оборачивается он к бойцам.
Оказалось, это не просто какая-то листовка, а пропуск. Фашисты советуют хранить его подальше «от командиров, евреев и комиссаров». При встрече с немцами этот пропуск предъявляется, и тогда сдавшемуся в плен обеспечена «райская жизнь».
На обороте рисунки «из райской жизни», На одном нарисован улыбающийся красноармеец. В руках у него балалайка, на другом — тот же красноармеец сидит за самоваром, потом он с веником в бане…
— Здорово нарисовали,— говорит Григорий Иванович и старательно прицеливается в «раму».
— Нy, ребята, прячьте свои пропуска,— говорит политрук,— в рай попадете.
— Да ну вас, Григорий Иванович,— сердится Женька.— Уж и посмотреть нельзя?
— Сомни-ка получше,— между выстрелами советует политрук,— в туалет сгодится.
Потом Григорий Иванович долго рассматривает листовку, хмыкает.
— Дураки не догадаются: такие бы вещи на наждачной бумаге печатать. Тогда сохраняется.
Бойцы смеются.
Я люблю, когда людям весело. Особенно приятно слышать смех здесь, в окопе.
Сейчас немцы притихли. Вернулась наша разведка, сообщила, что противник укрепляет свои окопы. Наверное, немцы уже выдохлись и наступать больше не могут. А может быть, ждут подмоги?
Иногда ветер со стороны деревни трогает уши звуками губной гармони, мандолины.
— Вот гады! Как у себя дома,— говорим мы и, не целясь, шлем пулю за пулей на звук гармошки.
Григорий Иванович на корточках роется в своем планшете, достает сморщенный лист бумаги:
— Алеша, в школе стенгазету выпускал?
— Еще какую!— радуемся мы с Женькой.
— Ну-ка, «боевой листок» изобразите.
— Как? Прямо сейчас? Здесь?— переглядываемся мы с Женькой.
— А то где же? Одну здесь, другую в Берлине,— спокойно говорит политрук.— Вот вам цветной карандаш. Тут заголовок, здесь рисунок. Наши пулеметчики дадут заметку, как стрелять по самолетам. Так? Я передовичку напишу. Да, вот еще юмор должен быть. Может быть, у нас кто трусит. Сюда его. Или бесславный конец немецкой листовки… А на весь лист такую шапку: «Доброволец в штаны не кладет»… Как?
Шапка понравилась.
Григорий Иванович отдал нам планшет, и Женька, положив на него бумагу, вывел в углу: «Смерть немецким захватчикам!»
Чем-то очень мирным, далеким, школьным повеяло на нас от цветного карандаша и от этого белого листка бумаги. Не хватает школьного звонка и… совсем как до войны.
* * *
…Звонок, Окончились занятия. Сейчас после уроков в классе остается только наша редколлегия. Мы будем выпускать новогодний номер классной стенгазеты.
Редактор стенгазеты — Лева Гоц. Женька и я — художники. Лидочка и Гога — члены редколлегии.
В дверь просунулась мордашка Славика.
— Учитесь?— спрашивает он.— Давайте старайтесь.
— А как у тебя день прошел?— строго спрашивает его Лидочка.
Славик сообщает:
— По арифметике «отл»,
— Ха-ха!
— Ура!
— Банзай!
— Мировецки,— довольный, подытоживает Славик.— Ну, пошли домой.
— Иди один, Славик. Нам стенгазету выпускать.
— И я с вами останусь. Можно?
— Нельзя. Тебе поесть надо.
— А я поем и приду. Можно?
— Зайди к моей матери,— просит Женька.— Захвати бутербродов на всех. И еще акварельные краски и черную тушь.
— Я сегодня не останусь,— объявляет Лидочка.— Мы с Мишей пойдем посылку его отцу отправлять.
— Ну и что же,— говорю я,— отправите и приходите оба.
— Так мне же нельзя делать стенгазету,— тихо говорит Мишка и садится за парту.
— Меня выбрали…
Разглядываем сгорбленного Мишку вместе с его летчицкой сумкой, и вдруг, не знаю почему, я заорал:
— Какой глупый! А кто же нам лучше тебя самолет нарисует? Кто? Прямо над Спасской башней будет лететь самолет. Понял? Ну, давайте бегом!
Мишка вскочил, убежал. Лидочка задержалась, подставила мне кулак:
— Как ты думаешь? Что у меня здесь?
— Самолет.
— Молодец!
Лева упрямый лист ватмана расстилает на сдвинутых партах, сердится, очкастой головой крутит:
— Опять вы это самое… Чувства… Давай-ка пиши заголовок: «За отличную учебу».
Женька рисует башню Кремля, а я набрасываю заголовок «За отличную учебу».
Раньше, выпуская любой номер стенгазеты, мы просто мучились. Мы не знали, как и чем заполнить безгранично большой лист ватмана. Мы даже хитрили: название нашей стенгазеты писали очень большими буквами, потом рисовали огромный номер, слева как можно больших размеров рисовали Спасскую башню. Потом изображали какого-нибудь отстающего ученика, обязательно с большим носом, с подвязанной к ноге гирей, на которой было написано «неуд». Рядом рисовали каких-нибудь драчунов с большими кулаками.
Места еще оставалось много, и мы старались пятна на ватмане заполнить заметками.
Сначала, конечно, передовая статья. Скучная и противная, которая называлась или «Наши задачи» или «Будем учиться на «отлично». Потом шли заметки, которых нам никто не писал, и мы их сочиняли сами. Они тоже были почти всегда одни и те же: «За чистоту в классе», «Что нам мешает?», «Лучше готовить домашние задания» и уголок юмора: «Кому что снится».
И все-таки места еще оставалось очень много, и тогда мы в конце часто рисовали огромный почтовый ящик и крупно писали: «Пишите заметки в стенгазету!» Но заметок никто почему-то не писал, и следующий номер стенгазеты опять выходил вымученным, тоскливым, хотя и с ярким красочным заголовком и очень красивой Спасской башней.
Однажды мы увидели стенгазету, которую выпустили комсомольцы. Даже не увидели, а скорее услышали.
В коридоре, где была вывешена газета, раздался хохот. Старшеклассники сгрудились у газеты и смеются.
Вот это была стенгазета! На таком же листе ватмана, как и наш, поместилось всего очень много интересного, веселого и даже неожиданного. Тут были нарисованы барон Мюнхаузен, Митрофанушка, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Обломов, Хлестаков, а внизу вопрос: «Есть ли. в нашем классе такие герои?» Рядом веселая беседа корреспондента газеты «Десятиклассник» с тетрадкой одного ученика. В отделе «Вещественные доказательства» приклеены перехваченные шпаргалки и еще записка на промокашке: «Зиночка! Любовь моя! Плюнем на последний урок, бежим в кино. У меня два билета на Чарли Чаплина. Жмурюсь заранее».
Тут же отрывки из сочинений по литературе: «Буревестник, вроде хорошего барометра. Предсказывает погоду. Иногда даже бурю». «Гость оказался безумно умным человеком», «Он выбился в люди, хотя сам никогда не был человеком…»
А вот очень серьезные статьи: «Чем ты можешь поделиться с товарищем?» и «Что взять с собой, что бросить по дороге?»
Рядом веселая страничка из дневника Васи Пупкина. Такого Васи у них в классе нет. Они просто придумали. Но все очень здорово. Есть и уголок спорта. Здесь итоги комсомольского лыжного кросса. Рядом нарисован лыжник, у него на ногах лыжи прикреплены задом наперед. Ему говорят: «Что же ты наоборот лыжи надел?» А он в ответ: «А вы почем знаете, в какую сторону я поеду?»
В уголке юмора нарисован десятиклассник на приеме у врача. Врач ему говорит: «Да у вас же отличное зрение!» А десятиклассник удивляется: «Странно, а мне все говорят, что я дальше собственного носа ничего не вижу».
А вот копия письма родителям одной девочки, в котором комсомольская организация благодарит родителей этой девочки за то, что они воспитали хорошую дочь.
Посмотрели мы эту газету и как-то скисли. Ну куда нам с нашим нарисованным почтовым ящиком! Разве так делают стенные газеты!
В тот день мы разыскали редактора «Десятиклассника» и, как пишут в газетах, имели с ним дружескую, сердечную беседу.
Длинный худой парень в ковбойке рассказывает нам, как они делают газету.
— У вас блокноты есть?— вдруг спрашивает он.
— А зачем?
— Ну, как же без этого,— удивляется десятиклассник.—
Проходит день, что-то в классе случается, надо сразу же на карандаш.
— Нам записывать нечего,— с сожалением говорит Лева Гоц.
Десятиклассник смеется:
— Так не бывает. Просто внимательно присматривайтесь. Вот сегодня кто-нибудь получил плохую отметку?
— Было,— подтверждаем мы.
— Сейчас же и анализируйте.
— Как это?
— Ставьте три вопроса: «что?», «как?» и «почему?» На первый вопрос ответить легче всего. «Что?» Плохая отметка. На второй вопрос: «как?» — ответить труднее.
Десятиклассник хмурится, смотрит куда-то в потолок:
— Как получилась плохая оценка? Заслуженно ли? Случайно ли? Впервые или система? Обо всем этом надо подумать. А самое трудное — дать ответ на третий вопрос: «почему?» Понимаете?
Мы согласно киваем.
— Почему ученик получил «плохо»? Какие причины? В чем дело? Может быть, ему дома мешают делать уроки, может быть, он просто лентяй, а бывает, человеку что-то не дается, а он стесняется спросить. Стесняется потому, что ему кажется, класс будет над ним смеяться: вот, мол, какой бестолковый. Все поняли, а он нет. А может быть, он по болезни пропустил много уроков и никто из товарищей ему не помог.
Наш наставник замолчал, оглядел нас всех по очереди, солидно сказал на прощанье:
— Печать — дело серьезное. Тут уж вашим почтовым ящиком с воплем «Пишите заметки!» не отделаешься. Печать— самое сильное и самое острое оружие нашей партии. Слышали?
Мы киваем.
— А с оружием шутить нельзя. Все должно быть продумано. Ну, ауфвидерзейн. Мне пора.
И вот мы выпускаем по-новому уже вторую стенгазету. Очень дорожим площадью ватманского листа. Правда, Спасская башня осталась по-прежнему, только размерами поменьше, а все остальное заменили. Вместо огромного почтового ящика ввели отдел юмора под названием «Всегда с собой платок носовой». Это нам Славик посоветовал. Ему так Лидочка написала и приклеила к внутренней крышке ранца. Мы сначала удивились, а потом согласились, ведь носовой платок очень помогает человеку.
Мы ввели морской вахтенный журнал. На его страничках отмечаем точное время, что и когда случилось в классе.
Сейчас Лева старательно выписывает: «В 11 часов 08 минут палец учителя истории заскользил по фамилиям в классном журнале. В 11 часов 09 минут на лице Толи Кучкина появилась бледность. В 11 часов 10 минут Толя у доски начал пускать пузыри, сопровождая их словами: «значит…», «так сказать…», «ну, вот…», «это самое…». В 11 часов 20 минут пузыри на поверхности исчезли. Толя тоже. В 17 часов спасательный катер «Юный историк» под командой Лидочки Кудрявцевой вышел на помощь пострадавшему. В 18 часов 30 минут под Толю были подведены понтоны под названием реформы Петра 1, и Толя Кучкин пробкой всплыл на поверхность».
Мы с Женькой рисуем карикатуры на тему: «Дома, в школе и на улице».
Пришли Лидочка с Мишкой. Лидочка ведет в газете уголок «Полезные советы». Сейчас она пишет заметку о вежливости. Я читаю через ее плечо: «Еще Сервантес, автор знаменитого «Дон-Кихота писал, что ничто так не дается нам легко и ничто так дорого не ценится, как вежливость. Слова, которые необходимо запомнить: «здравствуйте», «разрешите войти?», «будьте добры», «спасибо», «извините», «пожалуйста»…
Рядом Мишка, высунув кончик языка, рисует новейший скоростной самолет. На нем летит наш лучший ученик в классе. Рядом курьерский поезд, потом автомобиль… На последнем месте нарисовали черепаху, а за ней — рака. Я прикинул свое место в этой таблице и оказалось, что на чем-то все же я еду, но только это «на чем-то» почему-то без мотора.
Итак, мы с Женькой рисуем смешные карикатуры. Это очень серьезное дело. Редактор «Десятиклассника», или, как они теперь называют свою газету, «Третьего звонка» рассказывал нам и о карикатурах. Он говорил, что карикатура на своих товарищей не должна обижать или унижать человека.
В самом деле, очень обидно, если тебя нарисуют каким-то уродом. С огромным носом, на тоненьких ножках и с кривым глазом. Это совсем не смешно. «Такая карикатура не попадает в цель,— как объяснил редактор «Третьего звонка».— Это оскорбление, а вовсе не добрая товарищеская шутка. Вы хотели помочь товарищу исправить какой-то недостаток, а получилось, что вы его обидели, оттолкнули от себя».
Теперь мы с Женькой рисуем карикатуры по-новому. Газета почти готова.
— Интересно получается,— говорит Лидочка,— а вот название у нас какое-то казенное, скучное. Ну что это такое,— передразнивает она,— «За отличную учебу»? Неужели нельзя как-то живее назвать? Вот как большевики называли свою газету? «Искра»! Это смело, ярко. И еще эпиграф поставили: «Из искры возгорится пламя». Так и хочется читать. Или вот журнал «Огонек». Хорошо же? Так и представляешь людей, которые собрались дома на огонек и листают этот журнал. Десятиклассники назвали же свою газету «Третий звонок». И всем понятно, что десятый класс последняя ступенька. Как все равно поезд трогается после третьего звонка, или в театре поднимается занавес,— она смотрит на наше название, выпячивает губу, морщится: — А у нас? «За отличную учебу». Прямо какой-то лозунг, а не название.
Давайте придумаем новое?— предлагает Мишка,
— А какое?
— «Истребитель»!
— Почему?
— Ну,— мнется Мишка,— потому, что это самолет. Мы подумали и отвергли.
— «Снежинка»,— говорит Женька.
— Почему?
— Сам не знаю.
— «Рупор»,— сказала Лидочка и сейчас же замахала руками,— не то, не то!
— «Бегемот»,— бухнул Мишка.
— Почему? В Советском Союзе бегемоты не водятся.
— Крокодилы тоже не водятся, а ведь есть же такой журнал,— оправдывается Мишка.
— Надо что-то такое,— задумывается Лева,— чтобы ребята поняли, что газета друг и товарищ.
— А что надо?
— Да вот я и сам не придумаю.
— «Костыль»,— неуверенно говорит Мишка и по очереди смотрит на всех нас.
— Почему?
— Ну, костыль помогает людям ходить.
— А разве мы хромые?
Подумали и дружно отбросили этот «Костыль»,
— «Товарищ»,— тихо, почти шепотом, говорит Лева. Но мы услышали.
— Правильно,— вдруг кричит Женька,— конечно, «Товарищ»! Ведь настоящий товарищ — это здорово!
— Верно,— согласилась Лидочка.— «Товарищ» — это очень правильно.
Мы решили посоветоваться с Пелагеей Васильевной, с нашим пионервожатым, может быть они предложат что-либо лучше, а если нет, то наша газета отныне будет называться самым хорошим словом.
* * *
Мы уже настолько выросли, что даже изучаем химию. В кабинет химии всегда бежим с удовольствием, восторгом. Я стараюсь обогнать Гогу и бежать за Лариской. Впереди всех Мишка размахивает летчицкой полевой сумкой, за ним по ступенькам прыгает Лидочка. Она с Мишкой и в химическом кабинете сидит рядом.
Вместе они нагревают свои пробирки, вместе нюхают какую-то дрянь, и даже вместе своими языками облизывают одну и ту же соль.
Если у них спросить промокашку, то она обязательно вся разрисована самолетами разных марок. И рядом рукой Лидочки написано: «А это какой?» И тут же Мишкин почерк: «Это бомбардировщик ТБ-3».— «А это?»— Это истребитель. А вот гидросамолет».
Однажды на промокашке было написано Мишкиной рукой: «По-моему, Алешка на нас сердится. За что?» И тут же ответ Лидочки: «Ну его, он просто глупый». После этого я не стал просить у них промокашек. Пусть уж лучше буду жить с кляксами.
География. Почему-то я впервые сейчас посмотрел на Лидочку, а уж потом на Лариску, а они посмотрели на своих соседей. Когда мы переступали порог роскошного буддийского храма, я опять посмотрел на Лидочку, а она — на Мишку. Я взглянул на Лариску, а она — на Гогу.
— Что ты все вертишься, как еж?— сердится Женька.— Ведь мешаешь.
Урок окончился. Лариска с Гогой свертывают карты. Географ ждет вопросов. Я стараюсь задать вопрос поумнее. Смотрю на Лидочку. Но они с Мишкой все еще летят в самолете. На меня никакого внимания.
Хочется встать и задать еще вопрос, но ничего умного в голову не приходит.
Вот Лева нашел что спросить:
— Николай Семенович, почему Индия до сих пор не сбросит английских колонизаторов?
Эх, мне бы такой вопрос!
На следующий день Пелагея Васильевна раздала нам сочинения: «За что я люблю свою Родину». Заметно, что она довольна. Веселая. Да и у ребят на лице хорошо. Все получили свои листки, только Гога ничего не получил. Он руку тянет, а Пелагея Васильевна его опережает:
— Знаю, знаю. Твое сочинение мы прочитаем вслух,— говорит она.
Мы переглядываемся. Наверное, и отметок не хватило для Гогиной работы. Вот ведь, писатель!
— Садись за мой стол и читай,— приглашает Гогу Пелагея Васильевна.
Гога неловко вылез, боком прошел к учительскому столу, шевелит своими листками, непонимающе смотрит на Пелагею Васильевну.
— Я не поставила тебе отметки,— она прохаживается вдоль рядов, потом подсела к Женьке на нашу парту.— Мне хочется знать, что скажет класс. Ну, читай.
Гога начал неуверенно. Что-то застревало у него в горле, а потом он разошелся, раскраснелся, даже в нужных местах потрясал рукой.
Мы притихли, мы подавлены. Гога здорово читает.
«Родина! Это самое дорогое, любимое и прекрасное, что есть у человека. Сердце мое переполнено любовью к ней. Нет выше счастья, чем любить свою цветущую Родину. Согретая сталинским солнцем, она, моя Отчизна, цветет и развивается. Наши сердца бьются вместе с Родиной. Мое сердце полно тобой и принадлежит тебе, Родина!»
Гога окончил, посмотрел на Лариску. Лариска — на класс.
— Ух, здорово,— не выдерживаю я.— Красиво!
— Да…— вздыхает Женька.
— Прямо, как в театре,— говорит Лидочка. В классе гул.
Гога нашел свою парту, уселся.
Пелагея Васильевна прошла к столику, журнал листает. Ждет, пока мы успокоимся. Встала, карандашиком постукивает:
- Кто из вас своими словами расскажет, о чем написал Гога?
Стали очень тихо. Я хочу пересказать, но вот не знаю, как начать, Очень много таких слов, как «Родина», «любовь», «сердце», «счастье», а вот о чем тут? Все ярко, гладко, а никак не ухватишь. Схватиться бы за какую мысль, к ней свои мысли присоединить и рассказывать. Но что-то не получается. Соскальзывает.
А ведь только что Гога читал, и все было очень здорово, красиво, даже торжественно. Так о чем же он писал? Прямо никак не вспомню.
Толкаю Женьку: давай выходи. Он кляксу с пера выдавливает, плечами пожимает.
Лариска руку тянет.
— Пожалуйста, Лариса,— приглашает Пелагея Васильевна,— выходи сюда и рассказывай.
— Вот, значит, он написал про нашу Родину,— говорит Лариска,— вернее, за что он ее любит. Ну, он ее очень любит… Так сказать, всем сердцем… Очень любит… И он счастлив…
Она остановилась, на Пелагею Васильевну смотрит:
— Ну, я не знаю, как дальше сказать. В общем, мне сочинение понравилось.
Лариска замолкла. Стены рассматривает.
— У тебя все, Лариса?
— Все,— выдохнула она.
— Садись. Кто еще перескажет это сочинение? Тихо в классе.
— Нет желающих?
Звонок трезвонит. А мы сидим. И Пелагея Васильевна сидит.
— А как же отметка?— гудит класс.— Пелагея Васильевна, вы же обещали?
Я смотрю на Гогу. Он выпрямился, улыбается во все стороны. Лариска его толкает, а он не замечает.
— Мне кажется, что Гога поторопился,— говорит Пелагея Васильевна,— поспешил. Ты, Гога, сохрани это сочинение. Спрячь его как оно есть сейчас. Потом подрастешь, работать пойдешь, женишься (мы хихикаем), будут у тебя дети (нам опять весело), тогда найди эти листки… Прочитай их себе, жене, детям… и поставь сам отметку.
Она торопится:
— Ну, так ребята… Мы не уложились. Прочитайте сами «Песню о купце Калашникове». Женя и Алеша! Завтра выходной. Сходите в Третьяковскую галерею. В зале XVI века не торопитесь, не спешите дальше по залам. Нарисуйте костюмы купца Калашникова, опричника Кирибеевича.
У нее никак не закроются застежки портфеля. Справилась с застежками, глазами Гогу нашла:
— Отметку себе поставь честно. Опять звонок разоряется. Ушла Пелагея Васильевна.
— Ничего не понятно,— говорит Лариска.— Какие дети? Какие отметки? Как же еще писать сочинения?
Кто-то нашу дверь трогает. Мы сидим тихо. Это, конечно, физик. Показалась щель, а в ней голова Славика:
— Учитесь! Ха-ха!
— Марш домой!— кричит Лидочка.
— «До свиданья!», «Всего хорошего!», «Будьте здоровы!» — выпаливает Славик.
* * *
Мы по-прежнему тратим время на наше кино. Дома кручу аппарат, сколько хочется. Только неинтересно крутить ленту самому себе. Нет зрителей.
Нонке надоел. Мама тоже все торопится. Смотрю сам. Ребята придут, рассядутся и вслух рассказывают друг другу, что будет дальше на экране.
Потом наш аппарат мы таскаем по квартирам друг к другу, опять крутим, и опять Мишка или Женька забегают вперед:
— «Англия уже потеряла свое господство на морях…» Я замечаю, что и зрителей становится все меньше и меньше. Просто неинтересно смотреть одно и то же, а новой пленки у нас нет.
Сколько ни крути ручку, на экране все одно и то же: душ, нанайская борьба и «Англия уже потеряла свое господство на морях…»
…Кончилась наша картина, наше «Попурри». Зажгли свет. Друг друга разглядываем.
Лева несмело предлагает:
Надо бы найти Костю… Еще попросить пленки… Алешка, ведь он же заходит к твоей Нонке… Ну, вот и попроси…
— Привет, он уже давно к нам не заходит. Он учится в школе рабочей молодежи.
— Это как понять?
— Как понять? На студента разозлился.
— Почему?— удивляется Мишка.
— Ну, потому что он студент… Высшее образование… Знает много.
— Алеша, как же Нонка?— спрашивает Лидочка.
— Ну, что Нонка? Не поймешь ее… Костя, конечно, лучше.
— Значит, он работает и учится?
— Работает и учится.
— А студент?
— Студент учится.
— Ну, он хоть к вам заходит?
— Кто?
— Костя.
— А когда же ему заходить? Он в утренние сеансы крутит, а вечером в школе.
— Давайте его навестим,— предлагает Лидочка.
В дверь кто-то царапается. До звонка не достанет, вот и скребется..
— Это Славик,— определяет Женька.
Открыли дверь. Точно — Славик. Сказал всем: «Здравствуйте» и «Разрешите войти?»— шапку снял, уселся на табуретку, спрашивает:
— Ну, о чем задумались?
Мы переглядываемся, Женька объясняет:
— О кино, Славик. Нет, у нас новых лент.
— Давайте найдем Костю,— говорит Славик.
Нам просто удивительно, до чего умные эти люди, мальчишки.
— Костя работает, когда мы в школе. А когда мы дома, то Костя в школе. Понял?
— Ну и что же?— просто говорит Славик.— Посмотрите мое горло.
Он раскрывает рот. Мы по очереди заглядываем.
— Горло как горло,— говорит Лидочка,— чуть-чуть краснота.
— Завтра у меня будет ангина,— обещает Славик.— В школу не пустят, чтоб других ребят не заразить. А если шарфом обмотаться — до «Кадра» дойду.
— Какие глупости,— ежится Лидочка.— Вы только посмотрите на этого симулянта.
— На эту молекулу,— добавляю я. Славик сползает с табуретки, идет к двери.
— Славик, постой,— говорю я. Он в замке путается, торопится.
— Славик, стой!
Хлопнула дверь. Догнал его на лестнице. Вырывается. Даже не знал, что в таком маленьком столько силы.
— Славик! Хороший наш мальчишка. Ну, конечно, все вместе пойдем, и ты с нами.
— А не врете?— утирает он слезы.
— Вот. Давай твою руку.
Мы пожали друг другу руки. Пожали по-мужски.
В следующий выходной мы пришли во двор «Кадра», к нашей кинобудке. Постучали в окованную железом дверь, открыл Костя. Обрадовался, в будку пригласил. Скорее тряпкой вытер руки, со всеми здоровается.
Мы гудящий аппарат рассматриваем, восторгаемся его ровным гулом, любуемся на Костю, как он ловко, с щелчками перезаряжает аппарат. Славик прилип к моталке, изо всех сил ее раскручивает. Тут же на столе учебники, тетради. Учебники новенькие, а на страницах следы пальцев. Знать, Костя учится даже здесь, в своей будке.
Костя в окошко, в зрительный зал посмотрел, что-то чуть подкрутил в аппарате и к нам:
— Ну, как жизнь?
— Плохо, Костя,— говорю я,— беда у нас.
— С Нонкой что-нибудь?— насторожился Костя.
— Да нет,— смеется Лидочка.— Нужна новая лента. Старая надоела.
— Ах, вот что,— радуется Костя.— И больше ничего? Ну, это полбеды. Есть тут подклейка из старья.— Он торопливо звякает круглыми железными коробками, достал несколько роликов, на свет посмотрел, нам протянул.
Мы поскорее их в карманы запихиваем, а Костя меня тихо за плечо трогает:
— Ну, как Нона?— Он виновато кивает на учебники.— Мне, брат, теперь некогда. Взялся.
— Что Нона? Хорошо Нонка. Каждый день о тебе спрашивает: не встречался ли где?
Вдруг из зрительного зала в будку ворвались шум, свист, топот, а Костя никакого внимания. Меня за плечи держит, в глаза смотрит:
— Не сочиняшь? Это правда, что она спрашивает?
— Угу,— говорю я.
Костя шлепает меня по затылку и к окошку. Что-то подкрутил в аппарате — в зале сразу тишина.
Нагнулся к уху, спрашивает:
— А студент заходит?
Я ему руку на плечо:
— Знаешь, Костя, уж «к Чапаеву не пришлют замухрышку какого-нибудь»…
Он засуетился, опять загремел своими коробками:
— Вот еще ролик! Цветной. Бери, бери.— Нагнулся, в карман мне сует.— Передай ей: в выходной забегу.
Славик раскрутил моталку так, что она вдруг загудела, как сирена. Лидочка испугалась, закричала на него. Славик начал тормозить, но у него не получается.
— Ничего, мальчик! Крути! Крути!— радуется Костя.
Нам уже домой не терпится. Прямо жгут карман ролики пленки. Выпросили чуточку киноклея и скорее к дверям, обещаем Косте:
— Мы еще зайдем!
* * *
Дома начали клеить, не глядя что получится. Лишь бы концы с концами ровно скреплялись. Моток получился солидный. Заряжаем его всеми руками сразу в наш аппарат. Наводим фокус, я за ручку взялся.
— Начали,— говорит Лева. Застрекотал и наш аппарат.
На экране какой-то дядя с бородкой в ужасе читает записку, потом ее комкает, бросает на стол. И сразу надпись: «Ушла жена».
Потом этот дядя рвет с себя галстук, ерошит седую прическу, бессильно падает в кресло, и тут же надпись: «Душевные переживания».
Что было дальше, мы не знаем, потому что сразу пошло про другое.
Какие-то люди объедаются кремом, потом пирожными швыряются друг в друга.
И вдруг идет цветное кино. Я даже крутить перестал. Уж очень все красиво, Все синее, синее. И небо, и деревья, и трава. Костер с ярким огнем, тоже синим, около — синие люди. На небе радуга, люди в цветных нарядах, синяя вода, красные, зеленые крыши домов.
— Ой, как это они?— спрашивает Лидочка.
— Наверное, по кадрикам разными красками разрисовывают,— прикидывает Мишка.
— Я знаю, это вроде как продают картины «Раскрась сам»,— вмешивается Славик.
— Неужели каждый кадрик раскрашивают?— сомневается Лидочка.— Ведь очень долго.
— Не только раскрашивают, а бывает и рисуют.
— Как рисуют?
— Мультипликация называется,— объясняет Женька.— Каждый кадрик тушью рисуют. Животных разных, людей.
— А потом?
— А потом показывают на экран. Они двигаются. Вот прямо так поднимают руки, ноги, даже смеются.
— А на чем рисуют? На пленке? Да?
Мы не отвечаем. Я не знаю, Лева с Мишкой молчат, а Женька больше ничего не рассказывает, фокус в аппарате поправляет.
Смотрим кино дальше.
На экране ледокол носом льдины раскалывает, а потом сразу какой-то полуголый негр целится из лука. Он даже по успел выпустить стрелу, как наше новое «Попурри» окончилось.
— Давайте все сначала,— просит Славик. Мы перезарядили.
И снова на экране седой дядя комкает записку, хватается за галстук, падает в кресло, что означает «душевные переживания»… Потом пирожные, цветное кино, а вот наконец и негр целится из лука.
Кончилась наша новая картина.
Может быть, еще раз?— неуверенно предлагает Лева. А давайте паше любимое,— теребит меня Славик,— давайте все вверх ногами.
Попробовали и так. Началось все с негра, а кончилось тем, что бумажка распрямилась, прыгнула со стола в руки седого дяди. Потом на экране светлый прямоугольник.
— А теперь все сначала, канючит Славик. Я отказался крутить:
— Рука устала. Кто следующий?
Мишка взялся. До конца не докрутил, передал ручку Славику.
Покрутил Славик, потом мы ему снова зарядили, он опять покрутил. Еще до конца пленка не дошла, а Славик вдруг заинтересовался киноаппаратом:
— А что, если в него воды налить и рыб напустить? Будет видно на полотне?
Никто ему не отвечает.
Женька начал провода отключать, мы ему помогаем. Разряжаем наш аппарат.
— Ну, а что же дальше?— спрашивает Лидочка. Она сказала это будто самой себе, но мы услышали.
— И я о том же,— говорит Лева.
— Братцы, что бы еще придумать?— выгибает Женька из провода чертиков.
— Ты же говорил про мульти… как ее?
— Мультипликацию,— уточняет Женька.
— Ну, так давайте ее рисовать,— оглядывает нас Лидочка.— Как ее рисуют, Женя?
Женька из провода самолет делает, ему Мишка помогает.
— Ну как? Берут и рисуют. Вот как у нас в кино. На одном кадрике человек только рукой пошевельнул, на следующем чуть ее сдвинул, потом чуть выше поднял. Еще чуть выше, и так все понемножку, пока совсем руку не поднимает.
— И сколько же надо рисунков на одну руку?
— Ну, как у нас в кино,— неуверенно говорит Женька.— Если человек за секунду поднимет руку, значит, двадцать четыре кадрика. Вот как раз и будет двадцать четыре рисунка.
— Кошмар!— хватается за голову Лидочка.— Это где же так рисуют?
— Где? Где?— злится Женька.— На киностудиях.
Мы рассматриваем Женьку. А он из провода выгибает что-то вроде писателя Гоголя.
— А рисуют прямо на пленке?
— Неужели на экране? Берут тушь и тонким пером рисуют. Что вам не понятно?— удивляется Женька и делает из Гоголя пулемет.
— Что-то ты, друг, загибаешь,— вздыхает Лева.— Разве можно по кадрику нарисовать целый фильм?
— Не фильм, а одну часть,— сдается Женька.
— А давайте попробуем,— вмешивается Славик.— Только не спорьте.
Мы решили попробовать.
* * *
В выходной к нам зашел Костя. Помялся в дверях, Нонке руку, маме руку, мне тоже. Я скорее с него пальто стаскиваю. Мама тут же суетится, а Нонка только сделала улыбку, а потом прошла в комнату.
Я его шапку вешаю, одеколон вдыхаю. У Кости на новеньком пиджаке комсомольский значок.
— Ну, вот так,— выдыхает Костя, приглаживая волосы, и опять топчется.
— Ну, вот так,— говорю я,— пойдем.
— Подожди-ка,— мнется он,— там у меня в кармане…
Костя вынимает из карманов пальто печенье, потом шоколад. На меня вопросительно смотрит, рукой махнул:
— Эх, была не была,— и вытаскивает бутылку вина.— Как? Можно?
Я не знаю. Но раз уж куплено, то чего же?
— Подожди-ка,— засуетился Костя.— Еще халва была. Мы входим. Я все на стол, а Костя бутылку за спиной прячет. На меня посмотрел, опять вздохнул:
— Эх, была не была,— и бутылку ставит.
Нонка смеется. Мама к себе за занавеску ушла. Я даже испугался: неужели не придет?
Она вернулась. В руках наша новая скатерть. Расстелили. Уселись.
А туг стук в дверь. Громкий, уверенный. Я кинулся открывать. В дверях студент, на очки дышит.
— Ну и мороз сегодня! Нона дома?
Я киваю.
Он раздевается, вешалкой интересуется. Осторожно спрашивает:
— Это кто?
— Да так… Нонкин жених,— говорю я.
Он на меня ОЧКИ направил, покашливает, пальцами шевелит.
— Какой жених?
— Да Костя… Главный киномеханик всех театров Плющихи. А что, мне жалко, подумал и добавил: — Также Арбата.
— И Марьиной рощи,— успокоившись, дополняет гость, аккуратно дует на расческу.
— Возможно,— говорю я.
Выбежала Нонка, затормошила:
— Ой, Геночка! Проходи, проходи.
За столом сначала молчим. Мама про мороз начала. Студент поддержал, показал всем красное ухо, халву трогает.
Я Костю про мультипликацию расспрашиваю. Костя обрадовался, рассказывает, как все это получается. Мама нас слушает, часто удивляется:
— Надо же!
— Вообще в этой мультипликации неограниченные возможности,— вдруг говорит студент.— Можно даже рисовать жизнь марсиан, а хотите, так и полет на Луну. Все можно,— он задумался.— Н-да. Неограниченные возможности.
— Это на пленке рисуют?— спрашиваю я.
— Я не знаю точно, как это делается. Но только не на пленке.
— Конечно, не на пленке,— говорит Костя.— Переснимают каждый рисунок.
— Еще чаю, пожалуйста,— предлагает мама.
— Костя, а вот тушью и пером… ну, самым тонким, можно рисовать на пленке?
— Можно, Алешка. Только на целый фильм сил не хватит.
— А на сколько хватит?
Костя достает газету, чертит прямо на ней карандашом, объясняет:
— Попробуйте нарисовать хотя бы взлет самолета. Вот так, по диагонали. Из нижнего угла кадра в верхний угол. Весь взлет пусть будет кадров на десять… пятнадцать.
— Подожди, Костя, я тетрадку найду.
— Архимед на песке чертил,— почему-то вдруг сердится Костя.
Студент оживился, к Нонке наклоняется:
— Помнишь, у тебя, Нона, не ладилось с законом Архимеда? Ну, когда поступала. Помнишь?
— Да, спасибо, Гена, вы тогда помогли,— рассеянно говорит Нонка.
Мама всем печенье пододвигает, чай доливает.
— А сейчас помните?— помешивает студент в стакане.
— Ну, если надо, вспомню,— говорит Нонка.— Вы берите сахар.
— Ну, а как он читается?— шевелит ложечкой Гена.
— Подождите-ка, сейчас,— хмурится в потолок Нонка.— Значит, так: на всякое тело, погруженное в жидкость,— она смеется,— действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, которую вытеснило это тело.
— Правильно,— радуется студент.
— А вследствие этого тело теряет в своем весе столько сколько весит вытесненная им жидкость,— тихо добавляет Костя.
— Ну, это уже мелочи,— прихлебывает чай студент.
— Это закон,— спокойно поправляет Костя.— Тогда с бумагой трудно было, лишнего не писали.
— Пожалуйста, еще чаю,— предлагает мама. Но гости отказываются.
Я опять Костю тереблю. Подсовываю ему куски пленки.
— А как рисовать по кадрикам?
Он на свет пленку смотрит, показывает:
— Видишь, по бокам каждого кадрика четыре перфорации, ну, значит, четыре отверстия?
Я вижу. Это все понятно.
Мы выходим на кухню. Костя положил в рукомойник пленку, намочил ее. Потом мы счищаем с нее эмульсию.
— Вот как четыре отверстия пройдет, так новый кадрик,— объясняет Костя — Подсохнет, и можно рисовать.
— Давай попробуем.
Костя на дверь смотрит:
— Видишь ли… ну, сейчас…
Вышла Нонка, а за ней студент.
— Костя, вы уже?
Костя руки вытирает о свой костюм, на меня посмотрел:
— Да, уже.
Одели мы их всех. Мама помогает.
Вышли на улицу.
— Ну и мороз,— говорит Гена. И воротник на уши. А мы с Костей так идем. Если он поднимет воротник, то и я.
— Алешка, подними воротник,— сердится Нонка. Она в середине, а они по бокам, а я где-то все время перебегаю.
До метро «Смоленская» дошли. До самого входа. Нонка опять злится:
— Алешка, воротник!
Я на Костю смотрю, а он хоть бы что.
— Н-н-да, морозец,— говорит студент.— Ну, постоим немного и… это самое… спасибо этому дому…
— Пошли к кассам,— приглашает Нонка. Мы скорее в дверь. Впереди Нонка, за ней Гена, а мы с Костей вместе.
Костя мне теплой рукой ухо пожимает. Так, чтобы никто не заметил, шепчет:
— Отморозил?
— Фигня,— тихо говорю я.— А ты? Он подмаргивает:
— Порядок!
— Ну, берите билеты,— говорит Нонка.— До свидания.
— Как-то так сразу?— удивляется Гена.— Давайте еще постоим.
— А чего стоять? Поехали,— предлагает Костя.
— Ну что ж, поехали,— соглашается Гена. А сами стоят и никуда не едут.
Нонка мраморные украшения рассматривает.
— Ну, пока, Нона,— снимает варежку Костя.— До свидания, Алешка. Попробуйте-ка рисовать под лупой. Ведь очень мелко. Всего хорошего, Гена.
Встал он на эскалатор, помахал нам и начал уменьшаться.
Студент берет Нонку за руки, мне сердито глазами делает. Я отошел. Чудак, он думал, я их слушать буду. А разве издалека ничего не поймешь?
Вот они стоят друг против друга. Студент за руки ее притягивает, а ведь не видит, что у Нонки одна нога упор сделала. Он о чем-то говорит, головой мотает, сильнее тянет, а у нее вторая нога чуть уперлась.
Тогда он сам приближается, а она чуть вбок.
Молодец Нонка!
Потом Нонка его руку трясет, торопится, меня глазами ищет.
Я шапкой размахиваю: здесь, Нонка! Студент Нонкину руку к губам тянет.
— Фу!
Вырвалась Нонка. Идем домой.
— Ну, как?— спрашиваю.— Кто тебе больше нравится?
— Чего?
— Костя или Гена? Нонка останавливается.
— Слушай, сопля, а чего ты понимаешь?
— Я не сопля. А соображать все-таки надо.
Стоим, глотаем морозный воздух. Нонка наклоняется к самому лицу:
— А тебе какое дело?
— Просто Костя лучше. Вот и все.
Идем, молчим. Уже около дома Нонка говорит:
— Хоть понимал бы что…
Вошли в дом. Мама сразу к моим ушам. Трет их на Нонку кричит:
— Чего же ты смотрела?
Нонка тоже трет мои уши, приговаривает: «Вот братец достался…»

Сейчас у меня под каской Нонкино письмо. Одни хорошие слова. Раньше их не находила… А вот сейчас нашла. Теплые, сердечные…
Темнеет. Немцы за ракеты взялись. Мы уходим на отдых. Наконец нас сменяют.
Рядом с нами вдруг появился пахнущий чем-то уютным, домашним боец. Даже в темноте чувствуется, что он весь какой-то новенький, свеженький. Сразу уложил винтовку в нашу ложбинку и, счастливый, водит стволом:
— Где противник?
— Пригнись, дурачок,— советуем мы и дружно тянемся к его тугому от махорки кисету. Кисет расшит толстыми нитками, что вышито — в темноте не видно. Женька, как слепой, осторожно водит по ниткам пальцем, читает нам вслух: «Коля, любимый. Закури и вспомни. Жду с победой. Твоя навсегда Зоя».
— Так где же противник?— топчется новенький.
— Да все там же,— киваем мы.
В темноте батальон уходит на отдых. Говорят, будет баня. …Месим друг за дружкой мягкую пыль. Довольные молчим.
— Баньку бы…— вдруг шумно вздыхает кто-то в строю, и сейчас же по рядам по-доброму смешки:
— Печку бы тебе… да щец покислей…
— Товарищи, отставить разговорчики!— чей-то командирский окрик. Но сейчас он не строгий, а так, между прочим, для порядка. И мы все это понимаем. Дальше идем молча.
Высоко над головой профурчал снаряд. Где-то впереди тяжело охнул. За ним второй. Бойцы сердятся:
— Сволочь! Сам не отдыхает и нам не дает.
— Прекратить разговоры! Отставить курение!— Это уже приказ.
Шагаем тихо. Цигарки — в слюну, в кулак.
Нет-нет запахнет гарью. Горелым мясом. Значит, близко деревня. Вдоль дороги попадаются силуэты труб. Один раз отметился во все небо крест. Оказалось, колодезный журавль…
Светает… Какие-то кусты бьют по лицу. Будят. В кустах желанные пустые кузова грузовиков. Словно сквозь вату команда:
— По машинам! Повзводно!
Я не могу влезть в кузов. Женька царапает сапогами по колесу и тоже падает. Нет сил.
— Лезь под колеса… и лежи,— тянет он меня за ремень каски.— Через нас не проедут… Шофер… тоже человек.
Подтягиваюсь под колесо. Рядом улеглась и застыла чья-то трехлинейная винтовка. Наверное, Пончика…
…Хорошо ехать в машине. Каску — на глаза, и пусть ветки по ней шлепают. Языком лизнул петлицы — вода.
Хорошо ехать в машине… Легко ехать в машине. И сам едешь, и ноги сидят… Что-то бьет меня по ногам — нагнулся, ничего не видно…
Проснулся, испугался: а где же винтовка?
Рядом спит кто-то большой, сильный. При толчках долбит каской кабину автомобиля. В коленях у него зажаты три винтовки. В середине длинная, трехлинейная.
Вот и Женька. Рядом трется. Пончика руками к груди прижимает. Спит Пончик.
Опять что-то бьет по ногам. Нагнулся, рассмотрел. Да это же каска. Наверное, Пончика.
Хочу надеть ее на голову Пончика, но Женька хмурится:
— Пусть спит.
Уткнулся Пончик в грязный Женькин карман гимнастерки. Губами во сне вкусно чмокает.
Мне свою винтовку надо. Я тянусь к коленям этого большого, сильного. Женька останавливает:
— Сиди. Разбудишь. Это же Григорий Иванович.
Грузовики въехали в какое-то большое село.
Пошел дождь. Наш батальон расположился на ночлег в душном здании клуба. Отсюда только что ушел на передовую батальон ленинградских комсомольцев-добровольцев. Еще не обстрелянные. На них на всех синие командирские галифе, толстые суконные гимнастерки. Наверное, из лихости свои каски хранят в вещевых мешках, а на головах щегольские пилотки.
Почтительно угостили нас ленинградскими папиросами, шоколадом и, притихшие, ушли в ночь, в дождь.
Мы с Женькой расположились на досках сцены. Один занавес кто-то оторвал. Наверное, на портянки. Другой — всю ночь светил нам наклеенными серебряными звездами.
Нам не спится. Почему-то опять вспомнилась школа, драмкружок и наш первый спектакль «Песнь о купце Калашникове».
— Алеша,— тихо говорит Женька,— помнишь наш спектакль?
* * *
…В классе у нас переполох. Готовимся ставить на сцене «Песню о купце Калашникове». Я играю самого купца, Лариска — Алену Дмитриевну, то есть мою жену. Гога — опричника Кирибеевича. Женька — Ивана Грозного. Все остальные ребята в классе — буйную ватагу опричников и толпу.

Женька входит в роль солидно, основательно. Всегда насуплен, сердит, как и подобает царю Ивану Грозному. Даже стал грубить учителям.
Однажды физик его удалил из класса. А жаль. Физик стал нам помогать в создании мультфильма.
В коридоре, на батарейке у окна Женька томился недолго. Открылась дверь третьего «А», и выкатился угрюмый Славик.
До конца урока они сидели рядом на батарейке, и Женька терпеливо внушал Славику, что без дисциплины жить нельзя.
Все это я видел, потому что меня послали за мелом. На минутку подсел к ним, слушаю, как оправдывается Славик.
— Когда все время хороший, то тебя никто не замечает,— зажмуривается Славик,— ну, совсем никто. А вот стоит один раз провиниться, и тебя все сразу ругают. Поняли?— спрашивает Славик.— А вот когда все время не слушаешься, а один раз послушаешься, то тебя вдруг все хвалят. Поняли?
Мы с Женькой переглядываемся: вообще в этом что-то есть.
— Зря ты физика обидел,— говорю я Женьке.— Смотри, как он стал помогать нам.
Женька сокрушенно машет рукой:
— Эх, что там толковать… Ну, исправлюсь… Пособия для его уроков нарисую.
Я вернулся в класс, слушаю физика. Он очень тихий и какой-то приятный. Всегда на нем рубашка с белоснежным воротничком. Как-то очень правильно, красиво завязан галстук. Из-под рукавов — белые манжеты. Возьмет в руки мел, очень аккуратно выписывает на доске формулы. Отойдет, полюбуется и рисует новую букву.
Нам нравится, как он начинает новый урок. Молча расставит на столе разные пособия, потом откроет журнал, достанет спичку, сломает ее и половинку подбрасывает над нашими фамилиями. На чью фамилию упадет спичка, тот выходит к доске. Выходит смело, даже весело. Ведь сейчас новый урок и сегодня отметок не ставят.
— Ну-ка, Кудрявцева, вот вам пятак, продвиньте между этими двумя булавками.
Лидочка с умным видом продвигает.
— Так,— говорит Николай Иванович,— теперь чуть подогреем пятак на спиртовке. Кто берется продвинуть?
— Я!— кричит Гога.
— Пожалуйста, продвиньте.
Гога пробует. Ничего не получается. Мы хохочем. Николай Иванович поднимает руку. В классе тихо.
— Теперь подумайте, что это означает?
— Ну, от нагревания тела расширяются,— говорит Гога.
— Почему вы слышите стук колес поезда? Гога пожимает плечами:
— Не отрегулированы, наверное…
Николай Иванович очень красиво рисует на доске стык двух железнодорожных рельсов. Между ними просвет. В верхнем углу доски шутливо изобразил улыбающееся солнце.
— Что будет, если солнце нагреет рельсы?
— Они удлинятся!— кричим мы хором.
— Правильно! А что случится, если не будет между рельсами просветов?
— Крушение,— тихо говорит Лидочка.
Класс молчит. Класс серьезно задумывается: вот тебе и простой пятачок с булавками.
Однажды Николай Иванович спросил:
— Кто из вас играл в двенадцать палочек? Класс поднял руки.
— Соберите сейчас двенадцать карандашей. Мы собрали.
Он подсчитал, лишние карандаши отложил, улыбнулся.
— Давайте честно, как вы играете.
Все карандаши он ровненько укладывает на кончик линейки, а под нее подложил ручку.
Я толкаю Женьку: вот интересно! Николай Иванович, наш учитель физики и вдруг знает про игру в двенадцать палочек?
— Кто из вас желает пройти к доске? Мы тянем руки.
— Лариса хочет? Пожалуйста. Вышла Лариса. Ежится.
— А вообще-то все тут просто,— говорит она.
— Что — просто?— спрашивает Николай Иванович.
— Ну. Это самое… Ударить, и все.
— Ударяйте, Лариса,— разрешает Николай Иванович.— Ну, смелее.
Она ударяет по концу линейки, и наши карандаши, вспорхнув, рассыпаются по столу. Нам весело.
— А что надо сделать, чтобы карандаши подлетели к потолку?— серьезно спрашивает Николай Иванович.
Прямо детский вопрос. Кто же не знает, что часть линейки, где лежат карандаши, должна быть длиннее, а по которой ударяют — короче.
Это мы объявляем хором, всем классом.
— Только ударять нужно сильнее, чем в первый раз,— говорит Женька.
Николай Иванович Женьку хвалит, радуется:
— Молодец!
Лидочка сильно ударяет, и карандаши летят в потолок.
— Почему сейчас так получилось?— спрашивает Николай Иванович.
— Рычаг,— неуверенно говорит Лидочка,
— Ну, проигрываем в силе, ну, выигрываем в расстоянии,— оглядывается на класс Лева Гоц.
— Давайте учиться рассуждать без «ну»,— говорит Николай Иванович.— Итак, начинаем знакомиться с рычагами. Великий Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир…»
Николай Иванович приятно покашливает, старательно оттачивает кусок мела…
Все формулы, что рождаются на доске под его рукой, класс хорошо запоминает.
Сейчас он послал меня за новым куском мела, потому что старый превратился от наших рук в серый кругляк, да еще крошится.
Всегда он говорит с нами очень вежливо и очень тихо. (Однажды мы даже услышали, как тетя Агаша, шаркая галошами, шла к звонку.)
Николай Иванович (так зовут нашего физика) первым из учителей назвал нас на «вы».
Как-то накануне Октябрьских праздников мы прибивали плакат над учительской комнатой. Я стою на стремянке, а Лева подает мне гвозди. И вдруг услышал — кто-то за дверью громко ругает Николая Ивановича. А я-то и не знал, что учитель учителя может ругать.
Говорили о том, что он не придерживается методики Наркомпроса, не уважает программу. Начинает урок по-своему.
— А мне нравится, как он учит,— это спокойный голос Пелагеи Васильевны.— Он им сразу не дает уже раз кем-то съеденное. И правильно делает.
— Простите, простите, уважаемая Пелагея Васильевна, значит, все, что уже открыто, вы предлагаете открывать заново. Так сказать, изобретать деревянный велосипед? Нуте-с!
— Вы своим детям сразу дадите велосипед?
— А почему бы и нет?
— А вот как он устроен, они будут знать? И как люди пришли к мысли о создании велосипеда, ваши дети тоже будут знать?
— А зачем им ломать головы, когда есть уже готовое? Пусть они вперед смотрят.
— Ленин не так учил.
— Нуте-с, а как учил Ленин? Лева мне гвоздь тянет:
— Давай-ка,— торопит он.
Я гвоздь рассматриваю, обратно ему в руки.
— Ну-ка, выпрями,— прошу я. А сам слушаю. Опять голос Пелагеи Васильевны:
— …пусть не точно по цитате… Но мысль такая: коммунистом может стать тот, кто обогатит свою память всем, что накопило человечество.
— Простите, я про Николая Ивановича…
— Не «про», а «о» Николае Ивановиче…
В учительской громко смеются. И снова тот же мужской голос:
— Странно, странно, дорогая Пелагея Васильевна. Может быть, у вас… как это… особые симпатии… Но, понимаете, уважаемая Пелагея Васильевна, есть на свете Наркомпрос…
Тут вдруг звонок. Вбиваю гвоздь по самую шляпку.
Сидим с Левой на батарейке. Я ему рассказал, что слышал. Он молчит, думает.
— А тебе нравится Николай Иванович?
— Очень,— говорит Лева.
— Да, его все любят.
Вот такого человека обидел Женька. Даже не обидел, а просто Женька вообразил, что он не за партой, а на троне. Страшно шевелил бровями, опирался на невидимый посох и даже на меня смотрел кровожадно, шипел:
— Убью, как сына своею. Да, пусть пополнится Третьяковская галерея.
В этот самый момент Николай Иванович попросил Женьку выйти из класса.
Вечером мы сидим у Женьки дома и рисуем мультипликационный фильм. Женька изредка нас консультирует. Он очень занят: на большом листе ватмана рисует схему действия паровой машины.
Самолет мы нарисовали. Сделали все так, как советовал Костя. Взлет по диагонали кадра из нижнего угла в верхний. Подули, подышали на тушь, осторожно заряжаем пленку, крутим.
На глазах поднимается наш самолетик и летит в верхний угол экрана.
Мы друг на дружку смотрим:
— Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
— Мировецки,— добавил я за Славика. Его сейчас с нами нет. Наверное, объясняет дома содержание записки: «Ваш сын удален с урока…»
Мы оглядываем друг друга. Вот это да! Оказывается, кино делается очень просто. А не все люди об этом знают! Чудаки.
Теперь и Женька осторожно макает тонкое перо в тушь,
— Сейчас нарисую один секрет. Вы только не подсматривайте,— просит он и тащится в кухню, балансируя блюдечком с тушью.
Явился хмурый Славик. Осторожно уселся на полу,
— Выдрали?— поинтересовались мы. Славик промолчал.
Вскоре Женька в темноте к аппарату пробирается, торопится.
— Вот, готово. Нарисовал. Заряжайте. Зарядили.
— Крути! Крутим,
На экран выбегают на смешных тонких ножках разные буквы. Вот они выстроились, и хором читаем:
— «Плющихфильм».
— Что это?— спрашиваем.
— Какой «Плющихфильм»?
— Непонятно?— удивляется Женька.— Это же своя киностудия. Так и назовем: «Плющихфильм». Ведь есть же «Мосфильм», «Ленфильм», а чтобы нас с ними не спутали — будем называться «Плющихфильм».
— Мировецки!— заорал Славик. Уж очень все неожиданно. Своя киностудия! Надо же! Это значит, делать свои фильмы. Самим рисовать целые картины!
— А что для этого надо?— спокойно говорит Лидочка,
— Тушь… ну еще тонкие перья,— прикидываем мы,— соскоблить эмульсию с пленки и на ней рисовать по кадрикам…
— Ну, это все пустяки,— говорит Лидочка,— а еще что? С чего вообще начинают делать фильм?
Мы задумались. Кто же его знает, с чего начинается работа над картиной.
— Наверное, сценарий нужен,— неуверенно говорит Лева.
— Это еще что такое?
— Да, что такое?— суетится Славик. У него голова, как на подшипнике. Крутится во все стороны.— Для чего это? А?
Лева хмурится, задумывается:
— Ну, как бы вам сказать… Вот, например, мы хотим сделать фильм «День нашего двора». Так?
— Так,— киваем мы.
— Ну, с чего бы начинался этот фильм?
— Я бы начал с метлы тети Дуси,— говорит Женька.— А потом из всех труб дым пошел… Открываются двери, и люди оставляют следы на снегу от дверей до ворот. Это следы взрослых. Потом собачьи следы. Значит, Короля прогуливают. После показал бы, как в окне у Лидочки и Алешки показываются и исчезают макушки. Значит, они делают приседания. И снова следы до ворот, только уже маленькие, детские.
Мы слушаем. То, что говорит Женька, ново, интересно и необычно.
— А потом,— глубоко вдыхает Женька и задумывается,— а потом идет снег, и все следы во дворе заметает. Это значит, что сейчас взрослые на работе, а мы в школе.
— И вдруг опять детские следы,— добавляю я.— Где от ног, а где от рук. Это опоздавший Славик, спотыкаясь, торопится в школу. Следующий кадр: мама Славика свертывает и прячет на место ремень.
Ребята смеются.
— А следующий кадр,— торопится Славик,— уже вечер и на крыше сарая следы. Это Алеша подглядывает в Ларискино окно.
— Опять?— удивляется Лидочка.
— Ну, это уже исторический фильм,— поправляет Славика Лева,— а нам нужно сегодняшний день.
— А он и сегодня смотрит,— упорствует Славик.— Мы с малышами в пряталки играли, я залез за сарай и все видел.
— Неужели?— часто моргает Лидочка.
— Слушай, молекула, катись отсюда,— говорю я Славику.— Ну, давай двигайся, радость моя.
— Пойдем, Славик,— встает Лидочка,— мне тоже пора. Они уходят. Лева потирает лоб, вздыхает:
— Вот это и называется киносценарий.
* * *
После уроков мы, артисты, остались. Пелагея Васильевна слушает, как мы читаем роли. Сейчас она не за своим столиком, а сидит на первой парте в нашем кружке, сидит совсем рядом со мною и, словно мама, сердится:
— Алешка, не болтай ногами.
А я уже не Алешка, а купец Калашников. Читаю свою роль. Стараюсь погромче. Ору на весь класс:
Уж ты где, жена, жена, шаталася,
На каком подворье на площади…
Тетя Агаша в дверь заглянула, кивнула учительнице, успокоилась.
Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай с сынками все боярскими!..
Пелагея Васильевна морщится:
— Ты зачем орешь?
Да ведь она же моя жена,— киваю я на Лариску.
— Но ты же ее любишь… Понимаешь, любишь. Ведь так у Лермонтова?
Эх, при чем здесь Лермонтов? Ну то Лермонтов, а то мы. Теперь свою роль читает Лариска. За ресницы глаза спрятала, руками кофточку теребит, говорит тихо-тихо:
— Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня или выслушай!
Потом она чуть-чуть помолчала, начала читать дальше и прямо вот-вот расплачется. У ней в горле какие-то перегородки. Вроде как кричать хочет, а ее что-то душит.
И он стал меня целовать-ласкать
И, целуя, все приговаривал…
Гога громко хохочет.
Пелагея Васильевна карандашиком постучала, он осекся. Мне сейчас очень нравится Лариска. Вот это да! И где это она так научилась? Надо же!
Как это здорово у нее про поцелуи. Ну, хотя это не у нее, а у Лермонтова.
И ласкал он меня, целовал меня,
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцелуи его окаянные…
Лариска локтем закрылась, голову вниз. Гога прыскает. Мне не по себе: «Может быть, дело совсем не в Лермонтове?»
— Так, хорошо,— говорит Пелагея Васильевна.— Теперь ты, Алеша.
— Что?
— Продолжай.
— Чего продолжать?
— Ну, смотри в книгу и читай роль.
Я. смотрю в книгу… Неужели они вправду уже целовались? А может быть, она такая уж актриса?
— Ну, читай же, Алеша.
— Значит, так… В общем, так…
«Я скажу вам, братцы любезные,
что лиха беда со мной приключилася…»
— Громче,— просит Пелагея Васильевна.— Ты, что? Умирающий? Повтори-ка.
А что мне жалко, что ли, вздохнул поглубже и…
Опять тетя Агаша в дверь просунулась. Не уходит. Стоит с ведром и шваброй, слушает.
Я замолчал. Пелагея Васильевна ничего не говорит. Все молчат. Только тетя Агаша на швабру хмурится, тихо сморкается:
— Да, да… все правда… так вот и в жизни…
И пошла себе, цепляясь в дверях ведром со шваброй.
Пелагея Васильевна книжкой шелестит, Гога снова роли бормочет, Лариска у окна вертится, себя разглядывает, Женька тренируется бровями шевелить. Он ведь царь: ему нужно на всех людей страх нагонять. А Мишка просто опричник, слуга царский. У него слов нет. Он только за столом должен сидеть и кубки поднимать. Говорили, что ситро будет к царскому столу. Ну, а пока ситро нет, так зачем же Мишке притворяться? Он просто сидит, на стены смотрит, портреты вождей изучает.
— Ну, так,— задумывается Пелагея Васильевна.— В общем, все хорошо. Теперь по ходу песни вы должны драться. Вот ты, купец Калашников, и ты, опричник Кирибеевич. Как это у вас получится, я не знаю.
Она смешно пожимает плечами, близоруко щурится:
— Я просто не знаю, как мужчины дерутся.
Мы наперебой поясняем. Она, конечно, ничего не понимает, все время морщится:
По-моему, в рассказе о драке нельзя избежать слова «морда», это Пелагее Васильевне очень не по душе. Она просто не понимает, что по лицу не бьют, а уж если бьют, то, конечно, «по морде».
— У Лермонтова сказано про два удара,— говорит учительница.— Первым ударяет Кирибеевич и удар попадает в грудь Калашникову. Вот слушайте:
Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова…
Мне как-то очень ясно представилась широкая грудь купца, медный крест и росинки крови.
— Потом,— говорит Пелагея Васильевна,— ударяет купец Калашников. Вот слушайте:
…Изловчился он, приготовился.
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча…
И опять мне представился опричник и даже, как попало ему в левый висок. Ну, конечно, в левый. Ведь Калашников бил правой рукой. Вот это драка: раз, раз — и все в порядке. Не то что сейчас дерутся мальчишки. Кулаками размахивают долго, а толку никакого. Один воздух месят, и все.
— Значит, мальчики, не увлекайтесь,— предупреждает Пелагея Васильевна.— Сначала ты, Гога, бьешь Алешу в грудь. Ну, конечно, потихоньку. А потом ты, Алеша, бьешь будто бы в висок,— она задумывается.— Конечно, несильно. Ну, как бы тебе сказать? В общем, плавно. Прикоснулся, и все. Понятно?
— Понятно,— угрюмо говорю я.
— Ну, вот и хорошо,— радуется она.
У Лидочки — очень коротенькая роль. Она играет Еремеевну — старую работницу в доме купца Калашникова.
У нее совсем мало слов. Она их хорошо знает и сейчас сидит рядом с Мишкой, тоже портреты разглядывает, о чем-то с ним шушукается. Мне досадно.
— Пелагея Васильевна,— громко спрашиваю я и чувствую, как загорелись уши,— а купец Калашников по ходу спектакля может целоваться со своей женой?
Лидочка сразу встряла:
— У Лермонтова этого нет.
Пелагея Васильевна спокойно листает книгу, сверяется:
— У Лермонтова, Алеша, вот так сказано:
Задрожалась вся моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый,
Горько-горько она всплакалась,
В ноги мужу повалилася…
— А что я должен с ней потом делать?
— Думаю, Алеша, нужно поднять жену с колен и приласкать, успокоить.
— Как это — приласкать?
— У Лермонтова этого нет,— опять встревает Лидочка. Пелагея Васильевна удивленно пожимает плечами.
— Странно, Лидочка,— говорит она,— у тебя мама актриса, и неужели ты от нее не слышала, что такое режиссура?
— Слышала,— тихо говорит Лидочка,— только все равно так не по Лермонтову.
Пелагея Васильевна медленно снимает пенсне, долго близоруко щурится то на Лидочку, то на меня.
В дверях снова гремит ведром тетя Агаша. Пелагея Васильевна закрывает книгу, мы заканчиваем репетицию.
Мы даже и не подозревали, что значит подготовка к спектаклю. Начиная от клея для бороды и кончая ватой для снега— все пришлось разыскивать, доставать, делать.
Позвонили в райком Наташе. Она пообещала прийти на спектакль. Я еще пригласил маму и Нонку. Долго им рассказывал про купца Калашникова и про всю эту драму. Мама с удовольствием согласилась прийти, а Нонка поморщилась:
— Тоже мне Станиславский с Плющихи.
Я обиделся. Мама с укором на нее посмотрела:
— Нехорошо, Нона. Ты и меня обижаешь.
Нонка смутилась, полезла под кровать, вытащила старый чемодан, долго в нем рылась, потом протянула мне бумажный сверток:
— На, отдай своей купчихе.
Я развернул легкий сверток, а в нем пушистая, длинная Нонкина коса.
Утром следующего дня в класс забежал наш школьный пионервожатый Гриша.
— Кто посильнее, после уроков останьтесь,— серьезно сказал он.— Поедем за костюмами.— Гриша значительно поднял палец.— Райком комсомола пошел навстречу. Наташа с настоящим театром договорилась. Дают все боярское.
Мы закричали, завизжали, захлопали. Гриша за дверь, на ходу обернулся:
— Только чтобы учиться сегодня на «отлично».
Это он всегда так говорит. И всегда почему-то на ходу. Мы, конечно, пообещали.
Интересный у нас вожатый Гриша. Он все время торопится. Даже когда открывает пионерскую комнату, то долго никак не попадет ключом в замочную скважину.
Раскроет шкаф, где хранятся два горна, два барабана и одна фанфара. Даст кому-нибудь чуть погорнить и сразу отбирает:
— Больше нельзя, директор услышит.
Однажды взялся учить нас играть в шахматы. Только мы расставили фигуры, как он уже принялся выдворять всех малышей из пионерской комнаты.
— Вы еще октябрята. Вам сюда рано. Мы за Славика заступились:
— Он всегда с нами. Ему можно.
— Он сын директора школы,— попробовала было заикнуться Лидочка.
— Ну и что же?— удивился Гриша.— У нас все равны. Давай-ка, дружок, иди гуляй.
Нам почему-то это понравилось. Только было непонятно, почему Гриша боится, если директор услышит горн, и совсем не испугался «сына директора школы?»
Гриша умеет все делать весело. Умеет хорошо придумывать смешное.
Все плакаты к нашему новогоднему вечеру он придумал и сам нарисовал. У входа в раздевалку Гриша повесил плакат: «Здесь раздевают!», а внизу подрисовал бандита в маске и с ножом. Рядом шутливая просьба: «Калоши и ботинки вкладывать в рукава». Под урной забелел веселый плакатик: «Урна— твой друг, плюй в нее». У входа в зал: «Хочешь сказать что-нибудь умное — считай до 16».
Не знаю, кто как, а я считал. И как будто кое-что получалось.
Итак, Гриша выпроводил Славика и стал объяснять нам, как ходят пешки. Не успели мы это уяснить, а Гриша уже побежал к роялю:
— Ребята, давайте учиться танцевать.
— Для чего нам танцы?— сержусь я.
— А ты считал до шестнадцати?
— Сейчас нет.
— Вот оно и видно,— смеется Гриша.
— А я сосчитала,— говорит Лидочка.— Ребята, нам нужно научиться танцевать.
Мы удивленно смотрим на Лидочку.
— Что вы уселись? Гога умеет, Лариска умеет, а мы что, хуже?
Теперь уже и я сосчитал.
— Правильно,— говорю, что мы, хуже?
Начали учиться.
Гриша из рояля выжимает танго, покрикивает:
— Алеша, не смотри под ноги.
— Лева, не ломай Мише руки. Это танго, а не борьба.
— Лидочка, не делай каменное лицо. Смотри в угол, на нос, на предмет.
Потом «кавалеры» по просьбе «дам» сняли ботинки, и пары задвигались смелее. Лидочка смотрит «в угол, на нос, на предмет», и передо мной совсем другая Лидочка. Будто киноактриса. Как же все это называется у взрослых? И вдруг меня осенило: кокетство! Вот как это называется.
Гриша закрывает рояль:
— Продолжим в следующий раз. Только учитесь на «отлично».
Мы заверили.
…И вот вместе с нашим Гришей мы привезли из театра настоящие костюмы. Мешки сложили в пионерской комнате. Гриша развязывает узлы, суетится со списком, все пересчитывает, никого не подпускает.
Пересчитал, успокоился. Только и сказал:
— Ну, валяйте.
Мы кинулись примерять костюмы. Шелка, бархат и еще чего-то. Всюду путается Славик, суетится, помогает нам застегивать пуговицы, смеется:
— Ну и костюмчики тогда были! Мировецкие!
— Да…— говорю я, оглядывая свой бархатный кафтан,— хорошо раньше люди одевались.
Женька напяливает царский наряд. Один Славик ему помочь не в силах. Помогаем все. Как-никак, а все-таки царь.
Вот уж где полно разного золота, мехов да каких-то цветных камней! Это, значит, чтобы все прямо издалека угадывали, что он царь.
Ну, а если вблизи? Или, скажем, царь пошел купаться в Москве-реке? Как же тогда люди узнают, что он царь? Так и будут купаться рядом в одной воде. И ничего люди не узнают.
— Алешка,— говорит Лидочка,— посмотри-ка. Я, наверное, не свое взяла.
Она стоит вся в цветных шелках, на голове какая-то штука в разных камнях. Все переливается, светится.
— Ух ты!
— Алешка, тебе нравится?
— Здорово!
Меня за кафтан дергают. Это Славик.
— Мировецки! Да?
Лидочка посмотрела «в угол, на нос, на предмет», отшвырнула ногой пустой мешок и плавно пошла к окну. Даже не оглянулась.
— Лидочка, постой,— прошу я.
Около нее крутится Лариска. Сует какие-то тряпки.
— Лидочка, ведь ты же старая служанка Еремеевна. Тебе вот что надо, смотри-ка. Очень будет красиво…
Укрепляем последние декорации, примеряем бороды. У меня одна борода на двоих с Иваном Грозным.
Пришла Наташа. Около нее старшеклассники. Нам даже не пробиться. Я Славика приподнял, он кричит:
— Тетя Наташа!
— Славик!— радуется она. Старшеклассники удивленно расступились, мы поспешно окружили нашу Наташу. Она всех по очереди к себе прижимает, тормошит нас.
— Цыплята вы мои,— суетится она,— ой, как все выросли! Алешка, ты же мне был вот до сих пор,— показывает Наташа,— ну-ка, а теперь?
Она меряет, я не дышу.
— Ого! Уже настоящий мужчина!
— Вы куда тогда от нас ушли?— вдруг вспоминает Славик,
— Когда?
— А вот тогда, после того вечера в темноте. Помните? Ну, где еще немецкий коммунист выступал?
Лидочка сзади дергает Славика, он оборачивается, сердится.
— Ну, я же все помню…
— У тебя хорошая память,— смеется Наташа,— сколько будет семью девять?
— Шестьдесят три.
— Ну, вот и молодец. А помнишь, какую мы пели на том Вечере песню?
— «Заводы, вставайте»,— говорит Славик и поднимает кулак,— Рот фронт!
Нас зовет Пелагея Васильевна.
— У вас все готово?— тревожится она.— Скорее гримироваться.
В пионерской комнате нас по очереди гримирует наш учитель рисования. Только Женька пожелал гримироваться сам. Ну что же — он художник.
Мы на сцене. Занавес закрыт. В дырочку видны зрители. Вон у стенки все наши учителя. С ними Наташа. А вон у окна тетя Агаша. Я ее в первый раз вижу без синего халата. На ней белая блузка и бусы.
И вдруг что-то очень знакомое, родное. Да это же мама с Нонкой. А рядом наш киномеханик Костя. Вот это да!
— Костя пришел,— толкаю я Женьку.
— Да здравствуют наши советские киномеханики!— говорит Женька.
— Мальчики,— слышу я за спиной,— как мы смотримся?
Это Лариска. Она стоит под ручку с опричником Гогой и поправляет свои красивые волосы. И тут я вдруг вспомнил:
— Лариска, подожди. У меня же для тебя кое-что есть.
— Что?
— Славик,— подзываю я.— Пулей в наш класс. Там в моей парте сверточек. Скорее сюда.
По сцене мечется опричник Лева. Ко всем пристает:
— Кто знает, при Иване Грозном очки носили?
На длинный стол, покрытый красной скатертью, девчата устанавливают бутылки с ситро и жареные пирожки. Нас, артистов, то и дело вежливо отжимают от стола.
Меня трогает Славик, молча протягивает сверток. Я скорее к Лариске.
— Снимай свой кокошник,— тороплюсь я,— на вот, прицепляй.
Она развертывает бумагу, потом марлю и в полутемном углу сцены засветилась, вспыхнула невесомая Нонкина коса.
— Ой!— вырвалось у Лариски.— Это мне? Да?
— Цепляй уж,— говорю я.
Гога приподнял косу кончиками пальцев, морщится:
— Она чистая?
От обиды у меня прямо в глазах темно.
— Ребята, все по местам, даем занавес,— суетится Пелагея Васильевна.
Все идет хорошо. Я стою за кулисами и смотрю, как пируют опричники. Почему-то я им сейчас не завидую. Не хочется ни ситро, ни пирожков.
Женька стучит посохом (лыжной палкой) в пол. Получается все, как у Лермонтова:
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил наконечником…
А потом Женька насупился, закричал грозно:
— Гей ты, верный наш слуга Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?..
В зале тишина, мне видно, как тетя Агаша испуганно покосилась на выход.
В общем, все идет как надо. Все по Лермонтову, Потом кто то выталкивает меня на сцену. Я зажмурился, прикрыл глаза, и кажется, весь зал дышит на меня.
Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилася,
В такой поздний час Алена Дмитриевна?!—
кричу я на Лидочку.
— Тише,— подсказывает суфлер,— подойди, дубина, поближе.
— Тише!— ору я.— Подойди, дубина, поближе.
Лидочка подходит ближе.
— Алешка,— шепчет она,— не дури.
Господин ты мой, Степан Парамонович,
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена Дмитриевна… —
кланяется Лидочка.
Потом опять все пошло хорошо. Я уже различаю декорации, Лидочку, Пелагею Васильевну. Она стоит за кулисами напротив и спокойно нам кивает.
На сцену вбегает растрепанная Лариска. Все, как у поэта:
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые, расплетенные…
Я на нее закричал так, как требует моя роль. Она в ноги повалилася. Поднял с колеи, утешаю, глажу по голове, по спине. И почему-то сам разволновался больше, чем она.
В зале аплодисменты. У ней на лице слезы. Голову мне на грудь и всхлипывает. Я испугался и прямо задрожал. Не знаю, что уж теперь делать. Ревет моя Алена Дмитриевна, И капают у ней настоящие слезы. Я опять ее глажу, разные слова шепчу и даже поцеловал в ухо. А она прямо захлебывается и даже заикается:
Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!..
Повисла на мне, рук не расцепляет и ревет по-настоящему.
«Вот так штука,— думаю,— что же теперь делать?» А зал ну прямо разрывается от аплодисментов. Начал снова гладить, лизнул другое ухо. Приятно, просто жуть берет.
- Алешка, не увлекайся,— шепчет старая Еремеевна.
Дали занавес. Антракт.
В нашей уборной покуривают старшеклассники. У двери выставлены «сигнальщики». Верзила с прыщами на лице, тот самый, что хотел прогнать Славика с комсомольского собрания, меня поучает:
— Ты бы ее обнял крепче и прямо в губы, прямо в губы. А?— наклоняется он и противно смеется мне в лицо.
— Дурак ты,— говорю я.
В уборной стало очень тихо.
— Что ты сказал, тюбик?
— Дурак ты.
Он описывает полукруги около меня и все время переспрашивает, что я сказал. Мне некогда. Я занят: никак не застегивается нижняя пуговица кафтана. Ну и шили же при Иване Грозном!
— Помоги застегнуть,— прошу я.
— Что ты еще сказал?
— Да вот эта пуговица не застегивается. Кругом хохот.
А тут влетает красный Славик.
— Алеша, сейчас начнется, скорей!
* * *
Начинается последнее действие песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова.
— Где ты все ходишь?— ахает Лидочка.— Ведь сейчас начинается погибель моя.
Около — Пелагея Васильевна, старается быть спокойной, но у нее не получается.
— Ребята, Алеша и Гога, Слушайте меня. Сейчас последнее действие. Соберитесь, ребята. Вот ты, Гога, опричник, царский слуга. Но ты… как бы тебе сказать… тоже человек. А вот тебя, Алеша, обидели…
Она вдруг оборачивается, сердится.
— Тише вы!
Стихли молотки. Рядом ребята на цыпочках проносят декорацию.
— Ты, Алеша, сейчас будешь не купец. Ты человек. И тебя обидели. Понял?
Я киваю.
Откуда-то появился взлохмаченный, мокрый наш вожатый Гриша. У него в руках огромный кривой гвоздь.
— Хорошо, хорошо все получается,— ободряет он нас,— только учитесь на «отлично».
— Ребята, по местам,— спокойно говорит Пелагея Васильевна.— Все у вас идет хорошо.
Женька мне бороду свою отдал, а себе прилепил бумажную.
— Я сейчас буду на втором плане,— объясняет он,— а ты v самого края. У меня не заметят.
Занавес пока закрыт. Мы с Гогой стоим друг против друга. Он показывает, куда мне сейчас ударит.
— Прямо в грудь, в твой крест,— говорит Гога, раскачивая кулак.— А ты мне вот сюда, в левый висок, только не очень. Понял, Алешка?
Я молчу. Почему-то подумалось о Нонке. Наверное, ей сейчас приятно было увидеть на сцене свою косу.
— Ты оглох?— спрашивает Гога.— Бей, но не сильно. Так Пелагея Васильевна просила. Помнишь?
Вдруг заскрипел, задергался наш занавес. Началось.
Гога Женьке кланяется, вызывает на кулачный бой любого бойца. Потом я в круг выхожу и тоже Женьке кланяюсь. Женька бровями поводит, лыжной палкой в полу точки делает, хмурится. Все опричники ему в рот смотрят.
Ну, значит, приготовились мы к драке, то есть к кулачному бою. Сказали друг другу все слова, какие надо, и приготовились. Богатырский бой начинается.
Гога размахивается, а я грудь подставляю. Ударил он. Ударил сильно. Не знаю, как я устоял. Гога в зал смотрит, прошелся, подбоченясь, по сцене, опять встал напротив.
А потом вдарил и я. Показалось мало — вдарил еще. А тут захотелось и еще. Он даже не защищается — только пятится в угол и все кричит:
— Так нельзя… Это не по Лермонтову…
— Это фольклор,— говорю я.
Женька сигает со своего трона, разнимает нас, а тут заскрипел, задергался занавес. На сцене Наташа, Пелагея Васильевна, моя мама, Костя и еще кто-то.
— За что ты его?— волнуется Костя и уводит меня за руку.
— Где тут у вас курить можно?— оглядывается он.
— В уборной.
Здесь, в уборной, много старшеклассников. Увидали Костю, смутились, папиросы в рукав, незаметно дым разгоняют.
Костя не спеша закуривает, старшеклассники переглянулись, приободрились.
— За что ты опричнику наподдал?— спрашивает меня редактор «Третьего звонка».
— Обидел…
— Тебя?
— Нет, не меня. Сестру…
Он молчит, потом, что-то вспомнив, весело смеется:
— Ну, и правильно сделал.
Костя отводит меня к окну, хмуро спрашивает:
— А чем он Нонку обидел?
— Да не Нонку, а косу ее.
— Какую косу?
Я рассказал всю историю с Нонкиной косой. Костя заторопился:
— Пошли скорее, ведь сейчас последнее действие. По лестнице он поднимается сзади меня, бормочет:
— А я и не знал, что у нее коса была… Интересно… По перилам съезжает Славик:
— Алеша, скорее. Я за тобой. Начинается.
У входа в зал мы расстаемся. Костя к зрителям, я на сцену.
— Сейчас ты косу не увидишь,— говорю я.— В последнем действии Алена Дмитриевна не участвует. Сейчас моя казнь будет.
— Эх, ты,— сокрушается Костя,— все позабыл… Давно читал.
Я так и не понял, что его больше волнует: моя казнь или Нонкина коса.
Пелагея Васильевна с нами шутит, подбадривает:
— Ну, теперь уж осталось немного. Постарайтесь, ребята.
Она гладит меня по голове. Почему-то очень щекотно и прохладно. Не хочется, чтобы она отняла руку.
Женька уже восседает в своем кресле, торопится, жует яблоко, изучает наконечник лыжной палки.
— Алешка,— говорит он,— посмотри в зал. Как наши зрители? Живы?
В дырочку вижу маму, Нонку. У окна Костя. Рядом с ним на подоконнике Наташа. У Наташи лицо серьезное, озабоченное. От внимательно слушает. Костя ей что-то на руках показывает, объясняет. Потом блокнот вынул, торопливо в нем чертит. Наташа задумчиво кивает, жмурится, смотрит на сцену. Мне кажется, прямо на меня в дырочку на занавесе. И опять она склонилась к Косте. Смотрит в его блокнот.
Нонка беспокойно ерзает, на окно оглядывается.
«Так тебе и надо,— думаю я.— Все-таки Костя лучше всех».
Началась моя казнь.
Женька бьет в пол своей палкой, шелестит бумажной бородой. Подавился яблоком, никак не выговорит:
Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя,
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича.
Что ему ответить, я и сам не знаю. Стою, помалкиваю. Женька посохом в пол вдарил. Тут я сразу вспомнил свою роль,— и дальше все пошло по классику.
В общем, меня казнили. Потом дали занавес, опять его открыли — мы все стоим и раскланиваемся. .
Никогда в жизни нам никто не аплодировал, а вот сейчас все хлопают, улыбаются. Что-то кричат. Больше всех старается Славик. Все время кричит «бис!» и весело хохочет.
В пионерской комнате мы переодеваемся, разгримировываемся. Здесь Наташа, наш беспокойный вожатый Гриша и, конечно, Славик.
Наташа интересуется, как идут дела с нашим кино.
— Плохо,— говорю я,— новой пленки нет, а старая надоела.
— Рисовать будем, по кадрикам,— говорит Женька.— Мультфильм, значит.
Наташа задумывается, по очереди оглядывает нас, молчит. Женька торопливо объясняет ей, что значит мультфильм, что значит делать картину по кадрикам. Она рассеянно слушает, думает о чем-то своем.
— Вот что, ребята,— говорит Наташа.— Давайте снимать свой фильм. Я вот сейчас в зале беседовала с вашим Костей. Он верит в постройку самодельного киносъемочного аппарата. Даже берется вам помочь.
Она опять оглядывает нас, улыбается:
— Артисты вы хорошие… только Алеша иногда увлекается… Сами будете сниматься, сами делать декорации. Художники у вас есть,— она кивает на Женьку,— руки у вас со шрамами, с железом знакомы.
— А что для этого надо?— растерянно спрашиваем мы. Наш вожатый Гриша тут как тут:
— Учиться на «отлично».
Мы поморщились: опять за свое. Что мы, маленькие? Наташа недовольно хмурится, поддерживает Гришу:
— Чтобы построить аппарат, нужно знать физику, математику. Чтобы проявлять пленку, нужна химия.
— Без знания литературы и русского языка вам не написать сценарий,— добавляет Пелагея Васильевна.
Мне почему-то становится тоскливо. У ребят тоже лица кислые. В самом деле — как только мы пошли в школу, еще семь лет тому назад, нам все время и в школе, и дома, и во дворе — все, кому не лень, твердят одно и то же: «Учитесь на «отлично». Ну, просто надоело слушать.
Дворничиха тетя Дуся двор подметет, к нам подойдет и начнет:
— Вот не хотите, как я, метлой махать — учитесь «на отлично».
Наш участковый дядя Карасев идет мимо по своим делам, обязательно остановится, спросит:
— Как учеба, шалопаи? Давайте у меня чтоб на «отлично». Вот так.
Дома мама вздыхает:
— Ну, что тебе мешает учиться на «отлично»?
И так каждый день одно и то же. Мы уже привыкли к этим словам, и не знаю, кого как, а меня они уже не задевают.
Сейчас Славик смотрит на Наташу, тяжело вздыхает.
— Ты что, Славик?
— Да ну, все одно и то же,— щурится на свет мальчуган.— Хоть бы кто-нибудь сказал: «Учись, Славик, плохо» — я бы тогда все наоборот делал. Ведь правда, так интереснее?
Наташа смеется. Смеемся и мы.
Гурьбой спускаемся в раздевалку. У нас стало привычкой подавать Пелагее Васильевне пальто. Когда в первый раз это сделал наш культурный Женька, мы все очень поразились. Гога определил это как подхалимаж. Но на следующий день Женька схлопотал плохую отметку по литературе, и Гога удивленно пожимал плечами:
— Странно… ничего непонятно.
С тех пор когда мы выходили из школы вместе с Пелагеей Васильевной, всегда кто-нибудь из нас первым летел вниз по лестнице и поджидал учительницу с ее пальто.
Сейчас я первым бегу вниз. Впереди медленно спускаются по узкой лестнице старая преподавательница по немецкому и тот самый педагог, что когда-то в учительской комнате спорил с Пелагеей Васильевной, ругал нашего физика Николая Ивановича. Они заняли всю ширину лестницы: не проскочишь, я замедлил шаг. Учитель поддерживает кашляющую немку и что-то убежденно ей говорит.
— Это же непедагогично,— слышу я его голос.— Она заставляет ребят на сцене драться.
— Выслуживается,— захлебывается в кашле немка,— перед районом выслуживается.
— А вы заметили, уважаемая Амелия Карловна, она специально пригласила ту девушку из райкома. Специально.
— Да, да…— сморкается немка,— карьеристка. В завучи метит…
На лестничной клетке я обгоняю их, через две ступеньки кидаюсь вниз, За спиной услышал:
— Хулиганье… все из ее класса…
В раздевалке хватаю пальто Пелагеи Васильевны, держу на руке, жду. Вот и немка со своим попутчиком, она с любопытством смотрит на меня, а я аккуратно, очень старательно сдуваю пушинки с пальто Пелагеи Васильевны…
На улице меня ждут мама, Нонка и Костя. И снова, как в тот далекий вечер, Наташа поглядывает на часы.
— Опять убегаете?— интересуется Славик.— Как тогда?
Лидочка дергает Славика, он оглядывается, хмурится.
Наташа смущенно треплет Славика за подбородок, делает всем нам салют и убегает.
— Пойти за ней, что ли?— раздумывает Славик. Лидочка показывает ему кулак, и он успокаивается.

Приближались весенние каникулы. Кто сидит у окна, тот в промокашках не нуждается. Яркое, веселое солнце сушит чернила в тетрадях, греет наши затылки, ползает между параллельными прямыми на доске, залезает в пробирки с растворами, и уже не понять: какой же точно цвет у медного купороса?
Я жду каникул, как раскаленная почва капли влаги. Все-таки мы здорово устали за эту, как нам говорят «решающую», четверть. У Пелагеи Васильевны почему-то все четверти « решающие».
Вместе с веселым солнцем то и дело веселится весь наш класс. Ребята острят наперебой. И почему-то сейчас, в эти весенние дни, у нас получаются остроты. Даже когда Женька просто показывает палец и при этом серьезно молчит, весь класс начинает дико хохотать.
Наша стенгазета «Товарищ» почти вся разрисована удачными карикатурами, и даже помещены стихи. Наверное, весной у поэтов появляется вдохновение, а у всех людей прибавляется энергии. Ее просто некуда девать.
Славика уже два раза выгоняли из класса. Один раз за «прожигательное» стекло (когда-то, в детстве, год назад, мы тоже увлекались выжиганием), а в другой раз за то, что стоял на голове.
Сейчас я смотрю в окно на школьный двор и вижу скучающего Славика. Наверное, прогнали в третий раз. Он тоскливо сидит на перевернутой тачке и противно скрипит ржавым колесом.
Потом задумчиво смотрит на небо, на наши окна и медленно направляется к трансформаторной будке высокого напряжения. На железной дверце будки строгое предупреждение: «Не трогать! Смертельно!» Ниже нарисован череп и две кости. Славик долго изучает надпись, потом лезет в карман и мелом аккуратно пишет на дверце: «А я тронул и не умер».
Монотонно, словно откуда-то издалека, наш географ рассказывает о каких-то полезных ископаемых, О них сейчас не хочется думать так же, как о дровах в жару.
Рядом Женька увлеченно рисует чертеж самодельного киносъемочного аппарата. Мы уже знаем, что киносъемочный аппарат — это то же, что и наш проекционный. Только он со всех сторон закрыт, чтобы не засветилась пленка, и в нем нет осветительной части.
Левина мать принесла нам из своей библиотеки книги по киносъемке, и теперь фамилии их авторов — Головни и Косматова — стали для нас так же привычны, как фамилии авторов учебника по русскому языку Светлаева и Крючкова.
Но всем важно понять принцип действия, то есть самое главное. Это мы поняли из учебников и решили, что снимать можно даже из простого валеного сапога, только следует в пятке проделать дырку.
Женька набрасывает эскиз нашей будущей вывески:
«КИНОСТУДИЯ «ПЛЮЩИХФИЛЬМ»
Просьба всем сознательным пацанам не мешать работать
Дирекция»
— Как? Солидно?— любуется он.
— Добавь еще: «Прием посетителей с 9 утра до 9 вечера»,— советую я.
— Это зачем?
— К нам же будут приходить наниматься в артисты!
— Грибков,— слышу я голос нашего географа,— где находятся крупнейшие месторождения серебросодержащих руд?
Я молчу, класс оглядываю.
— В ювелирных магазинах,— громко острит Гога. В классе смеются.
— А зачем людям нужно серебро?— хмуро покашливает наш географ.
Продолжаю молчать. Просто мне никогда не приходилось держать в руках это самое серебро. Гога опять резвится:
— Серебро нужно для зубов и полтинников. Класс хихикает.
Географ отошел к окну, играет за спиной указкой. И вдруг по карте запрыгал луч солнечного зайчика. Это с задней парты с помощью карманного зеркальца мне указывают месторождения серебра.
— Ну, так как, Грибков?— поворачивается географ. Солнечный зайчик удрал с карты.
— Так где же применяется серебро?
Почему-то вдруг стали жать ботинки. Географ медленно проходит на «Камчатку», поясняет:
— Вот сейчас тебе подсказывали с помощью зеркала. Так?
— Так,— соглашаюсь я.
— Серебро имеется в отражательном слое любого зеркала,— спокойно говорит географ.— А в большом количестве серебро применяется для изготовления обыкновенной кинопленки.
Он помолчал, значительно посмотрел на класс:
— У вас в седьмом «Б», как я слышал, многие интересуются кино…
После звонка мы столпились у карты, и сейчас районы Алтая, Урала, Средней Азии, Кавказа и Сибири для меня стали очень близкими, необходимыми, почти как наша Плющиха.
* * *
…Наступили весенние каникулы.
Утро первого дня каникул для меня началось с отчаянного крика Нонки:
— Ноги вытирайте!
Ко мне пришел весь наш будущий «Плющихфильм».
— На повестке дня,— усаживается за стол Женька и путается ногами в складках скатерти. Нонка поднимает брови, Женька беспомощно разводит руками: — Простите, уж очень все накрахмалено.
Нонка успокаивается, прощает. Облокотилась на стол, слушает.
— На повестке дня,— продолжает Женька и как будто говорит одной Нонке,— создание киносъемочного аппарата. Нужна фанера. Ею мы закроем наш обычный аппарат. В Темноте зарядим кинопленку, и можно будет снимать.
— Значит, главное сейчас фанера,— уныло говорит Лидочка,— а где взять?
Славик многозначительно пробует ногтем стенку платяного шкафа, Нонка сдвигает брови. Славик просто решает:
— Для чего шкафу задняя стенка? Ведь все равно он стоит прижатый к стене.
У Нонки беспомощно опускаются руки:
— А для чего у тебя голова, ведь все равно под шапкой не видно?
— Я ей ем,— деловито поясняет Славик. Лева, просветленный, суетится:
— Попросим графа де Стася. У него же отец заведует фруктовой базой. Там разных ящиков — завались.
— Все равно ничего не получится,— заявляет Мишка.
— Почему?
— Потому, что из аппарата должна выходить ручка. И там, где ось, пробьется свет. Вся пленка засветится.
Мы задумываемся. Этот съемочный киноаппарат вроде подводной лодки. Все должно быть закрыто. Ни единой щелки. В лодке щель — значит, вода, значит, всем гибель. А в аппарате щель — это, значит, свет. Это гибель пленки. Вместе с ней конец нашим мечтам: снять свой кинофильм.
Как все было хорошо, и вдруг какая-то ось ручки вылезает сбоку аппарата, и наши мечты разлетаются, как воробьи от автомобильного гудка.
— А если как-нибудь заляпать это место, где будет крутиться ось?— несмело предлагает Лидочка.
— Чем?
— Ну, хотя бы пластилином,— советует Женька. Лева крутит своей очкастой головой, морщится:
— Кустарщина. Никакого взлета мысли. На заводах в таких случаях ставят шарикоподшипник с закрытой обоймой.
— А где мы возьмем шарикоподшипник, да еще с этой самой обоймой?— спрашивает Мишка. Я вспоминаю, что где-то в центре есть такой магазин, где продаются разные шарикоподшипники.
— А деньги?
Какое это нехорошее слово — «деньги». Оно вечно нам ставит перегородки, вечно чинит разные препятствия.
— Скорее бы уж коммунизм,— вздыхает Мишка,— тогда будет все бесплатно. Утром глаза открыл, а по радио объявляют: «Граждане, сегодня с 6 часов утра начался коммунизм». И конечно, самый большой оркестр исполняет « Интернационал».
Мишка подпер голову кулаками, тихо, одному себе говорит:
— Отца освободят…
Мы слушаем, как-то очень ясно представилось: в наш двор входит летчик в голубой фуражке, с голубыми петлицами, всем улыбнется и отдаст по-военному честь. А мы ему говорим: «Ваш Мишка и все мы о вас всегда хорошо думали. Мы никогда не обижали Мишку. Он наш товарищ».
Летчик смеется: «Собирайтесь скорее в Тушино. Сейчас в честь коммунизма я сделаю над Москвой мертвые петли».
— А я знаю магазин, где уже сейчас бесплатно,— прерывает мои мысли Славик.
— Какой магазин?
— На улице Горького. Магазин ТЭЖЭ, где разные духи продают. Ох и пахнет там! Заходи, встань посредине и нюхай сколько хочешь. Нанюхался и пошел себе.
— Ну, помечтали и хватит,— говорит Женька,— айда к графу за фанерой.
Мы с Женькой идем к графу. Я отстаю, шагаю вяло.
— Ты чего?— оглядывается Женька.
— Иди один,— говорю я,— неохота мне к нему заходить.
— Мне тоже,— вздыхает Женька — Ну, а как же фанера?
— По-моему, отец графа — жулик,— решаюсь я.
— Почему так?
— Уж очень богато живут на одну зарплату. И всегда у них разные гости. Из окна на весь двор: «Шумел камыш…»
— А может быть, он за заем выигрывает?
Я вспомнил коробку из-под туфель, где хранились мамины облигации, представил, как мама всегда очень долго тщательно их проверяет по газете, а потом виновато посмотрит на нас с Нонкой, вздохнет и скажет: «Ну, значит, в другой раз…»
Я уже давно заметил, как только к нам во двор зайдет участковый дядя Карасев, так сразу у графа занавешивается окно.
Может быть, и жулик,— неуверенно соглашается Женька.— Ну, за сломанный ящик его же не посадят. Звоним. Нам долго не открывают.
— Кто здесь?— наконец слышим мы голос графа де Стася.
— Мы с Алешкой. Открой, дело есть. Защелкали запоры, на пороге граф:
— Прошу. Проходите, мы тут в карты в дурачка играем,— приглашает граф в комнату.— Мать к тетке уехала.
В комнате за столом Бахиля, Жиган дымит папироской, на столе карты, косточки от урюка, рваная газета.
— А,— радуется Жиган,— кинозвезды пришли! Монти Бекс и Дуглас Фербенкс. Привет от рядового советского зрителя!
Мы здороваемся. Бахиля неловко подает руку, топчется.
Я его уже давно не видел. Говорили, что он болел, а потом где-то долго лежал в санатории. И вот сейчас он, длинный, похудевший, прячет от нас глаза, подвигает стулья, разгоняет дым.
— Ну, как ваше кино?— спрашивает он.
— Плохо,— говорим мы.— Фанера нужна.
Женька долго объясняет, для чего нам нужна фанера. Он достает карандаш, осматривается, тянет к себе газету.
— Вот смотрите,— он начинает чертить на газете. Карандаш спотыкается, делает неровные линии. Женька поднимает газету, а под ней смятые рубли и мелочь.
— Значит, в дурачка играете?— спрашивает Женька.
Жиган по комнате ходит, в окна смотрит, посвистывает. Граф молча прикрывает газетой деньги, высыпает на стол горсть урюка.
— Ешьте.
Почему-то сейчас урюк невкусен. Так, словно скорлупа от грецкого ореха.
— А может, сыграем?— пытливо оглядывает нас Жиган.— Так просто, по пятачку?
Мы с Женькой молчим.
— Денег у вас нет? Я в долг ссужу. А?

Бахиля от газеты глаза поднимает, смотрит на нас и молчит.
— В долг дам. Ну? Я сдаю.— Красиво, звонко трещит картами Жиган.
— Мы не умеем,— говорит Женька. Жиган радуется, суетится:
— А чего тут уметь? Двадцать одно. Вот смотрите: это валет? Так вальту два очка. А это что? Ах дама… Ну, даме три очка. А это? Пожалуйста, шестерка. Ну, раз шестерка — значит, шесть.
И опять Бахиля смотрит на нас. Ничего не говорит, а только смотрит. Уж очень он стал худой.
— Вы на него не смотрите,— показывает Жиган на Бахилю.— Его испортило воспитание родителей. А что вы думаете? Кругом золотые коронки. Клиенты хватаются за щеку и кричат. Потом папа, его папа, им раздвигает рот и сверлит. Конечно, они опять кричат. А что им делать?
Жиган бросает колоду на стол, садится рядом, закуривает. Смотрит на нас, не знает, куда бросить спичку.
— А дальше?— Жиган катает косточку, берет ее в рот.— А дальше… Слушайте, а чего вы ко мне пристали?
Он жмет зубами на косточку, вкусно хрустит. Мы с Женькой тоже берем косточки. Щелкаем. Почему-то подумалось о зубном враче.
— Ну, так вот,— говорит Жиган и показывает на Бахилю,— этот гражданин все время находится между золотом и воплями больных. Какие же должны быть нервы?
Бахиля встает, идет в переднюю, долго хлопает калошами…
Жиган к нему. Мы с Женькой тоже.
— Куда же ты?— спрашивает Жиган.
— Я больше в карты не играю,— хлопает галошами Бахиля.
— Проигрался и бежать?
— Я отдам тебе долг,— Бахиля надевает пальто, никак не найдет шапку.
Жиган смеется:
— Шапочку в залог.
— А ну-ка, отдай ему шапку,— встает между ними Женька. Я тоже встал с Женькой рядом.
— Отдай шапку!
— Вы что, очумели? Он же сам играл?— Жиган озирается, увидел графа, зовет в свидетели: — Граф, как было дело?
Граф де Стась мнется, то на Жигана, то на нас смотрит.
— Да вот так было… Мы сначала вдвоем с Жиганом играли, а потом Бахиля пришел. Тоже захотел. А Жиган ему говорит: «Трус в карты не играет». Бахиля разорался, что он не трус. Ну, его приняли.
Бахиля справился с галошами, стоит, молчит, только одни глаза говорят.
— На уж твою шапку,— смеется Жиган.— Иди и больше не играй. Про долг не забудь. Слышишь?
Бахиля мнет в руках шапку, не уходит.
— Ну, чего стоишь? Иди.
— Не уйду,— глухо говорит Бахиля.— Я с ними хочу… У меня есть фанера… Отцу кабинет отделывали… Осталась.
— Так чего же мы стоим?— оглядывается Женька.— Пошли!
Ключ в ржавом замке на сарае еле-еле поворачивается.
— Фу, там, наверное, крысы,— ежится Лидочка.
— У тети твоей крысы.
Открыли дверь. У входа большая лужа. Тиски на верстаке оранжевые. Сверху капает.
— Сюда ее нельзя,— говорит Бахиля, поглаживая белоснежную тугую фанеру,— покоробится.
— Ну, а где же нам работать? Дома нельзя. Мусор будет,— говорит Женька.— Мне и так за пластилин попадает.
— Ну, ведь можно же все подмести,— оглядывает нас Лидочка.
— Ты что же думаешь: один раз провел напильником и скорее за веник?— говорит Мишка.— Разве это работа?
— Что делать?— часто моргает под очками Лева.— Что делать?
— Дети,— вздыхает где-то у меня под мышкой Славик.— Натаскаем желтого песку. Он еще за помойкой остался. Посыплем пол. Лужу вычерпаем.
— Снег с крыши скинем,— прикидывает Мишка,— тиски шкуркой почистить, дать маслица — и порядок.
— Дверь на всю ночь открыть. Пусть проветривается,— говорит Женька.
В общем, взялись мы за сарай. Лужу вычерпали, песок принесли. Лидочка со Славиком обили стены новыми газетами. Портрет Лермонтова по краям обрезали, вставили в рамку. Славик радуется:
— Ну вот, без погон он прямо за нас.
Молчит поэт. Смотрит со стены нашего сарая и молчит.
А рядом газетные фотографии папанинской льдины. Четыре человечка в лохматых одеждах подняли руки, прощаются с самолетом.
И все это вместе попало в наш сарай, попало к нам на Плющиху.
* * *
Жиган стоит у двери нашего сарая.
— Пилите?
— Пилим,— говорим мы.— Разве так пилят? Мы молчим, мы пилим.
— Лидочка лоб вытирает:
— Взял бы да показал, как надо. Жиган папироску рассматривает:
— А вы попросите как следует. Мы пилим.
Закурил, ногой консервную банку катает.— Чего же вы молчите?
Мы заняты. Лидочка фанеру держит, а мы пилим. Дымит Жиган в нашем сарае.
— Хоть бы по линии пилили. А то все вкось. Меня зло берет.
— Слушай, катись отсюдова. Хочешь — на тебе пилу и пили.
Жиган папироску выплевывает, всех расталкивает.
— Вот, смотрите.
Идет пила. Прямо по линии и не спотыкается. Где линия> там и зубцы.
— Что еще пилить?— спрашивает Жиган.
— Все. Больше нечего.
— Я еще могу…
Мы торжественно прибили на воротах нашу вывеску:
«КИНОСТУДИЯ «ПЛЮЩИХФИЛЬМ» Просьба ко всем сознательным ребятам не мешать работать.
Дирекция..
Прием посетителей с 9 утра до 9 вечера».
Наш участковый дядя Карасев долго стоит около вывески, снимает фуражку, опять надевает, хмурится и молчит.
Мы стоим у него за спиной и тоже молчим.
— Так,— наконец говорит дядя Карасев,— а вы это самое… Ну хоть с кем-нибудь согласовали?
Он снова интересуется, покашливает:
— Мало ли что? Вроде как самоуправство…
— А мы с райкомом согласовали,— врет Женька.
— С райкомом?— задумывается дядя Карасев.— Ну, тогда ладно,— Он строго оглядывает нас: — Смотрите спичками не балуйтесь. И вообще, чтобы все было это самое… на уровне.
Мы с готовностью киваем.
— А когда каникулы кончаются? Когда вам в школу?
— Первого апреля, дядя Карасев.
— Ну, осталось недолго,— довольный, подытоживает участковый, еще раз читает наше объявление, прокашливается, уходит.
Все началось утром на следующий день.
К нам во двор пришли две девчонки. Одна побольше, другая поменьше. Зашли, робко покрутились и направляются к сараю. Мы перестаем работать, на Славика смотрим, Он пожимает плечами: мол, я тут ни при чем.
— Здравствуйте,— говорит длинная девочка и подталкивает свою подружку: — Зина, давай уж ты.
Зина с интересом наблюдает, как лужа окружает ее калошу, очень серьезно спрашивает:
— Кто у вас старший?
Мы переглядываемся. До сих пор мы так и не знаем, кто же у нас старший.
— Ну, кто у вас главный?— спрашивает Зина и по очереди всех оглядывает.
— Мы все тут главные,— говорю я.
— Как же так? У вас киностудия и нет директора? Так нельзя.
— А что вам нужно?
— Ну, мы с подругой хотим сниматься,— неуверенно говорит Зина.— Вот Клава,— она кивает на подругу,— живет в одном доме с участковым дядей Карасевым. Он все нам рассказал.
— Ну и что же?— осторожно спрашивает Лидочка.
— Вот мы и хотим сниматься в вашем кино.
— Так,— моргает мне Женька.— А что вы умеете делать в кино?
— Мы? Мы умеем играть,— говорит Зина.— Какие у вас роли по сценарию?
— У нас пока нет сценария,— очень вежливо говорит Лидочка.— Еще не написали.
— Ну, тогда мы еще рано пришли,— вздыхает Зина, трогает подругу.— Пойдем, Клава.
— Подождите,— тороплюсь я.— Так что же вы умеете делать в кино?
— Чего ты? Пусть идут,— говорит Лидочка.
— В кино мы ничего не умеем,— серьезно объявляет Зина.— А в школьной самодеятельности я играла княжну Мери, а Клава — капитанскую дочку.
Женька суетится, на табуретку дует:
— Садитесь, девочки.
Они переминаются, на Лидочку смотрят.
— Садитесь, не бойтесь,— приглашает Славик. Уселись рядом.
— Так,— тянет Женька.— Ну, сыграйте нам что-нибудь.— Прямо сейчас?
— Ага.
— Давай, Зина, ты,— просит длинная подружку. Зина встает, осматривается, словно принюхивается к чему-то курносым носиком, говорит просто:
— Можно. Только в пальто неудобно.
— А без пальто здесь холодно,— предупреждает Лидочка.
Зина стоит в нерешительности, и только сейчас я заметил ее ресницы. Они у ней как будто хлопающие.
— Можно и в пальто,— говорит Женька и достает из кармана расческу.
Но Зина все-таки снимает пальто, отдает подруге, поворачивается к нам спиной. И так молча долго стоит. Мы переглядываемся. Не знаю, как это называется, но, по-моему, то, что мы сейчас видим, есть талия.
И вот она повернулась к нам, делает шаг вперед, робко вытягивает руки, на ресницах слезы, голос дрожит.
— Или вы меня презираете, или очень любите!— тихо говорит она.— Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу. И потом оставить… Это было бы так подло, так низко, что одно предположение… О нет! Не правда ли, во мне нет ничего такого, чтобы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок… Я должна, я должна вам его простить, потому что позволила…
Мы не шевелимся. Из-за поленниц показала острую мордочку крыса. Лидочка ее видит, но молчит, не пищит.
— Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!..— Зина опустила руки, немного помолчала, потянулась к пальто.
— Здорово!— наконец выдыхает Женька.
— Мировецки,— оценивает Славик.— Только про что это?
Зина застегивает пуговицы, спокойно хлопает своими ресницами, садится рядом с Клавой.
— Это Лермонтов, мальчик. «Княжна Мери».
— Хорошо, но несовременно,— тихо говорит Лидочка.
— Вы в каком доме живете?— спрашиваю я.
— А во дворе, где кино «Кадр», большой серый дом. Знаете?
— Угу. Только мы вас никогда не видели.
— А я вас из окна видела,— смеется Зина.— Это вы летом по утрам у нас во дворе в мусоре копались? Чего вы все искали?
— Кадрики,— говорит Славик.— Мы свое кино делали. Она поднимает свои дуговые брови, дергает кончиком носика, улыбается:
— Это интересно. Расскажите.
Мы рассказываем про наш киноаппарат, про то, как мы его сами сделали, даже показывали кино прямо во дворе.
Потом мы демонстрируем наш киноаппарат, объясняем, как мы будем снимать свою собственную картину.
— И это вы все сами сделали?— осторожно одним пальчиком трогает Зина шестеренки.
— Сами,— говорит Лидочка.— Все сами.
— Клава, как интересно!— смеется Зина.— И можно будет самим снимать фильм?
— Конечно,— солидно говорит Женька.
— А что вы умеете делать?— бесцеремонно осматривает Славик длинную Клаву,
— Я тоже, мальчик, умею читать, а еще чечетку плясать.
— Спляшите,— просит Славик. Девочки нерешительно переглядываются.
— Давай уж, Клава,— просит Зина,— только у вас музыки нет.
— А вы под ладошки. Какую вам музыку?
— «Яблочко»,— просит Клава и снимает пальто.— Стелите на пол эту фанеру. Не бойтесь, не сломается.
Она встряхивает волосами, руки в бока, просит:
— Ну, давайте «Яблочко»!
— Эх, яблочко, куда ты котишься,— недружно начинаем мы. Славик ударяет в такт палкой по старому ведру, и кажется, стало получаться.
Клава сначала медленно, не спеша, отбивает такт, а потом ее ботинки стучат по фанере все быстрее, все азартнее. Вот она закинула голову и легко, чуть касаясь каблуками и носками фанеры, отбивает ногами дробь.
Мы потрясены. Женька торопливо лезет за расческой, выпускает чуть ли не сверх пальто белый воротничок рубашки.
Клава усаживается прямо на верстак, раскрасневшаяся, запыхавшаяся. Славик с интересом осматривает ее ноги.
— Ну, так…— задумывается Лева.— Чего же с вами делать?
— Оформим в штат актрисами,— предлагает Женька.
— Конечно,— соглашаемся мы. Только одна Лидочка молчит. Пожимает плечами, как-то виновато улыбается и молчит.
— О чем же у вас будет фильм?— спрашивает Зина. Мы смотрим друг на друга. Просто мы еще сами не знаем, какую будем делать картину.— Про войну,— решает Славик.
— Про Чапаева,— говорю я.
Зина поднимает брови, внимательно на меня смотрит;
— Про Чапаева уже есть.
— А мы начнем с Москвы-реки, и пусть Чапаев переплывет реку, а потом везде ходит и смотрит, как мы живем.
— Помните, такое место в картине?— поддерживает меня Женька.— Помните, как Чапаев мечтает вместе с Петькой и Анкой, какая у нас будет жизнь?
Женька встает, прохаживается по сараю и вдруг говорит голосом Чапаева:
— Счастливые вы… молодые, красивые… Вот война кончится, поженитесь. Работать вместе будете. А жизнь будет у нас такая… Великолепная будет жизнь. Помирать не надо…
Женька садится, долго трет лоб, сам себе тихо повторяет:
— Да… великолепная будет жизнь…
— Да,— вздыхает Мишка,— великолепная будет жизнь.— Он встает и, споткнувшись о фанеру, уходит из сарая. Следом торопится Лидочка.
— Что с ним?— спрашивает нас Зина.
— Так просто,— говорит Лева.— Отец у него был летчик.
— Разбился?
— Да нет… хуже.
— А что хуже?
— Посадили…
Слышно, как опять где-то скребется крыса и очень звонко падает на фанеру капля.
Зина калоши рассматривает, тихо спрашивает:
— Враг народа?
Мы переглядываемся, Лева плечами пожимает, тиски крутит:
— Да не враг он…
— Не враг,— говорит Женька.— Такие врагами не бывают.
— Пойдем, Зина,— зябко кутается в пальто длинная Клава.— Мне еще в аптеку надо. Отцу за лекарством.
Но Зина не уходит. Она разглядывает наш сарай, трогает аппарат, спрашивает, когда мы начнем съемку.
— Как сделаем, начнем пробу,— говорю я. Мне почему-то очень приятно ей все показывать, объяснять. Хочется, чтобы она спрашивала еще и еще.
— А сценарий?
Я рассказываю ей, с чего начнется наш фильм. Сначала плывет по Москве-реке Чапаев. Это мы будем снимать у Воробьевых гор или на Филях, где еще нет гранитных берегов. Вокруг плывущего начдива будем бросать в воду камни. Вроде как шлепаются пули.
— А потом Чапаев выходит на берег,— мечтательно продолжает Лева,— и здесь надпись: «Прошло двадцать лет…» И опять на экране Чапаев, он едет в открытой машине, смотрит на Москву.
— А где вы возьмете машину?— спрашивает Зина. Мы задумываемся.
— Он едет на велосипеде,— предполагает Славик.— А велосипед есть у Гоги.
— Славик, ты бы шел поиграть,— советую я. Он дуется, смотрит исподлобья.
— Опять, Алеша?
— Сиди, сиди,— удерживаю я Славика.
— Ну, вот,— продолжает Лева,— идет Чапаев по Москве, и встречается ему батальон красноармейцев. Чапаеву приятно видеть, какая у нас стала армия.
— А где вы возьмете батальон красноармейцев?— опять спрашивает Зина.
— Они по Плющихе часто с песнями проходят,— говорю я.
— А потом Чапаев видит в небе нашу авиацию,— рассказывает Лева.
— А авиацию где возьмете?
— На воздушном параде снимем.
— А потом Чапаев проходит по магазинам,— фантазирует Славик.— Смотрит на разные продукты, одежду.
— А где вы возьмете одежду?— интересуется Зина.
— Магазины не обязательно,— говорит Женька и хмуро косится на Славика.
— А может быть, про что-нибудь другое снимем фильм? А?— несмело предлагает Женька.
— Конечно,— смеется Зина,— ведь у вас нет ни одной женской роли. Вот хотя бы «Капитанскую дочку».
— Нет,— отвергает Лева.— Там зима была, а мы снимать начнем летом.
— И для чего вам женские роли?— вдруг говорит у меня за спиной Лидочка.
Как они с Мишкой вернулись в сарай, я не видел. Сейчас стоят в проходе, и оба предлагают снимать фильм без женских ролей. Мишка говорит об этом неуверенно, то и дело поглядывая на Лидочку. А Лидочка упрямо, настойчиво доказывает:
— Вот в «Чапаеве» всего одна женская роль. Анка-пулеметчица. А как все здорово. Зачем же много женских ролей?
— Пожалуйста, мы можем уйти,— встает Зина. Лидочка с Мишкой посторонились.
— Подождите, товарищи…— говорю я.— Лева? Женька? Ну, ребята, что же вы молчите?
Женька шнурок на ботинке скручивает, никак не попадет в дырочку…
Лева со Славиком беседуют.
— И почему это, когда тихо, то все слышно?— интересуется Славик.
— Потому что тихо, поэтому и слышно,— объясняет Лева и тоже осматривает свои шнурки.— Ты бы лучше погулял.
— А мне разрешили до восьми,— радуется Славик.— Каникулы!
— Ну, мы пойдем,— нерешительно оглядывается Зина.— Клава, нам пора.
— А пусть они еще спляшут,— просит Славик.
— В другой раз, мальчик,— говорит Зина.— До свидания, ребята. Пойдем, Клава.
И ушли. Щелкают по фанере капли…
Лева вдруг вспомнил, что у него есть дома дела.
Женька заторопился:
— Короля выводить пора…
— Ну, и я пошел,— говорит Мишка.— Привет, Алешка. Дверь поскрипела, поскрипела, остановилась. Теперь никого в сарае. Только Лидочка. Стоит у косяка, все также руки за спину. Ступает на фанеру, осторожно пробует ее носками, каблуками, улыбается. Пальто снимает, бросает его мне.
— А теперь смотри, глупенький…
…Фанера оказалась хорошей. Выдержала. В ушах все еще не проходит грохот каблуков. Я даже не знал, что Лидочка умеет так здорово плясать. ,
Провожаю ее до дверей. На лестничной клетке темно. Лидочка шумно дышит.
— Ну, я пошла,— шепчет.— Слышишь, вон мама ходит. До завтра, Алешка.
— Подожди…
— Пока, Алеша!— и скорее звонить.
Я опять в наш сарай. Уложил фанеру на землю. Пробую. Шум есть, а вот как у Клавы, как у Лидочки не получается…
Дома Нонка не спит. На лампе полотенце. Колдует над конспектами. Оглядела меня сверху донизу, вздохнула, полезла в буфет. Молока налила, хлеб пододвигает:
— Питайся уж, горе мое.
Я питаюсь. Питаюсь и думаю.
Нонка над учебником носом водит. Уши зажала и вникает:
— Синус квадрат плюс косинус квадрат равняется единице.
А мне не до синусов. В голове все перепуталось. Хочется спросить Нонку, но боюсь, что начнет смеяться.
Как же все на свете получается: сначала Лариска…. Потом Лидочка, а теперь вот Зина… Ну, просто Зинка-корзинка. Какая-то она вся… ну, наверное, таких взрослые называют «стройная». Я таких еще не видел.
Правда, как-то с Женькой шли мы по Бородинскому мосту, а впереди нас одна девчонка. Ее собака за поводок тянула, а девчонка упиралась, туфельками стучала, собаку сдерживала.
И вдруг ветер снизу, с Москвы-реки подул. У девчонки платье колоколом, а руки заняты и поправить нельзя.
Мы с Женькой даже остановились. Она дальше пошла, а мы все стоим, друг на друга смотрим.
Женька только и сказал:
— Тоже мне порода. Уши болтаются. Не то что у моего Короля.
— А ноги?
— А ноги?— задумывается Женька.— Ноги, кажется, ничего. Порода есть.
— Ты о чем?
— А ты?
Дальше мы шли молча.
…Все-таки мне не терпится поговорить с Нонкой. Сейчас она сидит и упрямо сама себя убеждает:
— Синус квадрат плюс косинус квадрат равняется единице… Рассмотрим фигуру ABC…
— Нонка?
— Ну что?
— Нонка, а что такое фигура?
Она шевелит губами, смотрит куда-то сквозь меня.
— Нонка, что такое фигура?
Она молоко к себе. Долго вкусно пьет, кивает на учебник:
— Подрастешь, узнаешь.
— Да я не об этом… Вот как у девчат…
Нонка опять за молоко. Но не пьет, а долго смотрит на меня:
— Ну и братец мне достался…
* * *
Утро. Мама ушла на работу. Тихонько щелкнула дверь.
— Тангенс плюс котангенс,— бормочет Нонка. В дверь кто-то стучит.
— Кого еще черти несут?— смотрит на меня Нонка.— Твои, наверно…
— А может быть, твои?
Мы лежим. В дверь опять стучат.
— Ну, открой же. Ведь я не причесана… Открываю. В дверях улыбается Наташа:
— Здравствуй, Алеша…
— Так… заходите… нет, постойте… Я в комнату:
— Наташа из райкома!
Нонка платье сразу в два рукава, одна рука на прическе, другая одеяло одергивает, лицом салютнула зеркалу, ноги влетели в туфли.
— Чего же ты стоишь? Приглашай! Приглашаю.
— Здравствуйте, Нонна,— говорит, осматриваясь, Наташа.— Извините, что рано. Шла мимо. Во двор зашла. Никого. Сарай на замке. А где же киностудия? Где же работа?
— Садитесь, пожалуйста,— двигаю я стульями.— Разденьтесь.
— Осторожней, там у пальто вешалка еле держится, Нонка скорее в мамину коробку с нитками:
— Давайте пальто.
Мне почему-то очень приятно, что Нонка пришивает Наташе вешалку.
На кухне еще теплый мамин чай. Сахар есть. Так. Еще что? Есть соленые огурцы. Не пойдет. Есть сырые яйца, И есть мамина чашка.
В комнате смеются. Мне слышно, как Наташа рассказывает:
— Целый день одеваюсь и раздеваюсь. Ни одна вешалка не выдержит… В райком пришла разделась… Тут звонок… Куда-то ехать… Оделась. Приехала, разделась… и так до вечера.
Нонкин голос:
— Как врач по вызову… Опять смеются.
В шкафу нашлось молоко. Значит, получается омлет. Раз яйцо, два…
На столе, на белой хрустящей скатерти горят два апельсина.
— Ставь сюда, Алеша,— командует Нонка.
За окнами с грохотом катятся колеса трамваев. Искры, кажется, бьют прямо в стекла. Мне неловко, что мы живем в подвале.
— Миленькая у вас квартирка,— говорит Наташа.
— Да,— соглашается Нонка.— Очень важно, что отдельная.
— Я бы с удовольствием пожила в такой,— говорит Наташа.
— А вы где живете?
— В общежитии. На Стромынке. У нас в девичьей комнате восемь человек и одна гитара.
— Зато весело! Наташа помешивает чай.
— Вы же в райкоме работаете. Почему же вам не дадут?— спрашивает Нонка.
Опять трамвай гневно погрозил нам своими колесами. Наташа прикрылась маминой чашкой, одни глаза видны.
— Строим еще мало… У нас в райкоме семейные. И то не просят. А мне что? Я одинокая.
— Конечно,— соглашается Нонка. Помолчала, спросила:
— А у вас, Наташа, есть кто-нибудь? И вдруг на меня:
— Алешка, посмотри керосинку. Погасил?
— Да что ты мне с керосинкой!— не выдерживаю я.— Или уж я ничего не понимаю!
— Подожди, Алеша,— усаживает меня Наташа.— Давай-ка, дружок, о наших делах.
— Ну, давайте.
— Почему же «ну»?
— Ну, это я так просто. Нонка смеется.
А Наташа говорит:
— Вывеску «Плющихфильм» повесили? Всем наобещали? Наобещали. Сейчас каникулы? Каникулы. А где же работа?
— Сценария у нас нет. А как же без сценария?
— Напишите.
— О чем?
Она вертит чашку, узор разглядывает. Я торопливо рассказываю про наши задумки о Чапаеве, о том, как он проходит по сегодняшней Москве, про двух девчонок со двора, где кинотеатр «Кадр», про их чечетку и монолог княжны Мери и вообще про женские роли.
В двери стучат. Нонка пошла открывать.
Нонка подталкивает впереди себя хмурого Мишку.
— Вот еще один киношник. Полюбуйтесь.
Он садится на кончик стула. От чая отказывается.
— Ну, тогда апельсин,— предлагает Наташа. Мишка осторожно отрывает дольку.
Я опять начал про Чапаева, про то, как он идет по нашей Москве, может быть, даже по нашей Плющихе. А в конце Плющихи высится новое гранитное здание военной академии имени Фрунзе. А в этой академии, правда, не в этом здании, когда-то учился сам Чапаев. Совсем немного, но ведь учился же!
Опять трамвай затмил наши окна. Сейчас не слышно привычного скрежета колес. Только осторожно звенькнуло стекло. Это Наташа поставила чашку на блюдце. Мишка, спотыкаясь, продолжает мой рассказ о том, как Чапаев проходит вдоль строя летчиков и строго их спрашивает, кто отсутствует и почему.
— Ешь, Миша, весь апельсин,— тихо говорит Нонка.— Мы уже наелись.
Снова в дверь стучат. На этот раз вваливается весь наш «Плющихфильм». Наташу увидели, старательно вытирают ноги. Рассаживаются.
Славик сразу к делу:
— Можно снимать «Всадник без головы». Мне вчера дома читали. Ух, мировецки!
— А где ты возьмешь лошадь?— смеется Женька. Славик уныло соглашается:
— Конечно, всадников без головы у нас наберется сколько хочешь, а вот где лошадь?
— Давайте снимать Фурманова «Мятеж»,— предлагает Лева.
— Правильно,— поддерживает Лидочка.— Там всего одна женская роль.
— А лошади там есть?— интересуется Славик.
— Лошадей нет,— говорит Лева.— Мальчишек тоже нет.
Славик заскучал.
Мне сразу представилось начало фильма. Крупно зрители видят вывеску на доме: «Штаб и политотдел». Потом все прикладами сбивают мятежники и потом на это место вешают черный флаг. Они все орут и хлещут из бутылок водку. Так и вижу их задранные кверху небритые подбородки. Судорожно сжимаются глотки. А дальше, в каком-то доме настороженная горстка коммунистов и среди них женщина. Они считают последние патроны. Поровну их делят между собой…
А рядом мятежники на радостях отплясывают воинственные танцы, грозно потрясают оружием.
— А кто будет плясать?— спрашивает Славик.
— Позовем тех девчонок, что к нам в сарай приходили,— говорит Женька.
— Но ведь в «Мятеже» только одна женская роль,— предупреждает Лидочка.
— А мы снимем только их ноги в сапогах, а верхнюю часть изобразят Мишка с Левой,— прикидывает Женька.— В кино это называется монтажом.
— А .любовь у вас будет?— несмело спрашивает Нонка и смотрит на Наташу.
— Ни одной хорошей картины не бывает без любви,— серьезно говорит Лидочка.
Мы задумались. А ведь в самом деле, даже в «Чапаеве» Петька влюбился в Анку. Даже в фильме «Тринадцать», где кругом одни пески, и то командир отряда любит свою жену. А в остальных картинах вообще все друг в друга перевлюблялись.
— Можно и любовь,— вяло соглашается Лева.— Только, чтобы не очень расходилось с книгой.
— Тогда и мальчишку можно,— с надеждой говорит Славик.
Из-за чашки видны смеющиеся Наташины глаза.
— Теперь нужны винтовки,— беспокоится Женька и смотрит на Наташу.
— Из досок настругаем…
— А одежда?
— Это же мятежники. Гражданская война. Самое рванье наберем.
* * *
Нам с Левой поручено написать киносценарий «Мятеж». Женька назначен главным художником студии. Почему главным — мы и сами не знаем. Но так уж принято в настоящих киностудиях и не нам ломать эти порядки.
Операторами решили быть все сразу. В титрах кинофильмов их всегда перечисляется много. Конечно, каждому хочется покрутить ручку аппарата.
Славика назначили главным ассистентом кинооператора. Он сначала подозрительно осмотрел нас, потом с трудом выговорил свою новую должность, сказал «мировецки» и остался очень довольным.
Мишку утвердили военным консультантом (все-таки у него отец летчик). Он подумал, согласился. Пообещал отдать для будущих съемок отцовскую полевую сумку и бинокль.
А Лидочка сама захотела стать кинорежиссером. Мы подумали и согласились. Ведь у нее мать настоящая актриса, а потому Лидочке лучше всех знать, чем занимается режиссер.
Об актерах мы мало беспокоились. Женька напишет красивое объявление: «Киностудии «Плющихфильм» требуются таланты для съемок историко-революционного фильма». Мы решили, что этого достаточно. Стоит только прибить объявление на воротах, и проблема с киноактерами будет решена. Чего еще, а талантов на Плющихе хватает.
— Мы забыли самое главное,— говорит вдруг Лидочка.— Кто же будет директором студии?
— А зачем он?— легкомысленно спрашивает Славик.
Мы переглядываемся. В самом деле, нам не совсем ясно, для чего киностудии директор?
Сценаристы пишут сценарий. Художник рисует декорации. Операторы снимают фильм. Режиссер…— ну, наверное, занимается с актерами. А что делать директору?
— Все-таки без директора нельзя,— говорит Лева.— Вот у отца на заводе директор всем руководит и за все отвечает А у нас в школе? Ведь тоже есть директор.
Славик вспомнил, как его водили к директору за то, что он на уроке показывал ребятам старинные деньги, и высказался, что с директором, конечно, хорошо, но без него как-то лучше,
Я тоже вспомнил этот случай с деньгами, В тот день у нас заболел историк, и в класс пришел вести урок сам директор. Он достал из кармана старинные бумажные деньги и дал нам всем посмотреть. Я держал в руках большую красочную бумажку с портретом царя. Не знаю почему, но я волновался. Ведь это же были настоящие старинные деньги! Сколько разных рук их держали, сколько слез на них капало, сколько невидимых пятен крови было на этой Красивой хрустящей бумажке.
— Грибков,— попросил директор,— расскажи-ка нам, дружок, о чем ты сейчас подумал.
Я сбивчиво передал свои мысли. Класс тихо слушал. И вот тут начал рассказывать сам директор. Он медленно прохаживался, говорил задумчиво, очень необычно и очень понятно.
Мы не услышали, а скорее увидели, как разные руки держали эти деньги. Одни — белые в перстнях небрежно кидали их на блюдо официантов, другие — заскорузлые, мозолистые, пахнущие стружками, олифой, известью, тщательно ощупывали эту бумажку в подкладке пиджака, возвращаясь из города в родную деревню. Может быть, эти руки строили в городе, на Плющихе дом миллионеру Червякову, а может быть, Таганскую тюрьму.
Порой эта бумажка, плотно свернутая во много раз, молниеносно переходила из рук в руки и исчезала в кармане чиновничьего вицмундира. Эту же бумажку брали из полковой казны руки, еще пахнущие порохом и ружейным маслом. Так бывало после расстрелов демонстраций забастовщиков.
Может быть, эта бумажка прошла через руки царского прокурора, потребовавшего смертной казни лейтенанту Шмидту и его товарищам. Может быть, ее торопливо прятал под рясу поп Гапон. А потом она терпеливо дожидалась в сейфах Временного правительства того, кто выдаст Ленина. Так и не дождалась бумажка нового хозяина. И вот сейчас она гуляет по нашему классу — немая свидетельница далекого прошлого моей Родины, бумажка 1904 года рождения.
Вот что мы узнали на том уроке истории. Никто из нас тогда не услышал звонка с урока. Директор положил обратно в карман эту бумажку и вышел из класса своей обычной озабоченной походкой.
Мы еще долго сидели тихо. Только Женька ерошил свои кудри, потом сказал:
— Вот это да! Вот это он знает!
Потом к нам в класс бочком зашел Славик и пожаловался, что директор отобрал у него старинные деньги.
И вот сейчас на нашем организационном совещании мы рассказали Славику всю историю с его деньгами и о том, что мы узнали на уроке, который вел директор нашей школы.
— Пожалуй, директор нужен, все-таки он в школе еще завтраками ведает,— согласился Славик, сомнительно оглядел нас и добавил: — Только хороший. Давайте выбирать.
— Директоров не выбирают,— сказал Лева,— а их рекомендуют.
— Кто?
— Ну, кто-то свыше. Райком, или райсовет, или наркомат.
— Позвоним Наташе,— просто решает Славик.— Она ведь в райкоме.
Звоним Наташе. Все ей рассказали о том, как мы распределили на студии обязанности и попросили рекомендовать директора.
— Чтобы все было солидно,— говорю я в трубку.— Как в настоящих киностудиях.
Она долго смеется. Мне слышно, как она с кем-то переговаривается и там в глубине комнаты тоже громко смеются.
— Вы что же, сами не знаете, кто у вас может быть старшим?— весело говорит Наташа.— Напроситесь. Вот возьмем да и пришлем вам какого-нибудь чудака с Дорогомиловского рынка, из палатки. Он вашему киноаппарату мигом ноги приделает.
— Мы ведь серьезно, Наташа,— говорю я.
— И я серьезно. Ну уж, если вы так хотите… Дай-ка ребятам трубочку.
Я передал трубку Женьке. Он чему-то долго поддакивал и смотрел на меня. Потом трубку взял Лева, засмеялся, сказал: «Ну, конечно!»— и тоже посмотрел на меня. Мишка сказал: «Порядок!»— и передал трубку Лидочке. Она слушала, довольная, с чем-то соглашалась и строго осматривала меня с ног до головы. Славик взял трубку, солидно в нее посопел, скачал: «Мировецки!»— и тут же объявил, что он согласен .,
…Так я стал директором киностудии «Плющихфильм».
…Мы с Левой пишем сценарий. Рядом у нас на столе настоящий сценарий фильма «Чапаев», (Левина мать принесла из библиотеки.) Как все в нем просто, понятно и доступно. Но пот мы начали писать первый эпизод «Мятежа».
Просидели весь день, а на бумаге только получилось вот что:
«МЯТЕЖ»
фильм о гражданской войне (по роману Д. Фурманова)
Посвящается нашей Красной Армии
Действующие лица: комиссар, коммунисты, мятежники.
Часть 1.
Шел 1920 год…
Крупный план: фанерная вывеска «Штаб и политотдел». По пей грохочут приклады винтовок. Вывеска падает. Взлетает испуганная стайка воробьев. Вдали горящие дома (потом, вспомнив нашего участкового, «горящие дома» Лева выбросил), плачущая девушка прижимает к груди ребенка. Ребенок плачет крупными слезами. Старик утешает девушку: «Вот скоро вернутся наши…» и тоже плачет».
На этом мы остановились.
Лева внимательно рассматривает свою верхнюю губу, потом объявляет, что пока мы доберемся до сути, то израсходуем всю пленку. Вот тогда начнутся настоящие слезы. И еще Лева говорит, что мне, как директору, не мешало бы об этом побеспокоиться.
Мы подумали и решили, что старику нечего плакать, а нужно идти в партизаны. Хоть будет кашу варить и то дело.
Лева сначала согласился, а потом опять начал прикидывать: сколько же уйдет пленки на такой подвиг?
Мы сценарий в сторону. Подсчитываем наши кинопленочные возможности.
— Давай-ка все выясним,— предлагаем мы друг другу. Начали выяснять. В общем, дело обстоит так: пленка идет со скоростью двадцать четыре кадра в секунду. Это просто ужас, как пожирает пленку киноаппарат ради какой-то секунды. Секунда считается так: «раз и два». А за этот «раз и два» летит двадцать четыре кадра! Если растянуть их в длину, то получается…
Меряем линейкой один кадр кинопленки. Получается шестнадцать миллиметров. Множим на двадцать четыре и задумчиво смотрим друг на друга.
— Триста восемьдесят четыре миллиметра пленки в одну секунду!
Тоскливо отнимаю ноль, сообщаю:
— Это значит, тридцать восемь сантиметров пленки за секунду.
— Бери уж полметра,— раскрашивает Лева красивыми штрихами сценарий.— А в фотомагазине полтора метра пленки — это рубль тридцать.
— Слушай, а чего они могут сделать в одну секунду?
— Кто?
— Ну, наши герои… .
— А черт их знает…
Я прикидываю, советуюсь:
— Слушай, за секунду он в партизаны не уйдет?
— Кто?
— Ну, дед наш..
— Конечно, не уйдет. Ему думать надо…
— Давай выбросим… Сэкономим.
— Давай!
Выбросили. Помолчали.
— Слушай,— говорю я.— А нужна ли эта девушка со слезами?
— Я тоже о ней думаю,— ежится Лева.— Знаешь, Алешка, ну сколько она там проплачет? Секунду? А ведь это же метры пленки.
— Может, чуть всхлипнет,— предлагаю я.— Всхлипнет, и все.
Лева раздумывает, взвешивает.
— Это же почти полметра… И еще, Алешка, учти, что женщины никогда ровно секунду не плачут…
Я припомнил всех женщин, которые при мне плакали, и согласился.
Помолчали. Повздыхали.
Ну, вот и сэкономили,— сказали мы вместе с Левой.
— Чего бы такое еще??— спрашиваю я.
— Да, чего бы такое еще?— соглашается Лева и задумчиво шевелит пальцами.
— Слушай,— говорю я,— давай подсчитаем, что мы имеем.
— В каком смысле?
Ну, в смысле денег. … .
Прикинули. Вместо денег — одна тоска.
Помалкиваем.
И вдруг меня осеняет.
— Слушай,— говорю я,— сейчас весна. Так?
— Так,— кивает Лева.
— Все тает?
— Тает.
Влезем на крышу и скинем по лопатке. Ну, как?
— Влезем,— говорит Лева,
— Сколько за крышу?
— За какую?
— Ну, за нашу.
— Надо спросить управдома.
— Иди спроси.
…Нажимаем кнопку у дверей, где живет управдом. Открывает маленькая девочка, пряник сосет. Тянет нас за куртки:
— Заходите,— постояла, подумала:— А у меня две макушки. Вот, пошли посмотрим. Только надо к свету.
Мы рассматриваем при тусклой лампочке две макушки. Потрогали. Сказали:
— Молодец.
— Ну, чего же вы? Пойдемте.
Какая-то тетка сердито прошла с большим тазом. Мы посторонились. Тетка в кухне чего-то мешает, руки об халат вытирает и опять булькает в тазу сильными руками.
— Это тетя Настя,— поясняет девочка.— Жена Иван Ивановича. Она только с работы. Она добрая. Ну, пойдемте.
— Слушай, девчулька, где тут управдом живет?
— А вот же дверь,— смеется девочка,— вы рядом стоите.
— Войдите!
Сидит серый человек. Сидит спиной. Повернулся скрипуче. Нас осматривает:
— Ну?
— Вот мы снег будем сбрасывать.
— Кто мы?
— Я и Лева.
— Ну?
— Что «ну»?
— Сбрасывайте. Мы переминаемся.
— Надо бы условиться…
— О чем?
Лева очки трогает, я стенки разглядываю, заодно и потолок: почему-то неловко говорить о деньгах.
— Сколько заплотите?— решаюсь я. Управдому вдруг весело:
— Не заплотите, а заплатите. Слова «плота» нет, а есть «плата».
— Понимаем,— угрюмо говорит Лева.
— Это все неважно,— говорю я,— сколько денег за все крыши?
— А зачем вам деньги?
Мы стараемся понятно объяснить, для чего нам нужны деньги. Рассказываем о нашем кино. Он вдруг перебивает:
— С этим кино вы еще пожар наделаете. Кто вам его разрешил?
— Райком,— говорим мы.
— Какой райком?
— Ну, райком комсомола, наш, Киевский…
Он в ухе ковыряется, думает:
— Ну, так…
Мы рассказываем о метрах пленки и сколько будет стоить. двадцать четыре кадра в секунду. Он молчит, кивает, кажется, все понимает, и вдруг смеется:
— Я в ваши годы бесплатно снег скидывал. Полезно для здоровья.
— А как же кинопленка? У нас ведь кино?
— А для чего вам сдалось это кино? Только зрение портить,— он подмигивает,— в темноте девчонок целовать. А?
Лучше бы сделали стол для домино. Это дело. Я доски дам. А?
— Нет,— говорит Лева,— нам снег нужно сбросить, Нам деньги нужны.
Туг скрипнула дверь, входит девочка с двумя макушками. Уцепилась за занавеску и на нас смотрит одним глазом, а другой прячет за пестрый ситец.
— Оборвешь штору,— громко говорит управдом.— Иди гуляй себе…
Она ушла.
— Деньги — это вред,— шевелит управдом губами и задумывается. Все эти штучки-трючки с вашим кино — ерунда одна, Другие школьники уроками занимаются, учатся на «отлично». А у вас какие отметки? Вот у тебя какие?— вдруг спрашивает он меня.
— Разные,— говорю я.
— Разные — это хорошо,— говорит он, не подумав.— Сколько же вы за крышу хотите?
— Ну, рублей двадцать,— решаюсь я и смотрю на Леву.
— Тридцать,— говорит Лева.— Тридцать рублей за все крыши в нашем дворе.
— А инструмент чей?— спрашивает управдом. Мы переглядываемся: у нас нет инструмента.
— Ну, лопаты… Там… корзина… санки… веревки…— встает управдом и долго скрипит половицами.— Это чье?
— Нету у нас всего этого,— говорю я.— Ну, может быть, санки найдем, а вот разное другое…
Он хлопает нас по спинам:
— Ну, за все пятнадцать. А? На ваше кино во как хватит! Значит, пятнадцать рублей и моя ответственность.
Покосился на дверь, выжидает:
— Ну?
Мы нерешительно переглядываемся. Управдом пальцем через плечо в окно тычет:
— Вон в Дорогомилове один мальчишка с крыши слетел… так того управдома и сейчас по судам таскают… Да и родителям досталось. А?
— Ладно,— вздыхает Лева,— давайте за пятнадцать. Уже в коридоре между нами запуталась девочка с куклой без рук.
— А я все слышала,— трогает она нас за руки, тянется к моему уху,— он хитрый. Папа тоже с ним ругался, когда с крыши снег кидал. Он папе дал сначала одну красненькую бумажку с Лениным, а потом другую. И вы красную просите.
Мы смотрим друг на друга, медленно соображаем.
— Может, вернемся?— предлагает Лева.
— Да ну его, пошли,— говорю я.— Привет, девчулька. Приходи к нам в кино сниматься.
Она кивнула, лизнула куклу, сообщила:
— А у меня две макушки…
И опять мы заседаем. На пятнадцать рублей не разгонишься. Десять метров пленки от силы. Да если из них половина уйдет на позитив, то всего получается пять. Начали умножать, делить. Выходит, наши пять метров пролетят на экране за десять секунд. А что можно показать зрителю за десять секунд?
— А давайте снимем вот такой большой взрыв,— показывает руками Славик,— чтоб все ахнуло.
…Мы представили сценарий.
Лидочка читает вслух. Мы с Левой не смотрим друг на друга.
Она прошелестела последней страницей:
— И это все?
— Все,— вяло говорим мы.
На кухне из крана вода каплями плюхает…
— А вообще-то здорово,— вдруг говорит Славик и оглядывает всех нас,— еще бы достать настоящего пороху…
— Что тебе здорово?— спрашивает Женька.
— Взрывы,— просто говорит Славик.— Вот как бабахнет! Мировецки!
— Славик, ты бы погулял, что ли?— предлагаю я.
— Алеша, опять?— хмурится Славик.— Ведь уже так было.
— Ну ладно… сиди.
— Ребята,— говорит куда-то в стенку Лидочка,— если за рубль тридцать одна секунда, то уж давайте думать. Где у нас мысль?
— Чего?
— Какая у вас мысль?
— Ну, подожди,— говорю я.— Сейчас будет мысль. Сидим, ждем. Опять вода из крана булькает.
— Так,— вздыхает Женька,— а где же мысль? Лидочка прохаживается по комнате, мой затылок тронула. Прошла мимо Левы, и он вдруг заулыбался.
— Так тебе вдруг сразу,— сердито говорит Женьке Лидочка,— умный какой. Им подумать надо…
— Правильно, охотно соглашаемся мы с Левой,— нам подумать надо.
— А чего вы радуетесь,— хмурится Женька.— На месте директора я бы думал о деньгах. Где деньги, директор?
— Нету,— говорю я.— Нету денег.
Помалкиваем.
— Можно сдавать кошек,— неуверенно предлагает Славик.
Мы заинтересовались.
— Очень просто,— объясняет Славик.— Мой друг Валька Дзынь из «дом пять» говорит, что он так давно делает.
— Что он делает, Славик?
— Ну, ловит кошек и сдает их в один институт,— удивляется Славик нашему невежеству.— За каждую кошку — три рубля. Вы что не знаете?
Я мысленно умножаю метры пленки на кошек. Получается грустно. На примете всего лишь Ларискин пушистый Барсик, что всегда греется на окне, и еще один рыжий нахальный кот без хвоста, а больше, кажется, ничего.
Ребята тоже молчат. Женька задумчиво делает губами фигуры. Наверно, тоже множит.
Лидочка ногтем на клеенке рисует. Мишка пальцами шевелит. Лева громко кряхтит и вдруг объявляет:
— Ну где же мы достанем столько кошек? И опять все смотрят на меня.
— Ну, директор,— смеется Лидочка,— давай думай.
Я думаю. Есть у меня последний козырь. Решаюсь: нанялись снег сбрасывать.
— Ну и что?
— Ничего, залезем на крыши и сбросим. Уже пятнадцать рублей.
— У меня есть своя трешка,— встает Мишка.— Значит, восемнадцать.
— У меня рубль,— вмешивается Славик. Я в уме прибавил один к восемнадцати.
— Так, еще что?
— У меня есть двадцать два,— объявляет Лидочка, ну, еще мама даст. Ведь скоро мой день рождения. Можно и без подарков.
— Так,— опять кряхтит Лева.— Можно учебники загнать. Ведь осталось учиться последнюю четверть. Да потом, для чего на каждой парте по два учебника?
— Верно,— осторожно говорю я. Худсовет продолжается.
— Можно добыть деньги с витрин магазинов,— серьезно говорит Женька.
— Это как?— рассматриваем мы Женьку.
— Украсть, что ли?
— Да ты что, Женька?
— Дураки,— просто объявляет Женька.— Вот слушайте!
И Женька рассказал нам, как он вчера проходил по Арбату мимо магазина «Овощи — фрукты». Там, за стеклом продавцы украшали витрину гипсовым виноградом и яблоками из картона. Один, очень толстый и важный в белом халате, смотрел на публику через стекло и руководил.
В гроздья винограда он положил желтую тыкву. Публика захохотала. Тогда он между розовых яблок натыкал фиолетовую свеклу, и опять публика засмеялась.
Он сполз с витрины, вернулся с большой картиной в тяжелой раме. На картине сидит за столом девушка, а на белой в солнечных лучах скатерти золотятся персики.
Зрители опять захохотали. Он сердито махнул рукой, уволок картину. Принес другую — «Чаепитие в Мытищах».
И вот тут Женька не выдержал. Он переступил порог магазина.
— Можно видеть директора?
Директор, тот самый толстяк в белом, пригласил Женьку в кабинет. Женька объяснил ему, что такое натюрморт. Толстяк пообещал усвоить.
— За две витрины сто рублей,— радуется сейчас Женька.— Это сколько же метров пленки?
Как-то весело все складываем, потом делим и получается внушительно. Подталкиваем друг друга: а ведь неплохо!
— Мы отвлеклись,— строго говорит Лидочка.— Так что же будем снимать?
— «Мятеж». Мы же договорились,— недоумевает Мишка,— я уже брюки «галифе» нашел.
— При нашей бедности… Ведь нужны еще костюмы.
— А что, если людей снимать в одних трусах?— серьезно предлагает Славик.
— Славик, ты бы пошел погулял…
— Опять, Алеша!— вспыхивает Славик.
— А что?— задумывается Лева.— Он дело говорит. Ведь можно снимать картины из жизни древнего мира, когда одежды не носили. Это же нам выгодно.
— Я же говорил,— пожимает плечами Славик. Мы с надеждой смотрим на Леву.
— Все очень просто,— крутит он очками во все стороны.— Например, Спартак. Гладиаторы в одних трусах дрались… Разве это вам не кино?
При слове «Спартак» мы все оживились, загалдели.
Книжка про Спартака совсем недавно обошла все наши парты и — удивительное дело: вернулась в библиотеку без единого пятнышка, без единого загнутого уголка: так мы ее полюбили.
И вот сейчас мне сразу представился дымящийся Везувий, и у его подножья слышится отчаянный лязг стальных мечей, свист стрел и грохот тяжелых камней, пущенных метательной машиной. Это бьются восставшие гладиаторы.
Перекрывая шум битвы, гремит гневный, вдохновенный голос Спартака:
— На Рим! Да здравствует Свобода!
— Ты чего орешь,— толкает меня Женька,— думать мешаешь.
И вдруг Женька начал тихо рассуждать о Везувии. Умеют же люди так говорить. Говорит, а сам ни на кого не смотрит:
— Везувий, значит, дымится… Вот таким медленным, задумчивым дымком.— Женька руками изображает дымок.— Представляете?— осведомляется Женька.
Мы представляем, поддакиваем.
— И этот дым чем выше, тем все шире, реже и прозрачнее, потом вовсе исчезает, становится небом. Представляете? !
Мы думаем.
— Ну вот, как из шланга струя,— поясняет Женька,— сначала густо, а потом рассыпается водной пылью и наконец исчезает. Представляете?
— Представляем,— говорим мы.
— Значит, так,— продолжает Женька,— найдем старые мешки и распорем их. А потом сшиваем их одним. большим парусом. И всю площадь грунтуем.
— Чего?
— Грунтуем,— просто говорит Женька.— Ну, значит, берем мел и клей, и все это наносим на мешковину. А уже потом, когда высохнет, я на этом нарисую Везувий и настоящее итальянское небо. Сейчас я вижу этот вулкан Везувий, нарисованный на мешках, интересно.
— Еще дырку проделаем в вершине горы,— предлагаю я,— и с обратной стороны будем дым пускать.
Мне ясно представилось, как мы прикрепили к стене дома эту огромную декорацию с нарисованным Везувием. Рядом дерутся гладиаторы с воинами Рима, а за декорацией кто-то из нас пускает в дырку, в самую вершину Везувия дым и этот дым «чем выше, тем шире, реже и прозрачнее. А потом вовсе исчезает, становится небом…»
Я еще не знаю, с чего мы начнем сценарий, чем кончим и что будет в середине, но уж очень по душе дырка на вершине Везувия, а из нее струится дым.
Славику тоже это место нравится. Он предлагает привести курящего Жигана и тот, спрятавшись за декорацией, начнет выпускать дым в дырку.
— А как же люди?— удивляется Лидочка.— У вас пока один Везувий со своим дымом, а где же Спартак?
— Все очень просто,— говорю я.— Будет Везувий, как декорация, а на ее фоне дерутся гладиаторы. Мечи выстругаем из досок, фанеру согнем на щиты…
— А стрелы?— перебивает Славик.
— Ну, что стрелы? Возьмем полено и нащиплем стрел. Конец заострим, перья в хвост… Вот тебе и стрела.
— А перья где?— спрашивает Женька.
— У мамы есть веер,— говорит Лидочка. Мне почему-то стало очень хорошо.
— Правильно,— говорю я,— возьмем веер — и пожалуйста вам перья…
Все очень довольны. Им просто весело. А я должен думать дальше. Мне нужно множить метры пленки на рубли, подсчитывать, сколько будут стоить костюмы, декорации. Я обязан знать, где достать клей и мел.
— Ну, мел не обязательно,— говорит Женька.— Можно взять зубной порошок.
— Я коробку принесу,— обещает Славик,— и еще всех мальчишек подговорю.
— А мешки?
— На чердаках поищем,— обнадеживает Мишка.
— Так, а клей?
— Клей купим.
— А деньги?
И опять мы начинаем все сначала. Прямо удивительное это слово «деньги». Как до него дойдешь, так начинается все сначала.
— В общем, завтра с утра мы с Левой лезем на крыши,— говорю я.
— А я в «Овощи — фрукты»,— сообщает Женька.
— А я на чердак,— обещает Мишка.
— А я — зубной порошок,— говорит Славик,— и еще можно собрать старые калоши и сюда же мамину резиновую грелку.
— Славик,— поднимает брови Лидочка.
— Ну что — Славик?— ерзает мальчуган.— Слова уж сказать не дадут,
— Пожалуйста, говори, Славик.
— Ну, ладно,— вздыхает он,— можно сдать бутыль из-под керосина. Только ее отмыть надо. Вы не знаете, чем керосин отмывается?
* * *
Утром мы на крыше Женькиного дома. Внизу маленькая фигурка управдома. Он суетится, кричит нам снизу:
— Веревкой себя привяжите! К трубе привяжите! И не показывайтесь! Швыряйте, и все!
Мы обвязались веревкой, закинули ее за трубу и начали швырять снег.
Зацепишь пласт и тянешь вниз, к самому краю. Потом рукам вдруг легко и нам слышно: «бух!»
С крыши хорошо все видно. Вот в шляпе прошел Ларискин отец. Голову задрал, смотрит вверх. Интересуется, как снег бухает.
— Не высовываться!— кричит управдом.
Лева не высовывается, а я смотрю на эту шляпу. У нас во дворе никто не носит шляп. У нас все больше ушанки, кепки, а летом — тюбетейки или просто «политический зачес, как у Кагановича».
А вон внизу Лидочка. Рядом с ней Славик. Уже впряглись в санки и ждут, нам помахивают.
С нашей крыши весь «дом пять» виден. Вон из Гогиного парадного домработница тащит ведро к помойке. Высыпает. По ведру стучит. Мне видны консервные банки. Вот чудаки! Нам железо нужно, а они эти банки в помойку!
Сейчас с крыши мне хорошо видно, как к нам во двор зашел Гога. Рядом с ним Лариска. У них в руках коньки. Стоят, смотрят, как мы снег сбрасываем.
— Лезь сюда!— кричу я ему. Он плечами пожимает, на уши показывает.
— Лезь к нам!— орем мы с Левой. Гога опять на уши показывает, вертит головой.
Управдом его к лестнице подталкивает, а он все не понимает.
— Да ну его,— машет рукой Лева,— давай-ка этот пласт спихнем. Вот бахнет!
Мы поднатуживаемся, и большой ленивый пласт снега медленно едет к краю. У самого обреза крыши остановился, как бы задумался, а дальше не идет.
— Ну-ка, я его,— пыхтит Лева и жмет на лопату. Пласт нехотя трогается, и вдруг вместе с ним скользит Лева.
Я даже ничего не понял, а половина Левы где-то ниже крыши. Белые пальцы вцепились в веревку, а над спиной мелькают пятки. Веревка тугая, моих рук не слушается. Он рукой за снег, а снег под него. Глаза страшные.
— Алешка!
Тяну эту веревку. Ногами уперся в трубу и тяну.
Снизу визг. Управдом метнулся за калитку.
Гудит наша лестница. Кто-то рядом уцепился за веревку, тянет. Оглянулся — Лидочка. Кто-то толкается за спиной, ругается. Медленно поднимается, вырастает белый Лева. Утащили его за трубу. Он лежит, дышит в небо.
Я только сейчас узнал Жигана. Он Леву снегом кормит, на меня глазами косит:
— Что? Испугался? Ты же мне ногами упереться не давал. А как же без упора?
Он Лидочке кивает:
— Спасибо вот этой, рыжей…
— Каштановая она,— говорю я. Жиган молчит, ссадины на руках зализывает.
Лева медленно от снега отряхивается, интересуется, где его очки?
* * *
В общем, пятнадцать рублей нам управдом отсчитал. За все крыши. «Девочка с двумя макушками» нашла Левины очки, сама в них посмотрела, потом протянула Леве.
Деньги управдом выдал, когда мы с Лидочкой последний снег сбросили. Жиган ради: нашего кино один оголил целую крышу. Славик вместе с Левой дружков-приятелей организовал, и они с песней «Ах, куда ты паренек, ах, куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты…» весь снег свезли во двор и уложили красивой египетской пирамидой.
— Ну как, Алеша?— прихлопывает Славик лопатой пирамиду.
— Хорошо,— говорю я и вижу, как из парадной выходит Левина мама. Зовет его. Он идти не хочет. Она чуть постояла, потом удалилась. Лева плетется уныло домой. Оглянулся, нам руку поднял и скрылся в темном парадном.
— Всыплют ему?— интересуется Славик. Мы плечами пожимаем: кто знает?
А тут в калитке Женька. Веселый, добрый.
— Ребята!— кричит он.— Натюрморт во получился!
Он усаживается прямо на снежную пирамиду и рассказывает нам, как удивился директор «Овощей — фруктов», как удивились прохожие и даже удивился «один проходящий мимо настоящий художник»,
— Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!
— Мировецки!— закончил Славик и спросил адрес магазина.
— Ну-ка, давай сюда деньги,— снимает варежку Лидочка. Женька отдает.
— Так,— прикидывает Лидочка.— Это сто и у нас пятнадцать. Еще Славик три рубля за бутыль получил.
Мы еще никогда не видели сразу столько денег. Просто у нас их не было.
— Неплохо бы сейчас ситро или орехов в сахаре,— куда-то в небо смотрит Славик.
Лидочка все наше богатство запихивает в варежку, объявляет:
— Ну вот что, друзья. Директор у нас есть. Операторы есть, художник есть, вон он, Женя. А я буду бухгалтером.
— Не тяжело тебе будет?— сомневаюсь я.— И режиссер и бухгалтер сразу.
— Ничего,— говорит Лидочка.— Справлюсь.
— Конечно,— рассуждает Славик,— сейчас можно только ситро, а орехи потом.
— Нет!— вот и все, что сказала Лидочка. Славик снежок лепит. Мы помалкиваем.
За спиной голос Жигана. Облокотился на сугроб, дымок кольцом пускает:
— Жмоты, дайте ребенку на ситро. Он хорошо работал. Лидочка варежку на руку натягивает, говорит просто:
— Славик, это же на кино. Понимаешь, малыш? Это на пленку. Лева из-за этого чуть не разбился. А мы вдруг дадим тебе на ситро. Ну, потерпи. У меня дома компот есть, за окном. Холодный.
— Кто чуть не разбился?— спрашивает Женька.— Лева? Где он?
Мы рассказали Женьке обо всем, что случилось на крыше.
— Ну, так пошли к нему,— говорит Женька.
— Нельзя. Уже его мама все знает. Жиган садится в снег рядом с Женькой.
— Пусть мальчик ситро попьет и орехи съест,— шарит он в карманах,— держи, Славик, трешку.
Славик мнет трешку в кармане, на нас смотрит.
— Ну, иди, Славик,— говорит Лидочка,— пей свое ситро…
— Жмоты,— встает Жиган,— я же к вам по-хорошему. Пошли, Славик.
Славик в египетскую пирамиду шлепается, на нас не смотрит.
— Ну, пошли же, Славик,— просит Жиган.— И ситро и орехи — все будет.
— Славик,— тихо говорит Лидочка;
— А тебе, рыжая, что надо?— оборачивается Жиган.
— Каштановая она,— говорю я.
— Все вы тут каштановые!— вдруг орет Жиган.— А я что, рыжий? Я же к вам по-хорошему. Понимаете? Алешка? По-хорошему… А вы?
— Подожди, успокойся,— говорит Лидочка и садится рядом с Жиганом.— Ну, чего ты шумишь?
— Да я не шумлю… Так просто… И когда только ваше кино будет готово?
— Еще немножко. Так, директор?— спрашивает меня Лидочка.
— Ага!
Лидочка варежкой потрясает: .— На пленку! Кстати, Славик, давай-ка сюда деньги. Запихала все в варежку, смеется.
— Сколько будет теперь метров, директор?
— Много,— радуюсь я.
— Правильно, Алеша!— кричит Славик и падает на меня.— Давай бороться!
Все стали бороться.
* * *
Окончились наши каникулы. Еще денек, и все. Нас ждет «самая ответственная» четвертая четверть. В последний день каникул у меня дома заседает наш худсовет. Нонка учебники собрала, ушла на кухню.
Перед нами на столе тощий сценарий. Тоскливо оглядываю друзей:
— Ну, кто просит слова?
— Можно мне?— встает Женька.
— Валяй,
— В общем, мне сценарий нравится. Везувий есть, гладиаторы есть, все дерутся. Это очень хорошо. А где же Спартак?
— Как — где?— удивляемся мы с Левой.— Там, в сценарии.
Женька сценарий листает, руку в свой зачес:
— Тут на каждой странице слово Спартак… Да вот прямо под пальцем. Ну, а какой это был человек Спартак? Ну, какой? Что он хотел? Почему за ним пошли гладиаторы, почему он стал вождем?
— Ну, ведь там все написано,— говорим мы с Левой.
— Это верно,— соглашается Женька.— У вас все написано. А как же показать в кино?— Он шелестит страницами.— Вот послушайте: «Спартак любит свободу. Он презирает всякое рабство. Он хочет сделать во всем мире справедливость»… Ну, а как это показать?
— Очень просто,— говорит Лева и задумывается.— Очень просто,— говорю я и тоже думаю.
Алеша,— трогает меня Славик,— нужно побольше пороха..
— И чего вы думаете,— говорит через дверь кухни Нонка.— Возьмите и покажите вашего Спартака в цепях. Ведь он же был рабом? Так?
— Так,— соглашаемся мы.— А где цепи найдешь? За дверью тишина.
Мы тоже задумались. Все могут найти мальчишки, а вот настоящие цепи никому не попадались.
— Дожили,— громко вздыхает за дверью Нонка,— Обыкновенных цепей не найдешь.
— Можно от часов-ходиков,— предлагает Славик.
— А если поумнее?
— Давайте сами,— обижается Славик.
— А кто будет играть роль Спартака?— оглядывает нас Лидочка.— Уж больно вы все тощие. Вот только если Лева, да у него очки. Глупо же: Спартак — и вдруг в очках.
Мы согласились. Поддакнул и Лева.
— Можно Бахилю пригласить?— предлагает Мишка.— У него плечи во какие!
— Нельзя, для Спартака нельзя.
— В карты играет…
— Играл, а больше не играет,— заступаюсь я.— И вообще мне его жалко. Бросили мы его.
— А мне Жигана жалко,— вдруг говорит Славик.— Он добрый и еще смелый. Вот.
Нонка из кухни встревает:
— А куда вы Гогу дели? Он ведь ваш товарищ. Такой вежливый… Всегда «здрасьте» скажет.
— Ну, и здоровайся с ним сколько влезет. Тоже мне, Гога — гладиатор. Целуйся с ним.
— Все ясно,— говорит Нонка,— слышу голос моего братца. А как поживает твоя Ларисочка?
— Не будем отвлекаться,— встает Лидочка.— Давай, директор, пиши список артистов.
Я пишу, все мне советуют, помогают. Вот что у нас получилось:
«Действующие лица: Спартак — Сергей Бахиля.
Гречанка Эвтибида, из-за которой погиб Спартак,— Лариса Шатрова.
Крикс, полководец армии Спартака — Евгений Кораблев. Граник, полководец армии Спартака — Михаил Жаров. Сын Спартака — Славик.
Сулла, враг Спартака — Лева Гоц (узнать насчет очков). Валерия, любовь Спартака — Лидочка Кудрявцева. Кассий, враг Спартака — Гога из «дом пять». Шпион — граф де Стась Квашнин. Восставшие гладиаторы — все ребята нашего двора. Враги Спартака, римские легионеры — все ребята из «дом пять».
Знатные римские женщины — Зина и Клава со двора кинотеатра «Кадр».
— А ты, Алеша, чего будешь делать?— спрашивает Славик.
— Я директор. Директор не снимается.
— Правильно,— подтверждает Лидочка,— директоры не участвуют, только их жены снимаются. Ну, все как у мамы в театре.
Славик отбирает из моих рук карандаш, старательно затачивает с двух сторон.
— Значит, завтра в школу,— недоумевает Женька.— И куда только делись эти каникулы?
— Как — куда?— удивляется Лидочка.— У нас есть аппарат, есть киносценарий и есть деньги на пленку. Чего же вам еще? Вот будут летние каникулы, и начнем съемку «Спартака».
В дверь кто-то стучит. Нонка там разговаривает, потом к нам в комнату. Конверт на свет рассматривает.
— Странно,— бормочет она,— вот уже и письмишки появляются. Это тебе, Алешенька.
На конверте четким почерком мой адрес, и внизу: «Директору киностудии «Плющихфильм» Алеше Грибкову». А вверху: «3 а к а з н о е».
Упал на стол листочек. Лидочка подхватила, читает:
— «Дорогие ребята! Окончились ваши каникулы… Как отдохнули? Что с вашим кино? Я сейчас в командировке у наших шефов, в колхозе. Рассказала мальчишкам про вас, про ваше кино. Они не верят: говорят, что киноаппарат можно сделать только на заводе. А я разозлилась. Повела их в кузницу. И прямо на железках доказала, что все можно построить…
Сейчас им рисую всякие «мальтийские кресты и грейферы». Сама ничего не понимаю, а они схватывают. Если можно, пришлите им письмо. Пробуду еще с неделю. Сейчас готовимся к весеннему севу. Хорошо бы ваш «Плющихфильм» на один день стал студией документальной кинохроники. А?
Выйдут в поле тракторы, а на них рядом с отцами колхозные ребята. И еще колхозный оркестр организовали. Горнист перед началом сева протрубит на поле сигнал «Слушайте все!». Пойдет первым трактор, который ребята сами отремонтировали. У него прямо на борту написано: «Спартак». Еще у них есть трактор «Овод» и «Но пасаран!».
Алеша, большой привет всем ребятам. А Славика спросите, сколько будет 7X9?
До скорой встречи! Наташа.
И еще: сейчас уже, считайте, апрель, А двадцать второго » числа, в день рождения Владимира Ильича, вас будут принимать в комсомол. Ясно? Ну, то-то! Целую вас. Наташа».
Я письмо держу, все молчат. Женька просит:
— Давай-ка еще раз. Я прочитал еще раз.
— Ура!
— Ха-ха!
— Банзай!— вскакивает со стула Мишка.
— Мировецки!— сказал Славик и приуныл. Лидочка его утешает:
— Тебе же приятно будет, что твои друзья комсомольцы,— ерошит она чубчик Славика.
— А вы тогда меня не бросите?— осторожно косится Славик.
— Ну, что ты,— целует его Лидочка.
— А на свои собрания пустите?
Лидочка нетвердо обещает.
— А я все равно проберусь,— упрямо решает Славик,— вы и не заметите.
— Ну, и молодец,— говорю я.
Славик повеселел, нам подмигивает:
— А знаете, можно настоящую цепь в «дом пять» найти. Там собака к конуре прикована. Ее Тигр зовут, но она дворняжка. Совсем не страшно.
В комнату Нонка с учебником заглядывает:
— Вы чего тут шумите?
— На письмо, читай! Нонка прочитала:
— Ну, и чего вы орете?
— Нас всех в комсомол будут принимать! Сама Наташа пишет.
— Всех?— переспрашивает Нонка.
— Ну, вот только Славика пока нет, а так всех,— оглядываю я своих друзей. Довольная Нонка тоже всех нас осматривает, пошла в кухню.
— Алешка, пойди на минутку,— говорит она из-за двери,— тебе сколько было велено купить керосина?
Я сразу в кухню. Сегодня моя совесть чиста.
— Три литра!— кричу я.— Проверь, пожалуйста!
— Тише,— говорит Нонка и усаживает меня,— а если Мишу не примут?
— Чего?
— Тише,— повторяет Нонка и на дверь оглядывается.— А если Мишу не примут? Что вы будете делать?
Я все понял. Как-то вдруг холодно стало в нашей кухне.
— Не знаю, Нонка… Может быть, Наташа… Ведь же она сама письмо писала. Ну, всех, значит, и Мишку?
Она учебник вверх ногами листает, трет пальцами виски.
— Ну ладно, иди к ребятам.
— А керосин, Нонка?
— Иди ты со своим керосином… Все равно знаю, что меньше покупаешь. Мама заметила, да молчит. Все на свое кино. Катись!
— Чего ты такой, Алешка?— спрашивает Женька.
— Да вот насчет керосина…
— Чудак,— говорит Мишка,— керосин же сразу по уровню заметят. Лучше вес… картошка… Только потом сам чисть и тоньше срезай.
— А мне Валька Дзынь рассказывал,— делится Славик,— купил крыжовник, побрил его настоящей бритвой и получился виноград.
Мы все хохочем. Мишка громче всех. …К концу подходят наши каникулы. Еще денек, и все. Снова в школу.
* * *
…Окончился наш короткий отдых. Еще полдня и ночью снова выступаем на передовую. Сейчас до нее совсем близко. Грузовики уже не потребуются. В клубе от приглушенных взрывов снарядов начал подрагивать занавес с серебряными звездами.
Григорий Иванович появляется хмурый, сумрачный. Проверил наше оружие, снаряжение. Отругал Женьку за стертую складкой портянки ногу.
По улице села медленно тянутся повозки, машины с ранеными. В них бойцы все больше в синих брюках: ленинградский комсомольский добровольческий.
И вот мы снова в окопе.
Окоп совсем свеженький, необстрелянный. Никаких полочек для патрон, никакой маскировки.
На дне окопа Пончик нашел девичью косынку, а я — Туфельку с оторванной подошвой.
Григорий Иванович поясняет.
— Девчата наши копали. Студентки из Москвы.
По рукам от бойца к бойцу пошли вдоль окопа косынка и эта рваная туфелька.
Не знаю, кто что подумал. А мне вспомнилась Лидочка.
Впереди окопа снова деревня. Там опять фашисты. Изредка посылают мины, и больше ничего. Наверное, готовятся к атаке.
Мы тоже готовимся. У нас в окопе появились бронебойщики с длинными противотанковыми ружьями. Связисты протянули к нам телефонный провод. Новенькие станковые пулеметы густо замаскированы вдоль всего окопа. Около них спокойные, неторопливые, знающие себе цену пулеметчики-кадровики.
Пулеметы застыли стволами в сторону деревни.
Даже невооруженным глазом видны тропинки, что петляют от изб до дверей белого здания с большими окнами. Наверное, это школа. Каждое утро шагала с книжками по этим тропинкам детвора. Каждое утро до двадцать второго июня. А сейчас у них каникулы. И неизвестно, когда они кончатся.
Если смотреть в бинокль и четко его настроить — видно, как заросли тропинки. Где же вы, мальчишки и девчонки из этой школы? Или в подполах прячетесь, а может, ушли с родителями к партизанам? В одном окне что-то темное, круглое. Может быть, глобус? А что же сейчас в этой школе?
* * *
В классе Пелагея Васильевна спрашивает, кто и как провел каникулы.
Гога рассказывает, как он много читал, какие он делал выписки из классиков, в каких побывал театрах и даже успел посетить какую-то выставку, где любовался чудесными полотнами.
— Какими полотнами?— спрашивает Женька.
Гога говорит, что вот так вдруг сразу ему не вспомнить. Нужно подумать.
— Так,— говорит Пелагея Васильевна,— кто еще расскажет о своих каникулах?
Встает Лариска. Она рассказывает нам, как попала на «закрытый концерт». Там сидели очень большие люди с папиной работы, и для них пел очень известный тенор.
Женька фыркает. Пелагея Васильевна хмурится.
— Так, хорошо,— говорит она,— кто еще? Класс молчит, переглядывается.
— Вот ты, Алеша?— спрашивает Пелагея Васильевна. Женька меня толкает: мол, вставай.
— А у нас, Пелагея Васильевна, чечетка на фанере была и еще одна девочка здорово читала из «Княжны Мери». А вообще мы построили киносъемочный аппарат, и у нас теперь есть пленка и сценарий. И еще, Пелагея Васильевна, Наташа из райкома письмо прислала, говорит, что нас всех примут в комсомол.
— Подожди, Алеша,— садится она за нашу парту,— какая чечетка? Какая фанера?
Тут Женька, Лидочка, Мишка. В общем, все начали в один голос. Я хочу объяснить, а они сами объясняют.
— Вот письмо, Пелагея Васильевна, почитайте!
— Ну-ка, потише, ребята,— говорит она и разворачивает письмо.
Я угадываю, где она читает. В каком месте? Вот сейчас до конца дойдет. А может быть, не все поймет? Встала, пошла к своему столу, пенсне сняла и сразу какая-то не такая. Сидит, мелом руки пачкает.
— Вот вы и выросли,— просто говорит она. Потом долго доску осматривает. А на этой доске царапин, зигзагов полно. Когда-то она была совсем новенькая, а потом мы ее мелом расчертили, замучили. Одни из нас несмело елозили, другие громко точки ставили. Сколько на ней на переменках разных карикатур рисовали. Потом тряпкой сотрем и вроде все хорошо. Правда, мел исчезает, а царапины — никогда.— Вот вы и взрослые,— повторяет Пелагея Васильевна. И крошится мел на ее все то же новое платье.— Миша,— говорит она,— давай-ка к доске.
Мишка у доски. То на нас, то на доску спокойно смотрит и выжидательно на Пелагею Васильевну.
— Пиши, Миша, пишите все: «Как я понимаю мужество?»
Мишка на носки привстал, пишет. У самой верхней планки старается.
— Большой ты, Миша, стал,— говорит Пелагея Васильевна.
Мишка молча согласился. Ждет, что дальше.
— Объясни, что написал?
— Значит, так,— начинает Мишка,— ну, мужество — это, значит, когда тебе очень трудно, а ты…
И замолчал наш Мишка.
— Продолжай, Миша…
— Значит, ни слез и ничего. Так?
Она молчит.
— Ну, вот, значит,— продолжает Мишка,— ни слез и ничего… такого.
— Можно дополнить,— вдруг тянет руку Гога.
— Пожалуйста, Гога.
Он встает, отряхивается:
— В общем, мужество — это как в Древнем Риме. Там был такой Муций Сцеволла. Он руку в огонь сунул, а тайну не выдал. Или еще, Пелагея Васильева, вот как спартанцы. Одному лисенок живот выгрыз, а он все стоял и терпел.
Гога сел.
— Мужество от слова — мужчина. Правильно, Пелагея Васильевна?— ерзает Лариска.
И кто меня дернул — сам не знаю:
— Слушай, ты, Сцеволла, когда с крыши снег бросали, где ты был? Тебя же звали, тебе кричали?
— Я не слышал…
— Конечно, он не слышал — говорит Лариска,— ведь высоко же…
— Врет! Слышал!
— Тихо, ребята,— встает Пелагея Васильевна.
— Мы тихо.
— Завтра вас принимают в комсомол.

Завтра нас принимают в комсомол.
— Нy-ка, Нонка, пожалуйста, рубашку.
— А я что тебе, обязана?
— Нy-ка, Нонка, пожалуйста, самую лучшую.
— Грей утюг сам. Я тебе не обязана.
— Нонночка, нас принимают в комсомол...
— Всех?
— Нонночка, конечно, всех.
— Давай воды и прыскай…
Прыскаю.
— А брюки?
— Вот тебе, Нонночка, и брюки.
— Горе мое…
Я соглашаюсь.
Во дворе, на нашей скамейке — Первое мая.
Все наглаженные, все красивые, все какие-то весенние.
— Нy, пошли,— оглядев нас, говорит Лева.
— А я?— спрашивает Славик. Как то мы его не заметили.
— Дай руку, Славик.
Все вместе мы идем в наш райком комсомола. В наш Киевский райком. К Наташе.
Гога спотыкается, запоминает:
— Кого в комсомол принимают? Значит, так… Самых стойких…
Мы идем.
— А меня в тапочках пустят?— спрашивает Славик.
— Впустят, Славик.
Вот и наш райком. Сияет у входа стеклянная табличка,
И коридоре, гулко и прохладно.
— Какая дверь?— шепчет Мишка.
Мы на свою дверь показываем. Там, где Наташа. Лидочка тянет куда-то влево, в глубь коридора.
— Вон там,— говорит она.
Из большой двери какой-то парень вышел. Хмуро прошел мимо, на нас не глянул.
И вдруг из двери наша Наташа. Засуетилась, всем воротнички поправила, а Мишку поцеловала:
— Сейчас вас принимать будут,— рукой «рот фронт» делает,— ну, мальчишки?
Мы тоже делаем «рот фронт».
Она за дверью скрылась. Мы себя оглядываем. Лидочка Мишкин воротничок пришлепала. Дверь открылась:
— Товарищ Грибков.
Никто, никогда меня так не называл.
— Товарищ Грибков!— говорит какая-то вся в белом девушка.— Пожалуйста.
Ребята подталкивают: иди же. Иду.
Длинный стол. За ним люди.
— Садись, товарищ Грибков. А куда садиться? Куда-то сел.
— Как у тебя с социальным происхождением?
— Ничего,— говорю я.
Они бумаги листают. Наташа мне улыбается.
Дверь открылась, вошел тот хмурый, усаживается почти в середине, рукава рубашки засучивает.
Наташа ему бумаги подсовывает. Он согнулся, головой поводил, потом на меня смотрит:
— Пусть расскажет биографию.
— Давай, Алеша,— кивает Наташа,— рассказывай. Я рассказываю.
— Так,— говорит хмурый.— Ну, а что такое нэп?
— Новая экономическая политика.
— Хорошо.
Он еще думает, а я на Наташу смотрю. Она рот за ладошкой спрятала, подмаргивает.
Какая-то девушка на всех смотрит, тихо говорит:
— Вот Наташа их всех знает.
— Я знаю этих ребят,— встает Наташа,— Алешу, Леву, Мишу, да они сейчас все сами за дверью. Позвать?
— Да нет, зачем, Наташа,— говорит который в самой середине. Из-за стола выходит и мне руку: — Поздравляю вас, товарищ Грибков. Вы теперь комсомолец. Да держи же крепче билет.
— Спасибо,— говорю я. Все смеются.
— Кто там следующий,— говорит хмурый,— пригласите. Я дверь нашел.
— Ну, как?— спрашивают ребята.
— Вот!
Все билет рассматривают.
— Товарищ Кудрявцева,— приглашает Лидочку девушка в белом.
Ушла Лидочка.
Мы даже мой билет не успели рассмотреть, как уже пошел по рукам Лидочкин.
— Ой, мальчики,— смеется она,— ну, дайте же!
Снова дверь открылась. Вышел тот хмурый, заторопился по коридору.
— Товарищ Жаров,— объявляет в дверях девушка,— Пожалуйста.
Пошел наш Мишка. Потом тот хмурый обратно прошел. Дверью хлопнул. А она отошла, и нам все слышно:
— Расскажи биографию.
Мишка рассказывает.
— А где отец?
Тихо там. Стулья поскрипывают. Голос Наташи:
— У него не родной отец.
— Так это не родной отец? Ну, чего же ты молчишь? Так бы сразу и сказал.
Там долго очень тихо.
— Нет, родной,— говорит Мишка. Девушка и белом дверь закрыла.
— Вот дурак-то!— шепчет Гога.— Зачем же он так сказал? Мы друг на друга смотрим, ничего не понимаем.
— А что случилось?— теребит нас Славик.— Чего же вы молчите? Алеша?
Дверь открылась, Мишка рукой загородился, идет сквозь пас. Я только вижу длинный коридор и Мишкину спину в белой отглаженной рубашке.
— Ну, чего же вы?— толкает нас Лидочка.— Бежим!
Мы догнали Мишку у выхода. Славик его руку от лица отнимает.
— Не приняли,— дрожат у Мишки губы.
Мы молчим. Рядом оказалась Наташа. Прижала к себе Мишкину голову, тихонько гладит:
— Ничего, Миша… ничего, мой мальчик… Все пройдет. Тогда и вы не вступайте,— вдруг расплакался Славик,— не вступайте, и все. Алеша?
— Нельзя так, Славик,— тихо говорит Наташа,— все будет хорошо. Мишу примут. Обязательно примут. Ты слышишь, Миша? Тебя примут.
— Это еще как сказать,— сомневается Гога.
Мишка сухими глазами смотрит на всех нас. Он верит и не верит.
— Наташа,— шепчет он,— ребята…
Лидочка его руками обняла, теребит:
— Тебя зачем Пелагея Васильевна к доске вызывала? Ты понял? Ну, вчера же дело было. Ну, сочинение про мужество писали? Помнишь?
Мишка молчит.
— Это когда про Муция Сцеволлу я рассказывал,— поясняет Гога,— забыл, что ли?
Мишка молчит.
— Да ничего он не соображает,— машет рукой Гога.— Ну, я побежал, сейчас меня…
И вдруг я вижу в коридоре знакомую фигуру. Это Пелагея Васильевна. Идет в нашу сторону, близоруко читает таблички на дверях. Потом нас увидела, заторопилась.

— Ребята, Пелагея Васильевна!— толкаю я друзей. Она подходит, растерянно улыбается. С Наташей за ручку, всех внимательно оглядела, Мишку по щеке потрепала и вдруг забеспокоилась:
— Мне же в райсовет нужно. Это на каком же этаже, Наташа?
— Райсовет выше, Пелагея Васильевна. Она было пошла, потом вернулась:
— Да, я совсем забыла. Проверила ваши сочинения «Как я понимаю мужество?». Накрутили кто во что горазд. Вот только один Миша написал на «отлично».
Она ему прическу взъерошила, заторопилась.
— Ну, я пошла. Значит, этажом выше?
И пошла по коридору прямая, строгая наша Пелагея Васильевна.
— Миша,— радуется Лидочка,— поздравляю. У тебя же «отлично».
Мы все поздравляем, тормошим Мишку. Только Славик в окно смотрит, удивляется:
— Как же так? Ей второй этаж, а она на трамвае хочет? Вон стоит на остановке. Ждет. Почему это, Алеша?
* * *
Мы ходим по школе с комсомольскими значками. Славик где-то позади водит за нами свою вихрастую компанию.
Когда мы собираемся у окна возле нашей батарейки, то Славик с компанией на почтительном расстоянии. Иногда он осмелеет, подойдет к нам и, оглядываясь на своих дружков, спросит:
— Ну как, Алеша?
— Хорошо, Славик,— говорю я.
— Ну вот,— сопит Славик, потом руки за спину, направляется к дружкам.
Мишка на переменках почти не выходит. То они вместе с Лидочкой за партой сидят, то с указкой проверяют друг друга по лохматой географической карте.
— А как добраться до Магадана?— спрашивает Мишка. И Лидочка, спотыкаясь кончиком указки, ведет длинную линию от Москвы на Дальний Восток.
— Почему до Магадана?— спрашиваю я.
— Так, Алешка. Уеду летом. Насовсем. Объявление видел. Требуются туда люди. Поступлю в рыбаки… Может быть, с отцом встречусь.
— Письма от него получаешь?
— Были… А теперь нет.
— Ну, еще напишет,— говорит Лидочка.
Далеко Колыма от Москвы. Где-то останавливается, а потом все-таки идет к Мишке письмо. Если в ящик опущено, то придет…
А если?..
Мы не отвечаем.
* * *
…На войне погибают просто. Как застанет пуля, так и падает боец. Мы уже месяц воюем, и я ни разу не видел, чтобы над умирающим картинно склоняли солдаты обнаженные головы, ни разу не слышал торжественных слов, вроде «отомстите за меня, отомстите за Родину!». Я только одни раз видел в атаке развернутое знамя полка. Не поднимались мы с земли под звуки сигналов боевой трубы.
Иногда мы слышали последние слова смертельно раненных. Это была просьба сообщить родным, как все случилось. И мы сообщали, хотя и наспех, но писали все честно. Каждый убитый для нас был героем. А кто же он еще, если остановил полет пули, предназначенной для другого.
В отступлении всегда хочется есть, а больше всего мучит жажда. Сколько легких, безнадежно пустых фляжек мы перетрогали на поясах убитых. Сколько раз тоскливо ощупывали вещевые мешки на их спинах. Ощупывали и обманывались: вместо хлеба — запасные портянки!
Наша полевая кухня все время где-то отстает. Но все-таки кто-то о нас думает, заботится. То нам раздают в пачках пшенные концентраты, сухари, а вот сейчас по окопу разносят в касках сахар.
Сахару мы потребляем очень много. На сахар можно выменять что хочешь: конверты, папиросы, карманное зеркальце и даже удобную гранату-лимонку.
Все наши роты сейчас несут большие потери, но ловкие старшины ухитряются получать сахар даже на убитых. Мы уже привыкли слышать, как наш старшина наставляет своих добровольных помощников:
— Берите и на Филиппова, и на Громова, и на Воробьева…
А ни Филиппову, ни Громову, ни Воробьеву уже давно сахар не нужен…
С каждым днем это число фамилий удлиняется.
Невольно подумалось страшное: кто будет есть сахар, полученный на меня, на Женьку…
Кадровые бойцы научили нас делить сахар по справедливости, без обиды. На шинели несколько кусков сахару. Один из нас, отгадчик, отворачивается. Кто-нибудь накрывает кучку сахару ладонью, спрашивает: «Кому?» Отгадчик, не оборачиваясь, говорит кому. И так дальше, пока на шинели не останется лишь сахарная пыльца.
Делить сахар тоже надо уметь. Сам не догадаешься — научат. Сколько их было в моей жизни! Мама, Пелагея Васильевна, Наташа. И вот сейчас Григорий Иванович.
Тихо на нашем направлении. Ни визга мин, ни свиста пуль. Сидят бойцы на корточках. Большие рабочие руки спокойно лежат на винтовках.
Я разглядываю руки Пончика. С чем они встречались? Карандаш, тетради, чернила, лыжные палки, может быть, и горячая в рукопожатии девичья рука. И сейчас — винтовка.
Григорий Иванович дремлет. Одна рука на земле, другая — на винтовке. Наверное, много всего видели его руки. Он один глаз из-под каски приоткрывает:
— Ты чего, Алеша?
— Да так,.. Думаю. Спите, Григорий Иванович. Пригнулась к груди голова политрука.
Я свои руки рассматриваю: это хорошо, что я пошел на завод работать. А было так.
* * *
Все чаще и чаще все мы в классе задумываемся о работе. Ведь мы уже почти взрослые. Скоро паспорта получим, Гога, Лариска, Лева будут кончать десятилетку, а я, Женька, Мишка и Лидочка решаем после семилетки распрощаться со школой.
Меня на завод тянет, в школу ФЗО. Стану «фабзайчонком», а по вечерам буду ходить в школу рабочей молодежи, как Костя. Женька бредит киностудией «Мосфильм», говорит, что при ней есть такое ФЗУ, где готовят декораторов и бутафоров. Лидочка мечтает о театральном училище, а Мишка твердо решил стать рыбаком, даже привычку взял из школы проходить мимо витрины рыбного отдела нашего «Гастронома» N 2.
* * *
Моя мама за то, чтобы я закончил десятилетку. Поговаривает она об этом неуверенно, и я знаю почему.
Как то вечером, засыпая, слышал их разговор с Нонкой.
Мама:
— Опять всю нашу прачечную на заем подписали.
Нонка:
— А ты бы не подписывалась.
— Стыдно. Ведь у нас все подписываются.
Нонка тяжело вздыхает:
— У Алешки скоро экзамены. Ботинки бы ему новые.
— Я тапочки присмотрела,— говорит мама.— На резине, но аккуратные, синенькие.
— Может, мне все-таки бросить институт,— задумывается Нонка.— Уйду работать,
— Что ты? Что ты?— пугается мама.— Я на дом белье начну брать. Как-нибудь,..
— Не надо брать на дом,— говорю я,— я пойду работать. Вот и все.
Кто-то за занавеской чуть всхлипывает.
— Тише вы,— говорю я.— Дайте поспать человеку. За занавеской тихонько смеются.
— Спи, Алешенька,— говорит мама,— спи, сынок.
* * *
Мы почти забыли про наш киноаппарат: приближаются экзамены. Наши первые в жизни экзамены.
Во дворе, прямо на земле и даже на асфальте тротуаров нашей улицы мы чертим щепкой, мелом или просто кирпичным осколком фигуры треугольников, ромбов, параллелограммов, обозначаем их углы буквами и начинаем друг другу доказывать, почему эта бойкая, шустрая биссектриса «бегает по углам и делит угол пополам».
Славик со своей компанией сейчас от нас на почтительном расстоянии. Создает во дворе тишину и, когда надо, тщательно стирает подошвой написанное, отходит, уступает место следующему азартному математику.
Иногда он намекает Лидочке, что неплохо бы из денег, что хранятся для покупки кинопленки, сделать вычитание. Например, для покупки пугача системы «Маузер».
Лидочка неумолима. Славик недолго думает и предлагает снова:
— А давайте купим самокат. Аппарат перевозить. Лидочка отказывается.
— Ну, хоть что-нибудь купим,— изнывает Славик.
— Зачем?
— Просто так.
Мы решаем положить конец нытью Славика, да и самим нужно уйти от соблазнов купить «что-нибудь». И вот в выходной день мы в фотомагазине закупили на все деньги нашу кинопленку.
Решили начать первую пробу аппарата сразу после экзаменов.
На следующий день первым не выдержал Женька. Только что у меня дома мы с ним выяснили, какие бывают увеличительные суффиксы, как Женька с робкой надеждой спрашивает:
— Может, зарядим и чуть крутнем? А? Я упорствую.
— А чего нам ждать, когда экзамены кончатся?— горячится Женька.— Понимаешь, мне ничего сейчас в голову не лезет. Вот ты рассказываешь про увеличительные суффиксы, а для меня они уменьшительные. Да хоть бы они совсем исчезли. Давай крутнем? А?
Я раздумываю.
— Знаешь,— торопится Женька,— я тебя сниму. Ты будешь руки и ноги поднимать. Идет?
Мы осторожно пробрались через двор в наш сарай, закрылись. Не успели зарядить кусок пленки, как в дверь отчаянный стук. Мы замерли.
— Откройте,— это голос Левы,— вы что там делаете?!
Мы молчим.
— Откройте сейчас же! Я тоже хочу крутнуть.
— Лева,— не выдержал я,— Лева, шел бы ты заниматься, Ученье — свет, неученье — тьма.
Теперь уже в дверь колотят сильнее, и мы слышим голос Лидочки:
— Думают, что я их из окна не видела?
— Ну, и входи,— говорю я.
— Ну, и войду. Только сначала дверь откройте.
Открыли.
— Заряжаете?
— Не мешай.
Женька обернулся, сердится:
— На зубцы не попадает.
— Ты поторопись,— советует Лидочка,— попадет.
Опять в дверь стучат.
— Пустите!— пищит Славик.
— Ну, входи, молекула!
Славик уселся на поленьях, притих.
— Ну, что у вас тут не получается?— спрашивает хозяйкой Лидочка.— Какие зубцы?— и лезет в наши шестеренки.
— Не лезь! Прищемит!
А она лезет.
— Не лезь, пискля!
— Я не пискля,— повернулась Лидочка.— Ты пискля.

Значит, я пискля… …Ни у кого в батальоне не осталось санитарных пакетов… Котелок каши выдают с верхом на каждого бойца: повар не стратег. Не мог предвидеть наших потерь. Засыпал полный котел, и ладно.
Настроение подавленное. Люди словно оцепенели. Не хочется говорить, не хочется слушать. Григория Ивановича нет. Вызвали зачем-то на командный пункт.
И вот тут в окопе показался наш любимец, балагур, сержант Березко. Рука на свежей перевязи, а сам веселый. Ему все нипочем. Лишь бы сейчас не рассказывал своих басен. Не время.
— Ну, как?— спрашивает он и глазами ищет место. Мы угрюмо подвинулись. Он уселся на корточках, большой, грузный. За ворот шинели земля сыплется — не замечает.— Григорий Иванович прислал настроение вам поднимать,— крутит он головой во все стороны.— А как, не сказал.
Мы молчим. И только Женька Кораблев сказал хмуро:
— Давай, начинай как-нибудь.
Березко куда-то вдоль окопа всматривается, беспокойно трогает ворот шипели, морщится.
— Ну, так я придумал. Сурприз, как говорят французы. (Он так и сказал «сурприз».)
Мы переглядываемся: может, приказ отойти на отдых?
— Давай не тяни,— просит Женька. Березко не садится, привстал, кому-то крикнул:
— Харченко! Не несут? Направляй в эту роту в первую очередь.
— Знаю,— слышим мы. Березко уселся поудобнее, взглянул на часы, сказал:
— Минут через пять отправитесь домой, но не надолго, потом опять в строй.
Он опять привстал, приставил руку рупором:
— Харченко! Ну, где ты там?
— Несу!— слышим мы.
И вдруг вдоль окопа понеслось:
— Почта! Почта пришла! Рота зашевелилась, ожила.
Раньше я никогда не думал, сколько может принести людям желанного, теплого обыкновенный конверт. И даже не надо спрашивать товарища, что он сейчас читает в письме.
Кажется, сами строчки писем медленно проплывают по лицам бойцов. Увлажняют глаза, тихо трогают губы, заставляют смотреть на наш разбитый окоп далеким невидящим потеплевшим взглядом.
Березко перебрал груду конвертов, безнадежно махнул рукой, вздохнул, отвернулся: ничего нет нашему сержанту. Он собирает оставшиеся письма, не нашедшие своих хозяев, складывает их в каску, сердится:
— Харченко! Ну где ты? Пошли доложим политруку: задание выполнено.
У меня в руках письмо. Много листочков из тетради «в клеточку». На листках ни единой цензорской помарки. Может, проскочило письмо мимо цензора, а может, там поняли, что письмо материнское и никаких военных тайн не содержит.
В темноте с трудом разбираю строчки.
Мать пишет, что Москву уже бомбили.
«Ничего, не страшно. Только сирена противная. У нас во дворе никто из женщин не испугался. Спрятались все в метро. А когда вылезли, то узнали, что одна бомба попала в дом в Проточном переулке. Знаешь, такой большой, серый, на углу? Наши женщины ходили смотреть и я с ними. Не очень страшно. Вот только странно видеть разбитый дом, а на дверях объявление управдома: просит в срок уплатить за квартиру.
И еще в метро надо брать с собой воду и для детишек — игрушки. Теперь мы это уже знаем. По радио говорили, что вы все отступаете. Мы каждый день на карту смотрим. Даже страшно. Что же вы так, сынок? Чем вам помочь? Лева Гоц ходил в военкомат. Его не взяли по глазам. У нас теперь все дают по карточкам. Это даже удобнее. А то, сам знаешь, когда что успеешь купить, а когда забудешь. А уж, если карточки, то ничего не забудешь.
Сегодня по радио передавали про наших летчиков. Очень они смелые. Хорошо бы, чтоб летали пониже. Ведь разобьются.
Вчера приходил к нам управдом. Говорит, что немец близко. Сказал, чтобы я замыла вашу надпись в парадном. Помнишь, вы еще маленькие мелом написали: «Штаб 25-й Чапаевской дивизии». Я его отругала, сказала, что сдам в милицию за панику. Испугался, ушел. Надпись я оставила.
У нас в Москве все затемнено и все ходят с противогазами. Я тоже хожу и Нонка. Она объясняла мне, как надевать маску. Я в зеркало глянула и плюнула. Страх господний. Отдала противогаз нашей дворничихе. А ты носи. Слушайся командира.
Твой черный костюм вычистила, нагладила. Была у меня Лидочкина мама. Мы с ней сейчас подружились. Она очень простая, хотя и актриса в хорошем театре. Вместе печем оладьи и читаем письма от Лидочки и твои.

Лидочка сейчас около Ленинграда. Воюет медсестрой. Она хорошая девочка, и ты не смотри, что рыженькая.
Вчера поплакали с ее мамой и посмеялись вместе, когда вспомнили вашу самодеятельную киностудию. А потом опять сирена. И по радио говорят: «Граждане, воздушная тревога!» Он, который говорит, чуть волнуется. Не привык еще. А ему надо поспокойнее. Ведь ничего страшного. Только сирена противная. Какая-то горластая.
Я уже давно заметила, что всегда страшно тогда, когда не знаешь, от чего это. А когда знаешь, то не страшно.
Наверное, так же и у вас на фронте. Если что-нибудь очень страшно, ты узнай, что это такое. И все пройдет.
У нас по всей Москве расклеены красные плакаты. На них нарисованная седая женщина в красном платке. И написано: «Родина-мать зовет!» Один такой плакат мальчишки с нашего двора заклеили в конверт, узнали в домоуправлении новый адрес и послали твоему однокласснику Гоге в Ташкент.
Костю тоже на фронт взяли. Мы его с Нонкой проводили. У него же никого родных нет. Он взял твой адрес. Обещал тебя разыскать и воевать вместе. Он хороший, Костя. Ласковый такой и веселый.
Забежал к нам на минутку в военной форме. Я их с Нонкой вдвоем оставила, а сама ему за папиросами. Принесла папиросы, а он отказался. Говорит, не курит. А я и не знала. Ну, тебе их послала. Не получил еще?
А вот Жиган, как мне ни встретится,— все с папироской в зубах. На оборонном заводе работает. Бронь ему дали.
Может быть, ты тоже бросил бы курить? Беречь надо здоровье.
Вечерами с Нонкой в госпиталь ходим. Дежурим. Беру в свою прачечную их белье, гимнастерки. Стираю, штопаю.
Пахнут они землей, травой и еще солью. Твоя гимнастерка тоже такая?
Береги себя. Храни тебя бог. Если немец в тебя целится, ты не зевай, вперед старайся. Еще говорят, вам на фронте водку дают для смелости. Так уж ты не пей, сынок. Пьяный скорей попадешься на пулю.
По радио передавали, фашисты детишек и стариков живыми жгут. Смотри, чтобы винтовка была чистой. Хорошо железное натирать тряпочкой с мелом или тертым кирпичом. А будет керосин, то и керосином.
Старайся больше есть жидкого, горячего. Говорят, вместо сахара нам дадут по карточкам шоколад. Пришлем тебе. Это питательно, Только о тебе у нас с Нонной все думы. Вспомнили все твои проказы, шалости и очень смеялись.
В госпитале раненые рассказывают, что больше всего ранений от миномета. Старайся от него подальше. Береги себя. Держись вместе с товарищами, один не откалывайся. И делись с ними всем. Говорят, фашисты пленных красноармейцев мучают. Когда спать ложишься, то лучше снимай шинель. Разложи ее на землю и спи вместе с товарищем, а его шинелью укрывайтесь. Так теплее.
Вчера всю ночь дежурили на крыше. Нонка на самом верху, а я на чердаке. Щипцы нам раздали и рукавицы. Если зажигалка упадет, то ее щипцами — и в воду или в ящик с песком. Но вчера не бомбили. Всю ночь продежурили, а ничего не сделали. А ведь у всех свои дела.
Сейчас в Москве всем, кто военный, место в трамвае уступают. А они стесняются, не садятся. Один сел. Посидел, повертелся, потом встал, мне уступил. Вчера еду с работы в метро. Сидит рядом молоденькая женщина. С грудным ребенком. Кутает его в платок. Впереди себя смотрит и ничего не видит. Ее толкают. Она сидит и ничего не видит. А платок короткий — внизу не подоткнуть. Она все поправляет и поправляет.
Разговорились. Только что из роддома. Муж на фронте. Брызгалов его фамилия. (Нет там у вас?) Все, что было, на хлеб сменяла. Вот только и остался, что платок. Взяла у нее адрес. Знаешь, на Филях живет, рядом с тетей Варей. Пришла домой, собрала, что можно. Твой синий свитер тоже взяла. Везу узел. А там бараки одни. И темно уже. Толкаюсь везде с узлом. Думаю, женщина про женщину все знает. Спросила, где тут с ребеночком? Сегодня из роддома? Знают. Показали. Стучу. Открывает моя знакомая. Узнала, расплакалась.
Натопили с ней печку, чай вскипятили. Она все переживала, что без сахара…»
Письмо не дочитал. Нас с Женькой вызвали к командиру роты. Уходим в секрет. Получены последние инструкции, проверено оружие, снаряжение, и мы осторожно переваливаемся через бруствер окопа, ползем в темноту.
В секрете под страхом трибунала строжайше запрещено курить, разговаривать. Лежи неподвижно, слушай землю, траву, небо, воздух… Можно только думать.
Я думаю о маме, греет грудь ее письмо в кармане гимнастерки. Про карточки, про воздушные тревоги пишет с шуткой, не хочет меня расстраивать. Она всегда такая. Помню, мы еще были с сестрой маленькими, когда маму увозила «скорая помощь».
У ней был острый приступ печени. Лицо белое, потное, кусает губы. На прощание улыбнулась, сказала сестренке по скольку в день денег тратить и еще чтобы мне дала на «Чапаева».
Меня всегда удивляло, что мама очень быстро засыпала. Чуть голову на подушку и уже спит. А нам порой с сестренкой еще долго не спится. Хочется поговорить с мамой, пошутить с ней, послушать ее рассказы про прачечную, про своих подруг или просто разные случаи из жизни.
А один раз мама не спала всю ночь. Не спал и я. Накануне мы с мальчишками залезли в чужой сарай и утащили новенькие листы фанеры и старый керосиновый фонарь. Фанера нам нужна была для киностудии, а вот фонарь потянули просто так. Всех нас забрали в милицию, а потом домой пришел наш участковый дядя Карасев и все рассказал перепуганной маме. Она хотела поставить для него чаю, но он только кашлянул, поправил кобуру с револьвером и, тяжело топая сапогами, ушел.
Я во всем признался. Мама смотрела куда-то мимо меня, губы у ней мелко дрожали. Сестра уже давно уснула, а мы все сидим и молчим. Я чувствую, что мама не знает, с чего начать.
Она все вздыхает и вздыхает.
— Ну-ка встань,— просит мама. Я встаю. Она тоже встала.— Давай-ка померяемся.
Я никогда не мерился с мамой. С товарищами, с сестрой сколько угодно. А вот с мамой впервые. Как-то странно — мама и я почти одного роста. Я доволен, а мама молчит. Смотрит на меня и молчит. Мне неловко.
За окном светает. Мама сидит в пальто, в платке. Ей уже давно пора на работу, а она не торопится, сидит и рассказывает мне детскую историю про мальчика, который сначала украл пятачок, потом рубль, а потом еще больше и, наконец, докатился до тюрьмы. Я слушаю и думаю о том, что мама забыла, ведь мы же с ней почти одного роста. Зачем мне эта история для детей?
— Ты опоздаешь на работу,— говорю я.
— Сегодня опоздаю. Скажу директору, что разговаривала с сыном,— задумывается она.— Он поймет, он должен понять,
И только сейчас, здесь в секрете я вдруг подумал о том, как же в тот день она работала, если не спала ночь.
В этот вечер мама вернулась домой с билетами в кино на «Чапаева». Я уже смотрел этот фильм восемь раз, но с мамой мне особенно захотелось еще раз увидеть «Чапаева». Ведь она посмотрит впервые, и мне будет очень приятно ей все объяснить. Но объяснять не пришлось. Она все поняла не хуже меня. И когда в зале зажегся свет, я увидел заплаканные глаза. Как я любил в эту минуту маму, как я гордился ею.
Нас очень сблизил «Чапаев». Я ей часто рассказывал все, что узнавал о Чапаеве, все, что читал о нем в газетах, книгах. Она слушала внимательно, все понимала.
Однажды я взялся читать ей вслух «Тихий Дон». Старался скорее добраться до «самого интересного» и пропускал описания природы. Но мама заметила мою хитрость и пришлось листать страницы обратно.
— Я люблю природу. Не перескакивай,— попросила мама. Я вчитываюсь и начинаю понимать, как это красиво.
И вот сейчас ночью, лежа в секрете, я сам слушаю природу, вижу ее, уснувшую, величавую. Изредка ее покой нарушает мертвый бледно-зеленый свет ракеты. Это немцы предусмотрительно освещают свой передний край обороны, нервничают. Кто их звал к нам? Зачем моя мама сейчас пугается сирен, прячется в бомбоубежище, получает пайку хлеба по карточкам?
Мама пишет: «Ты не смотри, что рыженькая…» Просто мама еще всего не знает. Мы уже с Лидочкой наладили переписку. У меня есть от нее одно письмо, у нее — моих много. Мы сейчас все время отступаем и никак не найдет меня полевая почта. А Лидочку находит. Я ей все время шлю и шлю. Они стоят на одном месте. Держат Ленинград.
И никакой огонь их не сдвинет с места. Как же они отойдут, если мы отступаем? Когда же их тогда найдет полевая почта? Они дрогнут — мы упремся. Пусть нас всегда находят письма.
Мама учит меня держать оружие в чистоте. Я все понял, мама. Только исправным оружием можно бить врага. Только исправным безотказным оружием можно защитить того, кого сейчас греет мой синий свитер.
Мама пишет, что людей обычно пугает, страшит неизвестное. А когда все ясно, то ничего не страшно. Мне сейчас все ясно. Фашист — это враг. Врага уничтожают.
Высоко в черном небе приглушенно рокочут моторы. Это бомбардировщики идут над нашими головами бомбить Москву. Сейчас на подступах к столице их встретят наши «ястребки». И в кабине каждого истребителя сидят сыны таких же матерей, как и моя мама.
И хорошо, если сегодня в эскадрилью к нашим летчикам тоже пришла полевая почта.,
Меня тихонько трогает за рукав Женька:
— Не спишь?
Ищу его ухо:
— Вспоминаю…
Он чуть скользнул холодной каской по моей щеке и опять замер.
Мы слушаем землю, воздух, весь мир и, наверное, самих себя…
Лидочка… Была просто Лидочка. Рыжик. В глазах два вопросительных знака. Это сначала. А потом… распрямились эти два вопроса.
Вот она идет по улице. И не поймешь, что тут главней — наша улица или Лидочка?
Мы стоим у ворот, потихоньку учимся курить. И чем ближе она к нам, тем горячее жжет мой кулак огонек папироски. Прокашливается наша компания. Лидочка совсем близко. Я скользнул по ее глазам, но нет там сейчас вопросов. Выпрямились они в гордые восклицательные знаки.
Прошла. Словно ветерком обдула. Нас будто и не заметила.
Мы затягиваемся. Жиган долго щурится вслед Лидочке:
— Бюст, шейка, ножки…
— Все?— почему-то спрашиваю я.
Мне семнадцать лет. Ни забот, ни тревог, ни волнений. Я — рабочий паренек. Лидочка — студентка. На лекции ходит. А сейчас дома. Наглажены брюки, щедро, вполфлакона, смочены одеколоном волосы. У меня в кармане первая получка. Свои собственные деньги. Не мама дала, не у сестры выпрошенные, а выданные в кассе, с росписью в ведомости.
Я первый раз в жизни приглашаю девушку в кино. Как-то неловко. Я не знаю, как это все делается.
В будку телефона я для храбрости прихватил Женьку. Я говорю, а Женька меня усердно подталкивает, подмигивает: мол, давай, не заикайся, смелее. В трубке частые паузы. Лидочка говорит, что пошла бы, но есть кое-какие дела. Женька делает мне страшные глаза, и я иду на хитрость. Говорю ей, что в картине «Музыкальная история» одна актриса очень похожа на нее — ресничками. И опять в трубке пауза. Я слышу, как она дышит, а уж ей-то наверняка слышно, что у меня даже внутри. Наконец она согласилась. Мы расстаемся с Женькой. Он закрывает дверь телефона-автомата, морщится:
— Ну и надушился ты! Я испугался:
— Может, газировочкой промыть?
— Иди уж, ладно,— машет Женька.
Конечно, билеты должны быть самые дорогие, хотя я люблю сидеть по мальчишеской привычке ближе к экрану. Хорошо, билеты я куплю хоть на самый последний ряд, пусть даже ничего не будет видно. А вот как быть дальше? Встретимся — сразу в кино или немного погулять? Если сразу в кино, то что мы будем делать в фойе? Пригласить ее в буфет? Но честное слово, я не знаю, как это делается. Пригласить ее в читальный зал? Подумает, что я жадный, даже конфетами не угостил. А кто их знает, какие конфеты самые хорошие! Эх, если бы можно было, то отдал бы ей всю получку — и покупай сама, что хочешь, а сам бы убежал в курилку.
Правда, можно ходить по улицам и минут за пять до начала сеанса явиться в кино.
…Вот и она. Мы идем рядом. Между нами может свободно пройти третий. Ближе я не решаюсь. Она рассматривает свои белые тапочки, спрашивает:
— Что же ты молчишь, Алеша?
— Погода хорошая,— выдыхаю я.
— Так себе,— говорит она.
Опять молчим. Я чувствую, не глядя на нее, что она беззвучно хохочет.
Мы гуляем по нашему Арбату. По нему ходить очень удобно: на одном конце, у самой площади, есть часы и на другом — часы: еще раз туда-обратно, и начнется кино.
— Не опоздаем?— осторожно спрашивает она.
— Ну, зачем же так рано? Там душно. И опять я чувствую, что ей весело.
Мы вошли в кинотеатр как раз со звонком. Люди гуськом, не спеша проходили в темный зал. Некоторые ели мороженое. И тут я не выдержал:
— На билеты, садись, а я сейчас.
Она сочувственно взглянула, смутилась. Я не знаю, что она подумала. Мне было некогда. Вот и буфет.
— Дайте шоколад!
— Вам какой?
— Самый дорогой!
Я с трудом пробираюсь меж чьих-то колен. Усаживаюсь рядом с ней, глупо спрашиваю:
— Еще не начали?
— А разве ты не видишь?
Гаснет свет. Показывают киножурнал. Где-то, что-то, кто-то строит. Мне не до журнала. В кармане плитка шоколада— что с ней делать дальше?
Кончился журнал, начался фильм. Шоколад в кармане мякнет, гнется. Наконец я решился. Тихонько достал плитку. Сам смотрю на экран, ощупью нахожу ее руку. Чувствую — берет, тянет плитку к себе. Ух! Взяла! Шуршит оберткой. И вдруг она находит мою руку. Я даже ничего не успел подумать, а у меня в руке половина плитки. Краешком глаза посмотрел, вижу — ест. А сам есть не решился. Так и держал шоколад, пока он не растаял, а потом тихонько бросил на пол.
И чего я вдруг стал ее стесняться? Ведь это же Лидочка, ну, Рыжик, девчонка с нашего двора.
Вспыхнул свет. Мы выходим на улицу. И опять между нами может пройти третий. Так и дошли до ее парадного. Она заторопилась, пожала мне руку и убежала по лестнице, мелькая белыми тапочками.
На другой день Женька спросил:
— Ну как? Поцеловались хоть?
— Еще как! Да и не один раз. Женька вздохнул:
— Завидую. Смелый ты.
…Так мы гуляли по Арбату и день, и еще день, и еще много дней. Я уже не брал Женьку в будку телефона-автомата. Да и зачем, когда теперь мы уже с ней ходили, почти касаясь плечом друг друга.
* * *
22 июня 1941 года черные тарелки репродукторов выплеснули страшное слово: война!
Последний совет в киностудии.
— Пленку зарыть,— говорит Лева.— Москву бомбить могут. И еще сверху железом.
— Я знаю, где есть железо,— говорит Славик.
— Билеты комсомольские в клеенку,— говорю я. Нонка со стола клеенку притащила, режет. Дядя Ваня рядом, суетится:
— Главное — лопатка. Зарылся, и все, Прасковья Григорьевна.
Мама крестит нас.
— Прасковья Григорьевна, война— это все просто,— путается в костылях Иван Иванович.
— Знаете, главное — лопатка… Нас тормошит, объясняет:
— И винтовка… Наша трехлинейка не откажет… Песчинки попадут — бей сапогом! Опять стреляет!
…Мы уходим на войну. Наш комсомольский батальон, в касках, с винтовками в руках, выстроился перед маршем на фронт. Хмурый ротный делает перекличку, мы отвечаем четко, по-военному. Я вижу на тротуаре среди многих женщин маму, сестру и Лидочку. Она пришла в том самом платье, в котором смотрела «Музыкальную историю», в котором сдавала экзамены в школе. Я слышал от нее, что это платье счастливое.
— Смирно!— кричит ротный. И вдруг она бежит ко мне, обнимает за шею и целует. До чего же неудобно целоваться в каске! Да еще в первый раз. Ротный отвел взгляд в сторону. Что он сделает? Ведь она не солдат, а я ни при чем.
Батальон под оркестр двинулся по Арбату. Меня толкает Женька:
— Что же ты смутился?
— Понимаешь, ведь это в первый раз. Женька хмурится, косится:
— Эх ты, а говорил, что было не один раз.
— Давай, Женя, споем. А ну!
Дальневосточная, опора прочная,
Союз растет, растет непобедим…
* * *
За шинель трогают. Это опять Женька.
— Спишь?
— Нет…
— Пора,— шепчет Женька,— светает. Мы осторожно начинаем отползать.
В окопе нас встречают радостно: у всех консервированная тушенка, хлеб, вобла и сахар.
Уже штыками проткнули консервные банки, ломтями буханки ломают.
— Сейчас не ешьте,— просит Григорий Иванович,— пойдем в атаку. В набитый живот ранят — смерть.
Кто слушает, а кто уже ест. И вот он сигнал: «В атаку!»
Мы бежим все рядом. Хотя и кричит, ругается политрук, чтобы мы разъединились, рассредоточились, а мы все-таки рядом. Григорий Иванович, Женька, Пончик и я. Все вместе, все жмемся к нашему политруку.
Грузно, тяжело падает Григорий Иванович. Закрутился по земле, подвернулся на спину, лицо руками прячет. Каска слетела, пальцы в крови. Мы с Женькой плюхаемся рядом. Тут же Пончик. Рвет зубами санитарный пакет, нам тянет.
Сама по себе захлебнулась атака. Тихо стало. Григорию Ивановичу бинты на лицо наложили, лежим, тихонько окапываемся. Пули над головой воздух растягивают. Одним им не справиться, и вот уже с визгом сверлят мины все тот же накаленный свинцом воздух.
Медленно, по одному мы отползаем назад к окопам. Женька волочит каску и скатку Григория Ивановича, я — его винтовку. Сам политрук ползет, отталкиваясь одной рукой, другой — придерживает красные бинты на лице. Ему помогает Пончик.
Мы ползем по той самой траве, которую только что топтали сапогами. Как много крутом следов ног и как мало сейчас ползущих. Наверное, многим из батальона уже никогда не ходить, не лежать, не нюхать запахов этой травы.
Мы сваливаемся в окоп. Кто-то достал Григорию Ивановичу воду. Чуть отпил, фляжку нам отдал.
Вдруг загудел и смолк телефон. Я алёкаю, а трубка молчит.
Мы с Женькой опять перевязываем лицо Григория Ивановича. Телефон снова гудит.
— Послушайте! Кто там близко?— плюется кровью политрук.
— Сними трубку, Алешка,— просит Женька.
В трубке громкий, на весь окоп, командный голос:
— Говорит «Крапива». Кто у аппарата?
— Боец Грибков.
— Передайте трубку «Ромашке».
— Убита «Ромашка»,— глухо сквозь бинты подсказывает Григорий Иванович.
— «Ромашка» убита,— повторяю я в трубку.
— Подзовите к аппарату «Фиалку»,— нервничает «Крапива».
— «Фиалка» ранена,— говорит политрук.
— Ранена «Фиалка»,— говорю я.
— Черт возьми, так кого-нибудь из командиров!— кричит трубка. Мне кажется, что голос нашего генерала.
Григорий Иванович подползает к аппарату, тянет трубку морщась, приложил ее к бинтам:
— У аппарата политрук Бритов.
— Говорит «Крапива»,— слышим мы.— Немедленно возобновить атаку! Вас слева поддержит «Мимоза». Выбить противника!
— Трудно, товарищ «Крапива»,— сквозь бинты шевелит губами наш политрук.— Большие потери…
— Вы барышня или военный человек?— гремит трубка.— Как отвечаете? Немедленно начать атаку! За невыполнение приказа расстреляю перед строем!
— Не расстрелять вам меня перед строем,— говорит Григорий Иванович.
В трубке пауза. И уже удивленный спокойный голос:
— Почему?
— У меня строя нет… Опять долгая пауза.
— Послушайте, как вас зовут?
— Политрук Бритов.
— Я спрашиваю имя-отчество.
— Григорий Иванович.
В трубке помолчали. Потом опять голос:
— Григорий Иванович, я прошу вас, дорогой человек, атаковать противника.
Григорий Иванович нас всех оглядывает, молча тянется к своей винтовке.
— Есть, товарищ генерал! Атаковать противника!
— Спасибо,— слышим мы голос в трубке.
И опять слева от нас нарастает красноармейское «ура!». Мы вылезаем на бруствер.
— За Родину товарищи!— командует чей-то юношеский высокий голос.
— За Родину! Мать твою в бога так!— дико кричит сержант Березко.
— За нашу Советскую Родину!— бежим мы рядом с Женькой.
* * *
На следующий день знакомый связист рассказал нам, что он слышал по радио сводку Совинформбюро, в которой сообщалось, что на Западном фронте наши войска штурмом овладели деревней Федоровкой.

Еще вчера мы назывались бойцами, а сегодня непривычным словом — раненые. Ни бойцов, ни сержантов, ни лейтенантов. Раненые, и все. И только одного человека в нашем вагоне санитары, медсестры и врачи называют майором.
Мне его не видно. Мы лежим вдоль стенки вагона. Носилки с майором сзади меня. Если он захочет, то может тронуть ногами мою голову. Но он не хочет. Сейчас я слышу его голос, а минувшей ночью он, задыхаясь, протяжно и глухо стонал. Наверно, уткнулся в подушку.
— Больно, товарищ майор?— спросил я.
— Больно,— ответил он и примолк до утра.
Утром нам делают перевязки. И сразу вагон наполняется тошнотворными запахами, стонами и крепким солдатским словцом.
Мне видно, как краснеют смущенные лица молоденьких медсестер: война еще только началась. Вчерашние десятиклассницы не успели привыкнуть к словам, которых никак не вставишь в школьные сочинения, описывая тургеневских героев.
Они очень беспомощны эти девчата. Они просто не знают, как и чем нам помочь. Раненые на них ругаются, врачи нервно покрикивают. Одна из них, Зоя, высокая, угловатая, в отличие от других, без марлевой косынки на голове. У ней на затылке тугой жгут красивых черных кос. Когда на перевязке кому-либо из раненых невмоготу, она тихо уговаривает:
— Возьмите меня за волосы… Тяните… Не бойтесь… Я не буду кричать. Больно, а я все равно не буду. Ну, скручивайте сильнее.
Боец нащупывал пальцами косы, тихонько перебирал их, замолкал.
Сейчас я вижу, как Зоя склонилась над раненым, которого, если чуть сползти, можно коснуться пальцами ног до головы. Но сползти нельзя. Я могу только смотреть в белый потолок, немного в окно и прямо перед собой. Муху, прогуливавшуюся на моем лбу, я могу согнать только дуя, выпятив нижнюю губу. Но она не улетает. Сильнее дунуть не могу: у меня тяжелое ранение в грудь,
— Гадюка,— решаю я,— доползи до губ, тогда я тебе как дуну…
Сейчас моя очередь на перевязку. Рядом Зоя. Смотрит вопросительно сквозь мокрые ресницы, хочет дунуть мне на лоб, где опять гуляет муха, и не может. Никак не складываются у нее губы. Дрожат, и все.
Надо мной очки. За очками глаза. Они строго спрашивают:
— Как спалось?
Начинается перевязка. Прыгает белый потолок вагона…
Потом очки улыбаются:
— Ну, вот и все.
Сейчас все перешли к майору.
— Как спалось?— слышу я.
— Хорошо, доктор.
— Неправда. Плохо он спал,— говорю я.
— Сержант! Отставить разговоры!— сердится майор. Помолчал, спокойно добавил: — Ну, начинайте.
Я ничего не вижу. Что с ним делают, я не знаю. Только слышно деловое, короткое:
— Тампон… Еще тампон… И вдруг тихий голос майора:
— Давай, Зоя, косы заплету. Всю разлохматили. У меня в Барнауле дочка…. Такая же… хотя маленькая. Только косы с бантиками. Я умею заплетать. В школу ей заплетал. Ну, все, доктор?
Наш состав сильно дергает. Застонали раненые. И опять голос майора:
— Пошлите комиссара к машинисту паровоза. Разъясните товарищу — нельзя дергать. Тут раненые.
Опять замолчал. Слышны команды доктора:
— Тампон… Еще тампон. Зоя, спрячьте волосы под косынку. Где это вас так, товарищ майор?
Майор не отвечает, чуть охнул, тихо срывающимся голосом просит:
— Не заговаривайте зубы, доктор. Я не маленький. Кончайте скорее.
Кажется, доктор обиделся.
— Никто вам зубов не заговаривает. Лежите спокойно, скоро все.
Опять тишина. Только стук колес да кто-то в глубине вагона тоскливо, тягуче просит пить.
— Под Ельней, доктор,— примирительно говорит майор,— Под Ельней. Может, слышали?
— Мы по радио слышали,— говорит Зоя.— Восемь немецких дивизий разгромили. Знаете, как мы все обрадовались…
— Тампон,— приказывает доктор и успокаивающе, как мне кажется, заученно говорит:— До свадьбы заживет. Бинты!
Бряцают брошенные в железный сосуд железные инструменты. Кто-то громко облегченно вздыхает, может, майор, а может, и доктор.
— Значит, вы их остановили в районе Дорогобуж — Ярцево — Ельня.
Это голос доктора.
— Пока здесь, доктор,— тихо, словно извиняясь, говорит майор.
— Ну что ж, ну что ж,— бормочет доктор.— Очень хорошо. Очень хорошо. А вы знаете, у меня весь поезд с раненными под Ельней.
— Жарко там было,— словно сквозь сон говорит майор.
— Да, да, я все понимаю,— поспешно соглашается доктор.— Я все понимаю. Скажите, вам там не встречалась фамилия Богданов. Лейтенант Богданов?
Майор молчит.
— Ну, ну, отдыхайте. Можно приоткрыть окно. Зоя, пожалуйста! .
И опять медленно вдоль вагона движутся звуки падающих железных инструментов в железные сосуды, четкие сухие команды доктора и в конце перевязок неизменное: «До свадьбы заживет» и «Скажите, вам там не встречалась фамилия Богданов? Лейтенант Богданов?»
Перевязки окончены. Поезд с притихшими ранеными идет в глубокий тыл. Кажется, нас везут на Урал.
Мерно постукивают колеса, осторожно обносят едой и кормят нас с ложечки терпеливые сестры.
— Тебя как зовут, сержант?— слышу я голос майора.
— Алеша. .
Помолчали.
— Какой ты?— опять спрашивает майор.— Мне же не видно.
— Не знаю,— говорю я,— какой-то есть. А вы какой?
— Я?— переспрашивает он и надолго умолкает.
Мне слышно, как он тяжело вздыхает, потом просит Зою дать напиться и, наконец, как будто сам себе объявляет:
— Теперь уж не такой..,
— Все мы теперь не такие,— это угрюмо говорит, закашлявшись дымом махорки, боец в грязной, замызганной пилотке со следами отколотой звездочки. Он сидит внизу, сбоку от меня, и жадно курит. Мне видна его нелепо растопыренная на голове пилотка. В ней иголка с белой ниткой и аккуратные четвертушки газетной бумага на курево. У него на перевязи рука. На весь наш вагон только он один ходячий. Так и прогуливается в нижней рубахе и кальсонах.
— Все мы теперь не такие,— уже зло повторяет он и пускает дым к потолку.
Сзади закашлялся майор.
— Товарищ, прекратите курить.— Это голос сестры Зои.— Пройдите в тамбур.
— Ладно. Пусть сидит,— примирительно говорит майор.— А каким же вы были раньше?— спрашивает он.
Боец поднял голову. Сейчас мне видно, как он часто моргает короткими рыжими ресницами, осторожно щупает майора точками глаз.
— Вы комиссар?
— Нет, комбат.
Точки глаз заходили по сторонам, потом успокоились, спрятались за короткими ресницами.
— Раньше я всему верил.
Мне видно, как он здоровой рукой нащупывает в пилотке листок на самокрутку и опять пытливо осторожно смотрит на майора.
Майор молчит.
— Что же вы молчите, товарищ комбат? Или я не так что сказал?— уже извинительным, заискивающим голосом спрашивает боец.
— Ну, что думал, то и сказал,— вздыхает майор.— А почему боишься?
Боец легонько поглаживает забинтованную руку, хмыкает:
— Это я нынче смелый. И то потому, что ранили. Разозлился.
— На кого?
— Да на всех.
— И на меня?
Боец крутит головой, смеется:
— Не, вы тоже раненый. .
— Ну так чего же ты хочешь?
Самокрутка упрямо дымит, а слов все нету. Молчит боец. Поезд стрелки считает. Паровозный дым ползет по телеграфным проводам. С оглушительным ревом проносится встречный состав. Мелькают крытые брезентом орудия, танки и опять спокойные, медлительные желтые поля, далекие в зелени черные деревеньки.
— Я хочу вот что,— вдруг ясным звучным голосом говорит боец.— Чтобы кто-либо пограмотнее написал всю правду про наши сражения и послать в Москву, самому.
— Он все знает, он тоже ранен,— тихо говорит майор. И вдруг со всех полок встревоженные голоса:
— Кто ранен?
— Да вы что? Когда? Куда?
— На фронте? При бомбежке?
— Почему нам не говорят?
— Говорите, товарищ майор.
Комбат снова просит пить. Я слышу, как он долго чмокает. В нетерпеливом ожидании свесились с носилок головы.
— Куда он ранен, товарищ комбат?
Голос майора тихий, дрожащий:
— В душу, хлопцы. Поверили немцам… Договор заключили о ненападении и вот вам, пожалуйста, ночью в четыре часа утра началось…
— Лежите спокойно, товарищ майор.— просит Зоя,— усните.
Кто-то облегченно говорит:
— А я уж подумал и вправду ранило.
Ему охотно, даже обрадованно отвечают:
— В душу, брат, это посильнее, чем тебе вот пониже спины.
— Товарищ комбат, а когда отступать кончим?
— Когда?— задумывается майор.— Когда всю нашу злость соберем в кулак и на фашистов ее, на фашистов, а не вообще на всех.
В вагоне тихо. Опять хорошо слышно, как постукивают на стыках колеса, трутся, о чем-то шепчутся буфера вагонов, тихонько с холодным градусником кто-то лезет ко мне под рубашку. Сквозь дрему процеживает уши чей-то голос:
— …Деревню спалил, а детишек из пулемета. Мы ворвались в деревню. Лежит у колодца девочка, видно, куклой прикрывалась. Вся кукла в пулевых дырках. Ну, мы рванулись дальше. Нагнали их отряд и в рукопашную. Что там было, не помню.
…Поезд дергается. Все чаще, гуще перестук колес на стрелках. Подходим к какой-то большой станции. Боец, раненный в руку, встает, аккуратно готовит подол рубахи, смеется, торопится к выходу:
— Начнем принимать гостинцы.
На каждой большой станции нас встречают делегации с цветами, подарками. Война еще только началась. Здесь, в глубоком тылу, мы первые раненые. Пожилые люди смотрят на нас с неописуемой жалостью, мальчишки — с немым благоговением, а взрослые парни — со стыдливой почтительностью, даже с робостью. А девчата, те штурмом проникают прямо в вагон и опрометью целуют всех подряд. И ничто их не остановит: ни грозный окрик врача, ни растопыренные руки наших сестер. Я за всю жизнь не получил столько искренних жарких поцелуев, сколько за этот путь от Вязьмы до Волги. А впереди у нас еще Урал.
В окна наперебой тянутся женщины, у них на глазах слезы испуга и радости вместе. Они выкрикивают фамилии родных, близких, но еще не было случая, чтобы кто-то откликнулся из нашего вагона. Еще не было случая, чтобы кто-то сказал, что такого-то он встречал, знает. Велика Россия. Велик и ее фронт.
— Майора Уткина нет здесь?— слышим мы в окно женский голос.
— Здесь! Здесь я!.— вдруг кричит наш комбат.— Сюда, сюда к окну!
— Здесь! Здесь он!— оживился весь наш вагон.— Давай ее к тому окну!
Сразу стало тихо за окнами. Мне видно, как толпа расступается, пропускает к вагону молодую женщину, она натыкается .на людей, смотрит в наше окно расширенными глазами, губы ее застыли в ожидающей, как будто виноватой улыбке, гребень сполз с волос. Она ничего не замечает и только гладит ладонями оконное стекло.
— Не сюда!— кричат ей из вагона и с платформы.— Следующее окно! .
Следующее окно майора. Я слышу долгую, колющую тишину. Потом мне видно, как женщину бережно уводит под руку высокий седой старик в полотняном мятом костюме. Он, наклонившись, что-то говорит ей, а она потухшим, потерянным взглядом рассеянно скользит вдоль окон нашего состава. Этот взгляд ни на чем не останавливается, ни за что не цепляется, наверное, он просто уходит в конец состава, где сужаются и постепенно исчезают рельсы, которые приведут еще не один состав на эту платформу. И не один майор Уткин прибудет сюда в санитарном поезде, и не одно извещение доставят почтовые вагоны.
Медленно, осторожно поплыла за окном назад толпа. Мы лежим засыпанные цветами, словно покойники. Одна только разница, что покойники не едят и не курят.
Бойцы предупредительно угощают комбата шоколадом, печеньем. Я слышу его голос. Он будто бы извиняется сам перед собой, бормочет:
— Мало ли Уткиных на свете… И что это я? Тоже мне Леонардо да Винчи… Расстроил только женщину.
Он долго шелестит хрустящей оберткой.
— Алеша,— спрашивает комбат,— а твоя какая фамилия?
— Грибков,— говорю я.
— Да, Грибковых тоже многовато,— успокаиваясь, подытоживает он.— А сколько лет?
— Восемнадцать исполнилось.
— Тебя где ранило?
— Тоже под Ельней.
— Какой дивизии?
— Сотая. Генерала Русланова.
— Значит, я был ваш сосед слева. Покажись-ка, Какой ты? Может, где и встречались.
— Я не могу повернуться.
— Ну так сейчас перископ придумаем,— смеется он.— Зоя, сестра Зоя, поставьте-ка перед Алешей свое зеркальце, а я скомандую, как наводить.
В зеркальце все прыгает. Стены, потолок, длинный ряд носилок сзади меня и вдруг совсем близко худое, заросшее и очень белое лицо в очках.
— Это вы?.
— Я,— отвечают мне губы.— А это ты? Совсем мальчишка.
Рядом с его подушкой командирская фуражка. В ней какие-то документы, письма, торчит рукоятка пистолета.
— Пистолет не отобрали?
— Нет, он именной. Не дал,— улыбается майор.
— А куда вас ранило?
Майор молчит. И очень тихо в вагоне. Зеркальце в руках сестры поднимается выше. Я вижу худые руки поверх одеяла., В пальцах крошится печенье.
— Круче зеркало — прошу я сестру. Зеркальце в ее руках дрожит, и вдруг я все понял: там, где должны быть ноги,— плоское одеяло.
Зеркальце шлепается на подушку, торопливо вдоль носилок пробирается к тамбуру сестра Зоя.
— Мальчишка,— уже сердито кричит майор,— пацан! Для осколков, что ли, мы вас растили? Тебе-то чего там надо было? Без вас бы обошлись.— Он закашлялся.— Добровольцы сопливые!
— Мне обидно.
— А чего же вы без нас драпанули от самой границы?
Чей-то рассудительный, примиряющий голос:
— Не драпанули, а изматывали силы противника. Так, товарищ майор?
— Долго вы там изматывали да наматывали,— злюсь я,— пока наш добровольческий комсомольский батальон не помог вам взять Ельню.
— Какой герой, скажете на милость,— усмехается боец, с рыжими ресницами. Он нащупывает в пилотке листок для курева.— Какой герой! Козьма Прутков! Один такой чуть меня не застрелил.
Он встает, у кого-то прикуривает, потолок дымом полирует, оглядывает носилки с ранеными. Головы свесились, готовы слушать.
— Значит, так было. У нас на отделение один ручной пулемет. А к нему три коробки с дисками. Мы отступаем. Винтовку еле несу, а тут подбегает один такой,— он кивает на. меня.— «Приказываю,— орет,— нести эту коробку!» А в той железяке три диска с патронами. А на кой ляд нести, когда все бегут? Майоры и те на ходу с петлиц свои шпалы срывают.— Он машинально трогает пилотку в том месте, где след от звездочки, продолжает: — «Приказываю,— орет,— тащи диски!» Я ему встречь говорю: у нас, мол, десять человек. Чего же на одного все валить! Бросай все и спасайся. А он за пистолет, орет, словно резаный: «Все по очереди несут, а я вот еще пулемет на себе тяну. Тащи, предатель, или застрелю!»
Дурак дураком. Дай в руки одному такому заряженный пистолет, так сто умных под кровать залезут. Взял я коробку, несу. А впереди гладкое место, как дедушкина плешь, сквозь простреливается. Думаю, не проползти мне с коробкой— тяжелая. Хана будет и мне и коробке. А еще утром нам акурат приказ Сталина зачитывали: мол, отступая, ничего врагу не оставлять. Я эту коробку у сосны песком присыпаю, а он тут как тут со своим пистолетом. «Предатель!»— орет. И пистолетом мне ухо сверлит. Аж палец на спуске побелел.
Я ему встречь объясняю: мол, когда будем наступать, я эту коробку найду, место, мол, запомнил. А он пулемет с плеча. Плюхается рядом, сошки растопырил. «Подавай,— орет,— диски! Сейчас и начнем с тобой наступать. Я за первый номер, ты — второй». Сунул я ему диск, он заряжает, а кругом все как есть бегут, спасаются, А тут и немец показался. Дал он очередь и орет: «За Зину, за маму!» Словно тронулся, Я от него ползком. Думаю, не погибать же сейчас из-за его девки и старухи всей Красной Армии.
Кое-кто в вагоне смеется. Рассказчик замолчал, приободренный, огляделся, закончил мысль:
— Такая мелкота только путалась в планах высшего командования. Майор прав: сидели бы уж себе на печке, пока не призовут. Верно, товарищ комбат?
Майор не отвечает,
— А тебя и призывать не надо,— говорю я.— Больше бы пользы было.
Кругом смеются.
— Какой ершистый,— крутит он головой,— Таким дай волю…
— А я бы и пистолет дал,— медленно говорит майор.— У меня сын такой же…
Все надолго смолкают.
За окном темнеет. Проплывают мимо электрические огни поселков, полустанков. Электрический свет в окнах домов, яркие фонари: мы видим впервые после начала войны. Сейчас санитары не маскируют окна нашего вагона. Словно огромная сказочная ладонь сгребла и отбросила далеко назад фронт, окопы, бомбежки. Здесь, где проносится наш поезд, яркий свет, наверное там кино, показывают прямо на открытых площадках, мороженое продают. Очень хочется мороженого. Я бы его не ел все, а только половину. Остальное — на лоб. Жарко, душно
Скоро подкрадется ночь. И это самое страшное. Ночью мы все стонем. Все, даже боец, раненный в руку.
Пришла Зоя. Помахала, над лицом газетой-веером, поцеловала в лоб, прошла к другим.
Мне на живот Зоя положила пакет с документами. Это значит, на ближайшей большой станции меня снимут: дальше везти нельзя.
Поезд замедляет ход. Опять нас потряхивает на стрелках. В окно видны огни. Много огней. Мы прямо в них входим, обволакиваемся
Наш врач покрикивает на санитаров, командует, какие носилки снимать в первую очередь.
Задержался около меня, пощупал пульс, одеяло подоткнул:
— Ну вот и приехал, Алеша. Здесь хороший госпиталь.
Поезд резко: дергается, тормозит. Кругом застонали раненые.
— Я же просил машиниста — ругается комбат.— Неужели нельзя ему объяснить?
Поезд встал. И сразу за окном какие-то люди, переругиваясь, забегали с фонарями. Внизу под нами деловито постукивает металл о металл. Звук умолкает, и уже вновь его слышно в другом месте.
Около меня нерешительно топчутся два дюжих санитара в пилотках, в белых халатах, советуются:
— Лучше заходи, Максим, в голова, а я за плечи. Пройдем.
Кто-то кричит нам в окно:
— Хирурга Богданова к главврачу!
Поправляя белый колпак на голове, вдоль прохода озабоченно торопится наш доктор.
— Постойте, товарищ военврач.— Это голос комбата.— Сержанта Грибкова обязательно следует снимать?
— Да, необходимо срочно показать специалистам,
— А я?
— Вас повезем дальше.
— Снимайте меня вместе с ним.
— Я не имею права, майор.
В окно опять, но уже раздражительно кричат:
— Военврач капитан Богданов! Ну где же вы?
Наш доктор торопливо скрипит к тамбуру сапогами.
— Ну, Максим, берись…
Меня поднимают, дергают, задевая концами носилок, несут.
— На место! Поставьте носилки на место!— рядом с моим ухом кричит комбат.
Носилки закачались. Кажется, меня сейчас уронят.
— Не озоруй, не озоруй,— испуганно говорит санитар, тот, что в моих ногах.— Мы что? Нам приказано. Не озоруй!
— На место, или буду стрелять! Считаю до трех. Раз! Два! Ну?!
Меня опять водружают к окну.
Санитары на цыпочках покидают вагон.
Неслышно плавно трогается наш поезд. Станционные огни все реже заглядывают к нам в окна и наконец, как бы удовлетворив свое любопытство, исчезают. Поезд, тяжело раскачиваясь, набирает ход. Сзади меня чей-то сухой командный голос:
— Я приказываю сдать пистолет. Вам дадут расписку. Слышите?
Встречный длинный поезд заглушает слова, а когда он стих, мне видно, как вдоль прохода сердито удаляется военный в белом коротком халате внакидку.
…Утро. Всех раненых нашего вагона сгрузили прямо на широкую цементную платформу. Мои носилки рядом с комбатом. У него на животе фуражка, из нее по-прежнему торчит рукоятка пистолета ТТ.
Носилки обходит наш врач. Он сгорбился, осунулся. Сейчас лицо у него желтое, даже зеленое и как будто липкое. Он склоняется над майором, хочет улыбнуться:
— Живы? Анархист! Договорился с начальством в один госпиталь вас с Алешей. А пушку эту спрячьте… не солидно. Вы все-таки майор.
— Полмайора,— уточняет комбат.
Прибежала раскрасневшаяся Зоя, прячет мне под подушку свое зеркальце:
— Перископ забыли.
Она целует нас, майор гладит ее косы, пальцами ищет несуществующие бантики.
Прямо над головой из мощного вокзального репродуктора на нас несется бодрая музыка, а потом знакомый голос диктора подчеркнуто спокойно сообщает:
«Вчера после упорных боев наши войска оставили город…»
Нас грузят в автомашины. И хотя грузовик движется очень медленно, мы начинаем стонать. Все-таки это езда не в поезде по гладким рельсам.
В госпитале нас прямо в бинтах осторожно купают в ваннах какие-то старушки и потом на тележках увозят в перевязочную.
С майором нас как-то незаметно разлучили. Он лежит в офицерской палате, а я вместе с рыжим бойцом, раненным в руку, и еще несколькими знакомыми — в красноармейской.
Комбат прислал записку, и в ней шоколад: «Алеша,— пишет майор,— просись к окну и стучи ложкой по батарее парового отопления. Я лежу у окна, батарея — рядом. Уткин».
Я тоже лежу у окна. Теперь мне ясно, кто это рядом с моей койкой уже давно требовательно постукивает.
Стучу тоже. Мне отвечают точно так же. Связь налажена.
Сестра принесла еще записку: «Азбука перестукивания. Три удара — подъем. Четыре — садимся на судно. Пять — ложимся спать. Частые удары означают радость: взяли город, письмо из дома, пришли шефы, назначен на перевязку или просто хорошее настроение. Уткин».
Мы лежим уже несколько дней, но частых ударов что-то не слышно. С моей стороны все больше — четыре, с его — пять.
Да и это вскоре прекратилось: рыжий боец на утреннем обходе пожаловался врачу, что ему нет покоя от наших перестукиваний.
Наверное, врач сделал замечание и комбату, потому что вскоре я услышал редкие двойные удары. А потом все надолго стихло. Наверное, это означало школьную оценку «2». Что означало — «наше дело плохо».
Радио у нас в палате кто-то распорядился выключить, и мы не знаем, что творится на фронте. Когда спрашиваем сестру или шефов, они уклончиво говорят, что все нормально, наши войска обескровливают противника, иногда отходят на заранее подготовленные, хорошо укрепленные позиции. Особенно много мы сбиваем немецких самолетов. Рыжий подсчитал, что еще неделька таких воздушных боев — и у Гитлера вовсе не останется авиации.
Но прошла неделя, и в палату просочились известия: бои идут в городе Киеве.
— Вот так и верь всему,— насмешливо говорит рыжий, укачивая свою руку, словно малого ребенка.— Скоро немец и Брянщину захватит. А у меня там хозяйство, мать-старуха. Еще сдуру побежит от дома, все бросит. А что ей, старой, немцы сделают?— спрашивает он, оглядывая палату, и сам себе отвечает: — Да ничего. Ей — за семьдесят годов. Какой прок солдату от старухи? Так она и постирает, и грибов поджарит. У нас места грибные. Немец, поди, мухомора от маслят не отличит. А старуха знает.
Он встает и уходит. Наверное, посмотреть почту. Это у него всегда так. Как про мать вспомнит, уходит в канцелярию в старых письмах копаться.
Вернулся, сел на койку, тоскливо смотрит на молчаливый репродуктор:
— Может, уже и Брянщину заняли?
Однажды ночью часто, беспрерывно застучали по батарее. Я ответил. Спустя немного вспыхивает свет, меня поздравляет сестра. Читаю записку: «Алеша! Сержант Грибков! Только что передали по радио о присвоении дивизиям, взявшим Ельню, звания гвардейских. Поздравляю вас, гвардии сержант Грибков! Ваша бывшая сотая дивизия ныне Первая гвардейская, а моя — Вторая гвардейская. Уткин».
Проснулась вся палата. Большинство бойцов ранено под Ельней. Их дивизии стали именоваться гвардией.
— А. что это нам даст?— сонно спрашивает рыжий.
Я с жаром принялся объяснять, что такое русские гвардейцы. Из книг я знал, что в русскую гвардию отбирался самый сильный, самый высокий, самый выносливый и красивый солдат. И это пошло сейчас в ход.
При этом рыжий боец посмотрелся в зеркало, уныло подытожил:
— Эхма. Эпоха была другая, и харч другой. Бойцы засмеялись, утешили:
— Ничего, в госпитале наешь ряшку.
— Будет рожа на прожектор похожа. Сестра погасила свет, приказала лежать тихо. Постепенно мы затихаем. Мне не спится. Вспоминается наш последний окоп, потом стремительный рывок на окраину города Ельни и страшное всесокрушающее красноармейское «ура!».
Ельня! Это первый город, что взяла Красная Армия. До сих пор мы отступали. Каждый день с тяжелым сердцем в тылу слушали люди сводки Совинформбюро. Эти сводки звучали как похоронные. Армия, могучая, славная, родная, всеми воспетая Красная Армия отступала. Это не укладывалось в сознании, это было страшно.
Хоть бы один город, хотя бы один поселок отбить у немцев. Но нет. Каждое утро голос радиодиктора безжалостно, неумолимо двигал фронт на восток. Хоть бы чуть зацепиться. Хоть за камень, хоть за бугорок, хоть за березку! Уцепиться и встать. Хоть на немного, пусть густо поливая кровью этот камень, этот бугорок, эту березку, но все же встать, чтобы в какое-то одно утро диктор не произносил этого жуткого слова «оставили». И тогда моя мама, сестра, школьные учителя, товарищи и все наши люди, отведя взоры от репродукторов, переглянутся, расправятся их тревожные морщины, может быть, они даже улыбнутся друг другу.
— Ну вот,— скажут они.— Мы же так в тебя верили, Красная Армия. И мы не ошиблись. А теперь, родная, еще чуть продержись. Хотя бы чуть! Дай нам осмотреться, опомниться, дай нам поздравить тебя в письмах, и мы верим, что ты найдешь силы сделать первый, самый первый трудный шаг вперед.
Сейчас в полутемной палате мне отчетливо, ясно вспомнился этот первый, трудный шаг…
…Наша дивизия откатывается все дальше и дальше на восток. Деревушку, за которую мы так отчаянно дрались, оставили без боя, и сейчас, боясь окружения, не окапываясь, мы лавиной движемся к Москве.
Параллельно с нами далеко на шоссе проносятся в пыльном облаке немецкие мотоциклисты.
У нас новый комбат. Очень молодой, белозубый, круглолицый, чрезмерно перекрепленный разными ремнями, старший лейтенант. На зависть всем, у него новенький отечественный автомат с диском. Должность комбата ему по душе. Он все время среди нас. То в голове батальона, то в середине, то в хвосте, И к месту, и не к месту, мы то и дело слышим его звонкий высокий голос. Кажется, он любуется им:
— Батальон! Слушай мою команду!
Собственно, батальона уже нет. Нас осталось не больше роты — измученных, голодных и, кажется, ко всему равнодушных, кроме походной кухни.
Фронт и отступление уже многому нас научили. Редко у кого за спиной вещевые мешки, а неуклюжих ранцев нет и в помине. Все нехитрое солдатское имущество лежит в противогазных сумках. А сами противогазы (да простят нас командиры) исчезли неизвестно куда. Почему-то мы уже уверились, что фашисты не прибегнут к ядовитым газам. Может быть, потому, что в этом просто нет нужды: мы же все время отступаем. Кстати, на убитых немцах мы уже давно не замечаем противогазов. Наверное, они тоже не очень-то верят в газовую войну.
Многие из нас уже без шинельных скаток, без касок. Куда удобнее нести на себе плащ-палатку, а на голове легкую пилотку. Мы уже знаем, пуля пробивает каску насквозь, вместе с головой. И только одно мы свято бережем — это патроны и дефицитные, очень удобные ручные гранаты-лимонки: и в карманах и за поясом совсем не мешают.
Трудно с ручным пулеметом. На отделение из десяти бойцов он один. Да в придачу к нему три коробки с дисками. И в каждой коробке по три диска. Но полных отделений в батальоне давно нет. Поэтому почти бессменно мы тащим в руках, на плечах эти тяжелые коробки и нагретый солнцем и стрельбой пулемет. К ручному пулемету Дегтярева у нас особое уважение. Пока он еще ни разу нас не подвел. Стреляет метко и безотказно.
Мы уговариваем нашего политрука Григория Ивановича уйти в медсанбат, оттуда его эвакуируют в госпиталь. Но он, к нашей тайной радости, только осторожно трогает на лице запекшиеся твердые бинты и отрицательно качает головой.
Я замечаю, как рядом с ним мы заметно повзрослели. И на карту-трехверстку и на землю вокруг мы научились смотреть деловито, по-хозяйски. Когда политрук задумчиво растирает в руках переспелый хлебный колос, Женька, Пончик и я переглядываемся. Мы понимаем, о чем сейчас думает Григорий Иванович. Хлеб, очень много хлеба потеряла сейчас страна, Москва, наши родные. Каждый сантиметр на карте-трехверстке для нас уже не просто раскрашенный в зеленое или желтое квадратик, а высота или низина. С водой или без воды? С мягким грунтом или каменистым? С людьми или без людей? И каждый сантиметр на восток для нас — притихшая настороженная Москва. Мы понимаем, что нам нельзя больше отступать.
Когда я смотрю на сурового Женьку, на озабоченного Пончика, мне кажется, что и тот и другой сейчас чувствуют себя людьми государственной важности. И нет для нас сейчас ничего выше, чем знать, что мы нужны, очень нужны Москве, Арбату, Плющихе…
Сумерки застали нас в лесу. Здесь, на опушке, много красноармейцев из разных частей. Они уже приготовили для себя и для нас глубокие окопы с ходами сообщений. Надежно укрыты станковые пулеметы и длинные стволы противотанковых ружей.
Налажена санитарная помощь. В лесу замаскированы двуколки с красными крестами, глубже, в чаще леса, говорят, полевой госпиталь. Оттуда машинами эвакуируют раненых на аэродром, где их забирают самолеты.
Потрепанные полки, дивизии перегруппировались, послушные чьей-то невидимой воле, остановились, осмотрелись, и теперь, передохнув, мы ждем боевого приказа.
И приказ пришел.
Это случилось ночью в лесу. В подразделениях проходят открытые партийно-комсомольские собрания. Мы сидим под деревьями, зажав в коленях оружие, слушаем спокойный голос командира. Лица его не видно. В темноте угадывается, что на нем кожаное пальто и что у него белая голова. Он говорит о том, что нашему участку фронта выпала задача подарить стране город Ельню. Мне нравится, что он очень все честно и прямо говорит,
— Товарищи, я буду говорить откровенно,— слышим мы его голос,— Ельня — это небольшой райцентр. Никаких заводов или стратегических объектов там нет. Но это же, черт возьми, все-таки город. Причем наш город. Пусть в нем всего лишь сыроварни, две-три артели, школы, больница, вокзал, ну и что же? Кто в мире об этом знает? Только жители Смоленщины, и все. А когда мы возьмем Ельню и об этом узнает наш народ, весь мир узнает, и в Берлине — все кинутся смотреть на карту. А на карте Ельня тут как тут. А раз есть на карте, то это что-то значит. Люди поймут, что Красная Армия может бить врага наотмашь по зубам, что Красная Армия может брать города. И черт с ним, что там всего лишь две-три артели да сыроварня. Важно, что на всех стратегических картах красный флажок шагнет на запад.
И еще важно вот что. В Ельне противник сосредоточил восемь отборных дивизий. Если мы их уничтожим, то люди всего мира из двухсот сорока немецких дивизий сделают вычитание. Минус восемь.
И вдруг в темноте чей-то нервный, взвинченный голос:
— А из наших не сделают вычитание?
Человек в кожаном пальто замолчал, казалось, он обдумывает, что ответить, и вот уже опять его спокойный, рассудительный голос:
— Да, сделают вычитание из наших дивизий и из нас лично. Я сам впереди пойду.
Резолюция собрания короткая: «Взять город Ельню, выбить фашистов».
Простой листок бумаги с этой резолюцией, но как много он сейчас для нас значит. Как будто мы все, много людей, писали эти слова. Решение общего собрания! На меня повеяло мирными днями, нашими горячими комсомольскими спорами. Потом споры прекращаются, и наконец зачитывается проект решения. Обязательно кто-нибудь из нас солидно внесет свою поправку, предложение, а потом мы дружно голосуем за наше решение, и тогда уже все записанное на листке бумаги нас сплачивает, объединяет. Теперь уже мы все вместе. Мы — сила.
Так и сейчас в лесу. Поступила одна поправка. Григорий Иванович предлагает заменить слово «выбить» словом «уничтожить».
Мы дружно поддерживаем нашего политрука, и я в темноте осторожно пробую плавность хода затвора своей винтовки: все-таки «уничтожить», это не то, что «выбить».
Собрание окончилось. Бойцы расползаются по окопам. Командиры уточняют задания. Мы пополняем боезапасы. Григорий Иванович, Женька, Пончик и я улеглись около сосны. Очень тонки стенки этой палатки. А укройся с головой, и ты уже в другом мире. Под палаткой уютный свет карманного фонарика и карта-трехверстка. Мы кашляем, шумно дышим на карту, следим за танцующей спичкой в пальцах политрука. Вот черный кружочек. Это Ельня. Рядом точки деревень. Их названия нам очень знакомы. Некоторые из этих названий уже знают и в Москве. Мы упоминали о них в письмах, в коротких извещениях: «Ваш сын…»
Завтра многие узнают, что есть на свете город Ельня…
Если приподнять край плащ-палатки, то по свету падающих в черном небе фашистских ракет можно определить, где сейчас Ельня. Редким контуром немцы как бы рисуют в небе светящимися красками план города, его окраины.
К нам приполз военфельдшер. Разрезал бинты на лице Григория Ивановича и сейчас осторожно накладывает черными пальцами ослепительно белую повязку.
— В госпиталь вас надо,— уговаривает политрука фельдшер. Голова Григория Ивановича упала на грудь, нам кажется, что он бредит:
— Время выиграть… секунда дорога,— бормочет Григорий Иванович.— Время — понятие необратимое…
Мы переглядываемся, склоняемся ближе.
— Сейчас рабочие в тылу последнюю заклепку на танк ставят…— с трудом шевелит губами политрук.— Машинист дает гудок, и к нам идут составы с новыми пушками и самолетами. Еще секунда, и они придут… Курсанты на учебных стрельбищах бегут смотреть свои мишени. Нужна эта секунда. Возьмем Ельню — будет всем время. Передышка…
Нет, это не бред. Мы хорошо понимаем, о чем говорит наш политрук, смотрим друг на друга. Время! Вот что сейчас нужно, чтобы не пустить в Москву немцев. Сколько у нас в стране народа, а вот сегодня самые главные, самые нужные— это наш политрук, Женька, Пончик, я и еще многие, кто сейчас туго набил патронами патронташи, кто пытливо следит за немецкими ракетами. На рассвете нам скомандует наш комбат, и мы поднимемся. Одни — завоевывая стране секунды, другие для себя — вечность.
Незаметно появился комбат. Озабоченные морщины на круглом, почти мальчишеском лице. Потрогал лоб Григория Ивановича, долго путался, искал пульс. Нахмурился:
— Учащенный. Ну, что, фельдшер, делать будем?
— — В медсанбат его.
— Да я и сам знаю,— растерянно ежится комбат.— А может, отоспится и ничего? А?
— Нет, в госпиталь надо,— неумолим фельдшер.
— Может, каких таблеток ему дашь?
Фельдшер молчит.
— Понимаешь, утром в наступление,— доверительно тихо говорит комбат,— а я без него не могу. Он всем нужен. Ну, хоть укол какой-нибудь воткни. А?
Григорий Иванович открывает один глаз, кривит рот: —: Может, мне еще клизму?
Комбат оживляется, суетится, снимает с груди автомат:
— Возьми это. Полегче твоей винтовки. Дарю.
…Четче вырисовываются стволы деревьев на светлеющем небе. Все тяжелее от росы наши плащ-палатки. Встает задымленное солнце. Резко пахнуло махоркой. По красным белкам глаз видно, что никто не спал.
Сутулясь, сквозь кусты продирается человек в кожаном пальто. Присел на корточки рядом с нами.
— Как дела, политрук?
Григорий Иванович на свой автомат показывает:
— Порядок..
— Ничего, скоро таких много будет. Уже первые партии оттуда поступают,— куда-то на восток кивает человек в кожаном.— Эх, времечко нам нужно!
Он снимает пальто, и мы считаем на петлицах его гимнастерки шпалы. Четыре. На рукаве красная звездочка, такая же, как и у Григория Ивановича. Мы уже знаем, что людей с такими звездочками немцы в плен не берут.
В окопах оживление, приглушенные разговоры, металлическое звяканье. Какой-то длинновязый боец в сердцах ругает полевую почту!
— Ну, кому я письмо сдам?— зло обращается он к каждому встречному, держа в руках бумажный треугольничек. Увидел комиссара, нерешительно обратился:
— Может, вам? Отправьте… Мы ведь сейчас в бой.
— Я свое фельдшеру сдал,— показал комиссар куда-то через плечо.— Сдайте ему.
— А-а, понимаю,— догадливо засмеялся боец.— Это же вы ночью выступали? Значит, с нами? Это хорошо.
Он явно обрадовался, запихнул письмо под пилотку, спрыгнул в окоп. Сверху мне видно, как около его штыка сгрудились еще штыки. Потом показалась его голова, он подмигнул нам, и штыки заколыхались, рассосались по окопу, наверное, понесли другим бойцам приятную сердцу весточку.
Наш батальон занял исходную позицию. Последние приготовления. Каждое отделение уточняет задачу. Наш комотделения, сержант Березко, отдает распоряжения:
— В случае, выйду из строя, меня заменит сержант Кораблев.
Женька подтягивается, согласно кивает. Недавно нам троим — Женьке, Пончику и мне присвоили звание сержанта, и теперь очень приятно слышать это добавление к своей фамилии. Где-то сзади хлопает ракетница, и в небо стремительно взвился сигнал наступления,
Сотни, тысячи людей вдруг вырастают на опушке леса, согнувшись, с винтовками наперевес, мы молча, короткими перебежками, движемся навстречу полысевшему зеленому массиву с белыми и красными зданиями.
— Быстрее, быстрее!— подстегивает нас командир Березко.
И вдруг загудела, вздрогнула земля. Немцы открыли минометный огонь.
— Быстрее! Быстрее!— командует сержант.— Тихо! Не орать «ура»! Беречь дыхание!
Впереди пляшущие фонтанчики пыли. Это резанули немецкие пулеметы. Плотный грохот разрывов кидает нас на землю. Но мы не останавливаемся, мы ползем вперед. И слева и справа, на сколько хватит глаза, видны ползущие фигуры бойцов. Как нас сейчас много. Мы наступаем! В сердце никакого страха. Мы наконец наступаем! У Женьки, у Пончика, у Березко, у всех осененные торжеством лица. Мы наступаем, мы знаем, что от нас ждут люди, мы знаем, что нам сейчас делать,
Видно, как немцы поспешно покидают передовые окопы,
— Батальон! Слушай команду!— Это кричит наш комбат.— По фашистским захватчикам огонь!
Бешено, яростно содрогается в руках горячее тело пулемета Дегтярева, с ровными промежутками плюет раскаленным свинцом трехлинейка Пончика, рядом без устали выкидывает в траву дымящиеся гильзы Женькина винтовка.
Мы, восемнадцатилетние, вместе со всей Красной Армией сейчас дарим Москве драгоценные часы, минуты, секунды. Секунды в обмен за все восемнадцать детских и юношеских лет, что нам подарила Москва.
— Батальон! Огонь!
Пулемет дрожит. И диски входят. Просто здорово! Никаких заеданий.
Рядом Григорий Иванович. Стреляет короткими автоматными очередями. И наверное, очень метко. Сейчас, ему здорово помогает забинтованная наполовину голова: не надо, целясь, зажмуривать левый глаз.
Мы торопимся выплеснуть на них свой свинец, а немцы спешат это же сделать в нашу сторону.
Вместе со свинцом пошел в ход чугун. Щедро сыпала Германия воющие раскаленные осколки на российские поля.
Взрыхляли, терзали и мы своим металлом свою собственную землю.
Вот еще один в серо-зеленом танцует на мушке. Нажал гашетку. Часто толкает в плечо приклад пулемета. Упал в серо-зеленом. А может, притворяется? Еще давить и давить на гашетку. Мы его к себе не звали. Сам пришел.
Далеко вперед отполз Григорий Иванович.
Оглядывается, манит меня. Теперь лежим рядом.
— Бей левее!— показывает Григорий Иванович на развалину дома. Это уже окраина города. Сейчас немцы оставили окопы и прячутся за стенами домов.
Пончик суетится, настойчиво протягивает пулеметные диски. Ему не по себе, когда смолкает пулемет.
Рядом лежит Женька. Носком сапога проводит по земле линию. Это значит, что он, Женька, дальше этой линии не отступит. Это у него стало привычкой, но все же часто случалось, когда эту линию он поспешно переползал на животе. Но сейчас по лицу друга я понял, что Женька, наконец, решился ни за что не переползать черту на земле и что сейчас для него путь только вперед.
В небе идет воздушный бой. Наш И-16, «ишачок», как его зовут, сцепился с «мессершмиттом». Они кружатся, стараются зайти один другому в хвост, или вдруг оба вместе свечой взмывают вверх.
— Цирк,— толкает меня Пончик.— Работают без сетки. Сейчас утихла стрельба. Молчим мы, молчат и немцы.
Только в небе словно коленкор рвется. Это нащупывают друг дружку истребители.
И вдруг задымил «мессершмитт». Следом за ним стремительно росла, разбухала черная, жирная полоса, Самолет властно, неудержимо тянула к себе земля. Он в пламени пронесся над нами, ударился о землю, подпрыгнул и снова грохнулся, оглушив нас мощным взрывом.
В небе одиноко резвился «ишачок». Он, казалось, хотел удостовериться, видели ли мы его победу? Самолет закладывал вираж за виражом, делал над нами бочки, набирал высоту, пикировал почти до земли и снова взлетал к облакам. Он покачивал нам крыльями, казалось, неистовствовал, торжествовал, словно исполнял в воздухе ликующий, счастливый танец.
— Ладно уж!— кричим мы.— Хватит тебе! Тикай, пока не сбили!
Резко пикируя, он сильно увлекся и чуть сам не вдарился в землю. Осторожно, видимо испугавшись, «ишачок» выровнялся и потянулся к лесу.
Вдоль цепи от бойца к бойцу передается команда:
— Приготовиться к атаке! Примкнуть штыки, дозарядить магазины!
Моя винтовка за спиной. Я не знаю, что делать: хватаюсь и за нее и за ручной пулемет. Григорий Иванович подсказывает:
— С пулеметом наперевес!
Низко над головами с оглушающим ревом проносятся наши самолеты, и сейчас же глухо задрожала земля, нам видно, как в дыму, в пламени медленно, словно лениво, падают на землю стены домов, рядом мечутся и тут же исчезают фигуры в серо-зеленом, .
Наши головы пригибает к земле вой артиллерийских снарядов. По привычке мы съеживаемся, ожидая в цепи разрывов, но это наши снаряды, и они рвутся на окраине города.
Минута, другая жуткой тишины, и вдруг стынет кровь в жилах, противная дрожь овладевает телом: гудит от лязга, грохота металла земля.
— Танки!— переглядываемся мы.— Танки идут! Григорий Иванович вытирает слезящийся глаз, смеется:
— Это наши! Наконец-то!
Не знаю почему, но сейчас очень хочется встать в рост, без всякой команды, хочется орать во все горло, все равно что, но лишь бы орать. Хочется кого-то звать за собой и бежать, бежать, не чуя земли, следом за этим грохочущим валом навстречу городу.
— Наши танки,— захлебывается Пончик и бьет меня по спине.— Ура!!!
И вдруг, перекрывая все звуки, слышится высокий, восторженный голос комбата:
— Батальон! За Родину! Ура!!!
А мы уже бежим без всякой команды. Перескакиваем через канавы, какие-то бревна; хрипя, подстегивая криками друг друга, мы с ходу, стреляя, ворвались на окраину города. Раз, другой мелькнула в пыли фигура человека с белой головой. Он, задрав кверху ствол винтовки, на ходу перезаряжает ее и, обернувшись к нам, показывает широко раскрытый рот. Наверное, кричит «ура!». Запомнилась на его рукаве красная звездочка. Это очень здорово быть сейчас рядом с нашими командирами, вместе со всей Красной Армией.
Захлебнулся и смолк в руках горячий пулемет.
— Пончик! Диск!— кричу я.
И в ту же секунду сильный удар в грудь швыряет меня на спину. Куда-то в сторону отлетел пулемет. Через меня прыгают люди. Что-то раскаленное остывает в груди. Я задыхаюсь, катаюсь по земле, хочу кричать, но захлебываюсь кровью.
«Ранен,— слабо мелькнуло в сознании; еще хватает сил рвануть ворот гимнастерки. Я вижу изуродованную левую сторону груди.— В сердце,— решаю я.— Ну, вот и все. Врут люди, если попадет в сердце, то человек сразу умирает. Оказывается, не сразу, оказывается, еще немного живет. Кому бы успеть об этом сказать?»
Кажется, надо мной перевязанное лицо Григория Ивановича. Вот ему и сказать.
Давлюсь кровавым кашлем, острая боль затмила небо, смазала все вокруг..
Успел вытянуть ноги. Руки сложил на груди. Не хотелось умирать так, как застала пуля…
Дикая боль вернула сознание. Меня волокут по земле на плащ-палатке. Это Григорий Иванович, Женька, Пончик…
…Словно в тумане, они превратились в наших санитаров и уже не волокут по земле на палатке, а несут на носилках,
…И вот уже исчезли, растворились санитары. Они превратились в лошадь. Я вижу ее круп, гриву. Сбоку мелькают колесные спицы. Подо мной сено. Над головой медленно танцуют в небе вершины деревьев.
…Надо мной склонились люди в марлевых повязках до глаз. Такой же марлей закрывают мое лицо, приказывают вслух считать: раз… два… три… четыре…
Я считаю… Все вокруг поплыло, удалилось, потухло.
…Надо мной чистое небо. Легко покачиваются носилки. Их поднимают все выше, выше и наконец вдвигают, словно в трубу. Вырез в трубе защелкивается, и на уровне лица слюдяное окно. Кто-то лежит рядом, тоже на носилках. У него перевязана вся голова, глаза, шея. Только видны белые под цвет бинтов волосы.
Беспомощно свесилась с носилок рука. На рукаве добротной гимнастерки красная звездочка.
— Кто рядом?— тихо спрашивает сосед.
— Сержант Грибков,— говорю я.
— Ельню взяли?
— Не знаю…
Он слабо стонет, потом затих.
Снова открывается стенка с окошком, кто-то в белом кладет нам в носилки какие-то бумаги, осторожно поправляет подушки. Чей-то громкий голос нетерпеливо спрашивает;
— Ну, все готово? Пока «мессеров» нет, взлетать буду. К нам просунулась голова в летном шлеме, все оглядела, весело подмигнула:
— Не балуйтесь здесь! Курить — ни-ни,
— Ельню взяли, товарищ?— Это голос соседа.
— Взяли, товарищ комиссар. Победа! Захлопнулась легкая стенка со слюдяным окошком. Почему-то мне показались очень знакомыми и этот голос, и лицо летчика. Самолет взревел, отчаянно, задрожал, и за окошком все быстрее, быстрее побежала прижатая к земле поседевшая трава.
Я впервые в жизни лечу на самолете.
После самолета первая перевязка и, наверное, первый стон в какой-то школе города Вязьмы. Рядом с носилками до потолка сложены школьные парты, на стене боком висит географическая карта. А может быть, и не боком.
Потом долгие дни и стонущие ночи в санитарном вагоне…
А сейчас вот эта госпитальная палата с тяжелыми запахами и приглушенным светом дежурной лампы.
…Нашу палату понемногу уплотняют. Рядом со мной положили обожженного танкиста. Он тоже все время смотрит в потолок, не двигается. Кормят его с ложечки. Чуть приподнимут — он вырывается, стонет и жалобно зовет маму. Танкист, а без мамы не может. Держался бы уж.
Утром меня увезли на перевязку, и я тоже вспомнил маму. Значит, уж так устроен человек: если больно, если невмоготу, то вспоминает мать. Отдышался уже в палате, чуть боль отпустило, и мама отдалилась,
— Танкист,— спрашиваю,— живой? Молчит.
Показываю ему на потолке из пальцев теневых зайцев. Молчит.
— Вот хвост, а вот что другое под хвостом. Видишь? Смешно?
Не отвечает танкист.
— Смотри-ка, шевелится… Тихо рядом.
Пришел врач. Загородил своей белой спиной моего нового соседа. Потом выпрямился, беспомощно оглядел палату, осторожно закрыл простыней лицо танкиста, оглядываясь, на цыпочках вышел.
Явились с носилками санитары и так же на цыпочках унесли танкиста.
Мне страшно. Колочу кружкой по батарее:
— Майор, товарищ майор… Комбат!
Сестра вбежала. Шарит рукой выключатель.
— Ты что? Что с тобой? Спит твой майор. Ему операцию сделали.
Она гладит мне лоб, уговаривает:
— Спи, Алеша, спи… Утром все будет хорошо.
Утром от майора принесли записку. Почерк прыгающий, разобрать трудно. Пишет, что ему сделали операцию и сейчас очень тяжело.
Я постучал по батарее. В ответ — слабое царапанье.
Начался утренний обход раненых. Вместе с врачом сегодня в палате комиссар госпиталя. В руках у него газеты, журналы. Остановились с врачом около меня. Комиссар спрашивает врача:
— Этот?
— Этот самый.
Комиссар присел рядом, веселый, все шутит. Потом уже серьезно:
— Вот что, дорогой товарищ, комбат просит твою койку поставить с ним рядом. Очень ему сейчас трудно. Пойдешь в офицерскую палату?
Я не знаю, что сказать. Уже успел привыкнуть к своим в палате. Завистливо-выжидательно смотрит рыжий боец.
— Ну, так как? — ждет комиссар.— Это тебе вроде комсомольского поручения. Отвлекать его будешь.
Легонько царапают батарею. Наверное, совсем ослаб майор.
— Пойду,— решаюсь я.
— Вот и хорошо,— радуется комиссар,— после обхода тебя перенесем.
Они ушли, мы зашелестели газетами. И вдруг с первой страницы на меня глянуло знакомое, очень близкое лицо. Человек в форме военного летчика серьезно, вдумчиво смотрел с листа газеты и как будто спрашивал: «Все лежишь, товарищ Грибков? А воевать?»
— Мишкин отец!— кричу я на всю палату. Ну, конечно, это он. Вот и его фамилия и описание подвига. Из подписи под фото я узнал, что Мишкин отец с начала войны пришел в санитарную авиацию (только не пишут, откуда пришел), а потом стал летчиком-истребителем. За последний воздушный бой награжден орденом Красного Знамени. Над фото слова: «Мать, гордись своим сыном, дети, гордитесь вашим отцом!»
Вот это да! Вот теперь Мишка обрадуется! Я стучу по батарее частыми ударами. В ответ царапанье.
Пришли санитары. Меня уносят из палаты вместе с ящичком из моей тумбочки. Рыжий боец на прощанье поморщился, махнул здоровой рукой.
— Нигде правды нет. Сержант, а в офицерскую палату…
…Моя койка рядом с комбатом. Я читаю ему про подвиг летчика, рассказываю о нем самом, о его сыне Мишке, о нашем детстве.
Майор молча слушает, прикрыв глаза, иногда мне кажется, что он чуть улыбается. Мне это приятно. Я стараюсь вспоминать все подробнее и про войну и про детство.
Однажды, когда я рассказывал о первых боях, он рукой остановил меня:
— Про войну, Алеша, поменьше. Ну ее к черту. А вот про детство, давай.— Он помолчал, закрыв глаза, тихо добавил: — Хочу понять, что же мы вам дали… Почему вы такие? Мой тоже рвется на фронт. Да не берут: мал.
В другой раз он опять прервал меня, лицо хмурое, озабоченное:
— А этот Гога-то ваш, он себя еще покажет… Такие чистенькие и людей пачкают и дело…
Как-то остановил мой рассказ, необычно оживился, даже на локтях приподнялся:
— А ты вот что, Алеша. Ты напиши все это… Знаешь, годы пройдут, война отдалится. Забудется многое… Люди спросят: а какими были эти ребята, что насмерть сцепились с фашистами? Как они раньше жили? — Он запнулся, видимо подбирая слова, неожиданно просветлел.— Даже главное — не как жили, а чем жили? Понимаешь — чем жили?..
* * *

Каждый день в палату приносят газеты. Кажется, майор знает, как их читать между строк. На стене, ближе к его койке, прикрепили карту, и теперь он, обложившись газетами, сердито обозначает линию фронта.
Закончит свою работу, оглядит палату, вздохнет, закроет глаза.
Иногда мы не выдерживали, рылись в газетах:
— Как же так, товарищ майор? Ведь Калуга-то наша? Ошибка у вас.
Не открывая глаз, он медленно роняет:
— Уже не наша.
Особенно майор интересуется, кто и откуда перестал получать письма, что пишут в самых последних фронтовых «треугольничках».
Немец упрямо подходит к Москве. В нашей палате прибавляются койки. По рассказам новеньких раненых мы без всяких газет представляем, что ожидает Москву.
По ночам противно греется под головой подушка. Думы о маме, о Нонке. Что будет с ними?
А Лидочка, в Ленинграде. Если мы отступим за Москву? Как же с ней будем держать связь?
А может быть, они эвакуируются? В городе, где наш госпиталь, уже есть эвакуированные из Москвы. Они часто навещают нашу палату и называют шефами.
Самые деловые из них помогают разносить обеды, хватаются за носилки и носят нас в перевязочную, осторожно, с шутками разглаживают пролежни на наших спинах или моют полы, стекла. Мы их всех поджидаем нетерпеливо, с удовольствием.
Вот бы и мама с Нонкой приехали к нам в город, стали бы шефами...
Неожиданно — тихий голос с койки майора:
— Спишь, Алешка?
— Угу. А вы?
— Сплю. Ты глаза закрой и разных там слонов представляй и считай. Раз слон... Два слон... И еще представляй, как они идут друг за другом. Ну, закрыл? Считай потихоньку.
Глаза я закрыл. Раз слон... Два слон... Вот третий пробивается. Мама, конечно, будет с Красной Армией. Будет стирать солдатам белье. А Нонка? Все-таки она на крышах от зажигалок не бегала, тревоги знает. Ну, уж если стрелять не умеет, научится. Сейчас, наверное, этому здорово учат.
Однажды ночью с одной из дальних коек раздалось то ли в бреду, то ли наяву:
— Сдадим Москву, капут всем нам будет.
И опять тихо. Рядом, тяжело дыша, зашевелился майор:
— Это кто же сказал, что сдадим?
Никакого ответа. Тихо.
— Москву мы не сдадим, — тяжело дышит майор.
Из тишины тоскливо спрашивают:
— А где гарантии?
Майор долго молчит. Кажется, в палате стало еще тише. Неужели никто не спит и все прислушиваются?
— Гарантии в нас самих. — Майор помолчал, добавил: — В нашем характере.
— Это как понять? — все тот же голос.
— А вот так. Знаешь историю древнего Новогорода? Там, когда набат, чугунный язык колокола не сразу раскачаешь, а уж как раскачается, то гул по всей Руси. Встают все люди русские на славный бой.
Из темноты раздумчивый голос:
— Ну, это вы из древней истории, товарищ майор... Вече... Вставайте, люди русские... А сейчас как? Вот при Советской власти?
— А сейчас? — медлит майор. — Сейчас с нами и белорусы, и украинцы, и казахи.
— Грузинов забыл, кацо? — подсказывает майору чей-то обиженный молодой голос.
— Вот-вот, — громко скрипит койкой майор. — За Москву поднялись все народы. Ты вот грузин. Чего ты только за себя. А другие? В школе-то небось учился. Карту изучал. Ну-ка, повтори все наши республики.
В палате тихо.
— Ну, чего молчишь? — спрашивает майор. — Давай. Только других нс обижай, не пропусти.
— Подожди, подожди, я с севера начну...
— Давай хоть с севера, хоть с юга, — соглашается майор.
Грузин начал. Спотыкаясь, все же назвал по порядку все республики. В палате смеются.
— Чего-то, браток, не гладко.
Спокойный голос майора:
— Чего смеетесь? Давайте-ка сами, с юга на север.
Палата приглушенно перечисляет. Кто-то опять путается.
— Ну вот, — смеется в темноте майор. — Свои люди и то кое-что позабываем. А вернее, не ценим.
— Это кто не ценит? Я не ценю, товарищ майор? — обижается грузин. — Я, знаешь, с юга. Привык, понимаешь, к солнцу. Виноград, мандарины кушал. Никогда снега не видел. А за Москву по пояс в снегу дрался. А, майор? Ты слышишь? Под Москвой ни мандарин, ни винограда. Картошка одна... Понял? А я дрался. Да не я один... Все там были. Ты не смейся, что я по карте сразу не назвал. Карта наша большая. Там всяких цветов много. Понял?
— Я-то понял, я-то понял, — довольным голосом повторяет майор. — А вот Гитлер не понял...
Мы без умолку разговариваем о Москве. Радио в палате не работает, как объяснил комиссар госпиталя, мол, «по техническим причинам». Но через наших добрых шефов, по их скупым уклончивым ответам мы знаем, что положение под Москвой очень тяжелое. Мы все насторожены, подавлены.
Выздоравливающие раненые прекратили свои флирты с медсестрами. На шефских самодеятельных концертах мы теперь не смеемся даже над самыми веселыми рассказами Зощенко.
И только вслед стройной фигуре в белом халате, шефа Софочки, мы еще кое-как поворачиваем головы.
Софочка впервые зашла к нам в палату, когда еще на подоконнике не было снега и в окно с любопытной ласковостью заглядывали пожелтевшие ветви тополя.
Она вошла с подносом глиняных кружек с компотом, звонко сказала всей палате «здравствуйте, товарищи» и растерялась, увидев в углу раненого с гипсовыми «самолетами» вместо рук. Поднос наклонился, и на пол закапал компот.
— Чего же вы испугались? — участливо сказал майор. — Раздавайте ваш десерт.
Софочка торопливо ставила на наши тумбочки кружки, испуганно оглядываясь на обладателя гипсовых «самолетов».
Когда она выходила из палаты, мы все, как по команде, повернули головы к двери. Я тогда смотрел ей вслед, и почему-то мне показалось, что сзади она очень похожа на Лидочку. Только волосы другого цвета.
— Персик, — зацокал языком раненный под Москвой грузин. И с ним охотно согласилась вся палата.
Мне весело подумалось о том, как бы мужчинам ни было трудно, а увидели красивую женщину — и сразу другое настроение. Почему так?
На следующий день Софочка вошла в палату смелее. В руках — таз, тряпки. Она шустро взобралась на подоконник, начала протирать стекла.
Даже очень, тяжело раненные перестали стонать. Все смотрели на окно и, как я догадывался, на Софочку.
Смотришь на окно, а там только мелькает короткий белый халат. А из-под халата — ноги. Ну, ноги как ноги. Я вытянул из-под одеяла свои. Ну, и что? Почти такие же. Домыла последнее окно, промокнула все капельки на подоконнике, спрыгнула, собрала свое хозяйство и пошла.
— Персик, — вздыхает вслед грузин.
Вошла сестра. В руках жалится шприц. Мы подставляем разные места.
— Не больно? — интересуется она.
— Не...
Старательно обходит всех, кому прописаны уколы, и сейчас никто из раненых даже не чертыхается.
Уходит сестра. У дверей постояла над койкой грузина, подоткнула одеяло и деловито спокойно вышла.
* * *
Восемь месяцев больничной койки, тяжелых запахов, гипса, крови, тампонов, удивительных разговоров с майором о жизни — теперь позади. Через неделю выписывают.
Я уж знаю, что в истории моей болезни врачи записали: «Годен к нестроевой...»
Майор это тоже знает. Часто курит, дым в потолок, молчит. Жжет самокрутка его пальцы, он не чувствует. Я — ему пепельницу под руку. Опомнится, замнет окурок и опять молчит.
— Товарищ майор, вы что-то хотели сказать?
— Да я тебе уже все сказал.
— Нет, не все...
Сердится, даже злится.
— Тебе уже восемнадцать. Чего я тебе еще скажу? — Поутихнет, одеяло до подбородка натянет, глаза закроет и уже спокойнее: — Давай сам спрашивай.
— Когда «годен к нестроевой» — это уже все?
— Что — все?
— Значит, не пустят?
— Куда?
— Туда.
— Скрути-ка покурить.
Я стараюсь, скручиваю. Затянулся майор, дым осторожно отгоняет:
— Ну, чего же... Нестроевая тоже дело. Сейчас нестроевиков много. Помнишь, нас с тобой люди на носилках тащили? Кто они? Старики, нестроевики. Склады вон всякие охраняют, в канцеляриях пишут. Все нестроевики.
Он подумал, сказал ободряюще:
— В Москву поедешь, мать встретишь... Ну может быть, там кого еще...
Он закашлялся, как-то вдруг ослабел, затих.
В палате громкий шепот. Это грузин горячится:
— Ты чего, кацо, к нему пристал. Дай человеку отдохнуть. Выписывают тебя, ну и радуйся.
* * *
Я выписываюсь и радуюсь. Шинельку в госпитальной каптерке примерили. Ничего, вроде по размеру. Дали штаны. Наверное, чернилами круглую штопку замазали.
— А вот тебе и гимнастерка, — деловито, хмуро предлагает завхоз и мнется: — А что? Тебе подходит?
Я ему по-честному:
— К маме еду, в Москву, ну все такое. Может, найдется получше?
* * *
Наш поезд ползет к Москве. За окном лениво проплывают столбы. Они плывут так медленно, что без труда можно успеть разобрать условные знаки, обозначенные на их серых, мокрых стволах.
В общем вагоне душно, накурено. Пассажиры все одинаковые. Все выписались из разных госпиталей и сейчас направляются кто в батальон выздоравливающих, а кто, как и я, в длительный счастливый отпуск. Мы еще незнакомы друг с другом, но о каждом можно судить точно, безошибочно: из госпиталя. Линялые гимнастерки, не по размеру шинели, с залатанными, опаленными осколками дырками, бледные, бескровные лица, осторожные, болезненные движения, кое на ком посеревшие бинты последних перевязок.
У всех у нас вещевые мешки с одинаковым запасом продуктов. Каждого госпиталь снабдил недельным пайком. А пройдет неделя, и тогда — бегом к коменданту станции, потрясай продаттестатом, показывай заскорузлые бинты, прихрамывая, подставляй пилотку для сахара, полу шинели — под хлеб с колбасой — и бегом к своему вагону. Так нас учат бывалые пассажиры, которые в этом поезде плетутся из самой-самой Сибири.
Я лежу на верхней полке. Перед глазами прыгает карандашная запись на потолке: «Да здравствует комендант станции Новосибирск! Отоварил тушенкой и воблой!»
Я думаю, как хорошо, что везу домой почти целым свой паек, как обрадуется мама сахару, мясным консервам, мылу и халве. Стараюсь есть только сухари. Запиваю их чуть подслащенным кипятком.
В Москве сейчас голодно. Все по карточкам. А тут, пожалуйста, развяжу дома вещевой мешок и на стол— весь паек. Пируем!
Как-то меня встретит мама? Вот будет радость-то! Молодец, что она не эвакуировалась, осталась в родной Москве, в нашем доме. Я постучу в дверь, она будет спрашивать «кто там?», а я буду молчать. Нет, я постучу в окошко, а потом бегом к двери. Нет, я постучу в дверь, а сам спрячусь в темный угол. Она откроет, а никого нет. Удивится, а тут я скажу: «Мама!» Нет, я просто скажу в открытую форточку «мама!» и буду ждать, когда затреплется, заколышется занавеска. А вдруг мамы нет в Москве? Ведь письма идут так долго.
Скорее бы уж двигался поезд. Разве можно так равнодушно, медленно ползти к Москве? Иногда за окном проплывает столбик с указателем расстояния до Москвы. Пока еще все четырехзначные числа. Хоть бы уж скорее трехзначные, а потом ведь будут долгожданные двузначные, а там уже в случае чего можно и пешком добраться до нашего Арбата, до нашей Плющихи!
А сейчас за окном тянутся палисадники какого-то разъезда, поезд содрогнулся и встал. За окном ни души, кроме небритого железнодорожника с усталым, ко всему равнодушным лицом.
— Эй, начальник, долго стоять будем? Крути, Гаврила! — кричит ему из окна вагона широкоплечий хромой старшина.
Железнодорожник сердито сплевывает, отворачивается. Старшина, словно винтовку, высовывает из окна свой костыль, прицеливается, смеется:
— Станция Зуй, начальник... Сейчас застрелю.
— Дурак! — равнодушно оборачивается железнодорожник и, сгорбившись, не спеша скрывается за дверью помещения.
Хуже нет стоять на молчаливых полустанках, на разъездах. Ждут, когда пройдет встречный. Да не один, а два... три.
«А вдруг уже мамы в Москве нет?» — тоскливо, даже с испугом думаю я.
— В картишки, что ли, метнем? А? — трогает меня за ногу старшина. — Сползай сюда.
Сейчас хочется забыться, ни о чем не думать, и я сползаю. Никогда я в карты не играл. Не люблю. А тут вдруг согласился, даже почему-то обрадовался.
— В очко? — испытующе щурится старшина и ловко тасует засаленную колоду карт. Озорно поблескивает у него на пальце золотое кольцо.
— В очко не умею, — неловко признаюсь я. — Давай в дурачка.
Он снисходительно смеется, ласково мурлычет:
— Не скажи, браток, в бане: шайками закидают. Смотри. Это девятка — девять очков, это что? Король— четыре очка...
С шуточками, прибауточками, выкурив всего лишь одну самокрутку, старшина успел толково разъяснить всю премудрость игры «в очко». С полок, свесив головы, на нас с интересом смотрели попутчики. Подсказывали, советовали, перебивали:
— Два туза — очко!
— Лучше, хлопец, недобор, чем перебор.
— Ав пьянке все наоборот: хуже нет недобора.
— У него, поди-ка, карты меченые.
— Лучше перепив, чем недопив. Вот, помню, мы с кумом...
— Ого! Ого! Сравнил.
Старшина щурился, пощипывал усики, привставал, ловко сплевывал в окно щербатым ртом.
— Ну, начнем? Трус в карты не играет. Деньги-то есть?
Я похлопал по карману гимнастерки, где хранилось мое сержантское за несколько месяцев денежное довольствие. Про себя подумал: «Поиграю, пока поезд не тронется, и хватит».
Мы начали.
В ушах беспрерывно гудело: «беру!», «хватит!», «бери!», «даю!»
Старшина сыпал пеплом давно потухшей цигарки, щедро рассыпал нескладухи-прибаутки:
— Вот тут-то она ему и сказала...
— Стоп, сам себе думаю я...
— Рубь поставишь — два возьмешь, два поставишь...
— Вятские ребята хватские, семеро одного не боятся.
— Четыре сбоку — ваших нет...
Я опомнился, когда под вагоном давно уже постукивали колеса, а за окном было темно. Карман с деньгами опустел.
Все мое, до копейки, денежное довольствие уплыло незаметно как.
— Все, — объявил я и, с трудом нащупав свою полку, расслабленно начал карабкаться. Улегся на спину, закрыл глаза. Колеса ритмично отстукивали: «Четыре сбоку — ваших нет», «Рубь поставишь — два возьмешь...», «Дурак! Дурак! Дурак!»
...Проснулся оттого, что поезд замедлял ход. За окном уже светло. В вагоне оживленно. Говорят, скоро должна быть какая-то станция, куда к поездам подходят женщины, продают теплые оренбургские платки. Вот бы маме такой. Я поспешно соскакиваю с полки и вдруг встречаюсь с прищуренным внимательным взглядом старшины. Сразу все вспомнилось, я обмяк, притулился к окну, уныло начал считать столбы: «Четыре сбоку — ваших нет...» Эх, деньги бы!
И вдруг я решился:
— Старшина, давай сыграем на консервы, на паек.
Он смотрит удивленно, хмыкает, отворачивается к окну.
— А, старшина? Давай! Мне деньги нужны.
Старшина молчит.
— Ну, что же ты? Старшина? Трус в карты не играет. Сам говорил.
Он тяжко вздыхает, долго разглядывает, как мне кажется, пустой карман моей гимнастерки.
— Покажи паек.
Я торопливо развязываю мешок, но он даже в него не заглядывает, снова задумчиво отворачивается к окну.
— Ну, старшина, мне деньги нужны.
— Ладно, — не оборачиваясь, говорит он. — Все твои деньги ставлю на весь твой паек. Время нет, скоро станция.
Я поспешно усаживаюсь рядом. Сверху чей-то глухой пожилой голос:
— Брось, хлопец, не играй.
Но мы уже начали. Тащу одну карту, другую. Можно и остановиться. Старшина протягивает ладонь с колодой:
— Еще? Берешь?
Поезд лязгает буферами... Сейчас станция, сейчас будут оренбургские теплые платки.
— Ну? — щерится старшина.
— Беру!
У меня перебор. Двадцать два. Старшина стаскивает с полки мой вещевой мешок, кладет его себе под голову.
— Эх ты, дурачок, — словно издалека слышу я все тот же глухой пожилой голос. — Зачем тебе деньги-то? Паек сейчас — золото.
— Платок хотел матери... оренбургский. Подарок.
Поезд скрипит тормозами. За окном строения, водокачка. Слышны женские голоса. Народ оживленно толпится в проходе.
Старшина разыскивает свой костыль, долго, старательно заправляет под широкий ремень гимнастерку. И вдруг поворачивает ко мне серьезное лицо. Сейчас он не щурится. Глаза озабоченные, внимательные,
— Где ранен был, сержант?
— Под Ельней...
— Я тоже там ногу оставил, — тихо говорит он. — А мать в Москве?
— Угу.
— Что же она не эвакуировалась?
— Меня ждала.
Он волочит за лямки мой вещевой мешок, кладет мне на полку.
— Возьми обратно. А платок я сейчас сам выберу. Ты ведь небось как и в картах, так и в покупках ни черта не понимаешь. Настоящий оренбургский платок должен сквозь обручальное кольцо пролезать. Понял? Ну, я покондехаю, а ты тут присмотри за вещичками.
За окном вагона мелькают названия подмосковных дачных платформ. Мы тесно сгрудились у окна, восторженно вслух читаем: «Малаховка!..», «Красково!..», «Люберцы!..» Всем нам весело, по рукам ходят бритвы, помазки, зеркало.
Только один старшина сейчас молчалив. Он уже давно гладко выбрит, па вороте белоснежная полоска подворотничка. Костыль отставил. Сумрачно, с натугой пытается продеть сквозь кольцо то мой, то свой оренбургский платок, но ничего у него не получается.
— Шерсть не та, — сердито сам себе объявляет он и задумывается.
— Может, кольцо маловато, — предполагаю я, но старшина качает головой.
— До войны жене дарил. Через это же кольцо пролезало.
Помолчали.
— Жена встречать будет?
 Он вздрагивает, поглаживает костыль, на меня не смотрит.
Он вздрагивает, поглаживает костыль, на меня не смотрит.
— Нет, не будет.
— Она не в Москве?
Молчит старшина. Нагнулся, завернул штанину, озабоченно поскрипел кожей протеза, успокоился, осмотрел костыль, глухо сказал:
— Кому калека нужен?
И сам себе убежденно, тихо ответил:
— Никому. Кроме матери.
...С двух сторон в вагон уже в который раз заявляется патруль. Строгие, командные голоса:
— Документы! Приготовить документы!
Им вслед недовольно ворчат:
— Наели ряшку...
— С похмелья не обозреешь...
— Что ни рожа, то на прожектор похожа...
Патруль неохотно огрызнется:
— Но, но! Поговори еще... Сами такими были... Тоже из госпиталей.
И наконец в последний раз наш поезд вразнобой залязгал буферами. Остановка. Москва. Казанский вокзал.
Все теснятся в тамбуре, и, как мне кажется, сейчас все позабыли друг друга, позабыли о длительном дорожном знакомстве, случайной дружбе, о сердечных беседах. Все торопятся. Всем нестерпимо хочется поскорее шагнуть с пола вагона на бетонную платформу.
— Сержант, — легонько толкает меня старшина, — подсоби-ка.
Он никак не может попасть рукой в лямку вещевого мешка. Костыль путается, да еще рядом фанерный самодельный чемодан, выкрашенный фиолетовой марганцовкой.
Меня обожгло стыдом, неловко: «Как же я так? О нем и забыл?» Старшина словно понял мои мысли, успокаивающе, добродушно покашливает:
— Все торопятся. Москва ведь... Дом родной... Невтерпеж...
В метро я ослеп от яркого света, блеска мрамора, мелькающих поездов. И опять чуть не потерял старшину, чуть не забыл о нем. Его чемодан в моей руке. Наверное, сейчас только это заставило меня встряхнуться, опомниться, замедлить шаг. Теперь уже рядом торопливо, глухо шлепает по мрамору костыль. И опять успокоительный, словно виноватый, запыхавшийся голос старшины: «Ничего, ничего, сержант, бывает... Наше метро ведь... Черт возьми... Я все понимаю... Сейчас и твой дом — рядом...»
Отдышались, успокоились. Стоим посреди зала. Ехать нам в разные стороны.
— Ну, сержант, пока. Как хоть зовут тебя?
— Алешка. Алешка Грибков. А тебя?
— Аркадий. Новиков Аркадий. Ну, пока.
Обнял я его вместе с костылем.
— Пока, Аркашка...
— Ты вот что, ты в карты никогда больше не играй... Понял? Матери поклон. Ну, катись... Твой поезд...
Я в вагоне метро. Двери сами открываются, сами закрываются... Люди сидят на мягких кожаных диванах... На коротких остановках издалека доносится хоть и дежурное, казенное, но такое знакомое, близкое: «Готов!»
И двери закрываются. Опять станция, опять бодрое: «Готов!» Двери закрываются. Поезд трогается.
Все четко, спокойно в нашей Москве. Слышал в госпитале, что на станции «Маяковская» перед народом выступал Сталин. Он и сейчас в Москве. Он, все наше правительство, все москвичи и мама. Правда, ходят слухи, что не все москвичи вели себя как москвичи. Были и такие, что ударились в панику, бежали. Может быть, они не настоящие москвичи? А так, просто прилипалы. Словно к днищу большого корабля присосались разная склизь, ракушки и плывут себе по курсу вместе с кораблем. А когда трудно кораблю, то как-то умеют они отлипаться, отплывать. А вот как им это удается — даже в школе не смог нам объяснить учитель по естествознанию.
— Готов! — слышится в открытые двери вагона. Сомкнулись они, и поезд мягко трогается. Следующая станция «Смоленская». Надо же! Какой-то умный человек назвал так эту станцию.
Ведь это же город Смоленск! Мы за этот город страшно, отчаянно дрались. Дралась наша дивизия, потом мы «отошли к Ельне»... Так писалось в сводках.
А почему нет станции метро «Ленинградская»? Там сейчас очень трудно. Во много раз труднее, чем нам. Голод... Там воюет Лидочка... Сначала я зайду к ее маме... Нет, сначала к моей маме... У меня есть паек.
— Дядя, вы сейчас сходите? — чей-то детский голос за спиной.
— «Смоленская»? Схожу...
Двери метро словно зеркало. За спиной видны фуражка с молоточками, черная шинель с петличками. И под строгим козырьком внимательный вежливый взгляд.
— Дядя, вы сейчас сходите?
— Схожу, Славик, схожу,
— Алешка! Алешенька!
Уткнулся где-то под мышку, так нас и подняло метро наверх.
— Давай твой мешок...
— Подожди, Славик. Отдышимся.
— А чего? Вон наш дом... Тебя куда ранило? Валька Дзинь тоже у нас в ремесленном. Зайдем к нему. Мы уже на ДИП-200 работаем. Знаешь, что означает ДИП? «Догнать и перегнать». Вот.
Славик поминутно забегает вперед, путается в своей длинной шинели, то и дело поправляет сползающий на нос козырек фуражки.
— Как же тебя, такого шпингалета, в ремесленное приняли?
— А я всех обманул. Сказал, что мне четырнадцать лет.
— А документы?
— Сказал, что мой дом разбомбило и все справки пропали.
— Чей дом? Да ты что? Наш?
— Пойдем, чего ты встал. В Проточном переулке разбомбило. А я сказал, что жил в этом доме.
— Ой, Славик, подожди. Дай отдышаться.
Мы стоим посредине тротуара. Я смотрю на невозмутимую мордашку Славика. Даже в строгой форме ремесленника он все такой же: «Ура! Банзай!! Ха- ха! Мировецки!»
Он чуточку задумывается, смотрит на меня виновато, пришибленно.
— А потом? Ты не будешь на меня сердиться, Алеша?
— На тебя нельзя сердиться. А что?
— Ну, конечно, в приемной комиссии мне отказали. Говорят, мал. Тогда я пришел в наш двор... Ты не будешь сердиться? Ну и откопал наш киноаппарат. Еще раз все смазал и приволок его в приемную комиссию. Рассказал, как мы его строили, всем объяснил, как он работает, и зачем нужны конические шестерни, и зачем грейфер, и зачем обтюратор. И меня сразу приняли.
— А где же сейчас аппарат?
— Не волнуйся. В целости. Он у нас в ремесленном. Мы там кино смотрим. Я за киномеханика. Ну, не сердишься? А? Алеша?
— Славик, а где киномеханик Костя?
— Он приезжал. Тоже раненный был. Нонку твою в эвакуацию провожал. Сильный такой. В плечо ранен, а Нонкины узлы нес, и хоть бы что. Я тоже провожал. И твоя мама.
— А почему же мама с Нонкой не уехала?
Славик пожимает плечами, поправляет фуражку.
— Не знаю. Кажется, из-за кошки?
— Какой кошки?
— Не знаю. Она так говорила.
Сейчас за поворотом будет наш двор. Я придерживаю шаг. Трудно дышать. Сейчас будет забор, а там и наш дом. Я останавливаюсь, вытираю пилоткой лицо. И только сейчас замечаю, что кругом нет никаких заборов.
Славик словно угадывает мои мысли, весело поясняет:
— На дрова пошли заборы. Хорошо. Теперь напрямик ходи куда хочешь.
Он вдруг спохватывается, хлопает себя по затылку:
— Алеша, мы же не туда идем. Ведь в нашем доме никто уже неделю не живет. Всех переселили, подальше от Бородинского моста. Фашисты все время на него охотятся. А наши дома рядом с мостом.
Я растерялся, во рту вдруг высохло, тяжелым стал вещмешок.
— Так где же мы теперь живем?
— Далеко, за Киевским вокзалом... Вон там.
— А почему же ты сошел на метро «Смоленская», а не на «Киевской»?
Он вертит головой, смешно поднимает плечи:
— Сам удивляюсь. По привычке, наверное.
— Ну так пойдем в наш двор по привычке.
Лицо мальчугана расцветает, он с удовольствием шагает рядом к нашему старому двору.
...Хотя забора нет, мы все же входим во двор через сиротливую одинокую калитку. Она скрипит все так же, как скрипела до войны, как скрипела все наше детство.
Каким вдруг показался маленьким наш двор! И хотя кто-то спилил два старых тополя, двор все-таки маленький, даже тесный. А может быть, мы со Славиком подросли, потому и кажется нам двор таким крохотным. И все дома вроде ниже, и пожарная лестница короче. Та самая лестница, по которой когда-то со страхом карабкалась Лидочка с моими штанами через плечо.
А вот на этом сарае мы вешали простыню-экран и показывали кино. А вот Ларискино окно. Крест- накрест бумажные полосы. Наглухо затянуто чем-то синим. На подоконнике голые палки стеблей давно засохших цветов. Славик понимающе поясняет:
— В Средней Азии где-то она, вместе с Гогой из дом пять.
На сараях желтые от ржавчины замки. На крышах большие заплатки из толя, прижатые кирпичами. Женская работа. Мужчины бы прибили планки.
А вот и наша скамейка.
— Посидим? — предлагает Славик.
Мы сели. Долго молчим. Неожиданно громко прогрохотал трамвай за одинокой калиткой. И опять тишина. А когда-то мы этих трамваев просто не замечали. Уж слишком шумно было в нашем дворе. То визг пилы, стук молотков в моем сарае, то надрывались патефоны: «Все хорошо, прекрасная маркиза», или слышалось из окон досадное: «Славик, домой!», «Женя, домой! Папа арбуз принес!», или жаркий шепот Лидочки мне в ухо: «Алешка, так почему же, когда тебе кто очень нравится, то ты ему — нет?»
Меня тихонько трогает за рукав Славик, показывает глазами на доску скамейки. Вижу выжженную надпись: «Алеша + Лариса = любовь».
Мне грустно.
— Сострогать не можешь? А еще в ремесленном учишься.
Славик деловито прикидывает:
— «Ларису» сострогать можно. А кого вписать?
— Знаешь, Славик, спустимся в мой подвал, хоть на дверь посмотрю.
— Давай, — охотно соглашается мальчуган. — Ты постучишь, а я спрошу: «Кто там?» Пошли.
Мы спускаемся по щербатым ступенькам в наш подвал. По этим же ступенькам в последний раз я поднимался в первый день войны. А следом за мной по этим же ступенькам в слезах, сдерживая рыдания, карабкалась моя мать. А потом жадно ждали ступеньки почтальонов с моими солдатскими треугольничками.
Сейчас на двери что-то белеет. Большая записка. Мы приблизились, и я зажег спичку.
Запрыгали родные мамины каракули:
«Алеша! Мы переехали. Живем по адресу...
Это за Киевским вокзалом. Жду тебя, сыночек, родной. Крепко, крепко целую. Мама».
— Ну, Славик, веди.
Он понимающе снял с меня вещевой мешок, просунул руки в лямки, затопал вверх по лестнице.
— Пошли, Алеша, в наш новый дом. Ура! Банзай! Ха-ха! Мировецки!
* * *
За Бородинским мостом то и дело нам преграждают дорогу противотанковые рогатки: крест-накрест сварены рельсы, тавровые балки. Таких барьеров у нас на фронте не было. А вот уже и как на фронте: заграждения из колючей проволоки, щели, настоящие окопы. Рядом — штабелями мешки с песком.
— Я тоже копал, — восторженно объявляет Славик. — И твоя мама, и Лева, и Мишка. Да, ты знаешь, про Мишкиного отца в газетах писали! Недавно приезжал в Москву. Мы посылочку собрали в Ленинград для Лидочки. Он обещал передать со знакомым летчиком.
— Славик, от Лидочки ничего нет? — безнадежно спрашиваю я.
Он хмурится, косится на меня, серьезно, по-взрослому вздыхает:
— Там, брат Алеша, тяжело. Блокада.
— Может, хоть весточка какая?
— Не знаю. Нам она не пишет. А мать ее на фронт с артистами уехала. Выступает там. — Помолчал, ободряюще предложил: — Наверное, письма не доходят... Сам понимаешь — блокада. — Опять солидно помолчал, потом спросил: — Алеша, а что такое блокада?
— Значит, окружение, Славик... А как сейчас Мишка, Лева? Где они?
— Лева на нашем базовом заводе, токарем. В общем, в почтовом ящике. Нельзя говорить — тайна. Кое- что для фронта делаем. Его ведь в армию-то не взяли. Близорукий. Вот он сейчас мины точит. А Мишку в комсомол приняли. Сейчас собирается в военно-морское авиационное училище. Будет авиамехаником на морских самолетах. Наверное, отец помог. Гога из дом пять тоже туда хочет. Прислал Мишке письмо с вырезкой из газеты, где про Мишкиного отца написано. Просил помочь попасть в это же училище.
— Ну и как? Попал? — откровенно завидуя, сердито спрашиваю я.
Он хмурится:
— Не знаю, Алеша.
Вдруг Славик оживляется, даже подпрыгивает:
— А вот и твой дом. Вот твой подъезд, а мой подъезд с той стороны, со двора. Там и Валька Дзинь. У тебя пятый этаж. А я на первом. Жалко. На перилах нельзя съезжать. Ну, поднимаемся, Алеша.
— Славик, — волнуясь, прошу я. — Один я пойду. Понимаешь? Не обидишься? Так надо, Славик.
Смотрят на меня из-под козырька внимательные, чуть обиженные, умные мальчишеские глаза.
— Понимаешь, Славик, сейчас так надо. А вечером приходите ко мне и ты, и Мишка, и Лева, и твой Валька Дзинь. Все ребята. Ладно? Ты про училище, про завод расскажешь, я — про фронт. Ладно?
Он отвернулся, медленно снимает мешок, не глядя протягивает руку.
— Ну, пока, Алеша, до вечера, — пошел, не оглядываясь, деловитой солидной походкой. На углу оборачивается, машет фуражкой: — Алеша, до вечера!
В подъезде очень просторно, чисто. Где-то за обитой клеенкой дверью плачет ребенок. На втором этаже слышится сердитый примус. На третьем — тишина. Можно и отдышаться. Снял мешок. Закурить, что ли? Еще два этажа, и там — мама. А может, опять записка? Хорошие чистые ступеньки. Можно присесть и закурить. Тишина.
Присел, закурил. Впереди еще два этажа. Снизу слышатся приглушенные, осторожные голоса, кто-то поднимается. Шаги нерешительно потоптались на втором этаже, остановились.
Девичий голос:
—- Не надо выше. Я боюсь.
Целуются.
Молодой, не очень уверенный мужской голос:
— А чего бояться? В случае чего скажем — ищем квартиру Петровых.
— Нет, я не пойду, Сережа.
Пауза. Опять целуются.
Сверху сквозь прутья перил мне чуточку виден Сережа. Новенькая командирская шинель. Новенькая кожаная портупея. Кашлянуть, что ли?
Она слабо упрашивает:
— Ты все-таки поднимись. Там какой-то дым. Наверное, курят. Ну, Сережа.
— Стой здесь. Иду.
Скрипят на ступеньках новые сапоги. Я кашлянул. Сапоги не скрипят. Сережа тоже кашлянул. Тишина. Опять заскрипели сапоги.
— Здравствуйте, товарищ сержант.
— Здорово, лейтенант.
— Здесь Петровы не живут?
— Переехали они. Здесь Грибковы живут.
— А-а, жалко. Ну, до свидания.
— До свидания, — говорю я. — Заходите.
Он неопределенно обнадежил, заторопился вниз.
Сверху еще кто-то осторожно ступает. Со ступеньки на ступеньку опускается, движется огромный таз. Вцепились в края побелевшие ногти.
Прижался к стене, даю дорогу. Женщина совсем рядом. Серебрится висок.
— Мама, — тихо говорю я.
Остановилась. Ничего не понимает. Таз на руках поправила и дальше, на ступеньку ниже.
— Мама!
Оглянулась, закачался таз, шлепнулся, мама рукой стенку ищет.
— Алешенька!
Загремело внизу.
— Сейчас я соберу, подожди. Мама, подожди!
И опять к ней. Схватил со ступенек мокрые солдатские гимнастерки.
— Мама!
— Алешенька! Алеша!
Поднялись наверх. Обняла, прижала к себе мою голову.
— Алешенька!
— Подожди, мама, белье-то. Таз там. Ну, я сейчас.
— Алешенька!
— Мама, ну подожди. Сейчас я все соберу.
Опомнилась, торопится, суетится.
— Да, да, сынок... Скорее... Потом соберем... Сейчас тебе ванночку... А у меня и вкусное есть. И еще шампанское сберегла. Там, на балконе.
Мы с мамой не заметили, что в открытых дверях стоит мой знакомый молодой лейтенант Сережа. В руках таз с бельем, а за спиной прячется девушка.
— Вот все ваше собрали, — строго говорит Сережа и розовеет. — Возьмите, пожалуйста.
Мама суетится, приглашает их в комнату.
Сережа девушке стул поставил, сам за табак. Самокрутка не получается. Снова вертит, сердится.
— С фронта, товарищ сержант? — спрашивает Сережа и никак не может заклеить языком самокрутку.
— Да Как вам сказать, товарищ лейтенант...
Мама суетится, перебивает:
— Какой уж ему фронт... Из госпиталя он.
Веник бросила и ко мне:
— Надолго, Алеша? Насовсем ты?
Лейтенант солидно портупею поправляет, девушка ему сзади ремень приглаживает, высунулась из-за спины, смутилась:
— Вы уж извините нас. Сегодня ночью Сережа туда уезжает... Прямо из училища... Ну, мы пойдем...
...Я еще никогда не видел маму такой суетливой, растерянной. Сейчас все у нее валится из рук, все она забывает, ничего не видит. Веник валяется посредине комнаты на блестящем паркете. Она ищет его на кухне. В руках у нее моя гимнастерка и сапоги, она не знает, куда их деть. То вдруг молча зальется слезами, осторожно трогая рубцы на моей груди, то бежит в кухню подкачать примус или лезет под кровать в поисках каких-то тапочек.
Я покрыл ее плечи оренбургским платком. Она и плачет и смеется, торопливо смотрится в зеркало, но в нем видит не себя, а меня.
— Алеша, подальше от форточки. Еще просквозит.
Она показывает мне ванную, торопливо наказывает, чтобы я не жалел мыла, потому что им, прачкам, его выдают достаточно.
Она поминутно стучит в дверь ванной, виновато просит разрешить ей искупать меня или сообщает о том, что ей очень хорошо в прачечной, и что у нее рабочая продуктовая карточка, и что она меня обязательно откормит.
После ванной я располагаюсь бриться. Она очень удивлена, усаживается напротив, тепло улыбается, то и дело прикладывает фартук к глазам. Она ничего не дает мне делать, даже отбирает у меня бритву, боязливо протирает ее, тут же бежит в кухню за спичками, неумело дает прикурить.
Босые ноги мне уже давно щекотит теплой шерстью наша любимица кошка Масташка. И мама, без конца отвлекаясь, сбивчиво рассказывает, как из-за этой кошки она отказалась эвакуироваться.
— Уже все вещи собрали, — говорит мама, — Нонна свои, я свои. Через два часа уходит поезд. Ждем Костю, он обещал проводить. Ну, вот ждем Костю, а я с утра печку протопила. И на ней лежит вытянувшись наша Масташка. Хорошо ей, мурлыкает. Только тут я сообразила, а с кем же будет кошка? Кто ее покормит? А она в глаза, как человек, смотрит и ласково на печке переворачивается, хвост распушила, грудку подставляет, мяукает: мол, куда же ты, хозяйка, уезжаешь? Видишь, как тут хорошо? Я не выдержала, заревела, говорю: никуда не поеду от Масташки. Значит, судьба такая. Останусь в Москве, и все. Будут наши отступать — и я с ними, прачка в армии всегда нужна. Тут Костя пришел, я ему свой план сказала. Они с Нонной меня уговаривать, а я как посмотрю на Масташку — и в рев.
А она, даром что кошка, но все понимает, катается, поджав лапки, на печке и мурлычет, мурлычет, будто разговаривает. Вот так, Алеша, я и осталась. А Нонна уехала. Проводили мы ее с Костей, она тоже все плакала, говорит, что я ее на кошку променяла. А я ей в ответ, что дело не в Масташке, а в тебе, Алешенька. Вернешься из госпиталя, а куда тебе деваться. Меня-то в Москве не будет.
Она все рассказывает, а я разглядываю нашу новую квартиру. Красивые, дорогие обои, пианино, мягкая мебель, на стенах картины. Мама сбивчиво поясняет, что это квартира одного инженера, он с заводом и своей семьей эвакуировался на Урал, уже прислал маме хорошее теплое письмо. Просит ни в чем не стесняться, пользоваться всем, что есть в доме, даже дорогой посудой.
— Но я ни к чему не притрагиваюсь, — говорит мама. — И ты, Алешенька, ничего здесь не трогай. Чужое ведь. Вернутся люди, и как им будет хорошо. Все в целости, все в сохранности.
— Разрешите войти? — в дверях мнется Славик. — Что-то у вас все двери раскрыты?
Мама спохватывается:
— Ой, господи, забыла лейтенанта поблагодарить за белье и таз. Хоть бы чайком попоить, ведь на фронт едет.
— Он с девушкой был? — догадывается Славик. — Так они на втором этаже сидят и целуются. Даже меня не заметили. Позвать?
— Да не трожь их, — говорю я, — человеку на фронт ехать, а мы мешаем.
Славик усаживается напротив, с интересом трогает бритву, понимающе определяет:
— Сталь.
Потом лезет в карман, достает пачку «Беломора», привычно ногтями вытягивает папироску.
— Курить можно?
— Что? Что?
— Закурить можно?
Я прямо ошеломлен и не знаю, что сказать.
— Чего ты заикаешься, Алеша? У нас вся группа курит.
Мама возится на кухне, и я вдруг решаюсь:
— Кури. Только одну выкуришь и сразу другую, потом третью? Идет?
Славик с беспечным ухарским видом согласился. Только и спросил:
— А мама, ничего?
— Ничего. Подумает, что я накурил. Начинай.
Он затягивается не «в себя», но я настойчиво требую глубоких затяжек, слежу, чтобы все было как у настоящих курильщиков.
Славик не закончил и первой папироски, как лицо его побледнело, он начал давиться, отставил папиросу, но я строго требую курить и курить.
Славик вдруг вскочил, кинулся на кухню. Пропадал он долго и наконец вернулся в обнимку вместе с мамой.
— Что с ним, Алеша? Может, врача вызвать, я добегу.
— Ничего, мама, пройдет. Это он перенапрягся в училище, да еще на заводе практика. Устал.
Мама усадила Славика, дала воды и опять в кухню.
— Давай еще закурим, — безжалостно подсовываю я Славику зажженную папиросу.
Он икает, крутит головой и вдруг срывается снова в кухню.
Вбегает испуганная мама.
— Алеша, что с ним? Его тошнит. Я за врачом побегу.
Кое-как успокаиваю маму.
— Пройдет. Это он муху съел.
— Господи, твоя воля, — облегченно вздыхает мама. — И такие дети па заводе трудятся. Ой, молоко бежит!
Заходит вялый Славик. Устраивается подальше от своей пачки «Беломора», не глядя на стол, говорит голосом умирающего:
— Алеша, возьми себе мои папиросы.
— Какие? — спрашиваю я.
Славик не может повернуть голову в сторону «Беломора», смотрит в потолок.
— Какие папиросы, Славик?
— Да вот же.
Он глядит па стол и сейчас же порывается снова на кухню. Я держу его за руки:
— Ну, хочешь еще курить?
— Ни за что, — икает Славик, — никогда больше не буду. Ой, убери их с глаз. Тошнит...
...Суетится мама с горячим молоком. Отпаивает Славика. Постепенно розовеет его лицо, мальчугана уже не трясет. Он отдышался. С испугом косится на пачку «Беломора», отвлеченно рассказывает:
— Я всех ребят обегал. Мишке в дверь записку, Леве — в дверь, Бахиле и Жигану. К вечеру придут.
Я прямо обрадовался: значит, придут все ребята. Вот здорово!
— А что сейчас делает Бахиля? Где он?
— С Жиганом вместе на заводе работает, — говорит мама, — недалеко от нашей прачечной. Я их по утрам вместе вижу. Вежливые такие стали. Всегда поздороваются и про тебя спросят. Тут как-то пришли, еще на старой квартире было, и все дрова мне перепилили.
— А у Жигана медаль трудовая, — говорит Славик, — серебряная. У тебя орден тоже серебряный? Давай посмотрим. Я еще никогда в руках не держал.
Я не слушаю Славика, ушел в воспоминания. Жиган, тот самый Жиган — и вдруг медаль. Как все интересно.
— А мы тебе с Валькой Дзинь к вечеру подарок сделаем, — хитро говорит Славик, — ни за что не угадаешь. Вот подумай-ка, какой?
Я задумываюсь, тянусь за папироской, Славик вдруг поспешно вскакивает:
— Пойду из кухни посмотрю в окно, может быть, уже ребята идут?
— Ладно уж, сиди, — успокаиваю я Славика, — не буду при тебе курить.
Мама включает репродуктор. Мы слушаем сообщение Советского Информбюро.
— «На Ленинградском фронте без существенных перемен...» — говорит диктор.
— Это что значит, Алеша? — спрашивает Славик. Я вспоминаю госпиталь, о том, как часто мы слышали от диктора эти же слова, а потом через неделю к нам прибывали все новые и новые партии раненых с тех самых фронтов, где неделю назад было «без существенных перемен».
— Это значит, Славик, что Лидочке сейчас очень тяжело.
Мама спохватывается, роется в картонной коробке и, довольная, кладет передо мной фотографию девушки в пилотке, в армейской шинели. Знакомый разрез глаз, слабая улыбка, взгляд глубокий, усталый. Это Лидочка,
— Это тебе ее мама подарила, прочти на обороте.
Я читаю надпись. Знакомый собранный, четкий Лидочкин почерк: «Алеше, директору киностудии «Плющихфильм», самому дорогому другу детства от несостоявшейся киноактрисы. Лида», Славик тоже прочитал надпись, разочарованно перевернул карточку:
— Я думал, про войну напишет.
Потом я достал письма от Женьки, что он написал мне в госпиталь. Вот уж в его бодрых письмах войны хоть отбавляй. По описаниям Женьки, наша часть воюет одна за всю Красную Армию. Что ни бой, то крупные победы, и враг бежит, бежит. В общем, приставь к глазам бинокль, и Берлин как на ладони. Для того, кто не был на фронте, Женькины письма — сплошной парадный марш, ио я-то знаю, что стоит за каждой строчкой Женькиного треугольничка.
Мы с мамой остались одни. Славик как-то незаметно исчез, оставив на столе пачку «Беломора». Мама суетливо расставляет посуду, успевает и со мной говорить, и прислушаться к радио, и затемнить окна.
Довольная, оглядев стол, подсаживается, гладит мои волосы.
— Сынок, тебя опять возьмут? — с тревогой кивает на репродуктор.
— Нет, мама, отвоевался.
— Дай-то бог, дай-то бог. Я ведь ваши гимнастерки из госпиталей стираю. Какую в руки ни возьмешь, кровь и дырки, дырки и кровь. Господи, когда это все кончится? И вот от Нонны ни одного письма. Говорят, эшелоны с эвакуированными немец бомбит, обстреливает.
Подбородок у мамы дрожит, и я торопливо, как только могу, ее утешаю.
В дверь звонят. Мама поспешно открывает, и мне слышны знакомые до спазм в горле голоса. Лева и Мишка.
Толкаясь, они вместе входят в комнату, и сразу мама зажимает свои уши от наших криков.
Мы хлопаем друг друга по плечам, по спине, делаем круги один вокруг другого, меряемся ростом, хохочем и говорим все сразу.
Нас с трудом успокаивает мама, сердито машет на нас, торопится к дверям. Оказывается, кто-то очень настойчиво звонит. И опять в передней знакомые голоса; Глухой басок Бахили и торопливая скороговорка Жигана.
Теперь уже мы все вместе, обнявшись, образовали

круг и танцуем замысловатый танец дикарей под свою музыку: «Ура! Ха-ха! Банзай! Мировецки!»
Жиган вдруг испуганно останавливается, хлопает себя по груди, где горделиво поблескивает его трудовая медаль, потом, торжествующе улыбаясь, медленно выволакивает из внутреннего кармана четвертинку, закупоренную бумажной пробкой.
— Чистый спирт, — доверительно сообщает он. — Девяносто градусов.
Наконец мы усаживаемся за стол. Я вижу, как Жиган нет-нет да искоса посмотрит на свою медаль. Чувствуется, что ему очень хочется, чтобы мы ее потрогали и вообще почаще бы на нее взглядывали. Мне вдруг стало досадно, что мама поторопилась бросить в стирку мою гимнастерку, а орден спрятала в коробочку.
Мы с видом отчаянных выпивох чокаемся разбавленным спиртом, но мама не разделяет нашей лихости, качает головой, болезненно морщится.
— Ну, так за что медаль? — спрашиваю я.
Мы трогаем медаль на груди Жигана. Он, кажется, перестал дышать, немигающим, безразличным взглядом уставился на абажур.
— За что наградили? — повторяю я.
Жиган медленно обводит невидящими глазами комнату, говорит в пространство:
— За освоение новой продукции. — Подумал и добавил: — Все для фронта, все для победы.
Жиган шумно выдохнул, согнал с лица важность и вдруг грустно сказал:
— Эх, хоть бы раз мне теперь встретиться с вашей Наташей из райкома... Для нее я был что? Так просто, босяк, хулиган.
— А теперь его портрет висит у входа на завод с правой стороны, — горделиво дополняет друга Бахиля.
— Не справа, а слева, — уточняет Жиган.
— А где сейчас Наташа? — спрашиваю я.
Мишка, заметно волнуясь, рассказывает, как Наташа приходила к нему домой с газетой, где было напечатано про летчика, как потом в райкоме комсомола она радостно голосовала за Мишку, как при всех поцеловала его, когда Мишке вручали комсомольский билет.
— И Пелагея Васильевна, ваша учительница по русскому и литературе, пришла тогда в райком, — говорит Жиган, — меня тоже в этот день в комсомол принимали. С тех пор Наташу не вижу. Так зайти вроде неловко, а мимо райкома нарочно несколько раз проходил, но она не встречалась. Эх, еще по одной, что ли?
— Видела, видела она тебя, успокойся, — вмешивается в разговор мама. — Утром на той неделе шла я в прачечную, а она стоит у заводских ворот и твою озорную цыганскую физиономию на карточке разглядывает.
— Прасковья Григорьевна? Правда? С левой стороны? И правда меня? Эхма, давайте чокаться! — орет Жиган.
У Льва под очками в глазах смешинки бегают:
— Она, наверное, остолбенела у твоего портрета: мол, такой красивый завод — и вдруг на фасаде пугало!
Мы хохочем. Жиган грозит нам пальцем, весело смеется.
— Прасковья Григорьевна, ну их всех. Изобразите, как она смотрела на портрет.
Изображать Наташу у портрета Жигана взялся Бахиля. Он становится на носки, чмокает губами, отходит, снова приближается к невидимому портрету, вытирает глаза и наконец рушится на колени.
В дверь часто, нетерпеливо звонят. Мама заспешила открывать, и вот вместе с ней в комнату входит Славик, с трудом занося один конец длинной доски, командует:
— На меня давай, Валька! Еще! Заходи.
Другой конец доски поддерживает белобрысый с испуганными глазами мальчуган в форме ремесленника.
— Познакомьтесь, — объявляет Славик, — Валька Дзинь, настоящая фамилия Попов, а Дзинь — его псевдоним. Так, кажется, говорят, Лева? — обращается он к очкастому Леве.
— Давайте два стула, — командует Славик. — Положим на них доску, это будет наша скамейка, и все усядемся, как во дворе до войны.
Только сейчас мы поняли, откуда эта доска. На ней выжжено: «Алеша + Лариса = любовь».

Утром следующего дня я отправился по делам в военкомат, а заодно и на военно-пересыльный пункт отоваривать продаттестат. Мамы дома уже нет. На столе — прикрытый тарелкой завтрак. Доска от нашей скамейки заботливо накрыта чистой мешковиной, в комнате все убрано, уютно, тепло.
На улице уже апрель, но ноздреватого серого снега еще много. До войны его быстро свозили во дворы, дворники яростно очищали скребками тротуары. Сейчас этим заниматься, видно, некому. Прохожих на улицах мало. Поредела, обезлюдела когда-то шумная, говорливая Москва. Вместо милиционеров — строгие девушки-регулировщицы. У продуктовых магазинов длинные молчаливые очереди. Кучки людей у стендов со сводками Совинформбюро.
Притихшая Москва выглядит сурово, настороженно, подтянуто. Проходящие по улицам воинские подразделения шагают молча, сумрачно, без песен. Только хруст сапог да приглушенные команды командиров, и все.
Словно взнузданные огромные серебристые чудовища, медленно и будто торжественно плывут вдоль улиц аэростаты воздушного заграждения. Ночью они охраняли небо Москвы, сейчас до вечера их уводят на покой.
Почти на каждом углу военные патрули. Красные повязки на рукавах, неумолимые строгие лица:
— Ваши документы!
В военкомате многолюдно. Особая, очень вежливая очередь к комиссару. Все больше по вопросу разных отсрочек, брони, историй болезни.
Девушки, служащие военкомата, в ладно пригнанных гимнастерках, то и дело проносятся с бумагами по мрачным коридорам, сердито просят не курить. Посетители с готовностью, торопливо слюнявят цигарки и тут же, озираясь, закуривают новые.
На стенах призывные, суровые плакаты: «Воин Красной Армии, спаси!», «Родина-мать зовет!» Тут же текст воинской присяги и скупые описания подвигов бойцов с красочными, очень героическими рисунками.
Все говорят вполголоса, тихо советуются, доверительно показывают друг другу разные бумажки, понимающе тычут пальцами в обшарпанную, устаревшую карту военных действий.
Подошла моя очередь. За столом очень подтянутый и очень усталый человек. В петлицах три шпалы. Новенькая, скрипучая портупея, неожиданный запах одеколона и приветливая, какая-то домашняя улыбка.
Комиссар внимательно полистал мои документы, как бы между прочим спросил, как называется центральная улица в городе, где находится мой госпиталь. Я ответил. Он почему-то попросил описать городской вокзал, я решил, что ему очень хочется отдохнуть от длинной очереди за дверью, и, как мог, живописал вокзал, а заодно и реку, на берегу которой возвышается госпиталь.
Он, не глядя в мои бумаги, довольный, кивает в такт моему рассказу, потом желает мне хорошего отдыха и тут же советует не терять времени, куда-либо устраиваться на работу.
— По мере сил, конечно, — говорит он, вставая и прощаясь со мной за руку. — Куда надумаешь, поможем устроиться. Только не толкайся среди инвалидов.
Я четко козыряю, выхожу за дверь. И сейчас же меня окружают какие-то штатские из очереди, косятся на дверь, любопытствуют:
— Ну, как? Злой?
— Первый класс мужик, — успокаиваю я их и снова выхожу на апрельскую улицу.
По дороге за пайком неотвязчивая мысль: куда поступить работать? Комиссар сказал, чтобы я не толкался среди инвалидов. Я знаю, что это такое. Уже видел на узловых станциях по дороге к Москве. Соберутся кучкой около какой-либо палатки, меняют мыло, тряпье на водку и тут же пьют из горлышка, потом потрясают костылями, протезами, дерутся.
И вот сейчас на улицах Москвы, около очередей в магазины тоже снуют на костылях такие же заросшие типы, шумят, бьют себя в грудь, хвастаясь, обнажают боевые шрамы, вопят: «Я — фронтовик!» Противно. Женщины скорбно поджимают губы, отворачиваются. Ребятишки в очереди пугливо жмутся к матерям. Мужчины в штатском хмуро отмалчиваются.
Так вот о чем говорил комиссар военкомата. Чудак! Разве за то воюют люди, чтобы потом потрясать костылями, без очереди рваться в магазин. И ведь не за хлебом, не за крупой рвутся...
На пересыльном пункте удачно отоварили. Дали сухой колбасы. А ее на вес очень много. Хлеб, сахар, селедку. Счастливый, я еду на трамвае домой. Мешок приятно покоится на коленях.
Сейчас за поворотом наша пятнадцатая школа. Около нее как раз остановка трамвая. Можно будет поглядеть на школу, на ее вход, на окна. Жалко, что сейчас война и школа не работает. А то бы зашел.
Остановка трамвая. Вот она, моя школа. Трамвай стоит долго. Кондукторша объявила, что нет тока, и ушла посудачить в кабину вожатого.
Я рассматриваю школу. Почему-то в ней кое-где открыты окна, с подоконников свешиваются беспокойные ребячьи головы. И вдруг слышится длинный звонок. Нет, это звонит не наш трамвай, это школьный звонок. Головы с подоконников исчезли, и только сейчас я соображаю, что ведь школа-то работает. И почему мне в голову пришло, что, мол, раз война, то дети в Москве не учатся?
Значит, сейчас в школе все учителя. И Пелагея Васильевна?
Я подхватываю вещмешок и бегом к выходу.
— Сейчас поедем, солдатик, — кричит кондукторша, — ток дали!
В школе прохладная тишина. Я могу с закрытыми глазами найти свой класс, учительскую, наш физкультурный зал, я знаю на память каждую ступеньку на лестницах школы.
— Вы к кому? — слышу я старческий голос за спиной. Это, как всегда с неизменным ведром, тетя Агаша.
— Не узнаете? — приближаюсь я к ней. Она ставит ведро, долго близоруко всматривается и наконец улыбается одними деснами. — Грибков Алешка, разбойник! Еще на сцене представлял! Живой!
Мы обнялись. Опять осмотрели друг друга. Она прислонилась к стенке, закрылась руками, беззвучно затряслась, сдерживая рыдания.
— Васеньку моего убили...
За спиной скрипнула дверь, и строгий голос:
— Что здесь за шум? Ведь урок же!
— Пелагея Васильевна, — кидаюсь я на строгий очень знакомый голос. Она растеряна, отгораживается руками, пятится из темного коридора обратно в класс.
— Пелагея Васильевна, это же я, Алеша!
Мы обнялись на глазах всего класса. Она, обмякнув, сползла на свой стул, сдернула пенсне, трогает мое лицо и все шепчет:
— Алеша, Алеша... Ученичок мой...
Класс неподвижно застыл в тишине, и вдруг прорвался восторженный девчачий визг:
— Ой, девочки, как хорошо!
Нас с шумом окружили, подняли мою пилотку, бережно надевают на голову, вежливо тормошат со всех сторон, смеются.
Пелагея Васильевна встала, мокрыми глазами осмотрела класс, стараясь быть спокойной, прерывистым голосом сказала:
— Ребята, успокойтесь. Займите свои места! А ты, Алеша, — обращается она ко мне, — пиши на доске тему сочинения «За что я люблю свою Родину?».
Тряпка в моих руках весело стирает с доски слова: «Образы помещиков в поэме...» И на чистой блестящей поверхности я очень аккуратно, стараясь как можно красивее, пишу: «За что я люблю свою Родину?»
— На это сочинение вам два часа, — задумчиво протирая пенсне, говорит Пелагея Васильевна. — А мы с Алешей посидим в учительской. Нам очень нужно поговорить. Чтобы в классе была рабочая тишина.
Класс загалдел, загудел:
— Мы ведь все понимаем!
— А можно начать с сегодняшнего случая? С того, как вы встретились с Алешей?
...В учительской комнате пусто. Только строго смотрят на нас с портретов Дарвин, Ньютон, Ломоносов, Коперник, Софья Ковалевская...
Пелагея Васильевна усаживает меня к свету, с интересом разглядывает, часто вздыхает, рассуждает вслух:
— И такие мальчики уже защитники Родины... Совсем дети... Война — это кошмар... Что же это были за педагоги, что учили, воспитывали Гитлера в школе? Кто им дал право преподавать?
Я смотрю на Пелагею Васильевну и понимаю, как тяжело придавила ее война. Худое, измученное лицо, пальцы рук словно прозрачные, белые виски, на лице печальные, глубокие морщины.
Неслышно вошла с подносом тетя Агаша. На подносе чайник, стаканы и на блюдечке щепотка песку. Молча поставила перед нами поднос, отвернулась, побрела к двери, сгорбленная, прибитая своим большим горем.
— Ну, давай чай пить, — растерянно улыбается Пелагея Васильевна. — Чем богаты...
Я вспоминаю про свой паек, тороплюсь в коридор, где позабыл вещмешок. И вот уже мы сидим рядом, пьем чай, закусываем. Пелагея Васильевна осторожно притрагивается к еде, улыбается каким-то своим далеким, сокровенным мыслям.
Прозвенел звонок. Учительская комната наполнилась педагогами. Мы настойчиво приглашаем всех к нашему столу, они вежливо отказываются, но потом все же присаживаются. Всем очень нравится колбаса. Некоторые свои кусочки заворачивают в бумагу «на память», но я догадываюсь, что это делается для тех, кто их ждет после уроков дома. Мне неловко за то, что у меня есть продаттестат, за то, что нас, бойцов, так хорошо кормят.
Я стараюсь очень весело рассказывать о войне, мои слушатели, занятые едой, коротко вежливо поддакивают.
За окном апрель, весна, а в притихшей комнате холод. Пелагея Васильевна держит стакан с чаем двумя руками, с удовольствием отогревает пальцы, дышит над паром. Поверх платья на ней будничная меховая безрукавка, на ногах белые бурки.
Да и все преподаватели сейчас закутаны в теплые шали, платки. От строгой подчеркнутой аккуратности в одежде, что была до войны, не осталось и следа. Платок у нашей кокетливой химички лежит не празднично на плечах, а им повязана голова, шея, словно у молочницы на рынке. Под пиджаком на груди нашего постаревшего географа виден стянутый крест-накрест пушистый платок.
И только физик по-прежнему элегантен в своем черном костюме с выступающими белыми манжетами и ослепительно белым воротничком. Он откровенно радуется настоящему кусковому пайковому сахару, но в стакан его не кладет и, завернув в носовой платок, прячет в карман.
— Сейчас сладкого нельзя, — смущенно поясняет он, — зуб разболелся.
По очереди уважительно потрогав мой орден, учителя расспрашивают меня про войну, но, к сожалению, ничего нового, особенного я не могу рассказать, ибо давно уже с передовой. Но их интересует не положение на фронте, каким я его застал, а то, что испытывает боец, когда на него идут танки, как поднимаются в атаку и сразу ли чувствуется ранение: больно ли? Или в горячке не очень?
Скоро прозвенит звонок, и потому мой рассказ тороплив, сбивчив. Меня никто не перебивает, как, бывало, на уроках, и только Пелагея Васильевна привычно морщится, когда я топчусь на месте и никак не избавлюсь от слов «значит».
Потом географ чайной ложечкой показывает на карте возможность прорыва немецких войск на Волге, и все подавленно молчат.
— Ну, к Волге их наши мальчики не пустят, — тихо, убежденно роняет Пелагея Васильевна. — Правда, Алеша?
Я молчу, не знаю, что сказать. Пелагея Васильевна кивает на шкаф, задумчиво продолжает:
— Вот храню все их сочинения «За что я люблю свою Родину?». Они искренние, честные. Чем жили, чем дышали, то и написали. Такие не струсят, такие устоят. — Она подумала, отставила стакан, вздохнула: — Не все, конечно.
— Дело не только в сознании бойцов, уважаемая Пелагея Васильевна, — зябко кутаясь в платок, вступает в разговор наша преподавательница немецкого языка Амалия Карловна, — дело в оружии, в немецкой точности...
Географ засмеялся:
— Ну, их точность мы видели в декабре под Москвой!
— А насчет оружия и военной техники сейчас у нас хорошо, — солидно добавляю я, припомнив длинные составы, что обгоняли нас по дороге из госпиталя к Москве. Открытые платформы этих составов были наглухо заботливо задраены брезентом. И все же в углах, в складках брезента угадывалась грозная, еще неведомая нам боевая техника.
Пелагея Васильевна одобрительно слегка кивает мне, и я охотно передаю рассказы новеньких раненых о том, что в их полки сейчас потоком идет современное автоматическое оружие, а в небе все чаще и чаще появляются наши новейшие первоклассные самолеты, с которыми неохотно встречаются хваленые фашистские «мессершмитты».
Не знаю, часто ли у меня проскакивало слово «значит», но все, что думал, во что верил, я сказал.
Физика интересует немецкая ручная граната, и, забыв о закуске, он начинает горячо рассуждать о том, что хорошо бы к нашим гранатам РГД-39 приделать длинные, хотя бы деревянные ручки.
— Тогда получится больше рычаг, — победно оглядывает он всех нас, — такую гранату можно забросить очень далеко.
Все понимающе кивают.
— Или возьмите гранатомет, — увлеченно продолжает физик.
Но «взять гранатомет» мы не смогли: помешал звонок, и преподаватели, поблагодарив за чай, заспешили на уроки.
И опять мы вдвоем с Пелагеей Васильевной. Она гладит меня по голове:
— Алеша, ну а по-честному, как там на фронте? Не страшно?
Она вдруг озабоченно начинает рыться в своем пухлом портфеле.
— А у меня для тебя сюрприз, — весело поблескивают из-под пенсне ее глаза. — На вот, читай.
В руках у меня конверт с ленинградским обратным адресом. Это номер Лидочкиной полевой почты.
— Давно ношу с собой, — поясняет Пелагея Васильевна. — Иногда вслух ребятам читаю. Не все, конечно, а что можно, — многозначительно взглядывает она на меня. — Ну а тебе можно все читать.
У меня в руках Лидочкино письмо. Вот этот самый листок трогали ее пальцы. Вот эти строчки писал ее карандаш, в ее руках.
В начале письма Лидочка сообщает о боевой жизни ее зенитной батареи, о том, как «отплевываются сталью пушки от наседавшей фашистской саранчи». Попутно очень скромно сообщает о том, как их орудие сбило немецкий бомбардировщик. «Не знаю почему, но мне вдруг жалко стало немецких летчиков, когда вспыхнул самолет, — пишет Лидочка. — Ветер относил их парашюты к немецким окопам, и я с ужасом смотрела, как наш старшина торопливо стрелял и? винтовки по летчикам. (Здесь на полях письма чья- то пометка густыми черными чернилами: «Девочка! «Если враг не сдастся, его уничтожают» — это слова Горького».) А потом мы узнали, что в этот налет бомбардировщики успели разбомбить наш эшелон с эвакуированными ранеными и ленинградскими ребятишками. На крышах вагонов значились санитарные красные кресты.
Пелагея Васильевна, что слышно от Алеши, Жени, Мишки, Левы?
Должна Вам открыться, я люблю Алешу. Раньше очень стеснялась, даже боялась этого чувства, а сейчас хочется кричать об этом во весь голос. В школе я бы не посмела ему обо всем сказать, знаете, мальчишкам только подай вид, что они нам нравятся, и мы пропали. Помните Татьяну Ларину в «Евгении Онегине»? Вы, наверное, улыбаетесь, читая эти строки, вот, мол, какая я опытная стала. На батарее у нас много девчат, и, хотя сейчас война, мы все равно в минуты затишья говорим про любовь. Ведь у каждой кто-то был или кто-то есть. У всех девчат хранятся фотографии своих ребят, а у меня нет. Может, найдете нашу старую стенгазету «Товарищ», где наклеены фотографии драмкружковцев. Помните «Песню о купце Калашникове»? В стенгазете мы все наклеены отдельно. Алеша тоже. Отклейте, пожалуйста, это фото. Пришлите. (У Алешиной мамы я стесняюсь попросить. Знаю, как ей все дорого.)
Пелагея Васильевна, извините меня за мою откровенность, но я больше не могу скрывать, что у меня на сердце. Что будет известно об Алеше, пожалуйста, напишите мне. Ему желаю, как в нашей песне: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой».
Целую вас, всех наших учителей, а также свою парту. До встречи после победы. Лида».
— Ну, как письмо? — тепло улыбается Пелагея Васильевна.
Я не знаю, что ответить. Шарю глазами по верхам шкафов, где рулонами сложены наши стенные газеты.
— Возьми-ка стул, — просит Пелагея Васильевна, — достань вон ту трубку, что торчит сбоку. Видишь?
Я поспешно становлюсь на стул, вытягиваю тугую бумажную трубу. Бодро шелестит под руками ватманский лист. Вот он во всей красе — номер нашего довоенного «Товарища». Верх газеты украшен Мишкиными самолетами в светло-синих облаках. Тут же Мишкина восторженная информация «Завтра нас принимают в комсомол!», а рядом большая статья Пелагеи Васильевны «Песнь про купца Калашникова» на нашей сцене» и фотографии всех артистов. Там, где было мое фото, сейчас пустое место. На меня со снимка, улыбаясь, смотрит наша хохотушка, светловолосая чудесная Лидочка.
Пелагея Васильевна снова роется в портфеле, протягивает мне лезвие бритвы, кивает на фото Лидочки.
— Только осторожнее, не испорть газету.
И здесь я увидел на доске Почета фотографию Жигана. Лицо суровое, строгое, смотрит прямо в объектив аппарата, в глазах застывшая решимость, которую я часто замечал у бойцов после сигнала «В атаку!».
— Наверное, фотографировали перед началом смены, — рассуждает Славик, — с работы они идут не такие.
— А какие?
Славик зябко ежится, хмуро смотрит в сторону:
— Качаются от усталости, еле ступают. Кто послабее товарищи поддерживают. Так и идут через проходную.
Мальчуган оживляется, пытается говорить бодро:
— Ничего, Алеша, переживем. На фронте труднее бывает.
Обратно мы долго идем молча. Славик нарушает молчание, озабоченно спрашивает:
— Радио сегодня слушал?
Мне неловко, что я проспал утреннее сообщение Совинформбюро.
— Что сообщали, Славик?
Он снова ежится, почему-то сообщает вполголоса:
— Идут кровопролитные, ожесточенные бои. Фашисты к Волге рвутся.
И опять мы шагаем молча. Прохожие торопливо, с озабоченными лицами обгоняют нас. Нет-нет я ловлю на себе взгляды женщин. Мне кажется, в этих взглядах читается укор, немое осуждение. В сознании неотступно засела фраза Славика: «Идут кровопролитные, ожесточенные бои». Об этом сегодня говорили по радио, значит, эти самые слова сегодня слышали все москвичи. Может, потому на меня, с виду здорового парня в солдатской шинели, так неприветливо, словно на окопавшегося тыловика, смотрят женщины? Конечно, стыдно сейчас так беспечно разгуливать по московским улицам. Разве кто знает, какие раны скрывает ткань моей гимнастерки и какие в моем кармане документы? Мне досадно, очень обидно за себя.
Из задумчивости меня выводит Славик. Он уже давно о чем-то рассказывает, а я только сейчас прислушался:
— ...Особенно в литейке устают. Там очень жарко. У литейщиков пуговицы на штанах плавятся. Знаешь, вот Жигана медалью наградили, а когда его спрашиваю, за что награда, он все отшучивается, говорит: «Сам удивляюсь. Взяли да дали». Ты не верь ему, Алеша. Как раз сейчас в этой литейке работает. Сам перешел где труднее.
— А тебе, Славик, трудно?
— Мне? — Он громко засопел, видимо, обдумывая ответ. — Как тебе сказать? Сначала только руки уставали: высоко тянуться к станку, а сейчас ящик на настил под ноги подставил, и ничего. Даже жалко, что редко водят на завод. Все учебники да тетради.
Мимо нас по улице хмуро шагают батальоны красноармейцев. Идут с оружием, с полной походной выкладкой. Следом по тротуару, наталкиваясь на нас, бегут редкие группки растерянных, заплаканных женщин. Слышатся голоса:
— Федя, держи конверты, конверты!
— Гриша! Лови носки теплые! Гриша!
— Слышишь? Пиши! Каждый день пиши!
Красноармейцы виновато, смущенно ежатся в строю.
Вот и прошла последняя рота последнего батальона. Славик трогает меня за руку:
— Алеша, а ты бы пошел сейчас с ними?
Я молчу. Я знаю, куда они идут, знаю, что их всех ждет.
— Алеша, пошел бы?
— Не знаю, Славик.
Мы идем дальше, и Славик деловито сам с собой рассуждает:
— Конечно, кто уже там был, зачем же еще раз? Пусть другие попробуют. Вот хотя бы наш мастер. Хотя нет. Мастер нам сейчас нужен. Хотя без него крути новенький ДИП сколько хочешь...
— Не знаю, Славик, — невпопад говорю я, все еще мысленно провожая последнюю роту последнего батальона.
Мы переходим улицу, и регулировщица на перекрестке мне подчеркнуто козырнула и, как показалось, погасила улыбку. Я даже растерялся. Что я, генерал, что ли?
— Давай, Славик, пройдем еще раз, — предлагаю я.
Он с готовностью соглашается. Проходим еще раз, но больше нас не приветствуют. Возвращаемся, и опять никаких козыряний. Совсем наоборот. Взгляд у регулировщицы требовательный, неприступный и даже суровый.
Славик тянет меня за рукав:
— Пойдем, Алеша, тоже мне воображала с флажками. Мы не таких видели. Правда, Алеша?
— На Лидочку чем-то похожа, — вяло говорю я. — Не заметил, Славик?
— Лидочка не такая, — бурчит Славик, — она бы в Москве с флажками не стояла... Она под Ленинградом самолеты сбивает.
— А может быть, эта из госпиталя?
Славик задумывается, ничего не отвечает.
У самого нашего дома, у моего подъезда стоят, переминаются две фигуры. Одна фигура в летном шлеме. Это Мишка. Он приветливо машет нам, улыбается. А вот кто другой, долговязый, очень загорелый, в солдатском защитном бушлате без петлиц, в лихо сдвинутой на ухо пилотке, я не знаю.
— Гога! — вдруг громко удивляется Славка. — Гога из дом пять!
— Гога! — кричу я.
Мы торопимся навстречу друг другу. Славик почему-то сдерживает меня, хмурится, бормочет:
— Ну, ты не очень-то!
Мы обнимаемся, долго трясем друг другу руки. Густо загорелого Гогу трудно узнать. Он участливо расспрашивает неразговорчивого Славика об учебе, о работе, о том, что означают молоточки на его форменной фуражке. Славик тоскливо разъясняет, что это не молоточки, а один молоток, а другой — шведский ключ. И если кто берется ковать в тылу победу, то должен разбираться в слесарном инструменте.
Мы, замолкнув, поднимаемся по лестнице.
— Посмотрите, какой ежик? — удивляется Гога. — Алеша, пу как на войне? За что орден дали? Ты молодец, я всегда это говорил. А я, знаешь, по вызову. Вот Мишкин отец помог, буду поступать в военно-морское авиационное училище. На морского авиамеханика.
— Ну как ты там, в Средней Азии? — потеплев, спрашивает Славик. — Ух, черный какой!
— Там, Славик, хлопок. А хлопок — это оборона, это разная взрывчатка.
— Неужели из хлопка? — искренне интересуется мальчуган.
— А ты как думал, — многозначительно говорит Гога. — Пришлось поработать.
У меня дома мы торопливо накрываем стол, Гога высыпает из кармана в тарелку урюк, Мишка чистит сухую колбасу, выкладывает на стол пачку «Беломора», и сейчас же в кухню вылетает Славик, успев сообщить нам, что он будет мыть посуду.
Не знаю почему, но я стесняюсь Гогу. Раньше он никогда не бывал у меня дома, в нашем подвале. И вот сегодня я его пригласил. Правда, сейчас здесь роскошная квартира, но ведь она не наша с мамой. В серванте дорогая посуда, но ведь она не наша. Даже вид из окна тоже не наш. Наверное, потому, что это все не наше, я не могу здесь чувствовать себя хозяином. Неловко.
— Брось суетиться, — ловит мое ухо Мишка, — застилай стол газетой, давай стаканы, и порядок.
— Какой у вас вид из окна, — восторгается Гога, — а там, у нас в Азии, высоких домов не строят. — Гога понижает голос: — Землетрясения.
Славик уже рядом с Гогой, теребит его, расспрашивает о землетрясениях.
Наконец мы все за столом, и Гога рассказывает нам об ужасах землетрясения. Все, что я видел на войне, все, что перечувствовал, — против землетрясений это просто невинная детская игра в хлопушки вокруг новогодней елки.
Разверзается земля, черное небо разбрызгивает ослепительные молнии...
— И беги не беги, а лава все равно тебя догонит, — говорит Тога прямо в открытый рот Славика.
— А потом что? — шепчет Славик.
Гога чуточку медлит с ответом.
— А потом, Славик, все превращается в пар и в пепел.
— И ты все это видел, Гога? — ежится Славик.
Гога устало оглядывает всех нас, тянется к стакану.
— Я нет. При мне таких землетрясений не было. Но Азия и сейчас живет далекой седой древностью.
Славик разочарованно смотрит в потолок. Мы чокаемся.
— Ты все документы привез? — яростно прожевывая колбасу, спрашивает Мишка Гогу.
Гога поспешно кивает, достает откуда-то из-за пазухи аккуратно перевязанную пачку бумажек и, осторожно поддев ногтем верхнюю, почему-то протягивает мне:
— В колхозе работал, на уборке хлопка. Все заверено, все подлинно, Славик, ты знаешь, что такое кетмень?
— Ты Ларису там встречал? — перебил я Гогу,
Он неопределенно пожал плечами:
— Так, иногда.
— Ну, как она? Что делает?
— А ничего не делает. На танцульки бегает,
Я удивился: в войну и вдруг танцы?! Неужели так можно?
— Чудаки, — снисходительно ухмыляется Гога. — И еще как танцуют! А без танцев вообще никакого просвета. На танцах хоть забываешь о разных планах и нормах. Ну, и познакомиться можно с нужными людьми.
— С какими людьми?
Гога смеется:
— Я на танцах уже с двумя поварихами из госпиталей подружился и с вахтершей хлебозавода. Любовь с разбега, с первого взгляда.
— А как же Лариска?
— Ну, что Лариска? Пройденный этап. Как говорили древние: «Все течет, все меняется». Вот смотрите, какие там девочки.
И Гога достает тугой конверт с фотографиями. По нашим рукам пошли снимки. Гога охотно поясняет:
— Эта страшилище, но фигурка — закачаться можно, плюс папа крупный военный интендант.
— А вот эта королева танцплощадки. Первая звезда. Правда, сама голодная, подкармливать приходится.
— А эта просто дура.
— А вот эта? Ох, эта... — И Гога заливается смехом, посмотрит на фото и опять хохочет. — Нет, я лучше ничего не скажу...
— А кто это? — любопытствует Славик. — Кто она, Гога?
— Славик, ты бы посмотрел на кухне чайник, — прошу я, но мальчуган смущенно хлопает глазами, не уходит.
— Это жена директора топливного склада, — успокаивается Гога, — За каждый танец я брал по полену. За одно танго «Утомленное солнце» целый дровяной склад накопил. Ну, чокнемся за ее здоровье. За калории тепла.
Мы выпили за калории.
— А хлопок? — интересуется Славик. — Все у тебя танцы и танцы, а где же хлопок для пороха?
Гога покровительственно похлопывает Славика.
— Чудак, малыш. Хлопок между танцами. Его же не круглый год убирают. Понял?
Славик что-то понял, угрюмо засопел, пошел в кухню.
— Ну а Лариса что? — нетерпеливо спрашивает Мишка.
— Я же сказал: танцует. У нее свой идеал. Только военные.
— А ведь раньше вы друг другу нравились, — тихо говорю я.
Гога вдруг погрустнел, задумался. Медленно размазывает по газете капли красного вина, вяло цедит:
— Ну, что с Лариской? Все кончено с Лариской. Сначала все бегала за мной, проходу не давала, на танцульках скандалы устраивала... Кому же это понравится? Я, как честный человек, сказал, что между нами все кончено. Она еще хуже. Стала от своей нормы хлеб для меня отрывать, сахар. Узнали ее мать, отец. Скандал был. Неприятности всякие.
Он опять замолчал, старательно разглаживая складки газеты.
— У вас же любовь была, — тихо, почему-то с укором говорю и чувствую, что дальше говорить с Гогой мне тяжело, да и не хочется.
Входит Славик с чайником, удивленно нас оглядывает, скромно присаживается на уголок:
— Что-то вы все такие смирные?
Гога шумно встает, хлопает меня по плечу.
— Эх, Алешка, война все спишет! Ну, улыбнись.
— Нет, не все, — упрямо говорю я и принимаюсь за чайник, — ведь у вас же любовь была. Понимаешь ты это? Любовь. Весь наш класс, весь двор вам завидовал.
— Я нет, — говорит Мишка, — я не завидовал.
— Я тоже, — объявляет Славик и строго отбирает у меня чайник: — Ведь мимо льешь, Алеша.

На следующий день мы снова встретились. Все, кроме Славика. Он на практике.
У Мишки и Гоги уже оформлены все документы в училище. Сегодня с утра пойдут в военкомат за направлениями. Я навязался идти с ними вместе.
— Это хорошо, — одобряет Гога, — с орденоносцем без очереди.
Есть у меня свой план. Попрошусь в действующую армию.
Перед сном, пока еще не было мамы, я написал заявление на имя комиссара военкомата. В заявлении подробно перечислил рода войск, где можно служить без особой затраты, физических сил. В конце упомянул, что я гвардии сержант, комсомолец и ношу билет дважды орденоносного Ленинского комсомола. Почему-то концовка заявления мне показалась очень солидной, внушительной. Подумалось, что никто не посмеет мне отказать, потому что на листке бумаги гордо значится слово «Ленинского».
...В военкомате как будто народ никогда не расходится. Все такие же длинные очереди, приглушенные голоса и требовательные девичьи возгласы: «Здесь курить воспрещается!»
Я распахнул шинель, обнажил орден и пошел вперед. Следом не отстают Мишка с Гогой.
— Нам срочно к комиссару, — громко говорю я у дверей и берусь за ручку. В очереди нерешительно переглядываются, пожимают плечами.
В кабинете за столом все тот же подтянутый офицер, около почтительно замерла девушка в военной форме с папкой в руке. Комиссар отпускает ее, встает из-за стола.
— А, сержант Пеньков, ну как, нашел работу?
— Грибков, — четко поправляю я.
Он смеется:
— Совсем закрутился. Садитесь, товарищ Грибков. А вы что? — обращается комиссар к моим оробевшим спутникам.
— В морское училище они едут, мои друзья, — говорю я, пока ребята торопливо достают свои бумаги.— А вот это мое заявление, — протягиваю я вчетверо сложенный лист.
Комиссар мельком его проглядывает, хмурится, откладывает на стол, в сторону.
— Давайте ваши документы, — все так же хмуро обращается он к ребятам. Я даже испугался: не напортил ли что своим заявлением?
Но у Мишки и Гоги все гладко, все в порядке. Комиссар просит их зайти завтра. Им вручат проездные документы и направления на имя начальника военно- морского училища.
— Отцу писать будешь, так не забудь привет от меня, — просит Мишку комиссар, — когда-то служили вместе. Я у них в эскадрилье политруком был. Вместе к последнему параду в Тушине готовились. А сейчас давайте на медицинскую комиссию.
— Мне тоже? — тихо спрашиваю я.
— Нет, товарищ Грибков. Вам нет. — Подумал, почти сердито добавил: — Я же просил вас присмотреть себе работу. Мы не имеем никакого права нарушать решения медицинской комиссии вашего госпиталя.
Он прошелся по кабинету, громко похрустел пальцами, взял со стола заявление и, не глядя, протянул мне:
— Может, я тоже на фронт рвусь... Может, мне каждому раненому в глаза смотреть стыдно...
Он снова прошелся, успокоился, потеребил меня за плечо:
— Отвоевал ты свое, сержант Грибков... Ну, кругом, шагом марш! Просить, кто там следующий.
Уже в сумрачном коридоре военкомата Гога жарко шепнул мне в ухо:
— Вот дурак! Тебе что, мало там попало? Голова у тебя для противогаза.
У дверей с дощечкой «Медкомиссия» мы расстались.
Я вышел на улицу, чувствуя себя необычно сиротливо, тоскливо. Куда-то спешили редкие прохожие. Наверное, у каждого свои дела, свои заботы, свое место, где человека ждут, где он очень нужен. Ну а я? Куда идти? Чем мне заняться? Так и буду теперь получать пенсию, продуктовые карточки, стоять вместе с инвалидами в очередях.
Лидочка, Женька, Пончик, Костя-киномеханик — все воюют. Все, как говорил о себе наш политрук Григорий Иванович, «решили сделать поправку к сводкам Совинформбюро».
Вот опять толпится народ у стенда с картой боев и последними сообщениями. Какой-то словоохотливый прохожий в телогрейке нараспашку, командирских галифе и сандалиях, вытянув длинную небритую шею, водит по карте карандашом, смело вслух планирует:
— Вот здесь нам надо прорывать фронт, а здесь окружить немцев, отсюда перебросить войска, а сюда двинуть танки. Здесь равнина, и танкам есть гДе развернуться... Взять немцев в клещи и...
Толпа, особенно женщины, его напряженно, почтительно слушает, никто не перебивает. Наверное, каждому хочется, чтобы так было на самом деле, каждому приятны слова уличного оратора. И только один чернобровый, горбоносый красноармеец с противогазом на боку громко засмеялся:
— Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Эй, кацо, тебя в Кремль надо, в главный штаб.
На него недовольно зашикали, загудели женщины:
— Тише, ты! Может, он дело говорит...
— Говорить не надо, генацвале, воевать надо, — подмигнул красноармеец в сторону оратора.
— А ты чего в Москве? — уже грубо наседали женщины. — Вон ряшку-то наел.
Красноармеец смутился, неожиданно покраснел, нахмурившись, тихо сказал:
— Я только из госпиталя, завтра снова на фронт.
Он, прихрамывая, молча выбирается из толпы, и вслед ему уже сочувствующие голоса:
— Чего вы, бабы, напали?.. Человек опять на фронт...
— А этот чего здесь?! — вдруг слышу я за спиной брюзжащий голос. Оглядываюсь и вижу: в упор на меня смотрят колючие, сверлящие глаза. Дрожит на щеке бородавка с седым волосом.
— Шапку-то набок завалил, — ворчит старуха в рваном шерстяном платке, — тебе, тебе, красавец, говорю.
Обида ослепила меня. Кое-как выбираюсь из толпы, иду по улице, не глядя куда. И только когда уши резанули автомобильные гудки и проклятия шоферов, понял, что перехожу Смоленскую площадь.
Опомнился, успокоился. Вот и Зубовский бульвар, здесь совсем рядом наш райком комсомола, откуда мы с Женькой уходили на фронт. Вот здесь, в переулке, наш комсомольский добровольческий батальон грузился на машины, вон на том углу махали провожавшие меня ребята, мама, Нонка, Лидочка, Наташа из райкома.
А что, если зайти сейчас к Наташе? Ребята говорили, что она уже не инструктор райкома комсомола, а работает в райкоме партии. Зайти к ней и все рассказать. И про учителей в холодной школе, и про военкомат, и про сегодняшний разговор в толпе у карты военных действий. Она поймет, она должна меня понять, наша Наташа.
У входа в райком сейчас так же, как и в райвоенкомате. Тоже суетится народ, тоже куда-то очереди, одна разница, что не курят. У лестницы на второй этаж я долго объясняю строгому дежурному, кто я и что мне нужно.
— Понимаете, Наташа Ромашова, она в райкоме комсомола работала.
Он не спеша, обстоятельно рассматривает под стеклом на столе длинный список.
— Какая же она тебе Наташа? — в голосе дежурного упрек. — Наталия Николаевна. Товарищ Ромашова. Сейчас позвоню.
Он звонит, путано объясняет Наташе, кто и зачем к ней пришел. Кладет трубку, отирает лоб:
— Занятого человека отрываешь. У нас райкомовцам вздохнуть некогда, даже ночуют здесь. Ну, беги, вторая дверь направо.
Вот и вторая дверь направо. Стучу — нет ответа. Вошел — в комнате никого. Странно. Стою, оглядываюсь. Два письменных стола, на одном стакан с ранними весенними цветами. Рядом на вешалке противогаз, плащ-палатки, на полу в углу кирзовые солдатские сапоги. На стене схема разреза пулемета «максим», какой- то график дежурств, на подоконнике прикрытая газетой горбушка хлеба.
Распахивается дверь, и на пороге — Наташа. Затормошила меня, стащила пилотку, взлохматила мои волосы, чмокнула в щеки и наконец усадила.
— Извини, что заставила ждать, — приглаживая волосы, торопливо говорит она. — Причесываться бегала. Не хотела перед тобой предстать кое-как. Все-таки фронтовик! Директор киностудии «Плющихфильм»!
Я что-то смущенно бормочу, не могу оторвать глаз от нашей Наташи. Она в телогрейке, туго подпоясана широким офицерским ремнем. В раскрытом вороте белеет воротничок блузки. Уже в который раз ее измученные, широко распахнутые глаза обегали меня с ног до головы и обратно. Она теребит меня за плечо, повторяет одно и то же:
— Ну, Алешка-лепешка, дай-ка я рассмотрю тебя.
И снова заставляет то встать, то сесть.
— Надолго?
Я начинаю рассказывать, она спохватывается, перебивает:
— Есть хочешь?
Я снова начинаю свой рассказ, но Наташа не слушает, шумно выдвигает ящик стола, достает оттуда пистолет в кобуре, а затем, порывшись, банку консервов.
— Я слушаю, слушаю, ты не обращай внимания, — быстро говорит она и ловко ножом вскрывает банку. — Садись ближе к столу. Ну, продолжай, исповедуйся.
Мы закусываем удивительно вкусной тушенкой, и я с трудом продолжаю свою исповедь.
— Значит, ты хочешь снова на фронт? — перестает жевать Наташа и задумывается. — Давай-ка твои документы.
Я достаю свой конверт со всеми документами, но Наташу интересуют только документы из госпиталя.
Ее глаза внимательно, настороженно движутся по строчкам истории болезни, и наконец со вздохом она откладывает бумагу, долго смотрит в окно.
— Ну что, Наташа?
— Ничего, дорогой товарищ, не выйдет. На фронт нельзя. — Она снова долго молчит, потом несмело продолжает: — Может, на оборонный завод куда, на легкую работу. А?
— Нет, Наташа.
— Слушай, — вдруг оживляется она, — давай на курсы киномехаников. Как раз сейчас набор! Ты же любил это дело. А? Давай.
— Нет, Наташа, — тихо говорю я, — не хочу кинохронику показывать, где другие воюют. Хочу сам.
— Мама знает о твоем решении? — вдруг озабоченно спрашивает Наташа.
— Наверное, догадывается, ну, в общем, наверное, знает, — уклончиво говорю я. Наташа внимательно наблюдает за мной, укоризненно качает головой.
— Я схожу к ней, — обещает она, — давно не виделись.
— Ее трудно застать, — тороплюсь я. — Она на работе.
— А я к ней в прачечную зайду, — упорствует Наташа. — Мне к ним как раз по делам надо. — Она задумывается и уже доверительно сообщает: — Из госпиталей звонили: очень много стирки. Даже бинтов и тех не хватает. Стирать надо, а потом в госпиталях их стерилизуют. Бои идут, Алеша, тяжелые. Раненых много.
Она помолчала, искоса просительно взглянула:
— Может, не надо тебе на фронт? Нонка в эвакуации, мать одна дома. А?
Без стука распахивается дверь, и в комнату вбегают две раскрасневшиеся, взволнованные девушки в телогрейках, так же перетянуты широкими ремнями, как и Наташа, с пистолетами на боку. Меня увидели, смутились, замялись.
— Ничего, при нем можно, — встает Наташа, — давайте выкладывайте.
Они наперебой, все еще косясь на меня, выкладывают:
— Разрешили! Всем троим. К вечеру отправляют. Ты, Наташа, за старшего. Партбилеты сдать. А сейчас всем на сборный пункт. Ой, смех: проверяли, умеем ли мы накручивать портянки.
Я догадываюсь, в чем дело, с упреком смотрю на Наташу.
— Вот так, Алеша, — виновато говорит она, — уезжаю сегодня. Не хотела тебе говорить. Просто сама не была уверена. Ну а теперь уж... — Она, не глядя на меня, достает из ящика стола свой пистолет, аккуратно в молчании прилаживает к ремню свою кобуру.
— Значит, тоже на фронт? — дрогнувшим голосом спрашиваю я.
Она, все так же не поднимая головы, отвечает:
— Нет, не на фронт. Не на фронт. Дальше...
Девчата делают ей предостерегающие знаки, но Наташа как будто ничего не замечает, продолжает:
— Серьезное дело, Алеша, когда-нибудь встретимся, расскажу. Девчата, который час?
Она ловко, привычно накручивает портянки, натягивает сапоги, заботливо закрывает на все ключи ящики стола, берет на руку плащ-палатку, хозяйским взглядом осматривает комнату.
Мне тоскливо, грустно.
— Тебя можно проводить? — спрашиваю я.
Наташа смотрит на своих попутчиц, но те отчаянно машут руками:
— Нет, нет. Предупреждали, чтоб никаких провожатых.
— А я все равно пойду, — угрюмо говорю я. — Пойду следом, и все.
Наташа ласково лохматит мне голову, тихо стыдит:
— Ну, ты совсем как Славик. «Я все равно пойду следом». Помнишь, как Славик любил говорить? Ты же фронтовик. Гвардеец. Неловко даже.
В коридоре мы с Наташей приотстали. Она обнимает меня, целует на прощанье, шепчет:
— Если всюду откажут, пиши письмо ему? Понял?
— Кому, Наташа?
— Ты что, маленький, не понимаешь?
Меня вдруг осенило:
— Сталину?
Она кивает, торопливо догоняет своих подруг, снова оборачивается:
— Увидишь Жигана, передай привет!

Сейчас вечер. Мама придет поздно. Окна плотно задраил светомаскировкой, на столе чернила, ручка. Беспокойство с бумагой. На какой писать? Хорошей бумаги в доме нет, а на серой из маминых запасов для писем я не решаюсь. Есть гладкая, очень белая из Нонкиного чертежного альбома, но она очень толстая, тяжелая. Зачем же Сталину держать в руках такой лист? Уж очень торжественно, словно грамота какая.
Есть еще в доме бумага в трубках, что оставил хозяин-инженер. Отрезал немного, опять не получается. Бумага ватман, нелинованная, строки на ней идут вкось.
Пошарил в старом Нонкином портфеле, нашел большой блокнот в клеточку. Вроде ничего. Бумага приличная. Сел писать, но кажется, что у бумаги какой-то залежалый, старый запах. Нельзя такую Верховному Главнокомандующему.
Есть за окном, между рамами, хорошая бумага. Ею прикрыта вата. Уже можно разрушать этот утеплитель: весна. С предосторожностями достал лист. Но чернилами писать нельзя: расплываются. Наверное, отсырела бумага.
Есть еще обыкновенная довоенная ученическая тетрадь. Но удобно ли посылать такую бумагу? Можно подумать, что писал школьник. Правда, никогда, ничего лучше не писалось, чем на бумаге из такой тетради. Уж очень привычны, знакомы ее аккуратные синие полоски.
Конечно, может быть, сейчас Верховный Главнокомандующий привык сам писать и читать от других написанное на прекрасной бумаге, а ведь приятно ему будет вспомнить, что когда-то и он писал на школьных тетрадях. А когда был политическим ссыльным, на какой бумаге он писал записки товарищам перед своими многочисленными побегами? Наверное, уж было не до атласной.
А газета «Искра» на какой бумаге печаталась? А первые декреты и разные мандаты уполномоченным, что сейчас хранятся в Музее Революции? Серая, обойная, шершавая бумага. Порой военные донесения писались на березовой коре.
Значит, главное, не на чем написано, а что написано. Что писать — я знаю. Только вот сколько писать? Если много — плохо. Когда уж ему читать? Без моего письма хватает забот у наркома обороны. Написать коротко, то ничего не понятно. Всего не скажешь, всего не объяснишь.
Чувствую, что писать надо единым духом, все честно, все как думается, все, что есть на сердце. Как уж получится, так пусть и будет.
Сначала попробовал на черновике. Выплеснулось на бумагу все, что мучило эти дни, все, что наболело, что тревожило. За ошибки не боялся, знал, что когда пишешь сам, пишешь свое, а не диктант, то ошибок почти не бывает. Может быть, потому так получается, что выписываешь не слова диктанта, над правописанием которых чем больше думаешь, тем больше сомневаешься и в конце концов ляпаешь ошибку. А когда пишешь что-то свое, сокровенное, то пишешь увлеченно, стремительно, за словом не следишь, над запятыми не мучаешься, и удивительное дело! — все получается грамотно, а самое главное, понятно, что ты хочешь сказать.
Обмакнул перо, для начала старательно вывел:
«Народному комиссару обороны СССР
товарищу Сталину.
Товарищ народный комиссар! 1
Учитывая серьезную обстановку на фронтах нашей Родины, когда страна собрала все силы для решительного удара по фашистским захватчикам, считаю преступлением для себя находиться в тылу и желаю вновь быть в действующей армии, чтобы хоть чем-нибудь помочь моей Красной Армии в боях против германского фашизма.
После тяжелого ранения, полученного в боях за г. Ельню, я стал нестроевиком. Пусть я не могу служить в пехоте, пусть я не могу служить в частях, служба в которых связана с тяжелой физической работой, а разве не было в годы гражданской войны в частях Первой Конной армии безногих пулеметчиков на тачанках, о которых вспоминает наш комсомольский писатель Николай Островский, что «это были страшные для врага люди, пулеметы их несли смерть и уничтожение. За железную выдержку и меткий глаз были они гордостью полков».
Товарищ народный комиссар, я не один, нас тысячи поврежденных в боях, не сломленных духом, и я уверен, что каждый, в ком бьется комсомольское сердце, кто недаром носит билет дважды орденоносного Ленинского комсомола, вступит в комсомольские роты, роты жестоких мстителей за Родину, за народ...
Повторяю, когда там, на полях сражений, решается судьба моей Родины, я не могу оставаться здесь в тылу и прошу направить меня в действующую армию, в один из авиационных отрядов или бронепоездов, экипажи и команды которых будут состоять из бывших фронтовиков, комсомольцев, сынов нашей Родины».
Дальше подпись, число и домашний адрес.
Конверт аккуратно, старательно склеил из ватмана. На нем короткий, всем известный адрес: «Москва, Кремль, товарищу Сталину И. В.».
В столе, в маминой коробке с нитками, нашлись марки. Наклеил и, не дожидаясь утра, скорее на улицу к почтовому ящику.
...Потянулись дни нетерпеливого, тоскливого ожидания. При каждом звонке в дверь я вскакивал, торопился встретить почтальона. Но это были либо беженцы- погорельцы, либо заходили проведать ребята, либо письма от инженера, хозяина квартиры. А в последний раз поздно вечером торопливо пришли попрощаться Мишка и Гога: уезжали в военно-морское училище.
Я уже перестал ждать, даже стал забывать о своем письме, когда однажды утром требовательно и властно зазвенел звонок. В дверях красноармеец — посыльный военкомата.
Убедившись, что я тот самый, к кому он направлен, боец попросил меня следовать за ним.
— Вас ждет военком, — коротко ответил посыльный на мои вопросы.
В кабинете комиссара многолюдно. Офицеры, девушки в военной форме, врач в белом халате. Все вдруг замолкли, с любопытством разглядывали меня, когда посыльный докладывал комиссару.
— Садитесь, товарищ Грибков, — пригласил военком. — Что же это такое? Ни нам, ни другим покоя не даете? — Он уважительно взял со стола бумагу. — Вот ответ на ваше письмо товарищу Сталину. К нам пришел, в военкомат. На вот, читай.
Строчки прыгают у меня в глазах, с трудом осмыслил написанное. В коротком ответе говорится о том, чтобы меня пропустили через медицинскую комиссию и в случае годности к строевой службе направить в желаемый род войск.
— Доволен? — тепло улыбается комиссар, и все присутствующие в кабинете так же участливо улыбаются. Толстенный доктор в золотых очках приглашает:
— Ну что же, пойдемте, сержант.
Мы проходим кабинеты врачей. Меня сопровождает толстяк в золотых очках. Каждому врачу перед началом осмотра он что-то долго шепчет на ухо, кивая в мою сторону, потом у врачей поднимаются брови, и меня вежливо приглашают садиться.
В кабинетах ухо, горло, нос, в глазном, у невропатолога я храбрился, но перед входом в рентгенкабинет замешкался, сник.
Долго меня вертели в темноте за экраном аппарата, о чем-то шептались, вслух произносили латинские слова, снова без конца поворачивали, значительно покашливали и уже открыто переговаривались. Из обрывков их фраз я понял, что дела мои неважные.
Включили свет, и толстяк в золотых очках, вздохнув, грустно пошутил:
— Плохи твои дела, Иван-царевич, как говорила Красная Шапочка. Нет тебе пути-дороги.
В кабинете комиссара врач безжалостно изложил свой приговор. Военком слушал, опустив голову, теребил беспокойными пальцами ремень портупеи.
— Так никуда и нельзя? — нетерпеливо перебил он врача.
Толстяк развел руками:
— Как видите сами.
— А в танковое училище? На ускоренный выпуск? Все не окопы рыть, а сиди себе за рычагами управления, и все дела.
Доктор покачал головой:
— В тапке душно, жарко. А у него легкие затронуты.
— Хорошо, в десантники пойдешь? — оживившись, спрашивает комиссар. — Сейчас это очень нужно. Ну как, гвардия?
Я вдруг вспоминаю Наташу, ее девчат в телогрейках, умоляюще смотрю на доктора, объявляю, что готов в десантные войска.
— Нет, нет, товарищ комиссар, — торопится доктор, — ни в коем случае. Там разные высоты, давления, прыжки, падения, нет, нет.
Комиссар задумывается, недовольно морщится:
— Что же ему в писаря, в кашевары, что ли?
Доктор беспомощно пожимает плечами, дышит на свои очки: мол, как хотите, а я свое сказал.
Комиссар ерошит свой аккуратный пробор, сердито смотрит то на доктора, то на меня, почему-то понизив голос, кивает на окно:
— Ну что я в Кремль отвечу? Не признали годным? — Он невесело ухмыляется.
— Товарищ комиссар, — робко вступает в разговор девушка в военной форме, — есть у нас еще одно место в военно-морское училище. На авиамеханика морской авиации. Было три, двоих отправили.
Военком как-то боком, насторожившись, прислушивается, облегченно вздыхает, садится, смотрит повеселевшим взглядом то на доктора, то на меня.
— Ну как, медицина?

— Ну что же, — не спеша разминает папиросу довольный доктор, — это можно, морская авиация. Морской воздух. Гм... Это, возможно, то, что нужно, — он кашляет от папиросного дыма, — лично я, как врач, не против.
— Врач, а курите, — робко вставляет девушка. — Нехорошо.
Доктор обиженно поджимает губы, кивает в мою сторону:
— Сейчас, дорогая, все понятия изменились, все перепуталось. — Он чуточку задумывается, тихо продолжает: — Сводки я, товарищ военком, и читаю и слушаю... Там, где сейчас новое направление, у меня мать осталась.., То мне писала, чтобы из Москвы к ней уезжал. У ней, мол, тихо. А сегодня я ей телеграфирую, чтобы в Москву добиралась. — Доктор помолчал, убежденно добавил: — Все перемешалось, все перепуталось. Бывает, здоровые в тыл просятся, а бывает, больные — на фронт...
В дверь поминутно нетерпеливо заглядывают головы, кабинет быстро пустеет. Заторопился доктор, ушла девушка в военной форме, комиссар, листая какие-то папки, просит меня остаться.
— Вот что, товарищ Грибков, — перелистывая бумаги, серьезно говорит он. — В это училище до войны брали только с десятилеткой. Сейчас разрешили с восемью классами. Срок обучения ускоренный, а программа значительно расширена. Много новой техники. А у тебя восемь классов. Справишься?
Я смотрю в озабоченное лицо военкома, понимаю, какого ответа он ждет. Можно просто сказать, мол, конечно, справлюсь. И все. Но так уж очень поспешно, очень бездумно.
— То, что ты молчишь, мне нравится, — откидывается на спинку стула военком. — Математика, физика, электротехника. Понимаешь, что тебя ждет? Это ведь авиация.
Он помолчал, вставая, сказал тепло, уважительно:
— Я в ней служил. Вот как раз с отцом твоего друга. Там знаешь какой закон? Летчик, улетая на задание, оставляет свою жизнь в залог на совесть механика.
Военком долго, возбужденно рассказывает про летчиков, механиков, про новые марки самолетов, прочувствованно вспоминает свою службу в авиации.
Уже мне заготовлены документы, литер в железнодорожную кассу, а комиссар все еще в своих далеких, удивительных воспоминаниях. Подойдет к окну, долго, неотрывно смотрит в синее-синее небо и, не оборачиваясь, продолжает рассказ о мертвых петлях, о бочках, боевых разворотах, при этом руки его как бы самовольно изображают невидимые крылья самолета.
Прощаясь, военком замялся, удержал мою руку, почему-то оглядываясь, тихо спросил:
— Ты на конверте как адрес написал?
Я объяснил. Он снова взъерошил свой аккуратный пробор.
— И больше ничего? Так и дошло?
— Как видите сами.
— Эх черт, как это все просто, — нервно пощелкал он пальцами и снова заходил по комнате. — Ну, ладно, посмотрим, — успокоившись, кому-то пообещал он, крепко встряхнул мою руку, засмеялся. — Ни пуха ни пера!

Поздно вечером меня провожали на вокзал мама, Лева, Жиган, Бахиля и Славик. Наступал комендантский час, ждать отхода поезда не следовало. Мама часто утирала глаза, недоверчиво прислушивалась к моим утешительным словам и успокоилась, даже повеселела только тогда, когда сама прочитала на борту вагона белевшую в темноте дощечку с указанием маршрута поезда.
Я отвел в сторонку Жигана, коротко рассказал ему о неожиданном отъезде Наташи, передал привет. Жиган слушал, растерянно переминаясь, потом схватил меня за руки, сжал:
— Про привет не сочиняешь?
Я забожился нашей страшной мальчишеской клятвой. Он молча топчется, не знает, куда деть свои руки:
— Как ты думаешь? Она это все серьезно?
— Что?
— Ну, вот про привет...
— Конечно, серьезно. Ей что-то еще хотелось передать, да подруги заторопили. Не успела.
Жиган недоверчиво смотрит мне в глаза. Я чувствую, что ему очень хочется, чтобы я еще говорил и говорил, а он, Жиган, готов слушать не перебивая, готов впитывать каждое слово.
— Ну а еще?
— Все. Пошли к вагону.
Он неохотно, чуть приотстав, идет следом, потом удерживает меня, шепчет:
— Адреса ее нет?
— Нет, Коля. Это ведь секрет.
Он энергично машет рукой, облегченно смеется:
— Ну, ни черта, она обо мне из газет узнает. На заводе, в литейке фронтовую бригаду организуют. Завтра же запишусь.
Он мечтательно жмурится:
— Эх, Алешка, ну и дам же я теперь жизни!
Мы подходим к вагону. Кажется, все провожающие забыли о комендантском часе. Об этом я напоминаю маме, но она успокаивает меня скороговорным шепотом:
— Ничего, ничего. Я туфли сниму, а ребята ботинки. И мы без стука, босичком пройдем по переулкам. Не волнуйся.
Тихо, вкрадчиво лязгнули буфера вагонов. Проводница, повысив голос, просит заканчивать расставания.
Мы все торопимся, суетливо обнимаемся, между нами все время путается Славик, мама вдруг начинает всхлипывать, ее неумело и очень бодро утешают Лева с Бахилей, и наконец поезд тронулся. Медленно поплыла назад платформа, провожающие, убыстряя шаг, идут рядом с вагоном. Но вот они уже отстают, растворяются в темноте, и только Славик бежит рядом:
— Алеша! Мы скамейку обратно во двор унесем... Скорей возвращайся! К маме заходить буду!
* * *
...Вечереет. На оконных стеклах вагона угасают лучи солнца. Проводницы усердно подметают вагон: сейчас большая станция, большой город. За окном необычайные, неожиданные огни. Никакой светомаскировки. В этом городе военно-морское училище. Где оно? Куда идти? Кто укажет дорогу? Решаю, что штатских расспрашивать не следует. Кто повстречается в морской форме, у того и спрошу.
На перроне светло, в вокзале светло, и на площади яркий свет. В черных шинелях, в бескозырках с золотом на лентах, солидно, не спеша прохаживается морской патруль. Я сразу к ним и вдруг остолбенел. В морской форме Мишка! Хочу с ним объясниться, но он важный, недоступный. Тороплюсь, объясняю, достаю документы.
Старший патруля чуть скользнул глазом по бумагам, солидно хмыкнул:
— Курсант Жаров, проводите товарища сержанта к дежурному.
Отойдя подальше, Мишка оглянулся на патруль, и только теперь мы обнялись.
По длинным бесконечным улицам мы почти бежали с Мишкой к училищу. Я засыпал его вопросами: трудно ли и долго ли учиться? Во сколько утром подъем, когда отбой и дают ли в город увольнительные.
Все бы хорошо, но настораживало, беспокоило, что я опоздал к началу занятий и что ребята в училище в основном с десятилегкой.
— Ничего, — утешительно говорит Мишка, — на войне труднее было. Ведь так? Преподаватели у нас отличные. Помогут.
Он уважительно называет преподавателей училища, и мне приятно, что я их фамилии помню еще со школьной скамьи, помню как авторов наших учебников.
За поворотом вдруг сверкает огнями величественное, строгое здание с колоннами.
— Наше училище, — горделиво кивает Мишка и как-то незаметно подтягивается, трогает ребром ладони звезду на бескозырке, поправляет ремень винтовки.
У входа, между белыми колоннами, — караульный; как мне показалось, чуть скользнул небрежным взглядом по моей пехотной шинели, мятой пилотке, цокнул прикладом винтовки о камень пола, лихо, зычно крикнул:
— Дежурный! К выходу!
мел, подставил другую букву в формулу закона. А здесь, в училище, за ошибкой сейчас же следуют перегоревшие предохранители, и в лютый мороз курсант заползает в фюзеляж или, скинув полушубок, вьюном ползет в узкое, покрытое инеем крыло самолета. И там, послюнявив палец, чтобы к нему мигом примерзла гайка, осторожно, не дыша, наживляет ее на резьбу. Еле-еле пошла без перекоса гайка. Уж можно подхватить ее ключом. На душе вроде теплее, а пальцы обморожены. Жгучий мороз — жестокий палач за все просчеты в школе, за то, что в теплом классе школьник только по формуле на доске, да и то не твердо, знал закон Ома.
Сейчас здесь, на учебном аэродроме, прислонился к холодному борту самолета инструктор, укрылся от ветра за фюзеляж, пританцовывает, греет во рту пальцы. Нельзя показывать курсанту, что его, нашего инструктора, прижимает морозный уральский ветер к борту самолета, обшаривает всего и свирепо выжимает из-под одежды человеческое тепло.
Это он, инструктор, сейчас расплачивается за все промахи нашей учебы в школе. Короткое замыкание в самолетных проводах, в приборах — это не просто ошибка мелом на классной доске. В школе ребята посмеются, ну в крайнем случае в дневнике, в журнале появится плохая оценка, и все. А здесь, на аэродроме, другое. Не слушаются одеревенелые губы инструктора, ни похвалить, ни отругать не может. Только по его слезящимся от ветра глазам с пушистыми от инея ресницами понимает курсант, так ли он все сделал.
И никто не жаловался, никто не скулил. Понимали, что есть сейчас в стране такие места, где во много раз труднее. Да что там труднее. Не то слово. Что может быть страшнее фронта, страшнее первой линии? По вечерам, отогревшись в стенах училища, долго, хмуро стояли у карты военных действий, понимали, что в извилинах линии фронта наши солдаты с надеждой смотрят в небо, ждут краснозвездные самолеты.
И в Баренцевом, Балтийском и Черном морях пытливо, жадно вглядываются моряки все в то же небо: не появится ли сейчас из-за туч наш самолет, не прикроет ли сверху их корабль.
Но ни один самолет не поднимется в воздух без помощи механика. И ни один авиамеханик не бывает без знаний, без строгих экзаменов, без свидетельства военного училища. Все это прописные истины. С ними мы начинаем каждый свой день, с ними засыпаем после отбоя.
* * *
В училище все чаще и чаще поговаривают о государственных экзаменах. Больше всего нас тревожит электрооборудование самолетов. Из всех истребителей и бомбардировщиков для нас является грозой пикирующий бомбардировщик Пе-2. В нем больше, чем в любом другом самолете, вспомогательных электромоторов, различных реле, разъемов.
— Не самолет, а летающая электростанция, — с опаской говорят о нем курсанты.
На таком самолете летчику хорошо. Нажимает себе тумблеры, и все. В полете летчик словно на рояле играет. Нажал одну кнопку — пошел в пике, нажал другую — сбрасываются бомбы, нажал третью — и бомбардировщик сам выходит из пикирования.
— Не боевой полет, а однодневный дом отдыха, — шутят курсанты.
Вид у самолета стремительный. Снаружи он весь гладкий, обтекаемый, словно зализанный, но мы знаем, что у него внутри. Километры различных электропроводов невидимо скрыты под его дюралевой обшивкой. Каждый отрезок провода — это нерв, это кровеносный сосуд самолета. Оборвись, лопни один, и, возможно, про этот бомбардировщик скажут: «Не вернулся на свою базу».
Инженеры-преподаватели все чаще проводят практические занятия приближенно к боевым условиям. Это значит — на учебном аэродроме мы с раннего утра до темноты ползаем как ужи в фюзеляжах самолетов, бессчетное число раз монтируем и демонтируем их сложное электрическое хозяйство. Нас подстегивают, мобилизуют и нервируют два слова: «государственные экзамены».
Преподаватели изощряются в неожиданностях. Вот перед строем получает приказание Мишка:
— Вражеский снаряд пробил жгут электропроводов в таком-то отсеке. Через полчаса самолет должен уйти на боевое задание. Действуйте!
Мишка повторяет приказание и пулей срывается с места. Мы знаем, что «вражеский снаряд» условный, но, безусловно, преподаватель перерезал большими ножницами весь жгут проводов, запутал в клубок их концы, и сейчас, если Мишка необдуманно, неосторожно включит бортовую сеть, у самолета могут убраться шасси и машина пузом опустится на траву, или ни с того ни с сего заработают ее пулеметы, или распахнутся дверцы бомболюков и откроются электродержатели бомб. Всего можно ждать от коварных, сумасшедших, стихийно перепутанных проводов.
Хорошо еще, что каждый провод имеет свою цветную оплетку, свою цифровую и буквенную маркировку. И хорошо, что сейчас заметно потеплело, можно работать в холодном фюзеляже уже без рукавиц.
Сейчас Мишка должен осторожно разбираться в паутине проводов, соответственно назначению спаять их обрывы, заизолировать, «прозвонить» провода контрольной лампой, приборами и только потом опробовать работу агрегатов самолета. И на все дается полчаса. Это же нас ждет и на фронте. Правда, сейчас здесь, в глубоком тылу, на учебном аэродроме, не стоит над душой нервный, готовый к бою летчик, да и фашисты не бомбят и не обстреливают аэродром.
Ровно через полчаса взмокший, счастливый Мишка докладывает преподавателю:
— Повреждение устранено. Задание выполнено!
Инженер вместе с нами придирчиво проверяет Мишкину работу, поочередно включает вдруг ожившие агрегаты, раскрывает планшет и против фамилии курсанта, смакуя и довольно ухмыляясь, выводит жирную пятерку.
Мы все радуемся за Мишку, приободрившись, готовимся к выполнению своих заданий.
Оценка выполнения практических заданий для нас, выпускников, очень важна. Одно дело в классе у доски с умным видом объяснять формулы электротехники, а другое — в заданный короткий срок своими руками вернуть к жизни боевой самолет.
Сейчас в роте у нас только три круглых отличника: Гога и мы с Мишкой. Наши фотографии висят в помещении роты на видном месте. Это очень приятно и страшно. А вдруг сорвусь?
Каждую свободную минутку мы — за конспекты. Особенно старается Гога. Даже в столовой, пока разводящий разливает в наши миски щи, Гога успевает следить за половником и косить глазом под стол на свои колени, где раскрыт конспект.
Даже в гальюн он таскает с собой записную книжку, а когда в наряде чистит картошку на камбузе, то рядом с ним — неизменный конспект. На него всегда ворчит старший кок, потому что Гога, забывшись, срезает очень толсто картофельную кожуру.
Особенно рьяно Гога начал заниматься после того, как где-то он узнал, что на Черноморский флот от нашей роты будут направлены всего лишь два человека, притом обязательно отличники учебы. Пока отличников трое. Кто же отсеется?
У Гоги отличный почерк. Он с удовольствием ходит в канцелярию роты переписывать для старшины и командира разные бумаги. В училищном самодеятельном оркестре он играет на рояле. Про «седую черноморскую волну» он напечатал стихи в нашей многотиражке и даже помнит, как зовут всех дочерей командира роты.
* * *
Наступила, незаметно подкралась и всех захватила в свой чарующий плен весна. Мы уже ходим без шинелей. Увольнительные записки в город все чаще, все назойливее грезятся нам по ночам.
Вместе с весной, с ее колдовскими запахами, зелеными красками и ласковой дремотной теплотой солнца к нам в роту вползла бацилла франтовства и морского шика.
Незаметно, день ото дня, наши строгие форменные морские брюки расширялись, растягивались в клеш. За вставленные в брюки клинья полагалась гауптвахта так же, как и за умышленную порчу казенного имущества. Офицеры, командиры взводов и сам вездесущий старшина каждый раз на построениях с тревогой наблюдал, как все больше и больше наползают отглаженные концы наших брюк на носки ботинок.
Рьяным любителям клешей подавалась команда: «Два шага вперед! Кругом!» Старшина придирчиво осматривал швы, но все в полном порядке: никаких клиньев, никаких вставок.
— Такие получил со склада, — пряча глаза, четко объясняет курсант.
Старшина руки назад, голову вниз, медленно прохаживается вдоль строя. Мы уже знаем: обдумывает речь. На середине он останавливается, чуть выпячивает нижнюю губу, хмурится и долго молча качает головой:
— Товарищи курсанты! Вы меня знаете. Поэтому прошу во избежание неприятностей все фанерные клинья, на которых вы растягиваете брюки, сдать в бата- лерку.
Все речи старшины перед строем всегда состояли из трех частей: первая — практическая, вторая — теоретическая и третья — товарищеская, душевная. К практической обычно добавлялось время.
Вот и сейчас старшина смотрит на свои наручные часы, шевелит губами, прикидывает:
— Даю на это час времени.
Дальше идет часть теоретическая:
— Сейчас, когда наша армия и доблестный .флот громят на всех фронтах фашистских захватчиков, мы должны еще лучше, — он повышает голос, спрашивает строй, — что делать, товарищи курсанты?
— Учиться! — хором отвечаем мы.
— И еще что? — вопрошает старшина.
— Крепить дисциплину и порядок!
Старшина доволен. Голос его добреет:
— Теперь вот что, товарищи курсанты. И я был молодой, растягивал брюки на фанерных клиньях. Хотелось, знаете, казаться морским волком, походить на лихих флотских героев гражданской войны. А на самом деле я укорачивал жизнь казенному обмундированию. На швах лопались нитки, да и вытягивалась, дряхлела материя. Клинья применять нельзя. Это вред нашему интендантству. Мы делали лучше: распарывали и за счет запаса у швов расширяли брюки. Понятно? Вопросы есть?
— Товарищ старшина, а запас расширялся во всю длину брюк или только у основания?
Старшина пренебрежительно морщится:
— Только салага так может рассуждать. Конечно, на всю длину. А теперь дежурному по роте проверить все тумбочки и особо под матрацами.
Он откидывает назад голову, вбирает воздух и зычно, с особым морским шиком, растягивая букву «р», рублено командует:
— Р-р-рота, р-р-равняйсь! Смир-р-рно! Вольно!
Р-р-разойдись!
Дежурным по роте сегодня Мишка. По лицу видно, что ему не очень хочется проверять тумбочки и поднимать матрацы. Он бестолково мыкается между койками, ворчит:
— Прямо впору хоть самому найти фанеру, выстругать клинья, да и сдать в баталерку. Ну вы, пираты, грабители морей, тащите сами растяжки!
Прошло полчаса. В баталерке — ни одной пары клиньев. По проходу задумчиво, прижмурив глаза, прохаживается старшина, время от времени он взглядывает на свои часы.
— Осталось пятнадцать минут, — слышим мы зычный голос старшины. — Если клиньев не будет, завтра, в воскресенье, никто в увольнение не пойдет, можете в конвертах посылать своим челитам собственные фотографии. Заочное увольнение.
Курсанты собираются группками, шепчутся:
— Черт с ними, с клиньями. Сдайте, у кого есть. Все-таки увольнение важнее.
Я знаю, что клинья есть у Гоги, но он об этом помалкивает, суетится, всех подбивает сдать в баталерку клинья, охотно помогает Мишке переворачивать матрацы. Пока Гога с кем-то горячо спорит в углу помещения, Мишка заворачивает матрац на его койке, но там пусто, только белеет сложенный вдвое лист бумаги. Это тоже не положено держать под матрацем, и Мишка, заметив приближающегося старшину, поспешно прячет в карман бумагу.
— Осталась одна минута! — громко сообщает старшина. И тотчас из разных проходов виноватые фигуры курсантов уныло плетутся к баталерке с клиньями в руках.
— Увольнения разрешаются! — слышим мы довольный голос старшины. Рота облегченно вздыхает.
Утром, после завтрака выстроились увольняющиеся в город. Начищенные, наглаженные, подтянутые, мы стоим в строю рядом с Мишкой, и я чувствую, как он незаметно, знаками морзянки, старается сжимать пальцами мою ладонь: «Выходим вместе. Есть дело», — читаю я знаки Мишки.
По команде старшины мы замираем, поворачиваемся кругом. Старшина придирчиво осматривает каблуки, проверяет длину лент на бескозырках. Вряд ли он знает, что их излишек мы аккуратной петлей прячем под бескозырками, а когда выйдем в город, у нас они опять почти до пояса.
Не знает старшина, что в бескозырках у нас, под самой звездочкой, укреплена спичка. Она-то и подпирает верх бескозырки, будто бы бескозырка только что со склада. В городе мы выбрасываем эти спички, и получается аккуратный тоненький блин с белой каймой, особый флотский шик бескозырки. Ее зовут «черноморочка».
Не знает старшина, что наши девственно синие воротники с тремя белыми полосками будут немедленно сменены при выходе из училища на бледные светло-голубые, почти белые гюйсы. Такие предварительно травленные в извести воротники кажутся нам вершиной морской романтики. Вот, мол, идет моряк, солнцем опаленный, соленой водой омытый, всеми штормами обдутый.
А тельняшки? Откуда знать старшине, что тельняшка, полученная со склада и подпирающая до самого подбородка горло, — это не модно. Такие носят салаги, матросы-первогодки. А мы уже солидные морские волки, скоро заканчиваем училище, а потому из-под форменной рубашки должны голубеть всего лишь две-три полоски тельника, обнажая бронзовую грудь моряка.
Сейчас незаметно подколоты под самое горло полосатые слюнявчики, при выходе из училища они до конца увольнения будут покоиться в карманах, а потом, на обратном пути опять займут свое место.
Старшина выходит на середину строя, начинает свою традиционную речь. В первой части он напрямки вяло сообщает о том, что знает все наши хитрости, что он сам тоже так делал во времена службы в чудесном, волшебном городе Севастополе. Пожелал нам не попадаться на глаза комендантскому патрулю и вернуться в роту без происшествий и в срок.
...Сначала мы идем по улице все вместе, потом парами, группками, откалываемся, теряемся в переулках, бульварах, в очередях у кинотеатров. ревянными конями. Постояли около разбитых зеркал «комнаты смеха», когда-то здесь была жизнь, когда-то был детский смех.
И вдруг мы насторожились. Где-то за деревьями путались звуки рояля. Постояли, послушали и без слов пошли на эти манящие звуки. Деревья расступились, показалась сверкающая лужами площадка. На ней — жалкая, ветхая раковина эстрады. Подошли поближе. На сцене спиной к нам сидит за роялем девушка. Одной ножки у рояля нет: подсунуты кирпичи. Видны локоны и демисезонное с поднятым воротником пальтишко. Мы переглянулись, откашлялись. Ленты с золотыми якорями на грудь, поправили клеши. Лихо поднялись на сцену, щелкнули каблуками.
— Простите за беспокойство.
Никакого внимания. Только пальцы, худенькие, с голубыми жилками, ласкают клавиши. Мы снова подтянулись, кашлянули, и опять никакого внимания. Обошли рояль, облокотились, пытливо уставились на девушку. Она медленно поднимает голову, и, кажется, сами собой поникли, потускнели ленты с золотыми якорями. Глаза усталые, большие, чуть приоткрыт рот, и смотрит девушка куда-то далеко мимо нас. Перестала играть, встала, рассеянно застегивая пальтишко.
Мишка слюну глотает.
— Извините... Это... какая песня? В этом городе мы такой не слышали.
Девушка задумчиво нажала клавишу, сказала:
— Ленинградская. Ее сюда эвакуированные привезли.
— Вы тоже из Ленинграда?
- Да.
— Конечно, с мамой, с бабушкой? — играет Мишка лентами бескозырки.’
— Нет, они в Ленинграде, — подумала, добавила: — Я их сама схоронила. Я здесь одна.
Она осторожно закрывает крышку рояля:
— Мне идти пора. До свидания.
— Разрешите вас проводить, — топчется Мишка.
— Нет. Я сама.
Пересчитала каблучками ступеньки сцены и пошла по аллее, не оглядываясь. Смотрим ей вслед: ну хотя бы оглянулась. Нет. Так и скрылась за поворотом аллеи.
— Ну, пошли, — толкаю я Мишку.
— Куда?
— Да так просто. Куда-нибудь. Пройдемся.
Мы пошли было по той же аллее, где только что прошла девушка, замялись, обратно повернули.
— Понравилась? — спрашиваю я.
— Ну, почему так сразу? Понравилась?
— Просто интересно, и все.
— Что интересно, Алеша?
— Ну, бывает, что просто интересно. Бывает же?
— Бывает...
На пути разрослась сирень. Темнеет провалом чья-то тропка. Зовет, просит нас к себе. Зашли в самую гущу.
— Война и такие запахи, — смеется Мишка. — Букет бы ей...
— Правильно...
Выцарапались сквозь кусты на аллею. Стряхнули с плеч лепестки.
— Как думаешь, она еще придет? — спрашивает Мишка.
— Конечно.
— Почему?
— Потому что тебя увидела.
— Брось. Она на клавиши смотрела.
— Нет, на тебя. Я это заметил.
Мне нечего больше сказать. Опять проходим мимо веранды с облезлой раковиной. Никого нет. Только молчаливый рояль с кирпичной ножкой.
— Пойдем найдем скамейку, разговор к тебе есть, — вдруг пригрустнул Мишка. — Девушка девушкой, а тут, Алешка, серьезно.
Нашли скамейку в самой сирени. Присели.
— Какой разговор?
— Подожди, вон кто-то идет.
К нам, стесняясь, как-то боком подходит девочка лет двенадцати в потертом коротком платьице, с плетеной кошелкой в руках. На худом лобике — недетские морщинки, острые колючие скулы, робкие глаза. Она встала против нас и, стукая себя сзади по ногам кошелкой, глядя в землю, несмело говорит:
— Дяди моряки, сменяйте мыло или сахар на вино.
Мы переглядываемся. Девочка краснеет, мнется, упавшим голосом, запинаясь, повторяет:
— Вино чистое, без воды... По карточкам давали...
Мыла у нас нет. Сахара тоже. Не сговариваясь, молча выворачиваем карманы. Все деньги, что наскребли, протягиваем девочке.
Она поднимает худые плечики, отступает:
— Нет, нет, мама велела только на мыло или сахар.
. — Нам не нужно твое вино, — торопливо суем мы ей в руку деньги. — Купи на базаре мыла, сахара, что хочешь.
— У меня братишка, Игорек, болен, — бормочет девочка, — ему сладкое и молоко нужно. Спасибо, дяди моряки, я в следующее воскресенье сюда папиросы принесу.
Она уходит, волоча свою кошелку, на повороте аллеи обернулась, приветливо помахала нам, убежала.
— Скорее бы уж окончить учебу, — тихо вздыхает Мишка, и я догадываюсь, о чем он сейчас думает. Я поднимаю выпавший из кармана полосатый «слюнявчик» от тельняшки и вдруг чувствую, что почему-то мне становится совестно, неловко. Мишка видит, как торопливо я прячу в карман этот кусок материи, хмурится:
— Стыдно, Алешка, люди кругом бедствуют, а мы шик наводим...
Сидим, молчим. Где-то в глубине сада, наверное с открытой эстрады, доносятся нежные звуки рояля.
— Давай в следующий раз принесем сахару, — предлагаю я. — Она опять сюда придет.
Мишка согласно кивает, потом откуда-то из-за пазухи достает аккуратно сложенный лист бумаги, оглянувшись, придвинулся ко мне:
— Не хотел тебе перед экзаменами портить настроение, но больше молчать нет сил. Читай вот...
У меня в руках — исписанный карандашом листок с частыми помарками, вычеркиваниями, вставками. Словно потемнело вдруг в саду, зарябили в глазах строчки:
«Еще доношу Вам, что курсант Грибков в курилке, перед отбоем рассказывал группе курсантов, что у фашистов танков и самолетов больше, чем у нас. (В скобках указано, кто при этом разговоре присутствовал, в числе других и фамилия Мишки.) Еще докладываю, когда в последний раз рота ходила в городскую баню, курсант Грибков запел в строю песню, в которой были такие слова: «в Красной Армии штыки, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся». А старшина роты эту песню не пресек, а даже подпевал сам. Еще курсант Грибков вчера вечером в ленинской комнате (присутствовали такие-то и такие-то курсанты) очень ругал нашу автоматическую винтовку, заявил, что это оружие годно только для парадов, а не для полевых и фронтовых условий. Еще курсант Грибков перед сном рассказал один анекдот, который я могу передать Вам только устно».
— Мишка, что это? — спазмы сжимают горло.
— Нашел под матрацем у Гоги, — упавшим голосом говорит Мишка, — когда клинья искал. Помнишь?
— Что же теперь будет? А, Мишка?
Я вспоминаю, как однажды зимой на утреннем построении не оказалось в строю курсанта нашего отделения. Я кинулся к его койке, но она стояла обнаженно сиротливо, даже без матраца. Пуста была и тумбочка. Из нее неизвестно куда исчез верхний ящик со всем содержимым. На вешалке не оказалось ни шинели, ни шапки курсанта.
Помню, я бросился в канцелярию к командиру роты, взволнованно начал ему рассказывать об исчезновении курсанта моего отделения, но он сердитым движением руки остановил меня, словно слепой нащупал стул, уселся, навалился грудью на стол, обхватив голову руками, и сквозь зубы крепко, по-флотски выругался. Такого ни я, никто из курсантов никогда от него не слышали.
Вскоре о случившемся мы перестали вспоминать, и если об этом случайно возникал разговор, то курсанты недоуменно пожимали плечами, рассуждали вполголоса: «Черт его знает, может, шпион какой». На этом всякие разговоры прекращались.
Сейчас на скамейке в саду я вспомнил этого курсанта. Ничего особенного. Вроде такой же, как и мы все, замотанный лекциями, конспектами, чертежами, в редкие часы отдыха не прочь был посмеяться, поострить, поспорить о новом фильме, прочитанной книге. И вдруг он исчез. Может быть, тому причиной вот такая же бумажка, что я держу сейчас в руках.
— Мишка, что же теперь делать?
Мишка ежится словно от холода, озабоченно крутит головой, кивает на бумажку:
— Знаешь, Алешка, иди сам туда, куда Гога адресует это послание. Все честно им расскажи. Ну, какой же ты враг? Доброволец, ранен был. Расскажи все. Там ведь тоже люди. Они поймут. А написать все можно. Бумага стерпит. Я тебя ближе всех в роте знаю. Росли вместе. Сейчас спим рядом, сидим на занятиях вместе. Был бы ты враг, я бы сам тебя под конвоем куда следует отвел, но ведь это же не так, Алешка. Завтра же с утра отправляйся. Опоздаешь на занятия, я доложу, что ушел в санчасть.
* * *
Каждая дверь в училище имеет свою дощечку. На них обозначены наименования учебных кабинетов, канцелярий рот, санитарной части, библиотеки... Но есть скромная дверь без всякой таблички, обитая клеенкой. Мы знаем по слухам, что это особый отдел училища. А что там, за дверью? Кто там трудится? Мы не знаем. Ну, раз отдел существует, значит, так нужно. Нельзя же в армии без контрразведки. Враг не только на фронте перед твоим окопом. Он может быть в тылу. Недаром в училище на стенах плакаты: «Курсант! Будь бдителен! Враг не дремлет! Болтун — находка для шпиона!»
После ужина до отбоя у нас в роте особенно оживленно. Около каждого вернувшегося из увольнения свой кружок жадных слушателей. Идет, как у нас говорят, «разбор полетов». Общепризнанные ротные красавчики неумолимо врут о своих похождениях в городе, о том, как остолбенело падают штабелями девицы, завидев флотский клеш. Встают и снова шлепаются под небрежным орлиным взглядом моряка.
И только нам с Мишкой не о чем рассказывать. Да и слушать, как другие «травят баланду», нам тоже не хочется.
Мы уединились у окна, рассматриваем потемневшую улицу, редких прохожих и молчим.
— Знаешь, давай пойдем вместе, — вдруг тихо говорит Мишка.
— Куда?
— Ну, «туда». Я уже все решил. Расскажем про наш двор, про то, как жили, дружили, как ты на фронт ушел с комсомольским добровольческим батальоном.
— Тебе не страшно, Миша?
Он подумал, огляделся:
— Страшно было, когда отца по ошибке арестовали. Помнишь? Я тогда мальчишкой был. Ничего сделать не мог. А теперь комсомолец, курсант. Мне поверят. Не хватало, чтоб и с тобой такое же стряслось. Нет уж, пойдем вместе.
Мы придвинулись ближе, почти голова к голове, рассматриваем улицу, но я ничего не вижу. На глазах — проклятая влажная пелена. Мишка говорит:
— Пойдем завтра вдвоем.
Сейчас на темном стекле я вижу упрямо сдвинутые Мишкины брови, хмурое, сердитое лицо.
— Пойдем вместе, — повторяет он. — Я так решил.
...Ночь прошла почти без сна. Осторожно подходил дневальный, шепотом спрашивал:
— Чего не спишь? Все вздыхаешь, крутишься.
— Сон что-то плохой, — говорю я.
— Это после увольнения бывает, — понятливо хихикнул дневальный, — вон твой дружок Мишка Жаров тоже крутится и крутится.
Помолчал, спросил:
— Брюнетка? Блондинка?
— Рыжая, — говорю я.
Он подумал, широко зевнул:
— Рыжая тоже хорошо. Рыжая да рябая — самая дорогая.
* *
Под утро беспокойно вздремнулось, но вдруг, словно выстрелом, ударило в уши:
— Рота, подъем!
И сейчас же все застучало, заторопилось, замелькали полосатые тельняшки. И уже новая, залихватская команда:
— На зарядку становись!
Полуголые, мы бежим по коридорам во двор училища. Вот и та самая обитая клеенкой дверь. Мы понимающе переглядываемся с Мишкой, ускоряем шаг.
Я знал, как бы ни устал курсант, как бы ни был крепок сон, но после первых же упражнений зарядки сна как не бывало, розовеют наши лица, все мышцы наливаются тугой, словно звенящей упругостью, и сейчас же все мысли сами собой настраиваются на завтрак. Курсант веселеет.
Но сейчас мне не до завтрака, не до обычных шуток. Мы снова бежим по коридорам, мимо все той же двери, и по лицу Мишки я понимаю, что ему тоже не до завтрака.
И только Гога, весело подпрыгивая, смеется:
— Ну, мальчики Жоры, будем рубать компот. Он жирный.
Привычно, споро заправляем койки.
Старшина еще два года назад немало потратил усилий, чтобы наш «матрац был формой кирпича, подушка — тоже». Одежной щеткой на одеяло наносим ворсистый орнамент — клетку, сверху — четким треугольником — полотенце, и койка готова. Сейчас курсанты ждут одну из приятных команд: приготовиться к построению на завтрак. Но вдруг другое:
— Курсанта Грибкова срочно к командиру роты!
На меня беспокойно смотрит Мишка. Я вдруг ставшими непослушными пальцами заправляю под ремень форму. В голове тревожно пронеслось: «Вот оно, начинается!»
Побледневший Мишка, прикусив губу, метнул взгляд в сторону Гогиной койки, растерянно подбадривающе улыбнулся мне.
Как в тумане, я нащупал дверь канцелярии, шагнул.
Командир роты стоит ко мне спиной. Какой-то обмякший, необычно сгорбленный. Он, кажется, не слышит моего доклада, изучает график дежурств. Я повторяю:
— Курсант Грибков по вашему приказанию явился.
Он усталым жестом просит выйти всех из канцелярии, протягивает мне руку и, непривычно обращаясь на «ты», усаживает против себя.
— Вот что, Алеша. Ты с Мишей Жаровым, я знаю, с одной улицы в Москве, даже из одного дома. Так ведь? Друзья детства.
Я удивленно соглашаюсь.
Командир рассеянно играет крышкой чернильницы, хмурится и, видимо, подыскивает слова.
— Вот какое дело. Из штаба воздушных сил сообщили, что его отец погиб над Черным морем. Таранил фашистский самолет.
Горло сдавило спазмой, кажется, я прошептал:
— Мишкин отец... Мишкиного отца...
Перед глазами щелкнул портсигар командира.
— Закуривай.
С трудом машинально вытащил папироску, с усилием понимаю, что говорит ротный:
— Ты его друг. Подготовь к этому известию. И не оставляй одного. Скоро государственные экзамены. Помогай ему во всем. Сегодня, сразу после завтрака и до самого отбоя пойдете вместе в увольнение. Развеетесь. И еще что? Я сам после завтрака перед строем объявлю роте о гибели Мишиного отца. А ты пока — ни слова. В общем не отходи ни на шаг от парня. Самое участливое внимание со стороны всех курсантов.
Командир помолчал, опять взялся за портсигар, сказал тихо:
— Вот ведь как бывает. Война. Ну что ж, шагай в роту.
Рота уже ушла на завтрак. В столовой старшина мне ни слова, ни косого взгляда. Наверное, все знает.
Я уселся рядом с Мишкой. Он вопросительно посматривает, толкает меня ногой. Мне нечего ему сказать. Мишка делит хлеб. Старается мне подсунуть наше лакомство — горбушку. Ее не сразу съешь. Можно дольше жевать. Я делю сахар и тоже стараюсь для Мишки. Он шепчет:
— После завтрака записываемся на прием в санчасть.
— Нет, Миша, пойдем в город, в увольнение, — хмуро бормочу я. — До самого отбоя.
Он тихо смеется:
— Шутник ты. Для чего ротный вызывал?
— Увольнительные в город нам с тобой предлагал, — давлюсь я.
Мишка довольный улыбается:
— Никогда наш Арбат не унывает. Люблю за юмор.
Я не могу есть, не глотается. Предлагаю свою порцию Мишке. Он отказывается, обеспокоенно уговаривает меня есть, шепчет, что нам сейчас нужны силы. И все- таки мне не жуется, не глотается. Мою порцию доел Гога.
После завтрака — обычное построение. Поджидая роту в проходе спальни, уже расхаживает обеспокоенный командир. Курсанты переглядываются, подтягиваются. Что-то должно быть.
Наконец строй повернут к командиру. Старшина непривычно тихо командует:
— Смирно! Равнение на середину!
Он просто, без всегдашней лихости докладывает ротному о том, что мы прибыли с завтрака.
— Вольно! — звучит команда.
-— Товарищи курсанты, — строго, очень серьезно обращается командир. — Вы уже все воины. Взрослые люди. Вы знаете, что война без жертв не бывает. Я зачитаю сообщение штаба военно-воздушных сил.
Рота, притихнув, замерла. Слышно, как далеко у своей тумбочки, переминаясь, скрипит ботинками дневальный. Командир строгим голосом зачитывает нам сообщение о героическом таране и гибели Мишкиного отца.
— Вот так погиб коммунист и летчик-герой, — глядя куда-то в одну точку, поверх наших голов, медленно подбирая слова, говорит командир роты.
— Смерть фашистским оккупантам! Повторим же эти слова, как нашу священную клятву.
— Смерть фашистским оккупантам, — глухо, грозно клянется рота.
— Разойдись, — звучит тихая команда, — приготовиться к занятиям.
Мы окружили Мишку. Он сидит с неподвижным лицом на чужой койке. Потом уткнулся в подушку. Мы молча стоим вокруг.
— Рота! На занятия становись!
Тихо, без обычного шума, строится рота. Я трогаю Мишку, протягиваю ему его бескозырку:
— Пошли, Миша, в город. Вот увольнительные.
Он долго не отрывается от подушки и, когда поднял голову, посмотрел на меня сухими большими, не Мишкиными глазами:
— В город? Зачем в город? Теперь уже только туда. — Долго машинально закручивает в пальцах кончики ленты бескозырки, встает, держась за спинку кровати, туго натягивает на лоб бескозырку: — Пойдем, Алеша, туда.
Мы идем мимо дневального. Он вытягивается, строго отдает Мишке честь. Мишка торопливо сбегает по ступенькам вниз, размашисто шагает по коридору в ту сторону, где чернеет обитая клеенкой дверь.
Я нагоняю его. У порога мы останавливаемся, молча оправляем друг «а друге нашу форму, и Мишка решительно, спокойно стучит в дверь.
— Войдите, — слышится приглушенный голос.
Но войти мы не можем. Дверь закрыта изнутри. Торопливые шаги, щелкает замок, и на пороге — высокий человек в штатском. Пиджак внакидку, на лацкане боевой орден. Мы представляемся.
— Разрешите обратиться по личному вопросу?
— Да, да, конечно, — растерянно близоруко щурится штатский. Он деловито, торопливо прибирает стол с бумагами, убирает их в ящик и уж только потом предлагает нам сесть в очень мягкие и глубокие кресла.
На письменном столе горит лампа, хотя за окном уже светло и ярко светит солнце. Он торопливо бормочет какие-то извинения, высыпает в урну окурки из пепельницы и наконец, пригладив ладонью волосы, спокойно положив руки на стол, вопросительно оглядывает нас. Потом спохватывается, выключает лампу, смеется, блеснув металлической коронкой зуба:
— Везде строжайший режим электроэнергии, а я вот злостный нарушитель. Ну, так слушаю вас.
Словно плети, почти до пола, повисли между колен Мишкины руки, голова опущена, он — ни звука. Я тоже не знаю, с чего начать.
— Постойте, постойте, — торопится хозяин комнаты, — твоя фамилия Жаров? Михаил Жаров? Из какой роты?
Я называю роту. Он поспешно выдвигает ящик стола, пробегает глазами какую-то бумагу, встает и, зайдя за спину Мишкиного кресла, мягко опускает руки на его плечи.
— Ты, Миша, уже все знаешь об отце?
— Все, — глухо говорит Мишка.
— Мать сейчас в Москве? — помедлив, спрашивает особист.
— Угу, — шепчет Мишка.
— Ну, вот выхлопочем краткосрочный отпуск, — гладит он Мишкины плечи. — Учишься ты на «отлично». Ну а чего пропустишь — товарищ поможет, — кивает он в мою сторону. — Ты ведь тоже отличник?
— Конечно, помогу, — соглашаюсь я и удивляюсь, откуда он все про нас знает.
— Сейчас не мне, а вот ему помочь надо, — поднимая голову, медленно говорит Мишка. — На него клевету написали.
Особист хмурится, надевает пиджак в рукава, застегивается. Лицо серьезное, деловое. Уселся за стол. Послушал на руке часы, подкрутил их, взгляд серых глаз твердый, отчужденный.
— Ну, какая же клевета?
Я достаю помятую бумагу, что написал Гога, протягиваю особисту. Он, поглядывая на нас, старательно разглаживает ее ладонью на стекле стола и только после этого углубляется в чтение. Мне кажется, что я слышу, как тикают часы на его руке, слышу, как стучит мое сердце.
И вдруг у особиста весело блеснула коронка зуба. Он улыбнулся:
— Черт возьми, а хорошая эта песня: «Ах, куда ты, паренек, ах, куда ты», сам любил ее петь. Эго же Демьян Бедный.
Отложил бумагу, задумался. Взгляд довольный, отсутствующий...
— В молодости, бывало, пели... Это еще при коллективизации... Вы, конечно, этого не помните.
Дочитал бумагу до конца, пошарил в столе, достал новую пачку «Казбека», красиво ногтем мизинца открыл, предложил закурить.
Мы закуриваем.
— Кстати, насчет молодости, — продолжает он прерванную мысль. — Вы какие песни до войны любили?
Я никак не могу припомнить, а Мишка неподвижно исподлобья смотрит в окно, где до боли в глазах синеет весеннее небо.
— Все выше, и выше, и выше, — тихо говорит Мишка, потом долго молчит, добавляет: — Отец любил.
— Мы тогда киноаппарат строили, — вспоминаю я. — Отец его к нам заглядывал. Да, Миша?
— Какой киноаппарат? — интересуется особист.
Мишка внимательно разглядывает свою потухшую папироску, не замечает, что особист уже давно протягивает ему зажигалку.
— Настоящий киноаппарат, — говорит Мишка, — отец наше кино смотрел...

...Уже несколько раз далеко за обитой клеенкой дверью раздавались звонки на перерывы и снова на занятия, а мы все рассказывали и рассказывали. Сюда, в строгий кабинет особиста, словно ворвалась вся наша шумная веселая ватага ребячьей киностудии «Плющихфильм», казалось, заполнили комнату рабочие шумы нашей мастерской, рев моторов в праздничном небе довоенного тушинского воздушного парада, сочный хруст сапог батальона красноармейцев, что шагает по нашей Плющихе, по нашему Арбату, и удивительно бодрая песня батальона: «Дальневосточная, опора прочная...» Казалось, мы вновь услышали скрежет цепи Гогиного велосипеда, Ларискину гитару и Лидочкину чечетку на фанерном листе. Как будто далеким голосом заговорил доселе молчавший репродуктор на стене кабинета. Он выплеснул страшное слово «война», и наш комсомольский добровольческий батальон с песней «Дан приказ ему на запад» отправляется на фронт.
Дымит забытая в пепельнице папироска особиста, а кажется, это дымит, горит рожь, по которой мы ползем с политруком с донесением в штаб полка, и я, как тогда за каблук политрука, сейчас спасительно хватаюсь за наш сбивчивый рассказ о детстве, о первых страшных днях войны...
Начальник особого отдела нас не прерывал. Иногда он вставал, прохаживался, задумчиво поглаживал сзади кресла Мишкины плечи, поднял упавшую с моих колен бескозырку и снова ходил по кабинету.
И только когда за дверью начался беспрерывный гул множества ног, что означало обед, он посмотрел на часы:
— Ну вот что «Ура! Ха-ха! Банзай! Мировецки!». На обед пора.
— Мы в увольнении. Нам расход оставят.
Он смеется, прихлопывает ладонью бумажку на столе:
— Вот вам и вся кляуза.
— А если бы мы к вам не пришли, что бы было? — тихо, упрямо спрашивает Мишка.
Особист прямо в упор, поочередно смотрит нам в глаза, сухо, раздельно выстраивает слова:
— Тогда бы мы сами во всем разобрались.
Он снова ожесточенно трет лоб, спотыкается в словах:
— Ну вот, разобрались же, Миша, в свое время с твоим отцом. Была, понимаешь, допущена ошибка. Но ведь ее исправили.
— Не надо больше о моем отце, — встает Мишка.— Разрешите идти?
— Подождите, ребята, — обнимает нас за плечи начальник особого отдела, — есть просьба. О том, что вы были у меня, — никому. Так надо. Понятно?
— Конечно, никому, — соглашаемся мы.
— Теперь, Миша, собирайся-ка в отпуск к матери.
Я тоже походатайствую. Еще минутку, хлопцы. Вот смотрите.
Он подводит нас к большой карте на стене, мундштуком папироски показывает на Черное море, объясняет, где сейчас фашисты и где наши.
— За Черное море начались бои. Сдавайте экзамены на «отлично». И надо будет сделать так, чтобы вы оба попали на Черноморский флот. На тот самый, где погиб твой отец, Миша. А теперь можете идти.
Я козыряю, стараюсь четко повернуться, а Мишка просто вышел, волоча в руке бескозырку, и в этом его не упрекнул, за это не одернул начальник особого отдела.
* * *
Все ближе государственные экзамены. В роте повесили щит с указанием, сколько дней осталось до начала. Каждый день дневальные неумолимо меняют цифры на щите.
Пятнадцать... четырнадцать... тринадцать...
Увольнения в город почти отменены. Правда, отличников пока пускают, а остальные каждую свободную минуту листают уже замасленные учебники, конспекты, до отбоя толпятся в классах около бесчисленных электросхем, действующих моделей, разрезов сложных приборов.
Сегодня уволен один Гога. А мы с Мишкой попали в патруль по городу.
Беспокоят нас оттопыренные карманы. Это сахар и мыло, что обещали мы девочке с плетеной кошелкой, которая подходила к нам в городском саду.
— Может, в другой раз передадим? — предлагаю я. — Все-таки мы патруль. Неловко. — Но Мишка неумолим.
— А может, она сегодня не придет, чего же мы потянемся в горсад? На вокзале больше дела.
— Ну, не придет, — мнется Мишка, — послушаем рояль. Ну, ту самую пианистку — ленинградку.
Узнав, что мы будем в горсаду, Гога упрашивает нас пройти строевым шагом с отдачей чести мимо скамейки, где он будет сидеть с девушкой.
— Ну, что вам стоит, — смеется Гога, — это все так, ради шутки. Вы мне услужите, а я — вам. А? Алешка?
— Ты уже мне услужил, — глядя в беспечные глаза Гоги, серьезно говорю я. Он осекся, смахнул улыбку, вильнул по сторонам рассеянным взглядом.
— Ты что, Алешка? О чем ты?
— Сам знаешь.
Меня тянет Мишка.
— Бегом на построение.
На построении все обошлось благополучно. Оттопыренные карманы остались незамеченными.
Мы уже за воротами училища. Мне нравится патрулировать. От мерного строгого шага патруля, от его внимательных глаз веет далекой романтикой революции, когда так же шагал по Петрограду подтянутый матросский патруль.
Мишка то и дело сбивается с ноги, торопит меня в горсад.
— Не спеши, — удерживаю я друга. — Несолидно.
В парке сейчас тихо, малолюдно. Мы зашли на открытую веранду, поднялись на сцену, усыпанную лепестками сирени, молча постояли у сиротливого рояля.
Мишка пригрустнул. Бессмысленно водит пальцем по запыленной лакированной крышке, с высоты сцены тоскливо разглядывает редких прохожих.
— Может, попросим кого-либо что-нибудь тебе сыграть? — предлагаю я. — Хотя бы вот того интеллигентного старичка с тросточкой. Наверное, он сможет.
— «Собачий вальс» он сможет, — хмуро говорит Мишка и спрыгивает со сцены.
Мы молча кружим по аллеям сада, и я замечаю, что Мишка все время выбирает маршрут неподалеку от веранды.
Мне хочется поскорее встретить ту девчушку с плетеной кошелкой и наконец освободить наши оттопыренные карманы с подарками.
— Пойдем к нашей скамейке, — тяну я Мишку. — Ведь девочка придет.
Он рассеянно следует за мной. Уже издалека мы замечаем на скамейке ту самую голенастую девочку и у ее ног знакомую кошелку. Подошли, отдали ей честь, присели рядом. Девчушка смущенно разглаживает на острых коленях платьице, кусает губку, кулачком трет глаза.
— Думала, вы не придете, — розовеют ее бледные щеки. — А я махорку принесла, — тихо объявляет она. — Хотите?
Мы отказываемся от махорки, торопливо высыпаем ей в подол наши гостинцы.
— Ну, как твой братишка? — спрашивает Мишка.— Его ведь Игорьком зовут?
— Игорьком, — радостно кивает девчулька. — А меня — Людой. Игорьку сейчас лучше. Я его теперь научу мыльные пузыри пускать. Через соломинку. Вы умеете? А из чего сахар делается?
— Из свеклы, — объясняем мы.
— Жалко, — озабоченно сдвигает она белесые бровки, — свеклу и так можно есть. Ее мама варит. Мягкая свекла — вкусная. Вы ели?
— Ели, Людочка, ели, — смущенно говорит Мишка.
— Можно потрогать кинжал?
Мы разрешаем.
— И у папки был такой. На фотокарточке.
— Почему был?
— А его в начале войны убили, — просто сообщает девочка и засовывает в рот сахар.
— А сейчас с кем ты живешь?
— Мама, Игорек, я и еще у нас квартирантка. Она пианистка. Тетя Марина. Красивая.
— Из Ленинграда? — неожиданно встрепенулся Мишка.
Девочка даже перестала хрустеть сахаром, удивленно смотрит на Мишку.
— Из Ленинграда. У ней маму и бабушку снарядом в очереди убило. Когда тете Марине грустно, она здесь в горсаду на рояле играет.
Мишка снял бескозырку, отирает лоб.
— Вы ее знаете? — спрашивает девочка.
— Знаком, — сухо роняет Мишка.
— Да вот она идет! — радостно вскакивает девочка. — С матросом.
В конце аллеи идет знакомая нам пианистка и под руку с ней Гога. Он наклонился почти к ее лицу, о чем- то увлеченно говорит, картинно потрясая снятой бескозыркой.
— Все ясно, — тяжело вздыхает Мишка. — Стихи читает. Наверное, про челюскинцев.
— Я его знаю, — сообщает девочка, — он к нам заходил. Веселый. Обещал на пароходе покатать.
Пара медленно приближается к нашей скамейке. Девочка вскакивает и с неуклюжей кошелкой в руках бежит им навстречу. Гога морщится, отстраняет рукой девочку, но пианистка обнимает ее, прижимает к себе, и теперь все трое проходят мимо нашей скамейки.
— Товарищ курсант, — вдруг встает сердитый Мишка, .— прошу на минутку.
Гога, не замедляя шага, оборачивается, смеется, машет нам бескозыркой.
— Товарищ курсант! — чеканя слова, командует вдруг побелевший Мишка. — Почему не приветствуете патруль?!
Гога оставляет пианистку с девочкой, возвращается злой, лицо, уши налились густой краской:
— Вы что? Ошалели? Чего орете?
— Надеть бескозырку! — громко вырывается у меня.
Пианистка торопливо уводит девочку. Они скрываются за поворотом аллеи.
Гога таращит глаза, растерянно надевает бескозырку.
— Вы что, ребята?
— Смирно, — командую я.
Оглянувшись, он пытается встать по стойке «смирно», непослушные губы криво улыбаются:
— Завидно, что я с ней?
И тут я ударил в этот кривой рот, ударил со всей силой. Гога упал на колено, покатилась его бескозырка.
— Алешка, опомнись! — обхватил меня Мишка. — Мы же патруль!
Гога боком вползает на скамейку, ладонью зажимает разбитый рот.
— За что? — пугливо рассматривает он кровь на ладони.
— Ты не понял за что? — спрашивает Мишка, нахлобучивая ему на голову поднятую бескозырку.
— За девчонку? — дрожит Гога.
— И за девчонку тоже, — говорю я. — Можешь писать на меня рапорт.
— И на меня пиши, — предлагает Мишка. — Я ведь тоже патруль.
Гога осторожно промокает платком кровь на лице, дробно стучит зубами, обещает:
— Ничего, напишем. Бумаги хватит.
* * *
И вот они начались, государственные экзамены. Уже который день на зеленом поле аэродрома стоит длинный стол, покрытый красной материей. Сегодня последний экзамен. Самый сложный. Электрооборудование самолета. За столом — наши преподаватели, инструкторы, инспектора из Москвы. Среди блеска больших погон потерялся наш скромный командир роты.

Мы стоим в строю против торжественного стола, слушаем вступительное слово одного из приезжих москвичей. Голос, лицо у него спокойные, но нам видны его ноги. Они переминаются, пританцовывают, как будто под ними очень горячая трава.
— Товарищи курсанты, — повышает он голос, — через несколько дней вы разъедетесь по нашим флотам, где вас очень ждут, где в ваши руки механиков будет отдана самая совершенная новейшая боевая техника. От вас будет зависеть умение продлить жизнь самолету и сохранить жизнь летному составу. Вот почему экзамены будут строгими, но ничего не знакомого вам на этих экзаменах не будет. Действуйте спокойно, но не забывайте и о времени. Дорога каждая секунда. Представьте себя в боевых условиях, на боевом аэродроме.
Мишка тихонько жмет мой локоть, косится на край стола. Я прослеживаю его взгляд и вижу нашего знакомого особиста. Сейчас он не в штатском, а в военной форме. Незаметно пристроился сбоку стола, и мне кажется, что он ободряющие подморгнул нам с Мишкой.
Сейчас нам дадут задание. В одну линейку выстроены зачехленные самолеты разных марок. Среди них есть и наши новинки, и американские: истребитель «Аэрокобра», бомбардировщик «Бостон».
Как только мы получим задание, нужно бежать к самолету, расчехлить его и уже потом определять неисправность. Мы знаем, что в самолетах может не оказаться аккумуляторов. Их тайком убирают инструкторы, проверяя нас «на внимательность». Аккумуляторная зарядная станция от стоянки самолетов далеко.
Если бы знать, убран ли аккумулятор с самолета, на котором нам сейчас предстоит работать с Мишкой! Если аккумулятора нет, то один из нас расчехляет самолет, а другой бежит к зарядной станции и доставляет аккумулятор. Мы сэкономим дорогие минуты. Если бы знать!
Мы с Мишкой подходим к столу, получаем задание. И вдруг я вижу, как, закашлявшись, нам незаметно делает знаки начальник особого отдела. Он чуть кивает в сторону на край поля аэродрома, где белеет маленькое здание аккумуляторной зарядной станции. А может, мне это показалось. Закашлялся человек — и все. Нет, уж очень выразительно он косит глазами в сторону белого домика.
Четко повторив задание, мы поворачиваемся и бежим к самолету. На ходу я успеваю оказать Мишке, чтобы он расчехлял самолет один, а сам решаюсь бежать к зарядной станции. Он понятливо кивает, и мы разбегаемся в разные стороны.
«Если даже аккумулятор в самолете, доставлю второй, — на бегу думаю я. — Пусть будет запасной».
...Когда, запыхавшись, я подкатил на тележке к нашему самолету аккумулятор, Мишка, спрыгнув с крыла самолета, суетился, восторженно бормотал:
— Молодец, Алешка! Как в воду смотрел. Аккумулятора-то в самолете нет.
— Не в воду, на особиста смотрел, — шепчу я.
— А-а-а, — понятливо смеется Мишка. — Я тоже что-то по его лицу заметил, но показалось, он просто закашлялся.
...Свое практическое задание мы с Мишкой выполнили досрочно. Успешно ответили и на многочисленные вопросы по теории. Для нас с Мишкой экзамены окончились. Да и все паше классное отделение своей работой, знанием теории вызвало довольные улыбки у инспектирующих. Только Гога подвел отделение. Заторопился, не проверил контакты и чуть не посадил самолет на брюхо, впопыхах включив шасси на уборку.
* * *
В роте оживленно, в роте суматоха. Мы получаем новое обмундирование, проездные документы, аттестаты. Мы с Мишкой направлены в Севастополь в распоряжение штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота.
На один из наших флотов собирается к отъезду пригрустнувший Гога. Так и не написал он на нас с Мишкой рапорта, никому не доложил о случае в горсаду. А может, и доложил, но, во всяком случае, нас никто не вызывал, никто не тревожил.
...Поезд идет на юг к Черному морю. Мишка спит на своей полке, а я перечитываю письмо от Лидочки. Она поздравляет меня с окончанием училища и со скорым окончанием войны.
«Алешка, давай очень ждать друг друга, давай очень верить друг другу, и тогда все у нас получится так, как мы оба захотим». На этом кончается ее письмо из Ленинграда.
Я еще никогда не видел море. Сейчас в кузове обшарпанного развалюхи-грузовика мы с Мишкой и с группой бесшабашных веселых моряков-попутчиков из Симферополя по горным страшным дорогам катим к Севастополю, к морю. Мы с Мишкой, навалившись на кабину грузовика, беспокойно крутим головами: где же оно, море?
Позади уютно расположился на моей спине здоровенный рыжий главстаршина, с новенькой нашивкой за ранение. Он жадно вглядывается вперед, сыплет мне пеплом цигарки за шиворот, прерывистым голосом обещает:
— Вот сейчас, за тем поворотом... Мать честная, опять увижу море. Думал, хана мне будет в госпитале... Кранты пришли. Ан нет, хлебнем еще соленой водицы.
И вдруг оно сразу высоко, до самого неба, голубой и синей стеной встало перед машиной.
— Алешка! Море! — шепчет Мишка, стиснув мою руку.
— Море! — дико ревет за спиной главстаршина. — Здравствуй, море! Салют, друг сердечный!
Я уже ничего не слышу, ничего не замечаю, кроме этой живой, вздыхающей сине-голубой стены. Все вокруг: и горы, и деревья, и кабина грузовика — стали вдруг маленькими, ненужными. Все заслонил, кажется, подмял под себя этот водный простор без конца без края.
Очередной поворот машины, и вдруг прикрыла, спрятала какая-то гора это волшебство, эту сказку, этот сон.
— Паленым пахнет, — давно уже надрывается за спиной кто-то из пассажиров. — Ребята, горим!
По моей спине бешено хлопает ладонями главстаршина:
— Горишь, кореш!
И только сейчас я почувствовал дикую боль между лопаток, кто-то стучит по кабине, и грузовик останавливается.
Мишка осторожно помогает мне раздеться. Я вижу свой бушлат, фланелевую рубашку, белую форменку и тельняшку. Все это с опаленными по краям дырками величиной с кулак.
— И ты ничего не чувствовал? — виновато спрашивает главстаршина.
— Нет, море увидел...
Мишка сердится, в сердцах обрушивает на главстаршину все ругательства, какие только знает.
— Сыр голландский... Курильщик несчастный...
— Ладно, кореш, тише. Ну, виноват, ну, казните меня... Я сам на море засмотрелся, — хмуро бормочет «сыр голландский». Он стаскивает с себя бушлат, протягивает мне. — Возьми, почти новый. Дай только погоны сменю. У тебя голубые.
У кого-то нашелся одеколон. Полили мне на ожог. Посадили голой спиной к ветерку, и мы тронулись дальше. Так мы с Мишкой познакомились с морем.
И опять мы несколько раз видели море и снова кричали ему приветствия, только главстаршина, сидя на дне кузова, озабоченно вертел в руках мой бушлат. Видимо, прикидывая, что теперь делать с дырой на спине.
— Комендатура там строгая, — досадливо сплевывая, кивал он в сторону Севастополя.
...Город открылся как-то неожиданно весь сразу. Мы видим голубые бухты, изуродованные заводские трубы, подъемные краны, золотисто-ржавые борта и днища лежащих на отмелях катеров. С холмов все теснее к морю, словно наперегонки, торопятся обугленные, опаленные домишки. Большие, выкрашенные ради маскировки под цвет грязи дома просматриваются насквозь. В их обрушенных потолках, в проломах стен живут небо и море.
Наш грузовик сейчас сбавил скорость и теперь осторожно лавирует между каменными развалинами, разорванными чугунными трубами. Мы проезжаем мимо жуткого памятника какому-то адмиралу. Памятник без головы.
— Тотлебен, — понимающе переглянувшись, глухо говорят моряки в кузове машины. То и дело возникают надписи: «Минировано!», и девушки-регулировщицы в матросской форме повелительно флажками меняют наш маршрут.
Проплывают таблички с названием улиц но ничего понять невозможно. Улицы названы по-немецки.
Со всех сторон пахнет гарью, всюду дымятся развалины домов, тлеют каштаны, деревянные ограды. На площадях в окружении разорванных мешков с песком перевернутые фашистские зенитки с искореженными, завитыми в штопор стволами.
На какой-то площади стоит полевая кухня, и к ней тянется длинная очередь худых, изможденных детей и женщин. Мы замедляем ход. Впереди машины с жутким хохотом приплясывает девушка с распущенными волосами, в разорванном платье, надетом задом наперед прямо на голое тело. Осторожно обогнули несчастную, она остервенело плюется нам вслед, падает в дорожную пыль, катается в ней и снова жутко хохочет. Кажется, никогда ничего страшнее я еще не видел.
Вот движется, старательно огибая камни, матросский патруль. На рукавах строгие повязки, но сам патруль экипирован с вопиющим нарушением формы одежды. У многих брюки заправлены в сапоги, через плечо пулеметные ленты, за поясом гранаты. Кое на ком солдатские гимнастерки, но у каждого на голове бескозырка с золотым тиснением и в раскрытых воротах голубеют полоски тельняшки. У старшего этого патруля, бородатого лейтенанта, на груди огромный морокой бинокль, а на запястье, словно часы, компас. Он хмуро проводил наш грузовик и еще долго смотрел в бинокль нам вслед. Мне показалось, он шарит биноклем по моей полуоголенной фигуре.
Неожиданно грузовик остановился. Хлопнула дверца кабины, и перед нами, разминая затекшие руки, предстал молоденький шофер в засаленной пилотке.
— Все. Приехали. Здесь комендатура и продпункт, — кивнул он в сторону сравнительно сохранившегося серого здания. — Эй, парень, как там тебя, что спину обжег, — поискал он меня глазами. — Тут и медпункт. Дуй прямо туда.
У входа в комендатуру меня тут же задержали, но мы все дружно объяснили, что случилось в дороге, я показал спину, и нас пропустили.
В медпункте угрюмый фельдшер чем-то безжалостно натер мне спину, и мы расстались. Стиснув зубы, я оделся и вместе с Мишкой распахнул дверь с приколотой картонкой: «Морской комендант».
Перед комендантом мы предстали четко, подтянуто, так, как нас учили подходить к старшим. Уроки училища не прошли даром.
Доложили о себе строго, коротко, как этого требует устав.
Он даже растерялся. Машинально отложил в сторону растерзанную воблу, застегнул пуговицу кителя, встал (не знал комендант, что, прежде чем к нему войти, мы с Мишкой во дворе комендатуры долго обломком кирпича драили свои пуговицы, медные бляхи с якорями на поясах, мокрыми пальцами с натугой заостряли швы на брюках, наводили глянец на обуви).
— Из училища — это хорошо, — смущенно бормочет комендант, прикрывая обрывком газеты воблу. — Ну давайте документы.
Мы подаем разные бумаги и запечатанные пакеты с грифом «Секретно». Комендант мельком просмотрел бумажки, с любопытством осматривает на свет пакет с сургучными печатями. Вскрывать их он не имеет права. Не ему адресованы, а отделу кадров штаба Военно- воздушных сил Черноморского флота. Он с неохотой возвращает нам пакеты и вдруг к чему-то напряженно прислушивается, глядя в окно с разбитыми стеклами. Теперь уже явственно слышен в небе рокот самолетов.
— Наши, — улыбаемся мы с Мишкой, — это штурмовики Ил-2.
— Как это вы определяете? — облегченно смотрит на нас комендант.
— Так ведь два года учились, — поясняем мы. — Теперь вот механики.
— Воблы хотите? — вдруг оживляется комендант.— Угощайтесь. Да вы садитесь.
Я не знаю такого человека, чтобы отказался от воблы. Просто таких чудаков еще не встречал. Но сейчас в присутствии старшего, да еще самого коменданта, мы не решаемся воспользоваться приглашением, благодарим и продолжаем стоять.
Комендант задумчиво поправляет якорек на эмблеме своей фуражки и снова, как нам кажется, с удовольствием отмечает:
— Из училища — это хорошо... — Подумал и добавил: — Сейчас авиация нам позарез нужна. Фашисты прямо осатанели за потерю Севастополя.. Подкарауливают с неба каждый наш корабль, каждую скорлупку...
Дверь без стука распахивается. На пороге злой небритый мичман в расстегнутом кителе с оторванными пуговицами, в руках кусок хозяйственного мыла.
— Иван Федорович, — кричит он, — опять зануда завхоз туалетное мыло для комендатуры зажал. Вот дегтярку нам подсунул.
Медленно встает комендант. Лицо у него посерело, он говорит сначала, кажется, шепотом, а потом вдруг гневный голос обрушивается на оторопевшего мичмана.
— Я вам кто, товарищ мичман? Кто я вам по званию? Как стоите? Что у вас за вид? Смирно! Кругом! Шагом марш!
Мичман вытянулся, кусок мыла шлепнулся на пол. Мичман круто повернулся, шагнул к двери.
— Отставить! — яростно командует комендант. — Застегнуть китель! Кругом! Строевым шагом марш!
От строевого шага мичмана жалобно звякнули разбитые стекла в окнах, и даже за закрытой дверью, где- то в коридоре еще долго гудел пол от печатного стука каблуков.
Комендант сел и, как-то сразу обмякнув, тихо говорит, прибирая воблу в стол:
— Расшаталась за войну дисциплина... А еще военморы. Придется многое поднимать заново... Вот вы и начнете, — с надеждой смотрит он на нас с Мишкой.— Ну, счастливо, товарищи. До штаба, может, какая попутная подбросит.
Мы четко козыряем и строевым шагом выходим из кабинета. У выхода на ступеньках сидит знакомый мичман, чертыхаясь, пришивает к кителю пуговицу. Он посторонился, давая нам с Мишкой дорогу, и вдруг пустил вслед такой остроумный соленый флотский загиб, помянув бомбрам-стеньгу, грот-мачту, всю нашу родню и господа бога, что мы, переглянувшись, восхищенно ему позавидовали.
...Попутная машина вывезла нас за черту города, а дальше наши пути расходились. Мы взяли свои чемоданишки и, подробно расспросив шофера, куда двигаться дальше, тронулись в путь. Шофер вдогонку напутствовал, чтобы мы шли тропой и не выходили к морю.
— Там фрицев навалом, — кричал он из кабины,— мертвяки! Еще приснятся — заиками останетесь.
Не знаю, как это получилось, но мы все же потеряли тропу и свернули к морю. Наверное, заманило оно нас своим могучим рокотанием, позвало ни с чем не сравнимыми запахами соленой йодистой воды.
Сначала почти у самого берега, на отмели, мы увидели самоходную баржу с фашистской свастикой. Взрывом баржа, казалось, разорвана пополам. Над водой торчали только корма и нос, а в середине плескалось море. Наверное, под водой обе раздвинутые половины баржи держали невидимые для глаза переборки.
— Человек! Смотри, вон человек в воде, — прерывистым голосом сообщил Мишка.
Мы подошли ближе и увидели уткнувшийся лицом в песок труп в серо-зеленой форме. Ноги его оставались в воде, и казалось, тяжелая каска на голове не позволяла набегавшим волнам стащить его в море.
— Смотри-ка! Еще один, — затормошил меня Мишка. Но это был не один, а сразу двое. Сцепившись в железных объятиях, они лежали у самой воды, и набегавшие большие волны лениво переворачивали их и уходили обратно.
Подавленные, присмиревшие, мы, взявшись за руки, тихо идем вдоль жуткого берега и переговариваемся почему-то шепотом. Мы даже не заметили, как вдруг очутились в окружении трупов. На сколько хватал глаз, они скоплениями и в одиночку усеяли всю полоску песчаного побережья.
Из воды у самого берега торчит перевернутый вверх колесами краснозвездный штурмовик Ил-2.
— Пойдем скорее, — тяну я за руку Мишку. — Жутко.
Мы пошли дальше быстро, не задерживаясь и не оглядываясь: берег был пуст, и только огромная крикливая жадная стая воронья пролетела низко над нами в ту сторону, где мы только что были.
Долго шагаем молча. Мишка замедляет шаг, останавливается и садится на камень. Я присаживаюсь рядом, и, обнявшись, мы неотрывно смотрим на безграничное, мерно дышащее море. Оно выбрасывает на берег обломки шлюпок, цилиндрические гофрированные противогазы и, словно тину, какое-то темно-зеленое тряпье.
Нет, не красиво оно сейчас, это хваленое Черное море. Далеко, далеко, там, где ровной прямой синевой опустилось на него небо, море действительно черного цвета. А если приближать его к себе, к берегу, сюда, где мы сидим с Мишкой, то заметно, как море постепенно меняется. Вот далекая черная полоса становится густо-синей, а потом голубеет и уже совсем у берега зеленеет и, наверное, устав менять свои наряды, швыряет прямо над ноги и вовсе белую, не по-доброму шипящую пену.
— Слышишь? — вдруг вытягивается Мишка. — Самолеты!
Мы рядом плюхаемся в песок: над нами с диким ревом проносятся бомбардировщики с фашистской свастикой. Пронеслись, и сразу все стихло.
Мы встаем и ватными ногами бредем в ту сторону, откуда доносятся глухие взрывы. Значит, все точно: там находится штаб Военно-воздушных сил флота. Иначе зачем бросать летчикам бомбы на пустое место?
— Алешка, — неожиданно смеется Мишка. — А ведь Гога-то думал, что здесь, на Черном море, — курорт...
Ну вот и совершилось все, к чему мы стремились два года в училище.
В пыльном от взрывов здании штаба оглохшие офицеры, чертыхаясь, объяснили нам, куда, в какую комнату следует идти. Перекосившуюся дверь трудно открыть. Ничего у нас с Мишкой не вышло, чтобы войти в кабинет строевым шагом. Сидит на полу офицер, зажал в коленях пишущую машинку, яростно дует на нее, осторожно трогает клавиши.
— Разрешите обратиться? — гаркаем мы с Мишкой.
Он не слышит, осторожно несет машинку к столу, потом ошалело спрашивает:
—- Ну, чего надо?
Мы подходим к столу, рапортуем. Он ищет глазами фуражку, нашел, яростно постучал ею о колено, криво надел на голову:
— Слушаю вас.
Мы предъявляем наши пакеты с сургучовыми печатями. Он безжалостно их вскрывает, вчитывается, долго думает, потом серьезно, по-деловому спрашивает:
— Истребитель «Аэрокобру» знаете? Американский самолет.
Мы с Мишкой переглядываемся: вот уж действительно, что плохо знаешь, то и достается.
Так вы изучали этот самолет? Чего же молчите?
Мы дружно отвечаем:
— Так точно! Изучали, знаем!
Он доволен. Одним пальцем старательно отстукивает на машинке для нас бумаги, удивленно радуется:
— Смотри-ка, работает. Умница.
И, уже прощаясь с нами, огорченно поделился:
— «Аэрокобру» получили, а вот к ней все чертежи, схемы на английском языке. Хоть чуть-чуть-то знаете?
— Шпрехен зи дойч, — уверенно сказал Мишка.
— Дую, вую, ую, — поддержал я разговор.
— Ну, вот и хорошо, — смеется начальник отдела кадров. — Я ведь сам-то летчик, но сбили, гады, прямо над Севастополем, а свои теперь сюда заткнули. Пообещали, что, мол, временно. Я было взялся за английский язык, да вот эту машинку надо осваивать.
Аэродром, куда нас направили, оказался хорошим. Мы с Мишкой бредем с чемоданами вдоль колючей проволоки и радуемся бетонным плитам. Они уложены ровно, надежно, шов к шву. Тут уж самолет на посадке не споткнется. А на взлете? На взлете на стремительном разбеге даже самого глупого летчика поднимут крылья самолета.
Стоят на трех ногах «Аэрокобры». Стоят незачехленными, знать, готовы в любую минуту взмыть в суровую, опасную стихию — воздух. Этот самолет мы сейчас видим впервые. У пас в училище на учебном аэродроме такого не было. Почти перед самым нашим выпуском неумолимые, усталые преподаватели рисовали электросхему «Аэрокобры» мелом на доске. Путались, смущались. Еще больше путались, огорчались мы, курсанты-выпускники.
Так вот она, эта «Аэрокобра». Вся зализанная, интеллигентная. И на вид совсем не хищная, какая-то мирная, домашняя, чуть пузатенькая.
Прямо у колючей проволоки мы с Мишкой усаживаемся на травку, закуриваем. Смотрим на самолеты.
— Да что там «Аэрокобра», — вяло рассуждает Мишка, — везде принцип действия одинаков. Закон Ома мы знаем. А это во всем мире одно и то же. Почему эта железная махина летает, мы тоже знаем. Разрез профиля крыла мне и сейчас по ночам снится.
— Английского языка мы не знаем, Мишка.
— А чего его знать-то? Схемы ведь везде одинаково чертятся. Начнем от источника питания, а дальше следи по проводнику, и все ясно. Видал я таких кобр,— веселеет Мишка. — Пошли, Алешка.
Уже второй день мы работаем на «Аэрокобрах». Отдан приказ на меня и Мишку. Оба мы теперь механики эскадрильи. В моем хозяйстве четырнадцать самолетов, у Мишки — двенадцать. Стоянки самолетов рядом, так что всегда можем помочь друг другу. В подчинении у нас младшие специалисты. Встретили они двух новых механиков хмуро, настороженно, с недоверием. Да и какое может быть доверие, когда в первый же день знакомства с «Аэрокоброй» я долго тупо соображал, где находится аккумулятор. За спиной вежливо посмеивались.
Оказывается, он в носу самолета. А по всем моим понятиям в носу самолета должен быть мотор.
Отверткой вскрываю многочисленные лючки. И ничего не пойму. За спиной откровенный хохот. Особенно противен смех лопоухого, толстогубого мастера с одной лычкой на погонах — «старший матрос». Все зовут его «полторапайка». Длинный, вечно голодный. Я заметил его в столовой. Глаза жадные. Свою миску мигом опорожнил, сунул ее под стол, истошно кричит на официантку, что ему не дали. И так правдиво, искренне врет, что даже я стал сомневаться, а может, и вправду ему не досталось? Хотя путается у меня под ногами его миска. Заплаканная официантка принесла ему вторую порцию. Он весело подмигнул нам и заурчал над миской. И вот он сейчас смеется громче всех. И как назло, проклятая отвертка вскрывает не те лючки. Что делать? Конечно, властью, данной мне воинским званием и должностью, я могу поставить его на свое место. А как это сделать? Наорать? При всех скомандовать «Смирно!»? Это от меня не уйдет.
Ну, вот он наконец, центральный разъем всей электросети «Аэрокобры». Почти все так же, как и у наших истребителей. А вот оно и электрическое сердце, что умно регулирует напряжение аккумулятора и генератора в зависимости от оборота винта. Все как у наших самолетов. Только по-иному смонтировано. Да и сами агрегаты внешне отличаются, а принцип действия одинаков.
Стих за спиной смех. Я раскладываю на траве электросхему этого самолета, приглашаю ребят подсесть поближе. И вот пошел кончик отвертки по запутанным чертежам линии от источника питания до всех реле. Особо сложного ничего здесь нет. Как говорят электрики, в этом самолете однопроводная система, то есть «минус на массе». И на наших истребителях так же. Значит, следи внимательно за одним проводом, что условно назван «плюс», и он обязательно по-умному приведет туда, куда нужно, а если подать ток в цель, то по приказу летчика, одним нажатием кнопки сработают все шесть пулеметов «Аэрокобры» и одна пушка. Мало этого — нажим кнопки, и пиропатрон откроет замок бомбодержателя. Тогда расстанется с самолетом стокилограммовая бомба.
Путаемся мы со схемой компаса. На этом самолете он не спиртовой с плавающей картушкой, не гирокомпас, а электрический. В училище мы наспех, очень бегло успели начертить его схему, а влезть глубоко, понятливо, как и почему он показывает «норд», не хватило времени.
Мне приятно, что сейчас ребята начали спорить, и больше всех горячится «полторапайка». Я уже давно отдал ему свою отвертку, внимательно слушаю и понимаю, что парень больше берет практикой, а вот с теорией не ахти как дружен.
— Товарищ старший матрос, объясните суть закона Ома.
Этого он не ожидал. Оглядывается на товарищей, ухмыляется.
— Закон Ома, это когда ты дома.
Никто не смеется.
— «Полторапайка», тебя дело спрашивают, отвечай, — хмурятся ребята.
— Ну, значит, сила тока и напряжение, — бормочет он, — нет, еще есть сопротивление... Ну, в общем, сила тока пропорциональна... Нет, напряжение прямо пропорционально...
Ребята откровенно хохочут.
— Эх ты, «полторапайка»...
— Твой рост прямо пропорционален аппетиту...
На полном серьезе я прерываю смех:
— Вот что, товарищи мотористы, у старшего матроса есть имя — Игорь, а фамилия — Томилин. И чтоб больше никаких прозвищ. Понятно? Разойдись по машинам!
Ребята понуро побрели к раскаленным от южного солнца «Аэрокобрам». Дел у нас по горло. Я уже знаю, что в эскадрилье нет такого самолета, чтобы был полностью исправен. В дефектной ведомости, что я принял, полно записей: барахлят приборы, давно не обновлялись графики компасных поправок, не на всех самолетах исправно горят аэронавигационные огни, текут аккумуляторы, и редкий из них заряжен до нормы — двадцать четыре вольта. Значит, виноваты коробки регуляторов напряжения. Давно их никто не регулировал. По этой причине истребитель не сможет взлететь сразу по боевой тревоге. Просто истощенный аккумулятор не может дать достаточного напряжения на стартер, а потому с ходу не заведется мотор. У «Аэрокобры» хранится в крыле аварийная ручка. И когда надо самолету взлетать, мы все хватаемся за эту ручку и, сколько хватает сил, раскручиваем ею до дикого завывания стартер. Эту ручку мы почему-то прозвали «Сулико». Вот уж действительно, раскручивая ею стартер, невольно вспоминаешь слова грустной песни: «долго я томился и страдал...»
Летчики уже перестали на нас гневаться, давно махнули рукой: сколько ни записывай в журнал дефектов, мы все равно не успеваем их устранять. Не хватает людей, не хватает и запасных частей, дефицитных приборов.
— А, да, ну ладно, — в сердцах машут летчики рукой, — лишь бы палка вертелась да пулеметы с пушкой стреляли.
«Палкой» они называют трехлопастный винт самолета. Но к этой «палке» крайне необходимы приборы, указывающие точно температуру масла, количество в баках бензина, нагрев головок цилиндров... Я уж не говорю об указателях поворота, высоты, скорости... Врут и компаса.
Морской летчик — это не обычный армейский летчик. Ребята летают над морем. Под крылом никаких ориентиров, только безбрежная водная гладь. В случае аварии не спланировать, не сесть. Можно, конечно, и сесть, только на дно морское. А уж если выбросился с парашютом, то опять тебя примет море. И даже если сработает оранжевый спасательный жилет, кто знает, сколько продержишься на волнах, пока заметят, пока подберут. А кто заметит в открытом море? Только чайки да дельфины.
Вот почему особенно важна четкая работа приборов на самолетах морской авиации. Тут уж пресловутое лихое «на авось» часто кончается трагически.
Летчики привыкли, вернее, приспособились к тому, что лишь бы крутилась «палка» да работало вооружение самолета. Над морем ведомые в основном следят за ведущим летчиком, своим командиром. Эти ведущие самолеты мы изо всех сил старались обеспечить всем необходимым. В боевом полете ведомые точно повторяют каждый маневр своего командира, им даже стало необязательно следить за всеми стрелками на своей приборной доске. Ведущий выведет на цель, ведущий и приведет товарищей обратно на свой аэродром. Ну а если случится беда с ведущим? Значит, опасность делится на всех.
Вот почему мы с Мишкой решили в первую очередь заняться всеми компасами на всех самолетах. Решили устранить до минимума компасную девиацию, то есть погасить влияние стальных масс самолета на чуткое показание картушки.
Как хорошо, что нас учили это делать в училище. Учили в жуткие морозные дни, когда уральский ветер безжалостно выжимал из глаз слезы и с трудом мы различали ноты пеленгаторов. Потом в покрытых инеем замороженных кабинах маленькой медной отверткой негнущимися, замерзшими пальцами терпеливо поворачивали крошечные магнитики, старались установить картушку компаса ее северным делением точно на норд.
Вот с этого мы и начали с Мишкой свою работу механика эскадрильи.
Как-то Мишка, осторожно балансируя с тяжелым аккумулятором в руках, сорвался с носа самолета и сильно ударился плечом и рукой о землю. Подбежали мотористы, подняли побледневшего Мишку, хотели расстегнуть порванный комбинезон, но он, стиснув зубы, не давался.
Я повел его в санчасть. Врач осторожно ощупал Мишкино плечо, руку, успокоившись, крикнул за перегородку:
— Лариса, готовьте противостолбнячный.
Мишку уложили лицом вниз на клеенчатый топчан, а я остался посмотреть, как будут колоть друга.
Из-за перегородки со шприцем в руках шла, вся в белом, девушка, и я остолбенел. Ведь это же Лариска из нашего двора. Лариска Шатрова.
— Лариска, — вдруг пересохло у меня в горле. — Лариска, это ты?
— Алешка!
Грохнулся на пол шприц, испуганный врач мечется вокруг нас, а тут еще вскочил Мишка, и все трое мы смеемся, тормошим друг друга. Мы не слышим, как сердито кричит врач, какой приказывает Мишке снова ложиться, стыдит его за то, что тот потерял брюки.
— Укол! Скорее укол! — приказывает он Лариске, но она сидит посреди нас на топчане и ревет.
Врач сам метнулся за перегородку и вот уже со шприцем в руках прилаживается к Мишке.
— Сейчас я вашему другу вкачу сыворотку, чтобы он впредь встречал друзей не задним местом, а лицом, — бормочет врач, и я чувствую, что он уже не сердится, что ему стала понятной эта необычная встреча. Он разрешил Лариске покинуть санчасть, и мы, усевшись на траве, наперебой задаем друг другу вопросы. Лариска сбивчиво, перескакивая с одного на другое, рассказывает нам, как трудно ей жилось в Средней Азии, как жестоко порвалась у них дружба с Гогой из дом пять. При военном госпитале она окончила курсы медсестер, там же вышла замуж за одного раненого летчика и сейчас вот вместе с ним. уже месяц живет на нашем аэродроме.
Ее рассказ прерывает грозный рокот истребителя. Он только что взлетел и сейчас, набирая высоту, проносится над нами.
— Двенадцатый! — счастливо кричит Лариска, провожая глазами самолет с номером двенадцать на борту. — Это же Боря Тарасов полетел. Муж мой!
Лейтенанта Бориса Тарасова я хорошо знаю. Это очень способный летчик с широкоскулым лицом, мохнатыми густыми бровями. Он чуточку прихрамывает и всегда, забираясь в самолет, одними глазами просит помочь ему влезть на крыло.
Как-то он отвел меня в сторонку, мы уселись перекурить, и он долго, не зная, как начать разговор, часто прерываясь, то и делая щелкая зажигалкой, попросил, чтобы на его самолете как можно точнее устранили компасную девиацию и надежнее сделали сигнализацию выпуска шасси.
— Поставь поярче лампочки на эту сигнализацию. Чтобы сразу бросались в глаза, — виновато, как бы за что-то извиняясь, просил он.
Я выполнил его просьбу. А спустя немного он, все так же отведя меня в сторонку, запинаясь, попросил усилить подсвет приборной доски.
Однажды, возвращаясь с боевого задания, Борис на посадке сбил крылом самолета антенну передвижной радиостанции, и перепуганные, встревоженные люди на аэродроме бежали к его самолету, который на ровных плитах посадочной полосы садился с отчаянным «козлом». К самолету номер двенадцать неслась «Скорая помощь». На подножке машины наготове стоял врач в белом халате, с чемоданчиком в руке.
— Наверное, ранен! — закричал Мишка, и мы что есть духу тоже побежали к самолету.
Но вот «двенадцатый» сбавил обороты мотора и осторожными рывками, словно слепой, порулил к своему обычному месту на стоянке. Распахнулась дверца кабины, и как ни в чем не бывало Борис вышел на крыло самолета, сполз на землю, отмахнулся от врача и, привычно прихрамывая, подошел с рапортом к командиру эскадрильи.
О чем он рапортовал, мы не слышали. Только видели, как командир эскадрильи сердито показывал ему в сторону передвижной радиостанции, потом махнул рукой и зашагал прочь от застывшего по стойке «смирно» летчика.
Удар крыла об антенну повредил на самолете трубку «Пито», и я уже ночью при свете переносной лампы заменял ее на новую.
Я не видел, что за моей спиной сидел понурый Борис, и, только закончив работу, собрав инструмент и направившись к своей землянке, столкнулся с неподвижной сгорбленной фигурой летчика. Я присел рядом, чиркнул спичкой, давая ему прикурить, и с удивлением заметил, что он никак не может попасть кончиком папиросы в пламя спички.
«Пьян, наверное», — неприятно подумалось мне.
Я сказал утешительно Борису:
— Зря ты это самое... Не стоит расстраиваться. Подумаешь, великое дело антенна. Заменить металлический прут, и все дела. А с трубкой «Пито» уже все в порядке. Можешь с утра вылетать.
— Я не пьян, — огорченно понял он мои мысли. — Просто тяжело мне, Алеша.
Он долго затягивался и вдруг тихо сказал:
— Я ведь не вижу ничего. Потерял зрение. Только ты молчи. Об этом никому. Ни слова. Узнают — отстранят от полетов. А летать ой как еще надо. Я с фашистами за ногу не рассчитался.
Стал накрапывать дождь, и мы, накрывшись самолетным чехлом, залезли под крыло «Аэрокобры». Я понимал, что не могу сейчас уйти спать в землянку. Да и от доверительного голоса летчика, откровенных его слов у меня пропал сон, я понял, что сейчас этому человеку нужен слушатель, очень нужно хотя бы молчаливое сочувствие.
— Как же со зрением? Давно это случилось?
И Борис вполголоса рассказал, как его постигло это страшное несчастье. Это произошло недавно, в самые жаркие бои за освобождение Севастополя.
Однажды, подвесив стокилограммовую бомбу, он вылетел на боевое задание. Был приказ обстрелять скопление гитлеровцев на узкой песчаной береговой линии.
Борис, расстреляв с пикирования все патроны, вдруг заметил глубоко сидящую в воде тяжелогруженую огромную самоходную баржу. Подумалось, что ее трюм забили спасающиеся фашисты. Вот когда пригодится единственная бомба. Летчик тщательно рассчитал маневр, снизился, направил самолет прямо вдоль баржи, от носа к корме. Чувствовал, что не промахнется. Сбросил бомбу и по привычке обернулся: попал или пет?
Он увидел ослепительно яркое пламя. Сразу потемнело в глазах, потом и вовсе померк свет. В глазах плотная густая чернота. Самолет, освободившись от бомбы, послушно набирал спасительную высоту, но летчик, по-прежнему легонько забирая ручку управления на себя, все еще ничего не видел: ни приборной доски, ни берега, ни моря.
Самолет упрямо взбирался все выше и выше. Это летчик чувствовал по кислородному голоданию. Но высота была его спасением, надеждой, что все-таки наступит проблеск и он снова будет видеть.
И этот проблеск наступил. Сначала в глазах появилась мутная пелена, словно у ныряльщика, когда тот под водой открывает глаза. Потом летчик увидел солнце. Это уж был ориентир, и Борис мог прикинуть, где берег, куда надо поворачивать самолет. Потом он увидел море, даже различил береговую черту.
Долго, напряженно смотрел на компас. Но все цифры двоились, куда-то уплывали. Он вертел головой, пытался смотреть на прибор искоса, краешком глаза, прищуривался и вот наконец смог различить показания компаса. По оборотам винта понял примерно, с какой скоростью летит. Теперь уже летчик уверенно повел самолет на свой аэродром.
Неотступно тревожили два опасения: хватит ли горючего и как посадить самолет, не чувствуя близости земли. Теперь вся надежда на высотомер. Наконец, он приспособился и сбоку, сильно прищурившись, поймал белые стрелки высотомера на черном циферблате.
У самой земли, перед самой посадкой высотомером не пользуются. Пять-десять метров над землей ни один высотомер точно не покажет. Тут нужна практика, нужны чутье, летная интуиция.
И ему повезло. Он вдруг стал видеть холмы, деревья, серые нити дорог. А вот и свой аэродром, вот белеет посадочная буква Т.
С небольшим простительным «козлом» он приземлился.
Впервые за всю летную службу Борис не сказал правду товарищам, не поведал им, что с ним случилось после того, как он оглянулся на взорвавшуюся самоходную баржу.
Потом уже он узнал, что бомба попала в баржу, наполненную светящимися термитными авиационными бомбами. Такие бомбы фашистские летчики в ночное время сбрасывают на парашютах над землей, и пока она опускается, то своим невыносимо ярким светом освещает всю землю, все объекты для бомбометания. И вот такими маленькими солнцами была загружена баржа.
— Ну а как же потом со зрением? — спрашиваю я вдруг тягостно замолкшего летчика. — Как же разрешили летать?
Он зябко натягивает на плечи ватный чехол самолета, тяжело вздыхает:
— Знаешь, Алеша, я никому ничего не говорил. Никто не знал, ни товарищи, ни командование, ни жена, что время от времени я опять так же теряю зрение, как в том полете после бомбежки баржи. Поверь, друг, очень хотелось сбить хоть одного фашиста. Ведь на моем боевом счету до сих пор нет ни одного сбитого самолета. Меня раз сбил один ас, вот видишь, нога теперь ни к черту. Помню, у того аса на борту самолета была нарисована черная кошка. Полежал я в госпитале в Средней Азии и дал себе клятву отомстить. Даже не за то, что он сбил, а за то, что, пока я опускался на парашюте, он кружил вокруг. Хохотал и стрелял из пистолета. Вот так и летаю сейчас полуслепым. Может, подвернется мне та черная кошка.
— А как же медицинские комиссии? Ведь у вас, у летчиков, они часто бывают? Как же до сих пор не обнаружили, что ты плохо видишь?
Он угрюмо помолчал, снова потянулся за папиросой:
— Понимаешь, дружище, опять я людей обманул. У меня жена медсестрой в нашей санчасти. Я к ней часто захожу. Ко мне там все привыкли. Так вот раз зашел, смотрю, в глазном кабинете никого нет. Ну я и снял со стены таблицу всех этих букв. Спрятал дома и, когда никого нет, учил на память все эти буквы, где в каком ряду и какая стоит по счету. На комиссиях всех врачей удивлял. На любой, даже самый мелкий значок покажут, а я без запинки отвечаю, Н это или, скажем, П. У нас в части настоящих специалистов-окулистов нету, так что пока все сходит. А вот если повезут в Севастополь на комиссию, то хана мне, отлетался. Прощай черная кошка.
Не знаю, с чего все началось, но только наша эскадрилья вдруг запестрела «счастливыми» талисманами. На бортах самолетов появились красочные рисунки. Каждый летчик вместе с художниками-самоучками рисовал на борту своего самолета какой-либо «счастливый» талисман. Сначала робко, не очень броско, появились на бортах шахматные кони, натянутый лук со стрелой, голова витязя в шлеме, адмиральский якорь, черная маска, кленовый лист... В общем, каждый выбирал что-либо неожиданное и, как ему казалось, ошеломляющее для противника.
Как-то стоянку самолетов посетило большое начальство из Севастополя. Генерал, поджав губы, медленно обходил боевые машины, морщился. Сопровождавший его наш командир полка ежился, втягивая голову в плечи, негромко покашливал.
— Это что? — вдруг громко спросил генерал, кивая подбородком на самолет номер двенадцать.
— Американский истребитель «Аэрокобра», товарищ генерал-майор, — тихо поясняет командир полка.
— Я спрашиваю, что здесь намалевано? — повышает голос начальство и тычет пальцем в борт самолета. А на борту прямо Третьяковская галерея: в крепко зажатом кулаке хвост черной кошки. Сама кошка дико изогнулась, у нее безумно выпучены глаза и судорожно оскалена пасть.
— Ах, это? — удивился наш командир. — Ну это просто так, рисуночек, товарищ генерал-майор.
Наступила такая тишина, что стало слышно, как на камбузе кто-то деловито точит ножи.
Генерал сдвигает на затылок свою красивую с золотом фуражку, промокает платочком мокрый лоб.
— Кто летчик? — вдруг устало спрашивает начальство.
Вперед выступает Борис, четко представляется:
— Гвардии лейтенант Тарасов.
— Ну, и зачем вы... это самое, испоганили свою боевую машину, товарищ Тарасов?
Борис молчит. Руки по швам. Весь напружинен. Он то хмурится, то виновато улыбается.
— Ну так что же вы молчите, товарищ гвардии лейтенант?
— Разрешите я поясню, товарищ генерал-майор, — бросается на помощь Борису наш командир полка и, получив согласие, коротко рассказывает, как в одном из ожесточенных воздушных боев фашистский «мессер» подбил Тарасова, как раненный в ноги летчик с трудом опустился на парашюте в расположение наших войск.
— Он и сейчас хромает, — закончив рассказ, кивает командир полка в сторону Бориса.
Весь этот рассказ генерал слушал молча, угрюмососредоточенно разглядывая бетонную плиту под ногами, потом медленно оглядел Бориса с ног до головы, тихо сказал:
— Что же вы стоите по команде «смирно»? Вольно, товарищ гвардии лейтенант.
Генерал задумчиво, слегка прищурясь, теперь уже с интересом разглядывает рисунок на борту самолета номер двенадцать и вдруг смеется, хлопает Бориса по плечу:
— У того «мессера» была нарисована черная кошка? Не так ли?
— Так точно, товарищ генерал-майор.
— Слушай, так ведь и я за ним еще под Одессой гонялся. А он за мной. Я тогда на «ишаке» летал. Он сбил меня, гад. У того кота шерсть, как у рыбы плавник была, вся острая и топорщилась, а ты гладкую нарисовал. Ведь топорщилась? Словно у пилы зубья... Помнишь?
— Так точно, шерсть торчала, словно зубья черной пилы.
— Ну а ты что нарисовал? Непорядок, — с досадой говорит генерал и, замолчав, выжидательно, будто с укором, как мне показалось, оглядывает всех нас.
— Подрисуем, товарищ генерал, — чей-то обещающий голос за моей спиной.
Генерал быстро повернулся на голос, потом нахмурился и, ничего не сказав, медленно пошел дальше вдоль стоянки самолетов.
Он останавливается около двух истребителей. На борту одного белеет костяшка домино «дупель», а рядом самолет разукрашен тремя игральными картами: «тройка», «семерка», «туз». Он тяжело переводит взгляд от самолета к самолету, нам видно, как медленно багровеет его шея над тугой белой полоской подворотничка.
— Это что развели! Картежный дом! Зверинец! Конюшни еще вам не хватало! — сердится генерал и, бурно жестикулируя, торопится дальше вдоль четкого ровного строя самолетов как раз туда, где его поджидает истребитель с красиво нарисованным шахматным конем на борту.
— Я так и знал, — словно на что-то напоровшись, вдруг останавливается он и, уныло разглядывая коня, жалобным голосом поясняет: — Конюшня. Повторяю: конный двор, а не боевая эскадрилья. А как вы это объясните, товарищ командир гвардейского истребительного полка? Это ведь не черная кошка?
Наш командир чуточку замешкался, потом спокойно поясняет:
— Этот летчик — чемпион соединения по шахматам. Он даже в воздухе бьет врага ходом коня.
Генерал долгим взглядом смотрит на обожженное, в белых шрамах безбровое лицо командира, хмыкает и вдруг серьезно опрашивает:
— Фашистские летчики не пешки. Зачем заранее раскрывать в бою тактику шахматного коня? А?
Наш командир смутился, молчит. Чувствуется, что ему нечего сказать.
— Так точно, товарищ генерал-майор, раскрывать врагу свою тактику не должно.
— Ну вот то-то, — хмуро говорит генерал и, согнувшись, лезет под крыло самолета, с интересом рассматривает шасси.
Я тихонько, знаками подзываю своих мотористов, шепчу:
— Мигом к крайнему на стоянке самолету. Быстро его зачехлить! — Они удивленно переглядываются, вопросительно смотрят на меня.
— Пулей летите! Ясно? — сержусь я. Не стану же я им сейчас напоминать, что крайний самолет украшен голой русалкой, а почему это так, никто в целом мире не объяснит генералу.
И вот уже снова не спеша шагает генерал вдоль стоянки истребителей. Интересуется каждой мелочью, с глубоким знанием дела задает вопросы. У последнего самолета он останавливается, недовольно выпятив губу, разглядывает зачехленный истребитель, потом, сняв фуражку, долго смотрит в синее небо и вдруг отрывисто, резко говорит:
— Художники. Малярную кисть вам водить, а не самолеты. Показуху навели. Фашистов рисунками пугаете. А как с воздушной стрельбой у вас? А?
— Стреляем прилично, товарищ генерал, — с обидой в голосе отвечает наш командир. — На боевом счету полка числится...
Генерал устало машет рукой, задумывается. Потом снимает фуражку, громко обращается ко всем окружающим:
— Кладу эту фуражку вот там в траву, и пусть с одного захода в нее попадут с пикирования. Стрелять будет летчик вот этого зачехленного самолета. Кстати, эта машина в строю?
— Так точно, в строю, товарищ генерал.
— Хорошо, готовьтесь к вылету. Отойдемте, товарищи, подальше, — показал генерал в сторону, где далеко от бетонного покрытия аэродрома зеленело поле.
...В небо взмыла толстая русалка. Наш командир, заметно волнуясь, сообщал по рации координаты.
— Борт 21! Борт 21! Я — Земля! Я — Земля! Цель — белое пятно на лугу! Цель — белое пятне на лугу! Уничтожить!
«Русалка» понятливо вильнула хвостом и с разворота резко вошла в пикирование...
...Больше всех радовался почему-то Борис Тарасов. Все сдержанно улыбались. Генерал неуверенно поднял с травы фуражку. Впрочем, не фуражку, а козырек с расколотым железным обручем и отвалившимся «крабом»: на «Аэрокобрах» крупнокалиберные пулеметы и прицел оптический...
— Что ж, молодцы, — генерал безнадежно провел ладонью по лысине, — если и в немцев так же бьете...
Черноморское солнце сияло, как и все вокруг начальства. Вдруг Борис сделал шаг вперед:
— Товарищ генерал! Разрешите вам предложить,— по-прежнему широко улыбаясь, он стащил с головы летный шлемофон.
— Спасибо, товарищ гвардии лейтенант! — сказал генерал, с наслаждением втиснув большую голову в кожаное нутро, — сохраню на память, художники!
Только тот, кто служил в армии, знает, что это такое, когда приходит почта. Это гимн, это ритуал, это восторг! Каждый раз, когда появляется в аэродромном небе «почтарь», механики и мотористы с веселыми призывными криками бегут к месту его посадки. Почтальоншу загоняют на крыло и, как туземцы у своего воинственного бога, спрашивают наперебой одинаково просящими голосами: «А мне? А мне есть?..»
Я уже привык, что мне аккуратно приходят треугольнички от мамы с обстоятельными описаниями московских новостей и с Нонкиными приветами. И вдруг сегодня — конверт! Большой! Голубой! Наверное, Лидочка! Надо сказать, что конверты для нас — это больше чем пакетик с маркой, это след подвига. Подвига любви и дружбы, а если конверт еще и самодельный, то и трудового подвига.
Под завистливые взгляды мотористов голубой четырехугольник планирует ко мне в руки. Он явно самодельный: уж очень толстый... Но что это такое: московский штемпель! И внизу аккуратно выведен обратный адрес: «Тарасовой Ларисе». Лариска! Вот это да! Первое письмо от нее. И вот что я прочитал:
«Алешка!
Хоть бы ты скорее приехал! Тоска такая!
Я теперь учительница, занимаюсь с первоклашками. Медицину бросила. Не могла. В каждом больном мне чудился Борис, на каждой койке видела Бориса. Эти страшные три дня после того, как он разбился, все время перед глазами.
Ребятишки отвлекают! Да и какой я медик — уколы всегда делала плохо, неуверенно... Полдня провожу среди гама, писка, милых мордашек — хорошо! Они липнут ко мне, как будто я их мама.
А домой прихожу — тоска! Тебя нет. Гога важный стал, своими ранениями хвастается — противно! Часто забегаю к твоей маме и Нонке узнать последние весточки от тебя.
Алешка! Не удивляйся, что из пакета ты вынул «Комсомольскую правду». Прочти на последней странице справа в середине: «Комсомолка» объявила конкурс на лучший очерк о друзьях-товарищах ко Дню Военно-Морского Флота. Рискни! Попробуй! Ты всегда так интересно рассказывал! Может, тебя в Москву вызовут...
Лариса.
P.S. Лидочка прислала своей маме письмо, что учиться будет в Ленинграде.
Л.»
Последняя строчка меня оглушила. Лидочка остается в Ленинграде? Может быть, это потому, что я не ответил на два ее последних письма? А если нет времени?! Должна же понимать!
Схватил бумагу, карандаш ломается… Куда писать? Кому? Лидочке? Лариске? Маме?
Выскочил из домика. В глаза ударил яркий, неправдоподобно желтый свет июльского крымского солнца. Над зеленым летным полем клубился парок. Все такое спокойное, летнее, невоенное... Вдалеке копошились у самолета маленькие голубые фигурки. Как муравьи вокруг серого, большого и сейчас такого неподвижного самолета.
Ребята вы мои родные! Конечно, я о вас напишу, пусть все, все узнают, какие у меня настоящие, верные, замечательные здесь друзья! К утру была готова заметка в газету:
«Нет, положительно не везло новому механику, сержанту Курочкину. Ну кто бы мог подумать, что его, Васю, знающего назубок почти все аэродинамические законы, способного рассказать о принципе действия реактивного двигателя, пошлют работать на самолет По-2? Обидно и горько!
Еще совсем недавно, в училище, он бредил высокими скоростями, приближенными к скорости звука, мечтал о самолетах морской авиации. И вдруг теперь — тарахтящий, щупленький По-2...
— «Кукурузник»! «Фанерный ангел»! «Летающая табуретка»! — с горечью шептал Курочкин все известные ему прозвища По-2. Вздыхая, он брезгливо осматривал перкалевую обшивку самолета. Заметив деревянный винт и проволочные тяги управления, Вася окончательно посчитал себя погибшим человеком.
Разочарование в этот день постигло не одного Курочкина. Николай Марчук, старший механик звена самолетов По-2, получил обратно свой рапорт. «В отпуск пойдете тогда, когда новый механик научится самостоятельно выпускать самолеты в полет», — гласила резолюция командира.
Дело в том, что на отпуск он рассчитывал твердо и, казалось, имел к тому некоторые основания. Николай Марчук служил во флоте десять лет и не знал ни одного взыскания. В дни боев он обеспечил более шести тысяч самолето-вылетов, а это дело нешуточное. С механиком почтительно здоровались офицеры, а юркие мотористы между собой ласково звали ветерана «министром авиации». Ко всему этому — отпуску подходил уже и законный срок.
Тщательно изучив резолюцию командира, Марчук безнадежно спрятал рапорт в карман.
Нет, положительно в этот день не было счастья ни на земле, ни в воздухе! Сергей Жуков, молодой летчик- торпедоносец, вел свой самолет в открытое море. Под фюзеляжем тяжелой машины насторожилась учебная торпеда, готовая ринуться с высоты в воду и в любую секунду поразить цель. Секунду эту лейтенант Жуков выбирал особенно тщательно. Электрический импульс в держатель торпеды нужно было послать лишь тогда, когда самолет точно выйдет в цель. Тогда, напрягая мышцы, пилот на мгновение удержит самолет в одном направлении, на одной высоте и скомандует штурману: «Бросай!»
Время еще не наступило. Самолет только шел в торпедную атаку. Сквозь плексиглас кабины Жуков видел, как внизу, на кораблях, моряки приветливо машут ему бескозырками и платками.
— Ну, сейчас дадим... Научим плавсостав уважать голубые погоны! — передал Сергей своему штурману и развернул торпедоносец на цель.
Но ни «дать», ни «научить» не удалось. Штурман нажал кнопку на полсекунды, на четверть секунды позже, и торпеда прошла мимо цели.
Возвращаясь на аэродром, Жуков снова вел самолет над кораблями. На этот раз бескозырки мирно покоились на головах моряков.
На земле командир приказал лейтенанту Жукову и его штурману пересесть на По-2.
— Придется повторить пройденное, — сказал он. — Научитесь сначала отлично понимать друг друга в воздухе на учебной машине — держать высоту и направление. Никаких возражений! В приготовительный класс!
Выйдя из кабинета командира, оба лейтенанта до самой столовой шли, внимательно изучая тропинку. Никому не хотелось поднять голову.
— Да, — вздохнул летчик.
— Эх! — отозвался штурман.
И вот все четверо — Вася Курочкин, Николай Марчук, летчик и штурман — на следующий день встретились у самолета По-2. Трое были демонстративно нахмурены, а четвертый, молодой механик, вытирал перкалевое крыло. Назначенный ему в наставники Николай Марчук сидел в кабине и придирчиво наблюдал за каждым движением Курочкина.
— Поучу с недельку — и в отпуск, — утешал он себя. — Чего тут особенного?
Вдруг лицо «министра авиации» покраснело. Марчук заметил, что новичок начал протирать фюзеляж, оставив на крыле большое масляное пятно.
— Вам разве не известно, что с таким пятном самолет потеряет в полете часть скорости? — с язвительной вежливостью обратился Марчук к своему подчиненному.
— В училище мы изучали кое-что поважнее ваших масляных пятен, — с достоинством ответил новый механик. — Я думаю, что в аэродинамике оно не повредит.
Марчук при этом мысленно отложил свой отпуск еще на неделю.
Но вот прошла неделя, потом еще много дней, а старший механик в отпуск не спешил... Давно уже Курочкин самостоятельно выпускал По-2 в полет, изучил капризы самолета и даже научился заменять мотор. Сам командир намекнул однажды Марчуку о новом рапорте, но тот что-то не торопился.
В последнее время их самолет почти беспрерывно находился в воздухе. Новый механик, Курочкин, никогда не летал, однако каждый раз после полетов он заявлял с достоинством:
— Ну, кажется, сегодня мы опять неплохо выдержали направление и высоту...
Товарищи отлично понимали Васю. Они знали, что только благодаря труду механика летчик Жуков и его штурман могут в любое время дня и ночи совершенствовать свое мастерство.
Проволочные тяги управления и деревянный винт больше не смущали молодого механика. «Что ж, приготовительный класс так приготовительный!» Вася видел теперь, что По-2 выполняет немалое дело.
Однажды дождливым вечером экипажи самолетов собрались в кубрике. Восседая в центре группы, Николай Марчук не спеша, солидно рассказывал о боевых делах самолета По-2. И летчики и штурманы, не говоря уже о механиках, не спускавших со своего любимца глаз, внимательно слушали, как в дни ожесточенных боев за Севастополь простые и безотказные По-2 эвакуировали раненых, привозили боеприпасы, держали связь и даже летали на ночные бомбежки.
— Не будь По-2, война закончилась бы на день позже, — авторитетно заявил Марчук в конце.
«Он шутит? — подумал Курочкин. — А может быть, и не шутит...»
После Марчука говорили многие, в том числе Сергей Жуков и его штурман. Оба они наперебой хвалили самолет, рассказывали о замечательных, непревзойденных возможностях фанерного, перкалевого По-2.
Еще через несколько дней Марчук порадовал экипажи новым сообщением. Дело в том, что комсомольцы их звена давно боролись за экономию горючего. Они никогда не мыли бензином самолет и руки и, заправляя баки, следили, чтобы ни одна капля не пролилась.
— За этот год нашим звеном сэкономлено столько горючего, что одному По-2 его хватит на полет от Москвы до Владивостока и обратно! — торжественно объявил Марчук.
На следующий день он с удивлением заметил, что Вася Курочкин снимает патрубки на моторе машины.
— Хочу заменить прокладки под фланцами, чтобы ни одна струйка постороннего воздуха не попадала в цилиндры, — объяснил новый механик. — Это еще увеличит мощность мотора. Ведь так?
Проходя по стоянке самолетов, старший механик с удовольствием заметил, что Сергей Жуков и его штурман сколачивали из досок высокий козелок.
— Под хвост самолета будем ставить, чтобы роса не портила перкаль, — посвятили его лейтенанты в свой замысел.
...В этот день Марчук снова серьезно задумался над тем, где достать необходимый для дороги чемодан.
Пройденное было повторено на «отлично». Приготовительный класс окончен!
Через несколько дней Сергей Жуков снова вел свой торпедоносец в открытое море. И снова экипажи кораблей приветствовали его, неистово размахивая бескозырками.
В наушниках что-то попискивало, мелкой дрожью трясся пол кабины. Но лейтенант не слышал, не чувствовал ничего. Все внимание он устремил на цель и на приборы.
— Бросай!
В то же мгновение самолет вздрогнул, освободясь от тяжелого груза.
Отвернув с боевого курса, лейтенант заметил ровную белую нитку, которая протянулась в воде точно к цели. Это был след торпеды.
Вновь проходя над судами, летчик с удовольствием сбавил скорость. Со всех кораблей, как белые чайки, радостно взвились вверх матросские бескозырки».
Показал заметку ребятам. Сказали, что неплохо, только мало героев. Надо бы обо всех написать, чтобы никому обидно не было. Я пообещал. А пока, как мне посоветовала Лариска, отправил эти листки в газету.
...Это событие круто изменило мою судьбу. Через два месяца я был уже в Москве, на Арбате, с новеньким удостоверением корреспондента «Комсомольской правды» в нагрудном кармане флотского кителя со следами отстегнутых погон. Жизнь входила в новое русло.
Конец

Помню, как однажды у нас в редакции — я в то время работал в Куйбышеве в молодежной газете «Волжский комсомолец» — появился неожиданный гость. Был он высок и красив, с буйной, курчавой копной черных волос и по-цыгански горячими, очень выразительными глазами. Серый пиджак с орденской планкой сидел на нем ладно и как-то легко, ворот рубашки был слегка расстегнут, и на груди скорее угадывалась, чем виднелась, тельняшка. Он протянул мне руку с той естественной простотой и доброжелательностью, которые сразу располагают к доверию:
— Будем знакомы. Владимир Чачии из «Комсомолки».
И вслед за ним, словно по команде, буквально за несколько минут в редакторский кабинет изо всех отделов сбежались те, кто был в редакции.
Произошло это потому, что очерки и статьи Владимира Чачина в то время часто печатались в «Комсомольской правде», и мы, комсомольские журналисты пятидесятых годов, зачитывались ими, учились у него писать. А все, о чем писал Чачин, было непохожим на другие газетные материалы. Отличались его очерки проникновенным лиризмом, свежестью взгляда на привычные всем нам явления, радостным задором, меткостью сравнений, отточенной композицией. Он умел так незаученно, ярко, по-своему рассказывать на газетных полосах о жизни и работе простых ребят, о том, как они ошибаются и исправляют свои ошибки, взрослеют, мужают, влюбляются, дружат, как утверждают на заводах и стройках наш советский образ жизни, что мы, его собратья по перу, только диву давались: «Вот бы суметь так написать!» И нам всем почему-то верилось, что так писать, находить столько сердечного тепла для своих героев под силу журналисту с чутким, неуспокоенным, влюбленным сердцем. Словом, еще задолго до того, как мы встретились с Чачиным, в разговорах о нем все мы сошлись на одном: он, несомненно, из беспокойного племени романтиков, наделенных не только радостной способностью воспламеняться красотой нашей жизни, но еще и умеющих одаривать своим душевным богатством других. Надо ли говорить, как все мы были рады познакомиться с ним!
А он ходил слегка вразвалочку по кабинету, поглядывая на нас, как и мы на него, с нескрываемым интересом. Помню, остановился возле массивного железного сейфа, на котором стоял у нас большущий самовар, улыбнулся по-мальчишески открыто и озорно:
— Я-то думал, вы тут делом занимаетесь, а вы чаи гоняете? Наше редакционное чаепитие затянулось тогда до глубокой ночи. Чачин оказался отменным рассказчиком. Мы хохотали беспрестанно — так остроумно, в лицах изображал он своих друзей и знакомых, припоминая истории из журналистской работы. Притягивал он к себе прямо-таки магнетически. Но это вовсе не было старанием или умением нравиться. Просто шел разговор, дружеский, откровенный, о наших общих заботах, о встречах с хорошими людьми, о литературе и профессиональных секретах.
Слушать его было наслаждением. Чачин обладал изумительной памятью: свободно цитировал наизусть целые страницы из книг Антона Павловича Чехова и Марка Твена, Аркадия Гайдара и Александра Грина. Особую нежность, как мы заметили, питал он к героям «Алых парусов».
— Хорошо мечтается в пятнадцать лет, — задумчиво говорил он, покуривая «Беломорканал». — Светлые мечты уносят за пределы школьной программы. Уносят на тугих парусах ходких клиперов или вдруг подхватят на крылья самолета и пронесут через Ледовитый океан.
Мы все слышали фразу: «Бесплодные мечты!» И сами корили ею своих друзей: эх, мечтатель, фантазер!.. И вдруг яркой фарой на степной ночной дороге вспыхнуло по-новому это же слово: «Мечтатель!» Да нет же, не бесплодно мечтают люди! В самую трудную, критическую минуту свет мечты озаряет их, поддерживает... Больше того, подсказывает практическое решение!
Не знаю, вспоминал ли он то, что им было написано прежде, или вслух осмысливал то, чему предстояло в скором будущем вы литься па бумагу, попасть в газету... Ясно было одно, говорил он с нами тогда о самом сокровенном.
То и дело ему задавали вопросы: как собираете материал? Много ли домысла в очерках пли все как есть на самом деле? Что записываете в блокнот, а что запоминаете без карандаша?..
Чачин отвечал подробно, должно быть, понимая, что вопросы продиктованы не любопытством его юных коллег, а важны для них. И вдруг он примолк на секунду, что-то обдумывая, а потом лукаво прищурил глаза:
— Хотите, любой из моих очерков прочту по заказу наизусть, без запинки?
Мы не поверили. А все же, посовещавшись, заказали на спор один из самых давних — о парнишке с Выборгской стороны, откуда пришел в революцию всеми нами любимый киногерой Максим со своей песенкой: «Крутится, вертится шар голубой...»
Чачин прочел, не сбившись ни разу.
Мы были потрясены. Надо же! И тут же высказали сомнение: ну, дескать, один запомнить можно, а вот попробуйте-ка тот, который неделю назад был напечатан в «Комсомолке»!
Он прочел — слово в слово. Вот это да! Рассказы классиков — это куда ни шло. А тут оперативный газетный очерк! Такого мы еще не встречали!
Потом поняли: каждый свой очерк, предназначенный для газеты, Владимир Чачин писал с той же тщательностью, предельной взыскательностью к самому себе, с какой подходят к созданию художественного произведения лучшие наши писатели. Он бережно вынашивал газетный материал, взвешивал, проверял на слух каждое слово, каждый образ, и они прочно укоренялись в его сознании. Это были свои собственные, самые заветные слова. Ему был чужд ремесленный подход к журналистскому делу, он органически не принимал штампованные, истертые фразы, ходячие газетные выражения. Кропотливо оттачивая каждую мысль, он добивался художественного совершенства, умея на малой газетной площади сказать об очень многом, о самом главном. Чачинское глубинное проникновение в душу героя, в его мысли и чувства поражает теперь уже не одно журналистское поколение. Чтобы так писать о реальном, живом человеке, необходимо понимать все малейшие движения его души, пользоваться его беспредельным доверием.
Все, кто знал Владимира Чачина, могут подтвердить, что он легко и просто сходился с самыми разными людьми, и они с первого знакомства по-свойски называли его Володей. Он всей душой тянулся к хорошим людям, и они такой же доверчивостью отвечали. Как правило, те, кто был описан в его очерках, становились его друзьями.
Юношей и девушек самых разных профессий — рабочих и колхозников, строителен и шахтеров, геологов и солдат — объединяла, я бы даже сказал, роднила в очерках Чачина не только романтическая устремленность, но и горячая убежденность в том, что они продолжатели революции, что именно они в ответе за все, что происходит на Земле.
И потому тысячи, миллионы читателей откликались на его газетные выступления. Они писали, что стремятся быть похожими на чачинских героев и едут с комсомольской путевкой на самый передний край, туда, где труднее всего.
Владимир Чачин работал в «Комсомолке» в то горячее рабочее время, когда из пепла и руин, оставленных войной, поднимались наши города и села, фабрики и заводы, когда на берегах великих рек разворачивалось строительство гигантских гидроэлектростанций, когда по зову партии в степные необжитые края шли эшелоны с комсомольцами-добровольцами — покорителями целины. Он исколесил вдоль и поперек всю нашу страну.
«На первый взгляд дела и судьбы людей, с которыми я встречался, были ничем не примечательными, — говорил Чачин. — Они и сами удивлялись, чем заслужили, чтобы о них рассказывала печать? Что в них особенного? Но особенное есть. Все герои моих очерков— люди, воспитанные Октябрем, люди с красивым, богатым содержанием. У них есть великая вера и цель в жизни — построить новое, прекрасное будущее. Романтика, крылатая мечта всегда сопутствуют человеку, шагающему к великой цели...»
Крылатая мечта всегда сопутствовала и самому Владимиру Ча- чину. Каждодневно открывал он для себя и для читателей какого- то нового, как он говорил, «замечательного человека». И, рассказывая о нем, о многих других таких же замечательных людях, Чачин, конечно же, не замечал, что все его герои чем-то похожи на него самого — такие же одержимые жизнелюбы, дерзновенные и непокорные, идущие наперекор любым трудностям. Он высоко чтил в них то, за что его самого любили и ценили друзья, — благородство и бескорыстие, душевную чистоту и окрыленность.
Героям-комсомольцам он посвятил и свою трилогию «Король с Арбата». В образе двух закадычных дружков: Алеши Грибкова — Короля с Арбата и Жени Кораблева — воплощены типические черты молодого поколения, шагнувшего со школьной скамьи в пламя Великой Отечественной войны.
Став солдатами, юные чачинские герои учатся стойкости и мужеству у фронтового политрука Григория Ивановича Бритова. «Война застала его на большой должности. Мог бы получить броню, но он добровольно променял директорское кресло на этот окоп... — сообщает Алеша, от имени которого ведется повествование. — Мы, комсомолята, благоговели перед этим человеком. Он всех нас зовет по имени, все про нас знает, и рядом с ним нам ничего не страшно».
Автор определяет достоинство героев книги их отношением к солдатскому долгу, к своим товарищам, к Родине. Страницы трилогии «Король с Арбата» овеяны, как очерки Владимира Чачина, страстной влюбленностью в комсомольскую юность, которая «благоговела перед старой революционной гвардией и вместе с ней, плечом к плечу шла на бессмертный подвиг».
У каждого юного поколения свои политруки. А Владимир Михайлович Чачин был политруком и для многих своих ровесников — товарищей по перу. Об этом пишет в стихотворении, посвященном ему, Ирина Волобуева:
Ты был товарищем. И был единоверцем.
Чужой по крови, ближе, чем родня.
И твой рубец на сантиметр от сердца,
Казалось, ныл к дождю и у меня.
Ты был разведчиком глуши моих печалей,
В удачах, в бедах — теплым огоньком.
И в сложном мире всех надежд и чаяний
Моим соратником, моим политруком.
Когда в 1972 году трилогия «Король с Арбата», адресованная детям среднего и старшего школьного возраста, впервые увидела свет, читатели самых разных возрастов засыпали автора и издательство письмами. За короткий срок их пришло более пятисот. Повсеместно в школах, библиотеках, Дворцах культуры проходили читательские конференции.
«Книга эта такая, что если начнешь читать ее, то забудешь про все на свете, будешь читать от восхода до заката солнца и даже не заметишь, как пролетит время, — написала школьница из Краснодара. — Когда я закончила читать, то стала осмысливать все от начала до конца и пришла к выводу, что эта книга очень замечательная!»
«Герои этой книги учат правильно жить, ненавидеть зло, бороться за правду. Книга многому учит и ко многому обязывает» — это строки из письма от юных вологодских читателей.
«Чистая, умная, добрая, нужная книга!» — написал научный работник из Иванова.
«Мне жаль нести книгу в библиотеку, хочется прочесть ее много раз» — автор этих строк ученик 5-го класса из города Рубежное Ворошиловградской области.
«Я сейчас в большой беде, но книга эта так помогла мне, что я не нахожу слов благодарности и признательности автору и редакции, которая выпустила ее в свет» — это письмо пришло из Калмыкии.
«Дорогой Владимир Михайлович! У меня к Вам просьба: пишите побольше таких книг. С большим приветом к Вам Ира». На почтовом штемпеле письма — город Казань.
Многие читатели увидели в главных героях книги духовное сходство с Павкой Корчагиным, Александром Матросовым, молодогвардейцами Краснодона. И главное, читатели «Короля с Арбата» так поверили в реальное существование литературных героев, что чуть ли не в каждом письме просили сообщить их домашние адреса:
«...пожалуйста, я Вас очень прошу, напишите, живы ли эти ребята или кто из них погиб. И если знаете чей-нибудь из адресов этих ребят, я прошу, напишите мне и адрес — хоть один», — просит девочка-подросток из Красноярского края.
Как правило, в письмах есть и такая приписка: «Что случилось дальше с героями книги? Кто остался жив, а кто погиб? Обязательно напишите продолжение!»
Автор и сам думал написать новую книгу о своем поколении. Но осуществить задуманное не удалось.
«...Скоропостижно, в расцвете творческих сил, не успев сделать и половины того, о чем мечтал, о чем говорил друзьям...» Это строки из некролога. Но не будем дальше цитировать. Ими не выразить всего, что можно сказать о Владимире Чачине, удивительно и невыразимо влюбленном в нашу советскую жизнь, о веселом и ярком человеке, который так любил напевать «Орленка» или «Каховку» и всегда спешил на самолет или поезд, отправляющийся туда, где идет самая трудная работа «на коммунизм»...
Не верь, сегодня Жизнь не плачет!
Я знаю: в праведном бою
С «Каховкой» вновь товарищ Чачин Идет за Родину свою! —
так написал один из друзей его сына, вовсе не поэт, а простой рабочий паренек.
И все-таки существовал ли в действительности герой чачинской книги Алеша Грибков? Откуда пришла в эту книга та правда жизни, которая волнует до глубины души, заставляет радоваться и страдать, верить в то, что «так и было па самом деле»? Неужели автор все это придумал?
Читатель и мысли такой не допускает. И читатель, конечно, прав. Трилогия «Король с Арбата» — художественное отражение реальных событий, реальных людей.
В Москве, в Музее Николая Островского, хранится подлинник письма, адресованного народному комиссару обороны СССР. Автор этого письма, отчисленный в 1942 году из-за тяжелого ранения из рядов Советской Армии, просит вновь отправить его на фронт. «Товарищ народный комиссар, я не один, нас тысячи поврежденных в боях, но не сломленных духом, — написано юношеским почерком, — и я уверен, что каждый, в ком бьется комсомольское сердце, кто недаром носит билет дважды орденоносного Ленинского комсомола, вступит в комсомольские роты, роты жестоких мстителей за Родину, за народ...»
В книге письмо это приведено полностью, без малейших изменений. И подписано оно Алешей Грибковым. Но в музейном оригинале подпись стоит иная — Владимир Чачин.
Писатель наделил художественный образ главного героя своей книги собственной судьбой, чертами своего характера. Как и Алеша Грибков, он родился в Москве, в рабочей семье, дружил с арбатскими мальчишками, учился в ФЗУ, а в июле сорок первого в составе комсомольского московского батальона семнадцатилетним ушел добровольцем на фронт. Как и Алеша Грибков, он был ранен в сражении под Ельней — осколок фашистского снаряда пробил грудь, где у самого сердца хранился комсомольский билет под номером 5099831, выданный Владимиру Чачину в марте 1940 года Киевским райкомом комсомола Москвы. Как и Алешу Грибкова, тяжело раненного Володю Чачина вынес из боя старший товарищ — коммунист, политрук. Почти год пролежал он на госпитальной койке и сумел добиться, чтобы ему, числящемуся нестроевым, разрешили вернуться на передовую, и до конца войны продолжал честно нести боевую службу.
Как видим, судьба литературного героя нерасторжимо переплетена с судьбой автора книги, миллионов других комсомольцев, проявивших беззаветную храбрость в сражениях за Советскую власть, за родной народ. Совпадают не только биографические данные героя и автора, но и их человеческие черты, жизненные позиции, романтический строй души.
Еще один герой книги, друг Алеши Грибкова — Женька Кораблев, тоже не вымышленный персонаж. Евгений Гаврилович Кораблев живет в Москве, преподает в художественно-промышленном профессионально-техническом училище. Через всю жизнь пронесли они с Владимиром Чачиным когда-то мальчишескую, а затем и мужскую верную дружбу.
Редакция попросила Евгения Гавриловича вспомнить некоторые эпизоды их довоенной и послевоенной жизни. И вот что он написал:
«...Володя очень любил свою мать, — простую русскую женщину с добрым сердцем, и наделил ее чертами образ матери Алеши Грибкова — Короля с Арбата. Мы всегда делились с пей всеми нашими мечтами, и она умела терпеливо нас слушать и хорошо понимать.
До войны мы с ним учились в художественной школе при киностудии «Мосфильм» и по вечерам часто засиживались у Володи дома, разбирая прошедший день. А дни были очень насыщены — занятия по технологии производства, просмотры фильмов. И хотя в студнях, которые были очень малы, мы всегда сидели на полу, все равно были очень горды, что первыми видели новые киноленты.
В то время было так заведено: все художники, режиссеры начинали рабочий день с посещения нашего макетного цеха. Помнится, я лепил горельеф «9 января» — расстрел рабочих. Увлекся, конечно, но все-таки чувствую, что кто-то подошел и стоит за моей спиной. Когда обернулся, то увидел Эйзенштейна. И у меня выпал из рук стек. Эйзенштейн очень быстро вылепил схематично центральную фигуру рабочего, а потом пожал мне руку.
Володя всегда был острым на слово, и, как только Эйзенштейн отошел, он мне сказал: «Ну, старик, теперь не мой два дня руки. Тебя поздравил великий режиссер!»
А дома он с подробностями обо всем рассказал маме, Прасковье Григорьевне, и она за нас очень порадовалась.
На занятиях по рисунку Володя хорошо усвоил измерение пропорции карандашом на вытянутую руку. Делал он так при всех случаях, нужно или не нужно: это придавало солидность. Однажды, зайдя в буфет, он так же измерил буфетчицу, и она нас выгнала. В тот день мы остались без винегрета, а за что нас выгнали, я сначала не понял. После Володя сказал: «Она все-таки квадратная».
Зачетную работу мы делали вместе: это был макет рельефной местности с речкой, железной дорогой, строениями, растительностью. Когда нам присвоили четвертый разряд макетчика, мы были счастливы. Еще бы! Ведь старшие мастера имели всего на два разряда выше — шестой!
Однажды мы посмотрели фильм о том, как встретились через много лет те, кто вместе учился. Мы шли домой со студии пешком и обсуждали увиденное. И вдруг решили: давай встретимся через пятнадцать лет! Но как и где? Москва реконструировалась, многие дома сносились... Придя домой, мы взяли карту Москвы и сами решали, что сносить, что оставить. После долгих споров решили встретиться у Большого театра, который уж наверняка будет стоять. Володя тут же уточнил: «У четвертой колонны центрального входа 1 Мая 1956 года!» Я сначала удивился: «Почему 1 Мая?» А он твердо сказал: «Это День международной солидарности трудящихся, и мы будем не одни — на нас все будут смотреть. А мы к тому времени с женами и, наверное, с детьми, построив их по ранжиру, идем навстречу друг другу...» Время назначил я: 23.00, обосновав это тем, что днем — демонстрация, а вечером — иллюминация, гулянье. Мы много фантазировали о нашей встрече: кто как будет выглядеть.
В те времена мы были длинными, худющими, одинаково курчавыми, с большими, выпуклыми глазами. Многие принимали нас за братьев.
Однажды Володя сказал: «Слушай, Роден! А если ты облысеешь? Я твой череп не знаю. Тогда надень парик!» Я ему пообещал волос не терять. Но пришлось поседеть.
Было это в 1941 году.
Воскресный день 22 июня мы, конечно, планировали по-своему: со всей семьей Чачиных собирались пойти на сельскохозяйственную выставку — там я лепил барельеф для одного павильона и Володе об этом не говорил, хотелось похвастаться. Но увидеть ни ему, ни мне этот барельеф не довелось.
...В тот день мы долго молчали. Каждый по-своему представлял эту войну. Володя смотрел то на маму, то на меня. Я догадывался, о чем он все время думал. Потом мы вышли во двор, сели на скамейку, где увеличительным стеклом было выжжено: «Вовка + Л...» (остальные буквы были срезаны ножом). Помолчав, Володя сказал: «Слушай, Женька! Надо две доски и щиток. Затем дверь крест-накрест, а на щитке напишем: «Плющихфильм» закрыт. Все ушли на фронт».
И вот наш комсомольский московский батальон на марше. Проходим Арбат, Бородинский мост — на фронт. Много и подробно описал в своей книге «Король с Арбата» Володя первый бой в районе Дорогобуж — Ярцево — Ельня. Бой под Ельней был тяжелый, в этом бою он был ранен. Так мы с ним расстались.
Прошло много лет. И вот настал 1956 год. В это время я уже знал, что Владимир Чачин — специальный корреспондент «Комсомольской правды». Читал всегда его очерки, статьи и был горд — это мой большой друг, брат!
К 1 Мая — нашей встрече через пятнадцать лет — я готовился долго: все тщательно обдумывал, представлял, как произойдет встреча. Накануне даже съездил к Большому театру, убедился, что он стоит на месте. Отсчитал четвертую колонну, обошел ее кругом, закрыл глаза и представил: вот идет мой друг, за ним дети, их много... Мы обнимаемся, целуемся: «Володька, старик! Вот здорово!»
Дома я рассказал жене про мою репетицию у Большого театра, но она почему-то повертела пальцем около виска...
Утром 1 Мая я встал рано, осмотрел придирчиво свой костюм, начистил ботинки, долго примерял галстук. Посмотрел в окно: погода праздничная, солнце.
Но синоптики обещали переменную облачность, временами дождь. Это меня не устраивало: придется надевать плащ, не будет видно медалей...
В общем, не выдержал я. После демонстрации все время смотрел на часы, гнал время, а как завечерело, набрал его номер телефона.
Трубку взял сам Володя. Кричу от радости: «Старик, это я, Женька Кораблев! Больше не могу! Еду к тебе!» А он, помолчав, говорит: «Женька, что ты наделал? Ты всю песню испортил, Но я очень рад. Приезжай!»
Песня действительно была испорчена, потому что к Большому театру мы не поехали, а сели сразу за праздничный стол...
После мы часто вспоминали этот день, и я знаю точно, что Володю по-настоящему расстроила моя нетерпеливость. Я понял, что он простил мне это только в тот день, когда прочел отрывок из его новой книги «Король с Арбата» — книги о нашем детстве, о нашей юности, в которой он назвал моим именем одного из героев».
Владимир Чачин—журналист и писатель, кровью которого обагрен комсомольский билет в битве с врагами социалистической Родины. Его авторучка навеки оставлена в «Комсомольской правде», где он впервые начал печатать свои очерки и статьи. А для коммуниста Владимира Михайловича Чачина самым высоким признанием его труда было то, что все последние годы жизни он работал специальным корреспондентом основанной Лениным газеты «Правда».
Владимир Разумневич

Подлинник письма сейчас хранится в музее писателя Николая Островского в Москве.
*Этот очерк напечатала «Комсомольская правда» 14 августа 1948 года.