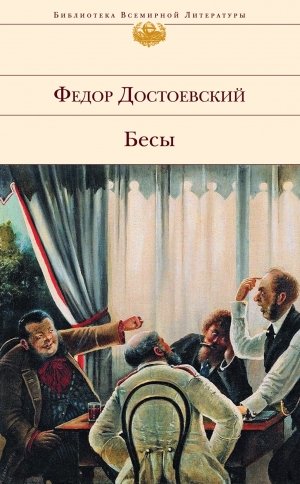
Часть первая
Глава первая
Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского
Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.
Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, – так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани боже, тем более что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом привычки, или, лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссыльного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он всё еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.
Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и одно время, – впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, – его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, – так сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше и прежде всего, при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке… ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.
Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему между ними многочисленных и разъяренных врагов. Потом – впрочем, уже после потери кафедры – он успел напечатать (так сказать, в виде отместки и чтоб указать, кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования – кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде. По крайней мере проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее, что ничего не было и что автор сам поленился докончить исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было как-то и кем-то (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то «обстоятельств», вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье. Как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то есть, вернее, в тридцатых годах) в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частию о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? – ответствует, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его – поскорее потерять ум (желание, может быть, и излишнее). Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенною ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать здесь, – печатают нашу поэму там, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.
Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. Но он тогда самбициозничал и с особенною поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь «вихрем обстоятельств». А если говорить всю правду, то настоящею причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и всё умственное развитие ее единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и, кажется, вынес с этою, привлекательною впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее содержанию и, сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, «плод первой, радостной и еще не омраченной любви», как вырвалось раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался всё время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке и, главное, без всякой особенной надобности. Но, кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила всё окончательно. Скажу прямо: всё разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать классическою, дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки.
Место воспитателя было принято еще и потому, что и именьице, оставшееся после первой супруги Степана Трофимовича, – очень маленькое, – приходилось совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было, в тиши кабинета и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось; но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной» пред отчизной, по выражению народного поэта:
Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении, – надо отдать справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» – и он осанисто козырял с червей.
А по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый (то есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в средине самой возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.
Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболеет и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.
Происходило это без малейшей аллегории, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И уж чего-чего при этом не говорил!) Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий: назавтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность; поспешно призывал меня к себе или прибегал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна «ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное». Он не только ко мне прибегал, но неоднократно описывал всё это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей, за своею полною подписью, что не далее как, например, вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам; ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтоб он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации; что вследствие этого он себя презирает и решился погибнуть насильственною смертью, а от нее ждет последнего слова, которое всё решит, и пр., и пр., всё в этом роде. Можно представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из таковых его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма.
– Нельзя… честнее… долг… я умру, если не признаюсь ей во всем, во всем! – отвечал он чуть не в горячке и послал-таки письмо.
В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней, даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные; кроме того, слагала их в сердце своем. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком уж скоро и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве через неделю, через месяц, или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и всё письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболевал своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде курьез в его телосложении.
Действительно, Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не приметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только «зависти к его талантам». И как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему, среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты… Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж расскажу два анекдота.
Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем, по смерти ее супруга, всё более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и, стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул ура! и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом:
– Я вам этого никогда не забуду!
На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!» Случай с бароном был уже второй случай; но и первый случай в свою очередь так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть.
Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и производила ему пенсион. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтораста душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а всё богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика.) Тем не менее она была потрясена неожиданностию известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно.
Май был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: «Не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?» Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался: «Состояние огромное, правда, но…» Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Всё более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто). По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.
Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга; она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только что он вошел к себе и, в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом и вдруг прошептала скороговоркой:
– Я никогда вам этого не забуду!
Когда Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и всё пошло как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что всё это была одна галлюцинация пред болезнию, тем более что в ту же ночь он и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидания в беседке.
Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.
Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но, по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностию лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытою книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока. Но, впрочем, это пустяки.
Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть, только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это, конечно, мелочь.
В первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны, Степан Трофимович всё еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл. Всё чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается! Ничего не делается!» – и опускал голову в унынии. Без сомнения, это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня, никому я не нужен!» – вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятых годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьезное. Да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств; но оказалось, что и Москва неудовлетворительна.
Тогда было время особенное; наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. А это-то и смущало: никак невозможно было примениться и в точности узнать, что именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие женского устройства натуры своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации (всё это ей доставлялось); но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей «все эти идеи» раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный; у него всё сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец и о нем вспомянули, сначала в заграничных изданиях, как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Всё высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во всё уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать всё на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете, по крайней мере попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.
Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Всё, однако, к великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Во-первых, высшие связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унизительными натяжками. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал кроме того, что он «представляет идею». Он до того маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на всё их олимпийство. Эти были очень серьезны и очень вежливы; держали себя хорошо; остальные видимо их боялись; но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду, в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя, – впрочем, скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности. «Клянусь же вам и пари держу, – говорил он мне сам (но только мне и по секрету), – что никто-то изо всей этой публики знать не знал о мне ровнешенько ничего!» Признание замечательное: стало быть, был же в нем острый ум, если он тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое положение, несмотря на всё свое упоение; и, стало быть, не было в нем острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами (против чего – он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то «безобразным поступком», и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемою насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех-то пор ему и позавидовала. Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностию, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, всё чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить; но она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр., и пр. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший (но в своем роде) и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный, ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: «Вы, стало быть, генерал, если так говорите», то есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно: «Да, сударь, я генерал, и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник!» Произошел скандал непозволительный. На другой день случай был обличен в печати, и начала собираться коллективная подписка против «безобразного поступка» Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом единственно для этого случая. Замечу от себя, что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: «Я служил государю моему…», то есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых государевых подданных, а особенный, ихний.
Оставаться долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана Трофимовича постигло окончательное fiasco.[1] Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему «изгнанию». Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество»; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. «On m’a traité comme un vieux bonnet de coton!»[2] – лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до рассвета повторяла ему: «Вы еще полезны; вы еще явитесь; вас оценят… в другом месте».
На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя «общего дела».
«Мы выехали как одурелые, – рассказывал Степан Трофимович, – я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:
и черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился – как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти? О друзья мои! – иногда восклицал он нам во вдохновении, – вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят! Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего… Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь всё шатающееся, теперешнее. Иначе что же будет?..»
Тотчас же по возвращении из Петербурга Варвара Петровна отправила друга своего за границу: «отдохнуть»; да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с восторгом. «Там я воскресну! – восклицал он. – Там наконец примусь за науку!» Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. «Сердце разбито, – писал он Варваре Петровне, – не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, всё напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где, наконец, я, я сам, прежний я, стальной по силе и непоколебимый, как утес, когда теперь какой-нибудь Andrejeff, un православный шут с бородой, peut briser mon existence en deux[3]» и т. д., и т. д. Что касается до сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни, в первый раз, когда тот родился, и во второй – недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у теток в О—ской губернии (на иждивении Варвары Петровны), за семьсот верст от Скворешников. Что же касается до Andrejeff, то есть Андреева, то это был просто-запросто наш здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог-самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями, а главное, в направлении. Этот почтенный купец, с седою бородой и в больших серебряных очках, не доплатил Степану Трофимовичу четырехсот рублей за купленные в его именьице (рядом со Скворешниками) несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти четыреста рублей Степан Трофимович, пред поездкой, особо рассчитывал, вероятно на секретные свои расходы, и чуть не заплакал, когда Andrejeff попросил повременить один месяц, имея, впрочем, и право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за полгода, по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с жадностию прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицание: «Где вы обе?», пометила числом и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих обеих покойницах женах. Во втором полученном из Берлина письме песня варьировалась: «Работаю по двенадцати часов в сутки („хоть бы по одиннадцати“, – проворчала Варвара Петровна), роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю; был у профессоров. Возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых. Какая прелесть Надежда Николаевна даже до сих пор! Вам кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; всё благородное: много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и в солнце пятна! О друг мой, благородный, верный друг! Я сердцем с вами и ваш, с одной всегда, en tout pays[4] и хотя бы даже dans le pays de Makar et de ses veaux,[5] о котором, помните, так часто мы, трепеща, говорили в Петербурге пред отъездом. Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, ощутил себя безопасным, ощущение странное, новое, впервые после столь долгих лет…» и т. д., и т. д.
«Ну, всё вздор! – решила Варвара Петровна, складывая и это письмо. – Коль до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами. Спьяну, что ль, написал? Эта Дундасова как смеет мне посылать поклоны? Впрочем, пусть его погуляет…»
Фраза «dans le pays de Makar et de ses veaux» означала: «куда Макар телят не гонял». Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять и перевести лучше; но это он делывал из особого рода шику и находил его остроумным.
Но погулял он немного, четырех месяцев не выдержал и примчался в Скворешники. Последние письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры, чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное. Через два дня всё пошло по-старому и даже скучнее старого. «Друг мой, – говорил мне Степан Трофимович через две недели, под величайшим секретом, – друг мой, я открыл ужасную для меня… новость: je suis un простой приживальщик, et rien de plusl Mais r-r-rien de plus!»[6]
Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось благодушия. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашею патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно; зимой жила в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние семь лет, в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею облагодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было, стало быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него только как на «ученого». Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю; бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины.
Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданое и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе божием и взаперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине; в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться.
Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета; в детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был ею облагодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же; напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем гувернера; но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал «за вольные мысли». Поплелся за нею и Шатов и вскорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди; конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем; говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своею Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившею у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив; но изредка, когда затрогивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. «Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать», – шутил иногда Степан Трофимович; но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям: он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь. «Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала», – отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощию, а пробивался чем бог пошлет; занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказчичьим помощником, но заболел пред самою отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания: просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, кстати уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно, на краю города, и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги.
Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его да и все дамы были самых последних убеждений, но всё это выходило у них несколько грубовато, именно – тут была «идея, попавшая на улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё брали из книжек и, по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно всё что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Madame Виргинская занималась у нас в городе повивальною профессией; в девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», – говаривал он мне с сияющими глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески.
– Все вы из «недосиженных», – шутливо замечал он Виргинскому, – все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той огра-ни-чен-ности, какую встречал в Петербурге chez ces séminaristes,[7] но все-таки вы «недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный.
– А я? – спрашивал Липутин.
– А вы просто золотая средина, которая везде уживется… по-своему.
Липутин обижался.
Рассказывали про Виргинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. Этот Лебядкин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем «семейством», отправились за город, в рощу, кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и всё время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличен в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время, с своею сестрой и с новыми целями; но о нем впереди. Не мудрено, что бедный «семьянин» отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул:
– Это ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает «общему делу»!
Являлись к нам в кружок и случайные гости; ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было Липутин ссыльного ксендза Слоньцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.
Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. «Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и, кроме того, необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском духе», о боге вообще и о «русском боге» в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандалезные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества; докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом ниспадет на степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединенной Италии и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности и железных дорог, одно только плевое дело. Но ведь «высший русский либерализм» иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве, и весьма хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости, – всё о лицах, намеченных в истории нашего развития, – вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж очень становилось скучно, то жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник), мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребенка и пр., и пр.; для того только и приглашался. Если уж очень подпивали, – а это случалось, хотя и не часто, – то приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанемент Лямшина, пропели «Марсельезу», только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком:
Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему: «Вздор, вздор!» – и вышла во гневе. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:
– А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.
И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.
– Cher ami,[8] – благодушно заметил ему Степан Трофимович, – поверьте, что это (он повторил жест вокруг шеи) нисколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то что наши головы всего более и мешают нам понимать.
Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал Липутин, и всё ведь так называемые знатоки народа и государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу; одним словом, стал беспокоиться. Но прошел великий день, прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимовича. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности.
– Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, – заключил он свой ряд замечательных мыслей, – мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика!» Я готов пойти дальше: я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de l’impératrice.[9]
Липутин тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления; что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая «Антона Горемыку», а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее.
Случилось, и как нарочно сейчас после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и всего-то в пятнадцати верстах от Скворешников, произошло некоторое недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Трофимович до того взволновался, что даже и нас напугал. Он кричал в клубе, что войска надо больше, чтобы призвали из другого уезда по телеграфу; бегал к губернатору и уверял его, что он тут ни при чем; просил, чтобы не замешали его как-нибудь, по старой памяти, в дело, и предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург, кому следует. Хорошо, что всё это скоро прошло и разрешилось ничем; но только я подивился тогда на Степана Трофимовича.
Года через три, как известно, заговорили о национальности и зародилось «общественное мнение». Степан Трофимович очень смеялся.
– Друзья мои, – учил он нас, – наша национальность, если и в самом деле «зародилась», как они там теперь уверяют в газетах, – то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь петершуле, за немецкою книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя-немца хвалю; но вероятнее всего, что ничего не случилось и ничего такого не зародилось, а идет всё как прежде шло, то есть под покровительством божиим. По-моему, и довольно бы для России, pour notre sainte Russie.[10] Притом же все эти всеславянства и национальности – всё это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской. Я, разумеется, не про Игорево время говорю. И, наконец, всё от праздности. У нас всё от праздности, и доброе и хорошее. Всё от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности! Я тридцать тысяч лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они там развозились теперь с каким-то «зародившимся» у нас общественным мнением, – так вдруг, ни с того ни с сего, с неба соскочило? Неужто не понимают, что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика! Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть всё та же Европа, все те же немцы – двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока не зазвонят к моей панихиде!
Увы! мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром! А что, господа, не раздается ли и теперь, подчас сплошь да рядом, такого же «милого», «умного», «либерального» старого русского вздора?
В бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? – говаривал он иногда, – я в бога верую, mais distinguons,[11] я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка) или как какой-нибудь барин, верующий „на “всякий случай”, – или как наш милый Шатов, – впрочем, нет, Шатов не в счет, Шатов верует насильно, как московский славянофил. Что же касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я – не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, – что так великолепно развила Жорж Занд в одном из своих гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело? Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует “„в какого-то бога”. Entre nous soit dit,[12] ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!) прочел это выражение и… всё письмо! Но, откинув смешное, и так как я все-таки с сущностию дела согласен, то скажу и укажу: вот были люди! Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасения в постном масле или в редьке с горохом!..»
Но тут вступался Шатов.
– Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утеху! – угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле.
– Это они-то не любили народа! – завопил Степан Трофимович. – О, как они любили Россию!
– Ни России, ни народа! – завопил и Шатов, сверкая глазами. – Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили! Все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь-в-точь как Крылова Любопытный, не приметил слона в кунсткамере, а всё внимание свое устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ, – вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и бога! Знайте наверно, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю! Это факт, который оправдается. Вот почему и вы все и мы все теперь – или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас нисколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте это!
Обыкновенно, проговорив подобный монолог (а с ним это часто случалось), Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям, в полной уверенности, что уж теперь всё кончено и что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя.
– А не помириться ль нам, Шатов, после всех этих милых словечек? – говаривал он, благодушно протягивая ему с кресел руку.
Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежностей не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимовича и потоптавшись, как медведь, на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывал свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется, приносилось вино, и Степан Трофимович провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей.
Глава вторая
Принц Гарри. Сватовство
На земле существовало еще одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее как к Степану Трофимовичу, – единственный сын ее, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашен был Степан Трофимович в воспитатели. Мальчику было тогда лет восемь, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключался в том, что он и сам был ребенок. Меня тогда еще не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего десяти– или одиннадцатилетнего друга ночью, единственно чтоб излить пред ним в слезах свои оскорбленные чувства или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая, что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила, редко в чем его очень стесняла, но пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем, во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его, по шестнадцатому году, повезли в лицей, то он был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив. (Впоследствии он отличался чрезвычайною физическою силой.) Надо полагать тоже, что друзья плакали, бросаясь ночью взаимно в объятия, не всё об одних каких-нибудь домашних анекдотцах. Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вековечной, священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение. (Есть и такие любители, которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, если б даже таковое и было возможно.) Но во всяком случае хорошо было, что птенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны.
Из лицея молодой человек в первые два года приезжал на вакацию. Во время поездки в Петербург Варвары Петровны и Степана Трофимовича он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамаши, слушал и наблюдал. Говорил мало и всё по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких предметах и о воспоминаниях прошлого видимо удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он, по желанию мамаши, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то что после реформы доход с ее имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем, накоплен был долгою экономией некоторый, не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро начали доходить к Варваре Петровне довольно странные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того, что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые, буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что всё это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула: «Вздор, вздор!», как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили; скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости.
В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры. Во всё это время Варвара Петровна отправила, может быть, до сотни писем в столицу с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства молодой человек вдруг вышел в отставку, в Скворешники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится. Денег у матери он не просил; у него было свое именьице – бывшая деревенька генерала Ставрогина, которое хоть что-нибудь да давало же доходу и которое, по слухам, он сдал в аренду одному саксонскому немцу. Наконец мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал.
Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Не я один был удивлен: удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биография господина Ставрогина, и даже с такими подробностями, что невозможно было представить, откуда они могли получиться, и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верною. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны – в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, не много требовалось, чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма интересных темах, и, что всего драгоценнее, с замечательною рассудительностию. Упомяну как странность: все у нас, чуть не с первого дня, нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостию, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода – вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору, по отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.
Кстати замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями, – чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было едко сказано, но, однако же, – решительная ложь. Да и мало ли было на этот счет потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна, в последние годы, особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы, ею самою себе поставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством и в два-три года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать журнал и пр.) она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдалила от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме (о чем тот давно уже приставал к ней сам под разными предлогами). Мало-помалу Степан Трофимович стал называть ее прозаическою женщиной или еще шутливее: «своим прозаическим другом». Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту.
Все мы, близкие, понимали, – а Степан Трофимович чувствительнее всех нас, – что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удач его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было, что она боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать, и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что-то соображая и разгадывая… и вот – зверь вдруг выпустил свои когти.
Наш принц вдруг, ни с того ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости разным лицам, то есть главное именно в том состояло, что дерзости эти совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие в обыкновенном употреблении, совсем дрянные и мальчишнические, и черт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!» Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и всё людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется непростительнейшее; и, однако же, рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, «точно как бы с ума сошел»; но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно всё понимал в настоящем виде и не только не смутился, но, напротив, улыбался злобно и весело, «без малейшего раскаяния». Шум поднялся ужаснейший; его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец, вдруг как будто задумался опять, – так по крайней мере передавали, – нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и скороговоркой, с видимою досадой, пробормотал:
– Вы, конечно, извините… Я, право, не знаю, как мне вдруг захотелось… глупость…
Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще. Николай Всеволодович пожал плечами ц вышел.
Всё это было очень глупо, не говоря уже о безобразии – безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало быть, составлявшем умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба; затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно (не дожидаясь, пока дело начнется формально судом) обуздать вредного буяна, столичного «бретера, вверенною ему административною властию, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посягновений». С злобною невинностию прибавляли при этом, что, «может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон». Именно эту фразу приготовляли губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора, как нарочно, не случилось тогда в городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию: обнимали и целовали его; весь город перебывал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль, – может быть, смекнув наконец, что человека все-таки протащили за нос и что, стало быть, очень-то уж торжествовать нечего.
И, однако, как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно то обстоятельство, что никто у нас, в целом городе, не приписал этого дикого поступка сумасшествию. Значит, от Николая Всеволодовича, и от умного, наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих пор не знаю, как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшее событие, казалось бы всё объяснившее и всех, по-видимому, умиротворившее. Прибавлю тоже, что четыре года спустя Николай Всеволодович на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе ответил нахмурившись: «Да, я был тогда не совсем здоров». Но забегать вперед нечего.
Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которою все у нас накинулись тогда на «буяна и столичного бретера». Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить всё общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил, – а чем бы, кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мужчин.
Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что всё это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день, и даже именно в «этом самом роде» – признание замечательное со стороны родной матери. «Началось!» – подумала она содрогаясь. На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила, осторожно, но решительно, к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Nicolas, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время насупившись, но очень серьезно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел. А в тот же день, вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли.
Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснения того с мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счет. Он уже и кроме того завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже, – но уж такую имел наклонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренно думает, что так и надо поступать с клубными старшинами и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать.
Гостей набралось множество; народ был неказистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почетнейший гость, Степан Трофимович, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка; играли на трех столах, а молодежь в ожидании ужина затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину – чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно пред ним робевшую, – сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него сконфузился и сам и, пробормотав ему наскоро: «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности невинной, истории, говоря сравнительно, – прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду.
Часов в десять утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румяная бабенка, лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая «повидать их самих-с». У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения.
– Сергей Васильич (то есть Липутин), – бойко затараторила Агафья, – перво-наперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить-с, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать, после вчерашнего-c?
Николай Всеволодович усмехнулся.
– Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.
– А они против этого приказали вам отвечать-с, – еще бойчее подхватила Агафья, – что они и без вас про то знают и вам того же желают.
– Вот! да как он мог узнать про то, что я тебе скажу?
– Уж не знаю, каким это манером узнали-с, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картуза-с: «Ты, говорят, Агафьюшка, если, по отчаянии, прикажут тебе: “Скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе”, так ты им тотчас на то не забудь: “Сами оченно хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с…”»
Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый, мягкий наш Иван Осипович только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться пред клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде, и если потребуется, то и письменно; а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вышел он принять на этот раз Николая Всеволодовича (в другие разы прогуливавшегося, на правах родственника, по всему дому невозбранно), воспитанный Алеша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты; а в следующей комнате, у ближайшего к дверям залы окна, поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал «Голос», разумеется не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале; даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но всё несколько путался. Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль.
– Сердце у вас доброе, Nicolas, и благородное, – включил, между прочим, старичок, – человек вы образованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей… И вот теперь всё опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите! Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться… Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходки, подобно как в бреду?
Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде.
– Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, – угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за «Голосом». Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.
– Nicolas, что за шутки! – простонал он машинально, не своим голосом.
Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было и до конца казалось, что те шепчутся; а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели выпуча глаза друг на друга, не зная, броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Nicolas заметил, может быть, это и притиснул ухо побольнее.
– Nicolas, Nicolas! – простонала опять жертва, – ну… пошутил и довольно…
Еще мгновение, и, конечно, бедный умер бы от испуга; но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Nicolas был арестован и отведен, покамест, на гауптвахту, где и заперт в особую каморку, с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, было отказано у крыльца в приеме; с тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе.
И наконец-то всё объяснилось! В два часа пополуночи арестант, дотоле удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественною силой оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке; его перевезли домой к мамаше. Всё разом объяснилось. Все три наши доктора дали мнение, что и за три дня пред сим больной мог уже быть как в бреду и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростию, но уже не здравым рассудком и волей, что, впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился; но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались не долго.
Nicolas пролежал с лишком два месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума; весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда, к весне, Nicolas совсем уже выздоровел и, без всякого возражения, согласился на предложение мамаши съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Nicolas согласился с большою охотой. В клубе известно было, что он имел с Павлом Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Nicolas был очень серьезен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. Право, некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь – это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину.
– Скажите, – спросил он его, – каким образом вы могли заране угадать то, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом?
– А таким образом, – засмеялся Липутин, – что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заране мог предузнать.
– Все-таки замечательное совпадение. Но, однако, позвольте: вы, стало быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего?
– За умнейшего и за рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке… Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались и мне, чрез Агафью, патент на остроумие выслали.
– Ну, тут вы немного ошибаетесь; я в самом деле… был нездоров… – пробормотал Николай Всеволодович нахмурившись. – Ба! – вскричал он, – да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?
Липутин скрючился и не сумел ответить. Nicolas несколько побледнел или так только показалось Липутину.
– Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей, – продолжал Nicolas, – а про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали.
– Не на дуэль же было вас вызывать-с?
– Ах да, бишь! Я ведь слышал что-то, что вы дуэли не любите…
– Что с французского-то переводить! – опять скрючился Липутин.
– Народности придерживаетесь?
Липутин еще более скрючился.
– Ба, ба! что я вижу! – вскричал Nicolas, вдруг заметив на самом видном месте, на столе, том Консидерана. – Да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского? – засмеялся он, стуча пальцами в книгу.
– Нет, это не с французского перевод! – с какою-то даже злобой привскочил Липутин, – это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! А не с французского одного!..
– Фу, черт, да такого и языка совсем нет! – продолжал смеяться Nicolas.
Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его, за всё время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии».
«Бог знает как эти люди делаются!» – думал Nicolas в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста.
Наш принц путешествовал три года с лишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было чрез Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери – раз в полгода и даже реже; но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностию, но, уж конечно, каждый день во все эти три года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Nicolas непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому. Даже от Степана Трофимовича, по-видимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась еще скупее, чем прежде, и еще пуще стала копить и сердиться за карточные проигрыши Степана Трофимовича.
Наконец, в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа, от генеральши Прасковьи Ивановны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своем Прасковья Ивановна, – с которою Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже восемь, – уведомляла ее, что Николай Всеволодович коротко сошелся с их домом и подружился с Лизой (единственною ее дочерью) и намерен сопровождать их летом в Швейцарию, в Vernex-Montreux, несмотря на то что в семействе графа К… (весьма влиятельного в Петербурге лица), пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живет у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель, хотя кроме вышеозначенных фактов никаких выводов не заключало. Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватила с собою свою воспитанницу Дашу (сестру Шатова) и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых; сами же Дроздовы, по привезенному ею известию, обещали явиться к нам в конце августа.
Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича (бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа) постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагала совершить в Vernex-Montreux во вторую половину лета. По возвращении же в отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Прасковья Ивановна, в первом супружестве госпожа Тушина, была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штаб-ротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда Лизавете Николаевне было уже около двадцати двух лет, за нею смело можно было считать до двухсот тысяч рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, по-видимому, весьма довольна своею поездкой. По ее мнению, она успела сговориться с Прасковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила всё Степану Трофимовичу; даже была с ним весьма экспансивна, что давно уже с нею не случалось.
– Ура! – вскричал Степан Трофимович и прищелкнул пальцами.
Он был в полном восторге, тем более что все время разлуки с своим другом провел в крайнем унынии. Уезжая за границу, она даже с ним не простилась как следует и ничего не сообщила из своих планов «этой бабе», опасаясь, может быть, чтоб он чего не разболтал. Она сердилась на него тогда за значительный карточный проигрыш, внезапно обнаружившийся. Но еще в Швейцарии почувствовала сердцем своим, что брошенного друга надо по возвращении вознаградить, тем более что давно уже сурово с ним обходилась. Быстрая и таинственная разлука поразила и истерзала робкое сердце Степана Трофимовича, и, как нарочно, разом подошли и другие недоумения. Его мучило одно весьма значительное и давнишнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось наконец губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осиповича; его сменили, и даже с неприятностями. Затем, в отсутствие Варвары Петровны, произошел и въезд нашего нового начальника, Андрея Антоновича фон Лембке; вместе с тем тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало быть, и к Степану Трофимовичу. По крайней мере он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений и, кажется, очень оробел один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору, как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты. О будущей губернаторше (которую ждали у нас только к осени) повторяли, что она хотя, слышно, и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то что «какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна». Всем откудова-то было достоверно известно с подробностями, что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным, радостно-угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора.
– Вам, excellente amie,[13] без всякого сомнения известно, – говорил он, кокетничая и щегольски растягивая слова, – что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор внове, то есть нововыпеченный, новопоставленный… Ces interminables mots russes!..[14] Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно это штука?
– Административный восторг? Не знаю, что такое.
– То есть… Vous savez, chez nous… En un mot,[15] поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir.[16] «Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть…» И это в них до административного восторга доходит… En un mot, я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, – mais c’est très curieux,[17] – выгнал, то есть выгнал буквально, из церкви одно замечательное английское семейство, les dames charmantes,[18] пред самым началом великопостного богослужения, – vous savez ces chants et le livre de Job…[19] – единственно под тем предлогом, что «шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок и чтобы приходили в показанное время…», и довел до обморока… Этот дьячок был в припадке административного восторга, et il a montré son pouvoir…[20]
– Сократите, если можете, Степан Трофимович.
– Господин фон Лембке поехал теперь по губернии. En un mot, этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания и даже – уступлю ему это – замечательно красивый мужчина, из сорокалетних…
– С чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза.
– В высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам…
– Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас! Кстати, вы носите красные галстуки, давно ли?
– Это я… я только сегодня…
– А делаете ли вы ваш моцион? Ходите ли ежедневно по шести верст прогуливаться, как вам предписано доктором?
– Не… не всегда.
– Так я и знала! Я в Швейцарии еще это предчувствовала! – раздражительно вскричала она. – Теперь вы будете не по шести, а по десяти верст ходить! Вы ужасно опустились, ужасно, уж-жасно! Вы не то что постарели, вы одряхлели… вы поразили меня, когда я вас увидела давеча, несмотря на ваш красный галстук… quelle idée rouge![21] Продолжайте о фон Лембке, если в самом деле есть что сказать, и кончите когда-нибудь, прошу вас; я устала.
– En un mot, я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в сорок лет администраторов, которые до сорока лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретенной супруги или каким-нибудь другим, не менее отчаянным средством… То есть он теперь уехал… то есть я хочу сказать, что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма… Он тотчас же начал справляться.
– Да правда ли?
– Я даже меры принял. Когда про вас «до-ло-жили», что вы «управляли губернией», vous savez,[22] – он позволил себе выразиться, что «подобного более не будет».
– Так и сказал?
– Что «подобного более не будет», и avec cette morgue[23]… Супругу, Юлию Михайловну, мы узрим здесь в конце августа, прямо из Петербурга.
– Из-за границы. Мы там встретились.
– Vraiment?[24]
– В Париже и в Швейцарии. Она Дроздовым родня.
– Родня? Какое замечательное совпадение! Говорят, честолюбива и… с большими будто бы связями?
– Вздор, связишки! До сорока пяти лет просидела в девках без копейки, а теперь выскочила за своего фон Лембке, и, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы.
– И, говорят, двумя годами старше его?
– Пятью. Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге; на балы ко мне, при Всеволоде Николаевиче, как из милости напрашивалась. А эта, бывало, всю ночь одна в углу сидит без танцев, со своею бирюзовою мухой на лбу, так что я уж в третьем часу, только из жалости, ей первого кавалера посылаю. Ей тогда двадцать пять лет уже было, а ее всё как девчонку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично.
– Эту муху я точно вижу.
– Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась, Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой, что могло быть яснее? Что же застаю? Сама же эта дура Дроздова, – она всегда только дурой была, – вдруг смотрит вопросительно: зачем, дескать, я приехала? Можете представить, как я была удивлена! Гляжу, а тут финтит эта Лембке и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник, – всё ясно! Разумеется, я мигом всё переделала и Прасковья опять на моей стороне, но интрига, интрига!
– Которую вы, однако же, победили. О, вы Бисмарк!
– Не будучи Бисмарком, я способна, однако же, рассмотреть фальшь и глупость, где встречу. Лембке – это фальшь, а Прасковья – глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и вдобавок добра. Что может быть глупее глупого добряка?
– Злой дурак, ma bonne amie,[25] злой дурак еще глупее, – благородно оппонировал Степан Трофимович.
– Вы, может быть, и правы, вы ведь Лизу помните?
– Charmante enfant![26]
– Но теперь уже не enfant, а женщина, и женщина с характером. Благородная и пылкая, и люблю в ней, что матери не спускает, доверчивой дуре. Тут из-за этого кузена чуть не вышла история.
– Ба, да ведь и в самом деле он Лизавете Николаевне совсем не родня… Виды, что ли, имеет?
– Видите, это молодой офицер, очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливою. Мне кажется, он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а финтила только Лембке. Очень уважал Nicolas. Вы понимаете, всё дело зависит от Лизы, но я ее в превосходных отношениях к Nicolas оставила, и он сам обещался мне непременно приехать к нам в ноябре. Стало быть, интригует тут одна Лембке, а Прасковья только слепая женщина. Вдруг говорит мне, что все мои подозрения – фантазия; я в глаза ей отвечаю, что она дура. Я на Страшном суде готова подтвердить. И если бы не просьбы Nicolas, чтоб я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда, не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа К. чрез Nicolas заискивала, она сына с матерью хотела разделить. Но Лиза на нашей стороне, а с Прасковьей я сговорилась. Вы знаете, ей Кармазинов родственник?
– Как? Родственник мадам фон Лембке?
– Ну да, ей. Дальний.
– Кармазинов, нувеллист?
– Ну да, писатель, чего вы удивляетесь? Конечно, он сам себя почитает великим. Надутая тварь! Она с ним вместе приедет, а теперь там с ним носится. Она намерена что-то завести здесь, литературные собрания какие-то. Он на месяц приедет, последнее имение продавать здесь хочет. Я чуть было не встретилась с ним в Швейцарии и очень того не желала. Впрочем, надеюсь, что меня-то он удостоит узнать. В старину ко мне письма писал, в доме бывал. Я бы желала, чтобы вы получше одевались, Степан Трофимович; вы с каждым днем становитесь так неряшливы… О, как вы меня мучаете! Что вы теперь читаете?
– Я… я…
– Понимаю. По-прежнему приятели, по-прежнему попойки, клуб и карты, и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я бы не желала, чтобы вас называли атеистом, особенно теперь не желала бы. Я и прежде не желала, потому что ведь всё это одна только пустая болтовня. Надо же наконец сказать.
– Mais, ma chére…[27]
– Слушайте, Степан Трофимович, во всем ученом я, конечно, пред вами невежда, но я ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению.
– К какому же?
– К такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а есть и умнее нас.
– И остроумно и метко. Есть умнее, значит, есть и правее нас, стало быть, и мы можем ошибаться, не так ли? Mais, ma bonne amie, положим, я ошибусь, но ведь имею же я мое всечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести? Имею же я право не быть ханжой и изувером, если того хочу, а за это, естественно, буду разными господами ненавидим до скончания века. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raison,[28] и так как я совершенно с этим согласен…
– Как, как вы сказали?
– Я сказал: on trouve toujours plus de moines que de raison, и так как я с этим…
– Это, верно, не ваше; вы, верно, откудова-нибудь взяли?
– Это Паскаль сказал.
– Так я и думала… что не вы! Почему вы сами никогда так не скажете, так коротко и метко, а всегда так длинно тянете? Это гораздо лучше, чем давеча про административный восторг…
– Ma foi, chére[29] … почему? Во-первых, потому, вероятно, что я все-таки не Паскаль, et puis[30]… во-вторых, мы, русские, ничего не умеем на своем языке сказать… По крайней мере до сих пор ничего еще не сказали…
– Гм! Это, может быть, и неправда. По крайней мере вы бы записывали и запоминали такие слова, знаете, в случае разговора… Ах, Степан Трофимович, я с вами серьезно, серьезно ехала говорить!
– Chére, chére amie![31]
– Теперь, когда все эти Лембки, все эти Кармазиновы… О боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете!.. Я бы желала, чтоб эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят, а вы как себя держите? Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какою-то сволочью, вы приобрели какие-то невозможные привычки, вы одряхлели, вы не можете обойтись без вина и без карт, вы читаете одного только Поль де Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут; всё ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружиться с такою сволочью, как ваш неразлучный Липутин?
– Почему же он мой и неразлучный? – робко протестовал Степан Трофимович.
– Где он теперь? – строго и резко продолжала Варвара Петровна.
– Он… он вас беспредельно уважает и уехал в С—к, после матери получить наследство.
– Он, кажется, только и делает что деньги получает. Что Шатов? Всё то же?
– Irascible, mais bon.[32]
– Терпеть не могу вашего Шатова; и зол, и о себе много думает!
– Как здоровье Дарьи Павловны?
– Вы это про Дашу? Что это вам вздумалось? – любопытно поглядела на него Варвара Петровна. – Здорова, у Дроздовых оставила… Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала, дурное, а не хорошее.
– Oh, c’est une histoire bien bête! Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter…[33]
– Довольно, Степан Трофимович, дайте покой; измучилась. Успеем наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете брызгаться, когда засмеетесь, это уже дряхлость какая-то! И как странно вы теперь стали смеяться… Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек! Кармазинов к вам не поедет! А тут и без того всему рады… Вы всего себя теперь обнаружили. Ну довольно, довольно, устала! Можно же, наконец, пощадить человека!
Степан Трофимович «пощадил человека», но удалился в смущении.
Дурных привычек действительно завелось у нашего друга немало, особенно в самое последнее время. Он видимо и быстро опустился, и это правда, что он стал неряшлив. Пил больше, стал слезливее и слабее нервами; стал уж слишком чуток к изящному. Лицо его получило странную способность изменяться необыкновенно быстро, с самого, например, торжественного выражения на самое смешное и даже глупое. Не выносил одиночества и беспрерывно жаждал, чтоб его поскорее развлекли. Надо было непременно рассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот, и притом ежедневно новое. Если же долго никто не приходил, то он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, в задумчивости жевал губами, вздыхал глубоко, а под конец чуть не хныкал. Он всё что-то предчувствовал, боялся чего-то, неожиданного, неминуемого; стал пуглив; стал большое внимание обращать на сны.
Весь день этот и вечер провел он чрезвычайно грустно, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но всё довольно бессвязно. Варвара Петровна давно уже знала, что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось, наконец, что его заботит что-то особенное и такое, чего, пожалуй, он и сам не может представить себе. Обыкновенно прежде, когда мы сходились наедине и он начинал мне жаловаться, то всегда почти, после некоторого времени, приносилась бутылочка и становилось гораздо утешнее. В этот раз вина не было, и он видимо подавлял в себе неоднократное желание послать за ним.
– И чего она всё сердится! – жаловался он поминутно, как ребенок. – Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы, qui boivent en zapoï[34] … а я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница… Укоряет, зачем я ничего не пишу? Странная мысль!.. Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять «примером и укоризной». Mais, entre nous soit dit,[35] что же и делать человеку, которому предназначено стоять «укоризной», как не лежать, – знает ли она это?
И, наконец, разъяснилась мне та главная, особенная тоска, которая так неотвязчиво в этот раз его мучила. Много раз в этот вечер подходил он к зеркалу и подолгу пред ним останавливался. Наконец повернулся от зеркала ко мне и с каким-то странным отчаянием проговорил:
– Mon cher, je suis un[36] опустившийся человек!
Да, действительно, до сих пор, до самого этого дня, он в одном только оставался постоянно уверенным, несмотря на все «новые взгляды» и на все «перемены идей» Варвары Петровны, именно в том, что он всё еще обворожителен для ее женского сердца, то есть не только как изгнанник или как славный ученый, но и как красивый мужчина. Двадцать лет коренилось в нем это льстивое и успокоительное убеждение, и, может быть, из всех его убеждений ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Предчувствовал ли он в тот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем?
Приступлю теперь к описанию того отчасти забавного случая, с которого, по-настоящему, и начинается моя хроника.
В самом конце августа возвратились наконец и Дроздовы. Появление их немногим предшествовало приезду давно ожидаемой всем городом родственницы их, нашей новой губернаторши, и вообще произвело замечательное впечатление в обществе. Но обо всех этих любопытных событиях скажу после; теперь же ограничусь лишь тем, что Прасковья Ивановна привезла так нетерпеливо ожидавшей ее Варваре Петровне одну самую хлопотливую загадку: Nicolas расстался с ними еще в июле и, встретив на Рейне графа К., отправился с ним и с семейством его в Петербург. (NB. У графа все три дочери невесты.)
– От Лизаветы, по гордости и по строптивости ее, я ничего не добилась, – заключила Прасковья Ивановна, – но видела своими глазами, что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, придется вам, друг мой Варвара Петровна, спросить о причинах вашу Дарью Павловну. По-моему, так Лиза была обижена. Рада-радешенька, что привезла вам наконец вашу фаворитку и сдаю с рук на руки: с плеч долой.
Произнесены были эти ядовитые слова с замечательным раздражением. Видно было, что «раскисшая женщина» заранее их приготовила и вперед наслаждалась их эффектом. Но не Варвару Петровну можно было озадачивать сентиментальными эффектами и загадками. Она строго потребовала самых точных и удовлетворительных объяснений. Прасковья Ивановна немедленно понизила тон и даже кончила тем, что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, тоже как и Степан Трофимович, беспрерывно нуждалась в истинной дружбе, и главнейшая ее жалоба на дочь ее, Лизавету Николаевну, состояла именно в том, что «дочь ей не друг».
Но из всех ее объяснений и излияний оказалось точным лишь одно то, что действительно между Лизой и Nicolas произошла какая-то размолвка, но какого рода была эта размолвка, – о том Прасковья Ивановна, очевидно, не сумела составить себе определенного понятия. От обвинений же, взводимых на Дарью Павловну, она не только совсем под конец отказалась, но даже особенно просила не давать давешним словам ее никакого значения, потому что сказала она их «в раздражении». Одним словом, всё выходило очень неясно, даже подозрительно. По рассказам ее, размолвка началась от «строптивого и насмешливого» характера Лизы; «гордый же Николай Всеволодович, хоть и сильно был влюблен, но не мог насмешек перенести и сам стал насмешлив».
– Вскоре затем познакомились мы с одним молодым человеком, кажется, вашего «профессора» племянник, да и фамилия та же…
– Сын, а не племянник, – поправила Варвара Петровна. Прасковья Ивановна и прежде никогда не могла упомнить фамилии Степана Трофимовича и всегда называла его «профессором».
– Ну, сын так сын, тем лучше, а мне ведь и всё равно. Обыкновенный молодой человек, очень живой и свободный, но ничего такого в нем нет. Ну, тут уж сама Лиза поступила нехорошо, молодого человека к себе приблизила из видов, чтобы в Николае Всеволодовиче ревность возбудить. Не осуждаю я этого очень-то: дело девичье, обыкновенное, даже милое. Только Николай Всеволодович, вместо того чтобы приревновать, напротив, сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, али как будто ему всё равно. Лизу-то это и взорвало. Молодой человек вскорости уехал (спешил очень куда-то), а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволодовичу придираться. Заметила она, что тот с Дашей иногда говорит, ну и стала беситься, тут уж и мне, матушка, житья не стало. Раздражаться мне доктора запретили, и так это хваленое озеро ихнее мне надоело, только зубы от него разболелись, такой ревматизм получила. Печатают даже про то, что от Женевского озера зубы болят: свойство такое. А тут Николай Всеволодович вдруг от графини письмо получил и тотчас же от нас и уехал, в один день собрался. Простились-то они по-дружески, да и Лиза, провожая его, стала очень весела и легкомысленна и много хохотала. Только напускное всё это. Уехал он, – стала очень задумчива, да и поминать о нем совсем перестала и мне не давала. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь с Лизой насчет этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая сама с вами заговорит; тогда более узнаете. По-моему, опять сойдутся, если только Николай Всеволодович не замедлит приехать, как обещал.
– Напишу ему тотчас же. Коли всё было так, то пустая размолвка; всё вздор! Да и Дарью я слишком знаю; вздор.
– Про Дашеньку я, покаюсь, – согрешила. Одни только обыкновенные были разговоры, да и то вслух. Да уж очень меня, матушка, всё это тогда расстроило. Да и Лиза, видела я, сама же с нею опять сошлась с прежнею лаской…
Варвара Петровна в тот же день написала к Nicolas и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но все-таки оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение «Прасковьи» казалось ей слишком невинным и сентиментальным. «Прасковья всю жизнь была слишком чувствительна, с самого еще пансиона, – думала она, – не таков Nicolas, чтоб убежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно размолвка была. Офицер этот, однако, здесь, с собой привезли, и в доме у них как родственник поселился. Да и насчет Дарьи Прасковья слишком уж скоро повинилась: верно, что-нибудь про себя оставила, чего не хотела сказать…»
К утру у Варвары Петровны созрел проект разом покончить по крайней мере хоть с одним недоумением – проект замечательный по своей неожиданности. Что было в сердце ее, когда она создала его? – трудно решить, да и не возьмусь я растолковывать заранее все противоречия, из которых он состоял. Как хроникер, я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными. Но, однако, должен еще раз засвидетельствовать, что подозрений на Дашу у ней к утру никаких не осталось, а по правде, никогда и не начиналось; слишком она была в ней уверена. Да и мысли она не могла допустить, чтоб ее Nicolas мог увлечься ее… «Дарьей». Утром, когда Дарья Павловна за чайным столиком разливала чай, Варвара Петровна долго и пристально в нее всматривалась и, может быть в двадцатый раз со вчерашнего дня, с уверенностию произнесла про себя:
– Всё вздор!
Заметила только, что у Даши какой-то усталый вид и что она еще тише прежнего, еще апатичнее. После чаю, по заведенному раз навсегда обычаю, обе сели за рукоделье. Варвара Петровна велела ей дать себе полный отчет о ее заграничных впечатлениях, преимущественно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве, промышленности, – обо всем, что успела заметить. Ни одного вопроса о Дроздовых и о жизни с Дроздовыми. Даша, сидевшая подле нее за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, рассказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но несколько слабым голосом.
– Дарья, – прервала ее вдруг Варвара Петровна, – ничего у тебя нет такого особенного, о чем хотела бы ты сообщить?
– Нет, ничего, – капельку подумала Даша и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами.
– На душе, на сердце, на совести?
– Ничего, – тихо, но с какою-то угрюмою твердостию повторила Даша.
– Так я и знала! Знай, Дарья, что я никогда не усомнюсь в тебе. Теперь сиди и слушай. Перейди на этот стул, садись напротив, я хочу всю тебя видеть. Вот так. Слушай, – хочешь замуж?
Даша отвечала вопросительным длинным взглядом, не слишком, впрочем, удивленным.
– Стой, молчи. Во-первых, есть разница в летах, большая очень; но ведь ты лучше всех знаешь, какой это вздор. Ты рассудительна, и в твоей жизни не должно быть ошибок. Впрочем, он еще красивый мужчина… Одним словом, Степан Трофимович, которого ты всегда уважала. Ну?
Даша посмотрела еще вопросительнее и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснела.
– Стой, молчи; не спеши! Хоть у тебя и есть деньги, по моему завещанию, но умри я, что с тобой будет, хотя бы и с деньгами? Тебя обманут и деньги отнимут, ну и погибла. А за ним ты жена известного человека. Смотри теперь с другой стороны: умри я сейчас, – хоть я и обеспечу его, – что с ним будет? А на тебя-то уж я понадеюсь. Стой, я не договорила: он легкомыслен, мямля, жесток, эгоист, низкие привычки, но ты его цени, во-первых, уж потому, что есть и гораздо хуже. Ведь не за мерзавца же какого я тебя сбыть с рук хочу, ты уж не подумала ли чего? А главное, потому что я прошу, потому и будешь ценить, – оборвала она вдруг раздражительно, – слышишь? Что же ты уперлась?
Даша всё молчала и слушала.
– Стой, подожди еще. Он баба – но ведь тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба; его совсем не стоило бы любить женщине. Но его стоит за беззащитность его любить, и ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?
Даша кивнула головой утвердительно.
– Я так и знала, меньше не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! – как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна. – А впрочем, он и без долгу в тебя влюбится, я ведь знаю его. К тому же я сама буду тут. Не беспокойся, я всегда буду тут. Он станет на тебя жаловаться, он клеветать на тебя начнет, шептаться будет о тебе с первым встречным, будет ныть, вечно ныть; письма тебе будет писать из одной комнаты в другую, в день по два письма, но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное. Заставь слушаться; не сумеешь заставить – дура будешь. Повеситься захочет, грозить будет – не верь; один только вздор! Не верь, а все-таки держи ухо востро, неровен час и повесится: с этакими-то и бывает; не от силы, а от слабости вешаются; а потому никогда не доводи до последней черты, – и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он поэт. Слушай, Дарья: нет выше счастья, как собою пожертвовать. И к тому же ты мне сделаешь большое удовольствие, а это главное. Ты не думай, что я по глупости сейчас сбрендила; я понимаю, что говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю; всё в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну, что ж уселась, говори что-нибудь!
– Мне ведь всё равно, Варвара Петровна, если уж непременно надобно замуж выйти, – твердо проговорила Даша.
– Непременно? Ты на что это намекаешь? – строго и пристально посмотрела на нее Варвара Петровна.
Даша молчала, ковыряя в пяльцах иголкой.
– Ты хоть и умна, но ты сбрендила. Это хоть и правда, что я непременно теперь тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось, и за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уж и двадцать лет… Ну?
– Я как вам угодно, Варвара Петровна.
– Значит, согласна! Стой, молчи, куда торопишься, я не договорила: по завещанию тебе от меня пятнадцать тысяч рублей положено. Я их теперь же тебе выдам, после венца. Из них восемь тысяч ты ему отдашь, то есть не ему, а мне. У него есть долг в восемь тысяч; я и уплачу, но надо, чтоб он знал, что твоими деньгами. Семь тысяч останутся у тебя в руках, отнюдь ему не давай ни рубля никогда. Долгов его не плати никогда. Раз заплатишь – потом не оберешься. Впрочем, я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по тысяче двести рублей содержания, а с экстренными тысячу пятьсот, кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут, точно так, как и теперь он пользуется. Прислугу только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать, прямо тебе на руки. Но будь и добра: иногда выдай и ему что-нибудь, и приятелям ходить позволяй, раз в неделю, а если чаще, то гони. Но я сама буду тут. А коли умру, пенсион ваш не прекратится до самой его смерти, слышишь, до его только смерти, потому что это его пенсион, а не твой. А тебе, кроме теперешних семи тысяч, которые у тебя останутся в целости, если не будешь сама глупа, еще восемь тысяч в завещании оставлю. И больше тебе от меня ничего не будет; надо, чтобы ты знала. Ну, согласна, что ли? Скажешь ли, наконец, что-нибудь?
– Я уже сказала, Варвара Петровна.
– Вспомни, что твоя полная воля, как захочешь, так и будет.
– Только позвольте, Варвара Петровна, разве Степан Трофимович вам уже говорил что-нибудь?
– Нет, он ничего не говорил и не знает, но… он сейчас заговорит!
Она мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль. Даша опять немного покраснела и вопросительным взглядом следила за нею. Варвара Петровна вдруг обернулась к ней с пылающим от гнева лицом.
– Дура ты! – накинулась она на нее, как ястреб, – дура неблагодарная! Что у тебя на уме? Неужто ты думаешь, что я скомпрометирую тебя хоть чем-нибудь, хоть на столько вот! Да он сам на коленках будет ползать просить, он должен от счастья умереть, вот как это будет устроено! Ты ведь знаешь же, что я тебя в обиду не дам! Или ты думаешь, что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я бегу теперь тебя продавать? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные! Подай зонтик!
И она полетела пешком по мокрым кирпичным тротуарам и по деревянным мосткам к Степану Трофимовичу.
Это правда, что «Дарью» она не дала бы в обиду; напротив, теперь-то и считала себя ее благодетельницей. Самое благородное и безупречное негодование загорелось в душе ее, когда, надевая шаль, она поймала на себе смущенный и недоверчивый взгляд своей воспитанницы. Она искренно любила ее с самого ее детства. Прасковья Ивановна справедливо назвала Дарью Павловну ее фавориткой. Давно уже Варвара Петровна решила раз навсегда, что «Дарьин характер не похож на братнин» (то есть на характер брата ее, Ивана Шатова), что она тиха и кротка, способна к большому самопожертвованию, отличается преданностию, необыкновенною скромностию, редкою рассудительностию и, главное, благодарностию. До сих пор, по-видимому, Даша оправдывала все ее ожидания. «В этой жизни не будет ошибок», – сказала Варвара Петровна, когда девочке было еще двенадцать лет, и так как она имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей ее мечте, к каждому своему новому предначертанию, к каждой мысли своей, показавшейся ей светлою, то тотчас же и решила воспитывать Дашу как родную дочь. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку, мисс Кригс, которая и прожила у них до шестнадцатилетнего возраста воспитанницы, но ей вдруг почему-то было отказано. Ходили учителя из гимназии, между ними один настоящий француз, который и обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано вдруг, точно прогнали. Одна бедная заезжая дама, вдова из благородных, обучала на фортепиано. Но главным педагогом был все-таки Степан Трофимович. По-настоящему, он первый и открыл Дашу: он стал обучать тихого ребенка еще тогда, когда Варвара Петровна о ней и не думала. Опять повторю: удивительно, как к нему привязывались дети! Лизавета Николаевна Тушина училась у него с восьми лет до одиннадцати (разумеется, Степан Трофимович учил ее без вознаграждения и ни за что бы не взял его от Дроздовых). Но он сам влюбился в прелестного ребенка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были занимательнее арабских сказок. Лиза, которая млела за этими рассказами, чрезвычайно смешно передразнивала у себя дома Степана Трофимовича. Тот узнал про это и раз подглядел ее врасплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже, от восторга. Но Лиза скоро уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали ходить учителя, то Степан Трофимович оставил с нею свои занятия и мало-помалу совсем перестал обращать на нее внимание. Так продолжалось долгое время. Раз, когда уже ей было семнадцать лет, он был вдруг поражен ее миловидностию. Это случилось за столом у Варвары Петровны. Он заговорил с молодою девушкой, был очень доволен ее ответами и кончил предложением прочесть ей серьезный и обширный курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила и поблагодарила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал особенно приготовляться к лекциям, и наконец они наступили. Начали с древнейшего периода; первая лекция прошла увлекательно; Варвара Петровна присутствовала. Когда Степан Трофимович кончил и, уходя, объявил ученице, что в следующий раз приступит к разбору «Слова о полку Игореве», Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекций больше не будет. Степан Трофимович покоробился, но смолчал, Даша вспыхнула; тем и кончилась, однако же, затея. Произошло это ровно за три года до теперешней неожиданной фантазии Варвары Петровны.
Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не предчувствовал. В грустном раздумье давно уже поглядывал он в окно, не подойдет ли кто из знакомых. Но никто не хотел подходить. На дворе моросило, становилось холодно; надо было протопить печку; он вздохнул. Вдруг страшное видение предстало его очам: Варвара Петровна в такую погоду и в такой неурочный час к нему! И пешком! Он до того был поражен, что забыл переменить костюм и принял ее как был, в своей всегдашней розовой ватной фуфайке.
– Ma bonne amie!.. – слабо крикнул он ей навстречу.
– Вы одни, я рада: терпеть не могу ваших друзей! Как вы всегда накурите; господи, что за воздух! Вы и чай не допили, а на дворе двенадцатый час! Ваше блаженство – беспорядок! Ваше наслаждение – сор! Что это за разорванные бумажки на полу? Настасья, Настасья! Что делает ваша Настасья? Отвори, матушка, окна, форточки, двери, всё настежь. А мы в залу пойдемте; я к вам за делом. Да подмети ты хоть раз в жизни, матушка!
– Сорят-с! – раздражительно-жалобным голоском пропищала Настасья.
– А ты мети, пятнадцать раз в день мети! Дрянная у вас зала (когда вышли в залу). Затворите крепче двери, она станет подслушивать. Непременно надо обои переменить. Я ведь вам присылала обойщика с образчиками, что же вы не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же, наконец, прошу вас. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы!
– Я… сейчас, – крикнул из другой комнаты Степан Трофимович, – вот я и опять!
– А, вы переменили костюм! – насмешливо оглядела она его. (Он накинул сюртук сверх фуфайки.) Этак действительно будет более подходить… к нашей речи. Садитесь же, наконец, прошу вас.
Она объяснила ему всё сразу, резко и убедительно. Намекнула и о восьми тысячах, которые были ему дозарезу нужны. Подробно рассказала о приданом. Степан Трофимович таращил глаза и трепетал. Слышал всё, но ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но всё обрывался голос. Знал только, что всё так и будет, как она говорит, что возражать и не соглашаться дело пустое, а он женатый человек безвозвратно.
– Mais, ma bonne amie,[37] в третий раз и в моих летах… и с таким ребенком! – проговорил он наконец. – Mais c’est une enfant![38]
– Ребенок, которому двадцать лет, слава богу! Не вертите, пожалуйста, зрачками, прошу вас, вы не на театре. Вы очень умны и учены, но ничего не понимаете в жизни, за вами постоянно должна нянька ходить. Я умру, и что с вами будет? А она будет вам хорошею нянькой; это девушка скромная, твердая, рассудительная; к тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Эта счастливая мысль мне еще в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы, если я сама вам говорю, что она ангел кротости! – вдруг яростно вскричала она. – У вас сор, она заведет чистоту, порядок, все будет как зеркало… Э, да неужто же вы мечтаете, что я еще кланяться вам должна с таким сокровищем, исчислять все выгоды, сватать! Да вы должны бы на коленях… О, пустой, пустой, малодушный человек!
– Но… я уже старик!
– Что значат ваши пятьдесят три года! Пятьдесят лет не конец, а половина жизни. Вы красивый мужчина, и сами это знаете. Вы знаете тоже, как она вас уважает. Умри я, что с нею будет? А за вами она спокойна, и я спокойна. У вас значение, имя, любящее сердце; вы получаете пенсион, который я считаю своею обязанностию. Вы, может быть, спасете ее, спасете! Во всяком случае, честь доставите. Вы сформируете ее к жизни, разовьете ее сердце, направите мысли. Нынче сколько погибают оттого, что дурно направлены мысли! К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомните.
– Я именно, – пробормотал он, уже польщенный ловкою лестью Варвары Петровны, – я именно собираюсь теперь присесть за мои «Рассказы из испанской истории»…
– Ну, вот видите, как раз и сошлось.
– Но… она? Вы ей говорили?
– О ней не беспокойтесь, да и нечего вам любопытствовать. Конечно, вы должны ее сами просить, умолять сделать вам честь, понимаете? Но не беспокойтесь, я сама буду тут. К тому же вы ее любите…
У Степана Трофимовича закружилась голова; стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея, с которою он никак не мог сладить.
– Excellente amie! – задрожал вдруг его голос, – я… я никогда не мог вообразить, что вы решитесь выдать меня… за другую… женщину!
– Вы не девица, Степан Трофимович; только девиц выдают, а вы сами женитесь, – ядовито прошипела Варвара Петровна.
– Oui, j’ai pris un mot ponr un autre. Mais… c’est égal,[39] – уставился он на нее с потерянным видом.
– Вижу, что c’est égal, – презрительно процедила она, – господи! да с ним обморок! Настасья, Настасья! воды!
Но до воды не дошло. Он очнулся. Варвара Петровна взяла свой зонтик.
– Я вижу, что с вами теперь нечего говорить…
– Oui, oui, je suis incapable.[40]
– Но к завтраму вы отдохнете и обдумаете. Сидите дома, если что случится, дайте знать, хотя бы ночью. Писем не пишите, и читать не буду. Завтра же в это время приду сама, одна, за окончательным ответом, и надеюсь, что он будет удовлетворителен. Постарайтесь, чтобы никого не было и чтобы сору не было, а это на что похоже? Настасья, Настасья!
Разумеется, назавтра он согласился; да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство…
Так называемое у нас имение Степана Трофимовича (душ пятьдесят по старинному счету, и смежное со Скворешниками) было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стало быть, теперь их сыну, Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекунствовал, а потому, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная: он получал с отца в год до тысячи рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и пятисот (а может быть, и того менее). Бог знает как установились подобные отношения. Впрочем, всю эту тысячу целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублем в ней не участвовал. Напротив, весь доход с землицы оставлял у себя в кармане и, кроме того, разорил ее вконец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику и, тихонько от Варвары Петровны, продав на сруб рощу, то есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила по крайней мере тысяч восемь, а он взял за нее только пять. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрежетала зубами, когда наконец обо всем узнала. И вдруг теперь сынок извещал, что приедет сам продать свои владения во что бы ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича ему стало совестно пред се cher enfant[41] (которого он в последний раз видел целых девять лет тому назад, в Петербурге, студентом). Первоначально все имение могло стоить тысяч тринадцать или четырнадцать, теперь вряд ли кто бы дал за него и пять. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право, по смыслу формальной доверенности, продать лес и, поставив в счет тысячерублевый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно, сильно оградить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями высшими. В голове его мелькнула одна удивительно красивая мысль: когда приедет Петруша, вдруг благородно выложить на стол самый высший maximum цены, то есть даже пятнадцать тысяч, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы, и крепко-крепко, со слезами, прижать к груди се cher fils,[42] чем и покончить все счеты. Отдаленно и осторожно начал он развертывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый, благородный оттенок их дружеской связи… их «идее». Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новою легкомысленною и социальною молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна всё отмалчивалась. Наконец сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее maximum цены, то есть тысяч шесть, семь (и за четыре можно было купить). Об остальных же восьми тысячах, улетевших с рощей, не сказала ни слова.
Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, и совсем не приедет, – то есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам всё такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете, лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, – бежал чего доброго.
– Удивительно мне это, – проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся, – Петруша c’est une si pauvre tête![43] Он добр, благороден, очень чувствителен, и я так тогда, в Петербурге, порадовался, сравнив его с современною молодежью, но c’est un pauvre sire tout de même[44]… И, знаете, всё от той же недосиженности, сентиментальности! Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его… с чужого голоса, разумеется. И, однако, мне-то, мне каково! У меня здесь столько врагов, там еще более, припишут влиянию отца… Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем!
Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег: стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года четыре, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии: стало быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чем-то там хлопотал. Всё это было прекрасно, но, однако, где же взять остальные семь-восемь тысяч, чтобы составить приличный maximum цены за имение? А что, если подымется крик и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. «Почему это, я заметил, – шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, – почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник… почему это? Неужели тоже от сентиментальности?» Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича; я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимович знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу; писал он до крайности редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были, по-модному, на ты, то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имений. И вдруг теперь эти восемь тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился.
Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно, поплакал, много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен, потом была легкая холерина, – одним словом, всё произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей уже двадцать лет тому назад скончавшейся немочки и жалобно начал взывать: «Простишь ли ты меня?» Вообще он был как-то сбит с толку. С горя мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. Наутро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок спрыснул духами, впрочем лишь чуть-чуть, и, только завидел Варвару Петровну в окно, поскорей взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку.
– И прекрасно! – похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. – Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу рассудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего, – прибавила она, разглядывая узел его белого галстука, – покамест молчите, и я буду молчать. Скоро день вашего рождения; я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай и, пожалуйста, без вина и без закусок; впрочем, я сама всё устрою. Пригласите ваших друзей, – впрочем, мы вместе сделаем выбор. Накануне вы с нею переговорите, если надо будет; а на вашем вечере мы не то что объявим или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так намекнем или дадим знать, безо всякой торжественности. А там недели через две и свадьба, по возможности без всякого шума… Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под венца, хоть в Москву например. Я тоже, может быть, с вами поеду… А главное, до тех пор молчите.
Степан Трофимович был удивлен. Он заикнулся было, что невозможно же ему так, что надо же переговорить с невестой, но Варвара Петровна раздражительно на него накинулась:
– Это зачем? Во-первых, ничего еще, может быть, и не будет…
– Как не будет! – пробормотал жених, совсем уже ошеломленный.
– Так. Я еще посмотрю… А впрочем, всё так будет, как я сказала, и не беспокойтесь, я сама ее приготовлю. Вам совсем незачем. Всё нужное будет сказано и сделано, а вам туда незачем. Для чего? Для какой роли? И сами не ходите и писем не пишите. И ни слуху ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать.
Она решительно не хотела объясняться и ушла видимо расстроенная. Кажется, чрезмерная готовность Степана Трофимовича поразила ее. Увы, он решительно не понимал своего положения, и вопрос еще не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив, явился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он куражился.
– Это мне нравится! – восклицал он, останавливаясь предо мной и разводя руками. – Вы слышали? Она хочет довести до того, чтоб я, наконец, не захотел. Ведь я тоже могу терпение потерять и… не захотеть! «Сидите, и нечего вам туда ходить», но почему я, наконец, непременно должен жениться? Потому только, что у ней явилась смешная фантазия? Но я человек серьезный и могу не захотеть подчиняться праздным фантазиям взбалмошной женщины! У меня есть обязанности к моему сыну и… и к самому себе! Я жертву приношу – понимает ли она это? Я, может быть, потому согласился, что мне наскучила жизнь и мне всё равно. Но она может меня раздражить, и тогда мне будет уже не всё равно; я обижусь и откажусь. Et enfin, le ridicule…[45] Что скажут в клубе? Что скажет… Липутин? «Может, ничего еще и не будет» – каково! Но ведь это верх! Это уж… это что же такое? – Je suis un forçat, un Badinguet,[46] un припертый к стене человек!..
И в то же время какое-то капризное самодовольствие, что-то легкомысленно-игривое проглядывало среди всех этих жалобных восклицаний. Вечером мы опять выпили.
Глава третья
Чужие грехи
Прошло с неделю, и дело начало несколько раздвигаться.
Замечу вскользь, что в эту несчастную неделю я вынес много тоски, оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего в качестве ближайшего его конфидента. Тяготил его, главное, стыд, хотя мы в эту неделю никого не видали и всё сидели одни; но он стыдился даже и меня, и до того, что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал, что всё уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил, для необходимого моциону, только в полные сумерки, когда уже совершенно темнело.
Прошла неделя, а он всё еще не знал, жених он или нет, и никак не мог узнать об этом наверно, как ни бился. С невестой он еще не видался, даже не знал, невеста ли она ему; даже не знал, есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь серьезное! К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одно из первоначальных писем его (а он написал их к ней множество) она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений, потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь, минуты, и сама даст ему со временем знать, когда к ней можно будет прийти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это «одно только баловство». Эту записку я сам читал; он же мне и показывал.
И, однако, все эти грубости и неопределенности, всё это было ничто в сравнении с главною его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно; от нее он худел и падал духом. Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить даже со мной; напротив, при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик; а между тем сам же посылал за мною ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне, как в воде или в воздухе.
Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собою разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел всё насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча – и, признаюсь, от скуки быть конфидентом – я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение мое было мелко и глупо; но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным.
– О, такова ли она была тогда! – проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне. – Такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили… Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли, свои мысли. Теперь всё переменилось! Она говорит, что всё это одна только старинная болтовня! Она презирает прежнее… Теперь она какой-то приказчик, эконом, ожесточенный человек, и всё сердится…
– За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требование? – возразил я ему.
Он тонко посмотрел на меня.
– Cher ami, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужа-а-сно! но все-таки менее, чем теперь, когда я согласился.
Этим словечком своим он остался доволен, и мы роспили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение; на другой день он был ужаснее и угрюмее, чем когда-либо.
Но всего более досадовал я на него за то, что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым, для возобновления знакомства, чего, как слышно, они и сами желали, так как спрашивали уже о нем, о чем и он тосковал каждодневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил; но, кроме того, он, неизвестно почему, воображал, что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо. И все-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался. Главное было в том, что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я рассчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимовича. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется на улице, – когда она выезжала прогуливаться верхом, в амазонке и на прекрасном коне, в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Ослепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты, – но хоть мгновение, а оно существовало действительно, а потому можно себе представить, как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество.
Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветовал. Я же и обошел всех, по его просьбе, и всем наговорил, что Варвара Петровна поручила нашему «старику» (так все мы между собою звали Степана Трофимовича) какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет; что он заперся, а я ему помогаю, и пр., и пр. К одному только Липутину я не успел зайти и всё откладывал, – а вернее сказать, я боялся зайти. Я знал вперед, что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе, что тут секрет, который, собственно, от него одного хотят скрыть, и только что я выйду от него, тотчас же пустится по всему городу разузнавать и сплетничать. Пока я всё это себе представлял, случилось так, что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось, что он уже обо всем узнал от наших, мною только что предуведомленных. Но, странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимовиче, а, напротив, сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться, что не зашел к нему раньше, и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось, что рассказать; он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому, что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши «с новыми разговорами», об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том, что все кричат о новых идеях и как это ко всем пристало, и пр., и пр. Он проговорил с четверть часа, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я терпеть его не мог, но сознаюсь, что у него был дар заставить себя слушать, и особенно когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главною чертой его характера была зависть. Когда я, в тот же вечер, передал Степану Трофимовичу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре, – тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос: «Знает Липутин или нет?» Я стал ему доказывать, что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого; но Степан Трофимович стоял на своем.
– Вот верьте или нет, – заключил он под конец неожиданно, – а я убежден, что ему не только уже известно всё со всеми подробностями о нашем положении, но что он и еще что-нибудь сверх того знает, что-нибудь такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже нет возврата!..
Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того целых пять дней мы ни слова не упоминали о Липутине; мне ясно было, что Степан Трофимович очень жалел о том, что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился.
Однажды поутру, – то есть на седьмой или восьмой день после того как Степан Трофимович согласился стать женихом, – часов около одиннадцати, когда я спешил, по обыкновению, к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение.
Я встретил Кармазинова, «великого писателя», как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению; я же упивался ими; они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу; повести с направлением, которые он всё писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии; а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились.
Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые, по обыкновению, при жизни их чуть не за гениев, – не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, – забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на театре. О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться. Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их, именно под конец их поприща, принимает иногда размеры, достойные удивления. Бог знает за кого они начинают принимать себя, – по крайней мере за богов. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими с сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. Рассказывали, что он вас встретит, обласкает, прельстит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны и, уж разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке, которого он боится, он почтет священнейшим долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти; он серьезно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят, самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачивал его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отмстить.
С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию, и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем, и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целию выставить себя самого. Так и читалось между строками: «Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам всё это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза – не правда ли, как это интересно?» Когда я передал мое мнение о статье Кармазинова Степану Трофимовичу, он со мной согласился.
Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидать и, если возможно, с ним познакомиться. Я знал, что мог бы это сделать чрез Степана Трофимовича; они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его; мне уже его показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей.
Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его. Чистенькое личико его было не совсем красиво, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще внакидку, какой, например, носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии. Но по крайней мере все мелкие вещицы его костюма: запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных прюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском спросил меня:
– Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу?
– На Быкову улицу? Да это здесь, сейчас же, – вскричал я в необыкновенном волнении. – Всё прямо по этой улице и потом второй поворот налево.
– Очень вам благодарен.
Проклятие на эту минуту: я, кажется, оробел и смотрел подобострастно! Он мигом всё это заметил и, конечно, тотчас же всё узнал, то есть узнал, что мне уже известно, кто он такой, что я его читал и благоговел пред ним с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо, как я указал ему. Не знаю, для чего я поворотил за ним назад; не знаю, для чего я пробежал подле него десять шагов. Он вдруг опять остановился.
– А не могли бы вы мне указать, где здесь всего ближе стоят извозчики? – прокричал он мне опять.
Скверный крик; скверный голос!
– Извозчики? извозчики всего ближе отсюда… у собора стоят, там всегда стоят, – и вот я чуть было не повернулся бежать за извозчиком. Я подозреваю, что он именно этого и ждал от меня. Разумеется, я тотчас же опомнился и остановился, но движение мое он заметил очень хорошо и следил за мною всё с тою же скверною улыбкой. Тут случилось то, чего я никогда не забуду.
Он вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или, еще лучше, ридикюльчик, вроде старинных дамских ридикюлей, впрочем не знаю, что это было, но знаю только, что я, кажется, бросился его поднимать.
Я совершенно убежден, что я его не поднял, но первое движение, сделанное мною, было неоспоримо; скрыть его я уже не мог и покраснел как дурак. Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства всё, что ему можно было извлечь.
– Не беспокойтесь, я сам, – очаровательно проговорил он, то есть когда уже вполне заметил, что я не подниму ему ридикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своею дорогой, оставив меня в дураках. Было всё равно, как бы я сам поднял. Минут с пять я считал себя вполне и навеки опозоренным; но, подойдя к дому Степана Трофимовича, вдруг расхохотался. Встреча показалась мне так забавною, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимовича и изобразить ему всю сцену даже в лицах.
Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какой-то жадностию набросился на меня, только что я вошел, и стал меня слушать, но с таким растерянным видом, что сначала, видимо, не понимал моих слов. Но только что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя.
– Не говорите мне, не произносите! – воскликнул он чуть не в бешенстве, – вот, вот смотрите, читайте! читайте!
Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад; содержания самого пустого, все о Кармазинове, и обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первая, от третьего дня (вероятно, была и от четвертого дня, а может быть, и от пятого):
«Если он наконец удостоит вас сегодня, то обо мне, прошу, ни слова. Ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте.
В. С.»
Вчерашняя:
«Если он решится наконец сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так по-моему, не знаю, как по-вашему.
В. С.»
Сегодняшняя, последняя:
«Я убеждена, что у вас сору целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришлю Марью и Фомушку; они в полчаса приберут. А вы не мешайте и посидите в кухне, пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы: давно собиралась вам подарить, и сверх того моего Теньера (на время). Вазы можно поставить на окошко, а Теньера повесьте справа над портретом Гете, там виднее и по утрам всегда свет. Если он наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером.
В. С.
P. S. Если и сегодня не приедет, то совсем не приедет».
Я прочел и удивился, что он в таком волнении от таких пустяков. Взглянув на него вопросительно, я вдруг заметил, что он, пока я читал, успел переменить свой всегдашний белый галстук на красный. Шляпа и палка его лежали на столе. Сам же был бледен, и даже руки его дрожали.
– Я знать не хочу ее волнений! – исступленно вскричал он, отвечая на мой вопросительный взгляд. – Je m’en fiche![47] Она имеет дух волноваться о Кармазинове, а мне на мои письма не отвечает! Вот, вот нераспечатанное письмо мое, которое она вчера воротила мне, вот тут на столе, под книгой, под «L’homme qui rit».[48] Какое мне дело, что она убивается о Ни-ко-леньке! Je m’en fiche et je proclame ma liberté. Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke![49] Я вазы спрятал в переднюю, а Теньера в комод, а от нее потребовал, чтоб она сейчас же приняла меня. Слышите: потребовал! Я послал ей такой же клочок бумаги, карандашом, незапечатанный, с Настасьей, и жду. Я хочу, чтобы Дарья Павловна сама объявила мне из своих уст и пред лицом неба, или по крайней мере пред вами. Vous me seconderez, n’est се pas, comme ami et témoin.[50] Я не хочу краснеть, я не хочу лгать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле! Пусть мне во всем признаются, откровенно, простодушно, благородно, и тогда… тогда я, может быть, удивлю всё поколение великодушием!.. Подлец я или нет, милостивый государь? – заключил он вдруг, грозно смотря на меня, как будто я-то и считал его подлецом.
Я попросил его выпить воды; я еще не видал его в таком виде. Всё время, пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился предо мной в какой-то необычайной позе.
– Неужели вы думаете, – начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы, – неужели вы можете предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку, – нищенскую коробку мою! – и взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумасшедшей женщины, то есть самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может осуществиться на свете, несмотря на то что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам моим, милостивый государь мой! О, вы не верите, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы суметь кончить жизнь у купца гувернером или умереть с голоду под забором! Отвечайте, отвечайте немедленно: верите вы или не верите?
Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое, что решительно обижало меня, и не лично, о нет! Но… я потом объяснюсь. Он даже побледнел.
– Может быть, вам скучно со мной, Г—в (это моя фамилия), и вы бы желали… не приходить ко мне вовсе? – проговорил он тем тоном бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге; в то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку, на которой написано было что-то карандашом. Он взглянул и перебросил мне. На бумажке рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова: «Сидите дома».
Степан Трофимович молча схватил шляпу и палку и быстро пошел из комнаты; я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов послышались в коридоре. Он остановился как пораженный громом.
– Это Липутин, и я пропал! – прошептал он, схватив меня за руку.
В ту же минуту в комнату вошел Липутин.
Почему бы он пропал от Липутина, я не знал, да и цены не придавал слову; я всё приписывал нервам. Но все-таки испуг его был необычайный, и я решился пристально наблюдать.
Уж один вид входившего Липутина заявлял, что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собою одного неизвестного господина, должно быть приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича он тотчас же и громко воскликнул:
– Гостя веду, и особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кириллов, замечательнейший инженер-строитель. А главное, сынка вашего знают, многоуважаемого Петра Степановича; очень коротко-с; и поручение от них имеют. Вот только что пожаловали.
– О поручении вы прибавили, – резко заметил гость, – поручения совсем не бывало, а Верховенского я, вправде, знаю. Оставил в X—ской губернии, десять дней пред нами.
Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться; посмотрел на меня, посмотрел на Липутина и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но всё еще держа в руке шляпу и палку и не замечая того.
– Ба, да вы сами на выходе! А мне-то ведь сказали, что вы совсем прихворнули от занятий.
– Да, я болен, и вот теперь хотел гулять, я… – Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку и – покраснел.
Я между тем наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и видимо был доволен. Он уселся на плетеном стуле, который вытащил чуть не на средину комнаты, чтобы находиться в одинаковом расстоянии между хозяином и гостем, разместившимися один против другого на двух противоположных диванах. Вострые глаза его с любопытством шныряли по всем углам.
– Я… давно уже не видал Петрушу… Вы за границей встретились? – пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю.
– И здесь и за границей.
– Алексей Нилыч сами только что из-за границы, после четырехлетнего отсутствия, – подхватил Липутин, – ездили для усовершенствования себя в своей специальности, и к нам прибыли, имея основание надеяться получить место при постройке нашего железнодорожного моста, и теперь ответа ожидают. Они с господами Дроздовыми, с Лизаветой Николаевной знакомы чрез Петра Степановича.
Инженер сидел, как будто нахохлившись, и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось, что он был на что-то сердит.
– Они и с Николаем Всеволодовичем знакомы-с.
– Знаете и Николая Всеволодовича? – осведомился Степан Трофимович.
– Знаю и этого.
– Я… я чрезвычайно давно уже не видал Петрушу и… так мало нахожу себя вправе называться отцом… c’est le mot;[51] я… как же вы его оставили?
– Да так и оставил… он сам приедет, – опять поспешил отделаться господин Кириллов. Решительно, он сердился.
– Приедет! Наконец-то я… видите ли, я слишком давно уже не видал Петрушу! – завяз на этой фразе Степан Трофимович. – Жду теперь моего бедного мальчика, пред которым… о, пред которым я так виноват! То есть я, собственно, хочу сказать, что, оставляя его тогда в Петербурге, я… одним словом, я считал его за ничто, quelque chose dans ce genre.[52] Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и… боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть… je m’en souviens. Enfin,[53] чувства изящного никакого, то есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи… c’était comme un petit idiot.[54] Впрочем, я сам, кажется, спутался, извините, я… вы меня застали…
– Вы серьезно, что он подушку крестил? – с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер.
– Да, крестил…
– Нет, я так; продолжайте.
Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутина.
– Я очень вам благодарен за ваше посещение, но, признаюсь, я теперь… не в состоянии… Позвольте, однако, узнать, где квартируете?
– В Богоявленской улице, в доме Филиппова.
– Ах, это там же, где Шатов живет, – заметил я невольно.
– Именно, в том же самом доме, – воскликнул Липутин, – только Шатов наверху стоит, в мезонине, а они внизу поместились, у капитана Лебядкина. Они и Шатова знают и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались.
– Comment![55] Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве de се pauvre ami[56] и эту женщину? – воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством. – Вас первого человека встречаю, лично знающего; и если только…
– Какой вздор! – отрезал инженер, весь вспыхнув. – Как вы, Липутин, прибавляете! Никак я не видал жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко… Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи?
Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему, с каким-то вызовом уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.
– Извините меня, – внушительно заметил Степан Трофимович, – я понимаю, что это дело может быть деликатнейшим…
– Никакого тут деликатнейшего дела нет, и даже это стыдно, а я не вам кричал, что «вздор», а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня, если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю… совсем не знаю!
– Я понял, понял, и если настаивал, то потому лишь, что очень люблю нашего бедного друга, notre irascible ami,[57] и всегда интересовался… Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об notre sainte Russie разные вещи, что я давно уже приписываю этот перелом в его организме – иначе назвать не хочу – какому-нибудь сильному семейному потрясению и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок…
– Я тоже совсем не знаю русского народа и… вовсе нет времени изучать! – отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи.
– Они изучают, изучают, – подхватил Липутин, – они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев самоубийства в России и вообще о причинах, учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов.
Инженер страшно взволновался.
– Это вы вовсе не имеете права, – гневно забормотал он, – я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил, совсем нечаянно. Тут не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права…
Липутин видимо наслаждался.
– Виноват-с, может быть и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли.
Инженер слушал с презрительною и бледною улыбкой. С полминуты все помолчали.
– Всё это глупо, Липутин, – проговорил наконец господин Кириллов с некоторым достоинством. – Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю чтобы говорить… Если есть убеждения, то для меня ясно… а это вы глупо сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать…
– И, может быть, прекрасно делаете, – не утерпел Степан Трофимович.
– Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, – продолжал гость горячею скороговоркой, – я четыре года видел мало людей… Я мало четыре года разговаривал и старался не встречать, для моих целей, до которых нет дела, четыре года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей, – заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, – то вовсе не с тем, что боюсь от вас доноса правительству; это нет; пожалуйста, не подумайте пустяков в этом смысле…
На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть.
– Господа, мне очень жаль, – с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович, – но я чувствую себя нездоровым и расстроенным. Извините.
– Ах, это чтоб уходить, – спохватился господин Кириллов, схватывая картуз, – это хорошо, что сказали, а то я забывчив.
Он встал и с простодушным видом подошел с протянутою рукой к Степану Трофимовичу.
– Жаль, что вы нездоровы, а я пришел.
– Желаю вам всякого у нас успеха, – ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. – Понимаю, что если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей, и – забыли Россию, то, конечно, вы на нас, коренных русаков, поневоле должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. Mais cela passera.[58] В одном только я затрудняюсь: вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!
– Как? Как это вы сказали… ах черт! – воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я все дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал «я пропал», услыхав его.
Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.
– Это всё оттого они так угрюмы сегодня, – ввернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и, так сказать, налету, – оттого, что с капитаном Лебядкиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стегает, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилыч в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свиданья.
– Сестру? Больную? Нагайкой? – так и вскрикнул Степан Трофимович, – точно его самого вдруг охлестнули нагайкой. – Какую сестру? Какой Лебядкин?
Давешний испуг воротился в одно мгновение.
– Лебядкин? А, это отставной капитан; прежде он только штабс-капитаном себя называл…
– Э, какое мне дело до чина! Какую сестру? Боже мой… вы говорите: Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин…
– Тот самый и есть, наш Лебядкин, вот, помните, у Виргинского?
– Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался?
– А вот и воротился, уж почти три недели и при самых особенных обстоятельствах.
– Да ведь это негодяй!
– Точно у нас и не может быть негодяя? – осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватенькими глазками Степана Трофимовича.
– Ах, боже мой, я совсем не про то… хотя, впрочем, о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать?.. Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать!
– Да всё это такие пустяки-с… то есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно затем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать, а та будто бы от него пряталась в неизвестном месте; ну а теперь привез, вот и вся история. Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я всё с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести, и за это вот господин Лебядкин, уже многие годы, будто бы с обольстителя ежегодную дань берет, в вознаграждение благородной обиды, так по крайней мере из его болтовни выходит – а по-моему, пьяные только слова-с. Просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно; полторы недели назад на босу ногу ходил, а теперь, сам видел, сотни в руках. У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее «в порядок приводит» нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занимают.
– Это всё правда? – обратился Степан Трофимович к инженеру.
– Вы очень болтаете, Липутин, – пробормотал тот гневно.
– Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось! – не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович.
Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты.
– Алексей Нилыч даже нагайку вырвали-с, изломали и в окошко выбросили, и очень поссорились, – прибавил Липутин.
– Зачем вы болтаете, Липутин, это глупо, зачем? – мигом повернулся опять Алексей Нилыч.
– Зачем же скрывать, из скромности, благороднейшие движения своей души, то есть вашей души-с, я не про свою говорю.
– Как это глупо… и совсем не нужно… Лебядкин глуп и совершенно пустой – и для действия бесполезный и… совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу.
– Ах, как жаль! – воскликнул Липутин с ясною улыбкой. – А то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешил-с. Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить, хотя вы, впрочем, наверно уж и сами слышали. Ну, да уж в другой раз, Алексей Нилыч так торопятся… До свиданья-с. С Варварой Петровной анекдотик-то вышел, насмешила она меня третьего дня, нарочно за мной посылала, просто умора. До свиданья-с.
Но уж тут Степан Трофимович так и вцепился в него: он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил.
– Да как же-с? – начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимовича с своего стула. – Вдруг призвали меня и спрашивают «конфиденциально», как я думаю в собственном мнении: помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме? Как же не удивительно?
– Вы с ума сошли! – пробормотал Степан Трофимович и вдруг точно вышел из себя: – Липутин, вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и… еще что-нибудь хуже!
В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем.
– Помилуйте, Степан Трофимович! – бормотал Липутин будто бы в ужасном испуге, – помилуйте…
– Молчите и начинайте! Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать, очень прошу! Садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто… и без малейших отговорок!
– Знал бы только, что это вас так фраппирует, так я бы совсем и не начал-с… А я-то ведь думал, что вам уже всё известно от самой Варвары Петровны!
– Совсем вы этого не думали! Начинайте, начинайте же, говорят вам!
– Только сделайте одолжение, присядьте уж и сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною… бегать. Нескладно выйдет-с.
Степан Трофимович сдержал себя и внушительно опустился в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них.
– Да что же начинать… так сконфузили…
– Вдруг третьего дня присылают ко мне своего человека: просят, дескать, побывать вас завтра в двенадцать часов. Можете представить? Я дело бросил и вчера ровнешенько в полдень звоню. Вводят меня прямо в гостиную; подождал с минутку – вышли; посадили, сами напротив сели. Сижу и верить отказываюсь; сами знаете, как она меня всегда третировала! Начинают прямо без изворотов, по их всегдашней манере: «Вы помните, говорит, что четыре года назад Николай Всеволодович, будучи в болезни, сделал несколько странных поступков, так что недоумевал весь город, пока всё объяснилось. Один из этих поступков касался вас лично. Николай Всеволодович тогда к вам заезжал по выздоровлении и по моей просьбе. Мне известно тоже, что он и прежде несколько раз с вами разговаривал. Скажите откровенно и прямодушно, как вы… (тут замялись немного) – как вы находили тогда Николая Всеволодовича… Как вы смотрели на него вообще… какое мнение о нем могли составить и… теперь имеете?..»
Тут уж совершенно замялись, так что даже переждали полную минутку, и вдруг покраснели. Я перепугался. Начинают опять не то чтобы трогательным, к ним это нейдет, а таким внушительным очень тоном:
«Я желаю, говорит, чтобы вы меня хорошо и безошибочно, говорит, поняли. Я послала теперь за вами, потому что считаю вас прозорливым и остроумным человеком, способным составить верное наблюдение (каковы комплименты!). Вы, говорит, поймете, конечно, и то, что с вами говорит мать… Николай Всеволодович испытал в жизни некоторые несчастия и многие перевороты. Всё это, говорит, могло повлиять на настроение ума его. Разумеется, говорит, я не говорю про помешательство, этого никогда быть не может! (твердо и с гордостию высказано). Но могло быть нечто странное, особенное, некоторый оборот мыслей, наклонность к некоторому особому воззрению (всё это точные слова их, и я подивился, Степан Трофимович, с какою точностию Варвара Петровна умеет объяснить дело. Высокого ума дама!). По крайней мере, говорит, я сама заметила в нем некоторое постоянное беспокойство и стремление к особенным наклонностям. Но я мать, а вы человек посторонний, значит, способны, при вашем уме, составить более независимое мнение. Умоляю вас, наконец (так и было выговорено: умоляю), сказать мне всю правду, безо всяких ужимок, и если вы при этом дадите мне обещание не забыть потом никогда, что я говорила с вами конфиденциально, то можете ожидать моей совершенной и впредь всегдашней готовности отблагодарить вас при всякой возможности». Ну-с, каково-с!
– Вы… вы так фраппировали меня… – пролепетал Степан Трофимович, – что я вам не верю…
– Нет, заметьте, заметьте, – подхватил Липутин, как бы и не слыхав Степана Трофимовича, – каково же должно быть волнение и беспокойство, когда с таким вопросом обращаются с такой высоты к такому человеку, как я, да еще снисходят до того, что сами просят секрета. Это что же-с? Уж не получили ли известий каких-нибудь о Николае Всеволодовиче неожиданных?
– Я не знаю… известий никаких… я несколько дней не видался, но… но замечу вам… – лепетал Степан Трофимович, видимо едва справляясь со своими мыслями, – но замечу вам, Липутин, что если вам передано конфиденциально, а вы теперь при всех…
– Совершенно конфиденциально! Да разрази меня бог, если я… А коли здесь… так ведь что же-с? Разве мы чужие, взять даже хоть бы и Алексея Нилыча?
– Я такого воззрения не разделяю; без сомнения, мы здесь трое сохраним секрет, но вас, четвертого, я боюсь и не верю вам ни в чем!
– Да что вы это-с? Да я пуще всех заинтересован, ведь мне вечная благодарность обещана! А вот я именно хотел, по сему же поводу, на чрезвычайно странный случай один указать, более, так сказать, психологический, чем просто странный. Вчера вечером, под влиянием разговора у Варвары Петровны (сами можете представить, какое впечатление на меня произвело), обратился я к Алексею Нилычу с отдаленным вопросом: вы, говорю, и за границей и в Петербурге еще прежде знали Николая Всеволодовича; как вы, говорю, его находите относительно ума и способностей? Они и отвечают этак лаконически, по их манере, что, дескать, тонкого ума и со здравым суждением, говорят, человек. А не заметили ли вы в течение лет, говорю, некоторого, говорю, как бы уклонения идей, или особенного оборота мыслей, или некоторого, говорю, как бы, так сказать, помешательства? Одним словом, повторяю вопрос самой Варвары Петровны. Представьте же себе: Алексей Нилыч вдруг задумались и сморщились вот точно так, как теперь: «Да, говорят, мне иногда казалось нечто странное». Заметьте при этом, что если уж Алексею Нилычу могло показаться нечто странное, то что же на самом-то деле может оказаться, а?
– Правда это? – обратился Степан Трофимович к Алексею Нилычу.
– Я желал бы не говорить об этом, – отвечал Алексей Нилыч, вдруг подымая голову и сверкая глазами, – я хочу оспорить ваше право, Липутин. Вы никакого не имеете права на этот случай про меня. Я вовсе не говорил моего всего мнения. Я хоть и знаком был в Петербурге, но это давно, а теперь хоть и встретил, но мало очень знаю Николая Ставрогина. Прошу вас меня устранить и… и всё это похоже на сплетню.
Липутин развел руками в виде угнетенной невинности.
– Сплетник! Да уж не шпион ли? Хорошо вам, Алексей Нилыч, критиковать, когда вы во всем себя устраняете. А вы вот не поверите, Степан Трофимович, чего уж, кажется-с, капитан Лебядкин, ведь уж, кажется, глуп как… то есть стыдно только сказать как глуп; есть такое одно русское сравнение, означающее степень; а ведь и он себя от Николая Всеволодовича обиженным почитает, хотя и преклоняется пред его остроумием: «Поражен, говорит, этим человеком: премудрый змий» (собственные слова). А я ему (всё под тем же вчерашним влиянием и уже после разговора с Алексеем Нилычем): а что, говорю, капитан, как вы полагаете с своей стороны, помешан ваш премудрый змий или нет? Так, верите ли, точно я его вдруг сзади кнутом схлестнул, без его позволения; просто привскочил с места: «Да, говорит… да, говорит, только это, говорит, не может повлиять…»; на что повлиять – не досказал; да так потом горестно задумался, так задумался, что и хмель соскочил. Мы в Филипповом трактире сидели-с. И только через полчаса разве ударил вдруг кулаком по столу: «Да, говорит, пожалуй, и помешан, только это не может повлиять…» – и опять не досказал, на что повлиять. Я вам, разумеется, только экстракт разговора передаю, но ведь мысль-то понятна; кого ни спроси, всем одна мысль приходит, хотя бы прежде никому и в голову не входила: «Да, говорят, помешан; очень умен, но, может быть, и помешан».
Степан Трофимович сидел в задумчивости и усиленно соображал.
– А почему Лебядкин знает?
– А об этом не угодно ли у Алексея Нилыча справиться, который меня сейчас здесь шпионом обозвал. Я шпион и – не знаю, а Алексей Нилыч знают всю подноготную и молчат-с.
– Я ничего не знаю, или мало, – с тем же раздражением отвечал инженер, – вы Лебядкина пьяным поите, чтоб узнавать. Вы и меня сюда привели, чтоб узнать и чтоб я сказал. Стало быть, вы шпион!
– Я еще его не поил-с, да и денег таких он не стоит, со всеми его тайнами, вот что они для меня значат, не знаю, как для вас. Напротив, это он деньгами сыплет, тогда как двенадцать дней назад ко мне приходил пятнадцать копеек выпрашивать, и это он меня шампанским поит, а не я его. Но вы мне мысль подаете, и коли надо будет, то и я его напою, и именно чтобы разузнать, и может, и разузнаю-с… секретики все ваши-с, – злобно отгрызнулся Липутин.
Степан Трофимович в недоумении смотрел на обоих спорщиков. Оба сами себя выдавали и, главное, не церемонились. Мне подумалось, что Липутин привел к нам этого Алексея Нилыча именно с целью втянуть его в нужный разговор чрез третье лицо, любимый его маневр.
– Алексей Нилыч слишком хорошо знают Николая Всеволодовича, – раздражительно продолжал он, – но только скрывают-с. А что вы спрашиваете про капитана Лебядкина, то тот раньше всех нас с ним познакомился, в Петербурге, лет пять или шесть тому, в ту малоизвестную, если можно так выразиться, эпоху жизни Николая Всеволодовича, когда еще он и не думал нас здесь приездом своим осчастливить. Наш принц, надо заключить, довольно странный тогда выбор знакомства в Петербурге около себя завел. Тогда вот и с Алексеем Нилычем, кажется, познакомились.
– Берегитесь, Липутин, предупреждаю вас, что Николай Всеволодович скоро сам сюда хотел быть, а он умеет за себя постоять.
– Так меня-то за что же-с? Я первый кричу, что тончайшего и изящнейшего ума человек, и Варвару Петровну вчера в этом смысле совсем успокоил. «Вот в характере его, говорю ей, не могу поручиться». Лебядкин тоже в одно слово вчера: «От характера его, говорит, пострадал». Эх, Степан Трофимович, хорошо вам кричать, что сплетни да шпионство, и заметьте, когда уже сами от меня всё выпытали, да еще с таким чрезмерным любопытством. А вот Варвара Петровна, так та прямо вчера в самую точку: «Вы, говорит, лично заинтересованы были в деле, потому к вам и обращаюсь». Да еще же бы нет-с! Какие уж тут цели, когда я личную обиду при всем обществе от его превосходительства скушал! Кажется, имею причины и не для одних сплетен поинтересоваться. Сегодня жмет вам руку, а завтра ни с того ни с сего, за хлеб-соль вашу, вас же бьет по щекам при всем честном обществе, как только ему полюбится. С жиру-с! А главное у них женский пол: мотыльки и храбрые петушки! Помещики с крылушками, как у древних амуров, Печорины-сердцееды! Вам хорошо, Степан Трофимович, холостяку завзятому, так говорить и за его превосходительство меня сплетником называть. А вот женились бы, так как вы и теперь еще такой молодец из себя, на хорошенькой да на молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери крючком заложите да баррикады в своем же доме выстроите! Да чего уж тут: вот только будь эта mademoiselle Лебядкина, которую секут кнутьями, не сумасшедшая и не кривоногая, так, ей-богу, подумал бы, что она-то и есть жертва страстей нашего генерала и что от этого самого и пострадал капитан Лебядкин «в своем фамильном достоинстве», как он сам выражается. Только разве вкусу их изящному противоречит, да для них и то не беда. Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалась под известное их настроение. Вы вот про сплетни, а разве я это кричу, когда уж весь город стучит, а я только слушаю да поддакиваю; поддакивать-то не запрещено-с.
– Город кричит? Об чем же кричит город?
– То есть это капитан Лебядкин кричит в пьяном виде на весь город, ну, а ведь это не всё ли равно, что вся площадь кричит? Чем же я виноват? Я интересуюсь только между друзей-с, потому что я все-таки здесь считаю себя между друзей-с, – с невинным видом обвел он нас глазами. – Тут случай вышел-с, сообразите-ка: выходит, что его превосходительство будто бы выслали еще из Швейцарии с одною наиблагороднейшею девицей и, так сказать, скромною сиротой, которую я имею честь знать, триста рублей для передачи капитану Лебядкину. А Лебядкин немного спустя получил точнейшее известие, от кого не скажу, но тоже от наиблагороднейшего лица, а стало быть достовернейшего, что не триста рублей, а тысяча была выслана!.. Стало быть, кричит Лебядкин, девица семьсот рублей у меня утащила, и вытребовать хочет чуть не полицейским порядком, по крайней мере угрожает и на весь город стучит…
– Это подло, подло от вас! – вскочил вдруг инженер со стула.
– Да ведь вы сами же и есть это наиблагороднейшее лицо, которое подтвердило Лебядкину от имени Николая Всеволодовича, что не триста, а тысяча рублей были высланы. Ведь мне сам капитан сообщил в пьяном виде.
– Это… это несчастное недоумение. Кто-нибудь ошибся и вышло… Это вздор, а вы подло!..
– Да и я хочу верить, что вздор, и с прискорбием слушаю, потому что, как хотите, наиблагороднейшая девушка замешана, во-первых, в семистах рублях, а во-вторых, в очевидных интимностях с Николаем Всеволодовичем. Да ведь его превосходительству что стоит девушку благороднейшую осрамить или чужую жену обесславить, подобно тому как тогда со мной казус вышел-с? Подвернется им полный великодушия человек, они и заставят его прикрыть своим честным именем чужие грехи. Так точно и я ведь вынес-с; я про себя говорю-с…
– Берегитесь, Липутин! – привстал с кресел Степан Трофимович и побледнел.
– Не верьте, не верьте! Кто-нибудь ошибся, а Лебядкин пьян… – восклицал инженер в невыразимом волнении, – всё объяснится, а я больше не могу… и считаю низостью… и довольно, довольно!
Он выбежал из комнаты.
– Так что же вы? Да ведь и я с вами! – всполохнулся Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нилычем.
Степан Трофимович постоял с минуту в раздумье, как-то не глядя посмотрел на меня, взял свою шляпу, палку и тихо пошел из комнаты. Я опять за ним, как и давеча. Выходя из ворот, он, заметив, что я провожаю его, сказал:
– Ах да, вы можете служить свидетелем… de l’accident. Vous m’accoinpagnerez, n’est-ce pas?[59]
– Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте, что может выйти?
С жалкою и потерянною улыбкой, – улыбкой стыда и совершенного отчаяния, и в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг приостанавливаясь:
– Не могу же я жениться на «чужих грехах»!
Я только и ждал этого слова. Наконец-то это заветное, скрываемое от меня словцо было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя:
– И такая грязная, такая… низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце и… еще до Липутина!
Он посмотрел на меня, не ответил и пошел тою же дорогой. Я не хотел отставать. Я хотел свидетельствовать пред Варварой Петровной. Я бы простил ему, если б он поверил только Липу-тину, по бабьему малодушию своему, но теперь уже ясно было, что он сам всё выдумал еще гораздо прежде Липутина, а Липутин только теперь подтвердил его подозрения и подлил масла в огонь. Он не задумался заподозрить девушку с самого первого дня; еще не имея никаких оснований, даже липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замазать свадьбой с почтенным человеком дворянские грешки ее бесценного Nicolas! Мне непременно хотелось, чтоб он был наказан за это.
– О! Dieu qui est si grand et si bon![60] О, кто меня успокоит! – воскликнул он, пройдя еще шагов сотню и вдруг остановившись.
– Пойдемте сейчас домой, и я вам всё объясню! – вскричал я, силой поворачивая его к дому.
– Это он! Степан Трофимович, это вы? Вы? – раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка подле нас.
Мы ничего не видали, а подле нас вдруг появилась наездница, Лизавета Николаевна, со своим всегдашним провожатым. Она остановила коня.
– Идите, идите же скорее! – звала она громко и весело. – Я двенадцать лет не видала его и узнала, а он… Неужто не узнаете меня?
Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал ее. Он глядел на нее как бы с молитвой и не мог выговорить слова.
– Узнал и рад! Маврикий Николаевич, он в восторге, что видит меня! Что же вы не шли все две недели? Тетя убеждала, что вы больны и что вас нельзя потревожить; но ведь я знаю, тетя лжет. Я всё топала ногами и вас бранила, но я непременно, непременно хотела, чтобы вы сами первый пришли, потому и не посылала. Боже, да он нисколько не переменился! – рассматривала она его, наклоняясь с седла, – он до смешного не переменился! Ах нет, есть морщинки, много морщинок у глаз и на щеках, и седые волосы есть, но глаза те же! А я переменилась? Переменилась? Но что же вы всё молчите?
Мне вспомнился в это мгновение рассказ о том, что она была чуть не больна, когда ее увезли одиннадцати лет в Петербург; в болезни будто бы плакала и спрашивала Степана Трофимовича.
– Вы… я… – лепетал он теперь обрывавшимся от радости голосом, – я сейчас вскричал: «Кто успокоит меня!» – и раздался ваш голос… Я считаю это чудом et je commence а croire.[61]
– En Dieu? En Dieu, qui est là-haut et qui est si grand et si bon?[62] Видите, я все ваши лекции наизусть помню. Маврикий Николаевич, какую он мне тогда веру преподавал en Dieu, qui est si grand et si bon! А помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку и как все закричали: «Земля, земля!» Няня Алена Фроловна говорит, что я после того ночью бредила и во сне кричала: «Земля, земля!» А помните, как вы мне историю принца Гамлета рассказывали? А помните, как вы мне описывали, как из Европы в Америку бедных эмигрантов перевозят? И всё-то неправда, я потом всё узнала, как перевозят, но как он мне хорошо лгал тогда, Маврикий Николаевич, почти лучше правды! Чего вы так смотрите на Маврикия Николаевича? Это самый лучший и самый верный человек на всем земном шаре, и вы его непременно должны полюбить, как меня! Il fait tout ce que je veux.[63] Но, голубчик Степан Трофимович, стало быть, вы опять несчастны, коли среди улицы кричите о том, кто вас успокоит? Несчастны, ведь так? Так?
– Теперь счастлив…
– Тетя обижает? – продолжала она не слушая, – всё та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тетя! А помните, как вы бросались ко мне в объятия в саду, а я вас утешала и плакала, – да не бойтесь же Маврикия Николаевича; он про вас всё, всё знает, давно, вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он сколько угодно будет стоять!.. Приподнимите шляпу, снимите совсем на минутку, протяните голову, станьте на цыпочки, я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз поцеловала, когда мы прощались. Видите, та барышня из окна на нас любуется… Ну, ближе, ближе. Боже, как он поседел!
И она, принагнувшись в седле, поцеловала его в лоб.
– Ну, теперь к вам домой! Я знаю, где вы живете. Я сейчас, сию минуту буду у вас. Я вам, упрямцу, сделаю первый визит и потом на целый день вас к себе затащу. Ступайте же, приготовьтесь встречать меня.
И она ускакала с своим кавалером. Мы воротились. Степан Трофимович сел на диван и заплакал.
– Dieu! Dieu![64] – восклицал он, – enfin une minute de bonheur![65]
He более как через десять минут она явилась по обещанию, в сопровождении своего Маврикия Николаевича.
– Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps![66] – поднялся он ей навстречу.
– Вот вам букет; сейчас ездила к madame Шевалье, у ней всю зиму для именинниц букеты будут. Вот вам и Маврикий Николаевич, прошу познакомиться. Я хотела было пирог вместо букета, но Маврикий Николаевич уверяет, что это не в русском духе.
Этот Маврикий Николаевич был артиллерийский капитан, лет тридцати трех, высокого росту господин, красивой и безукоризненно порядочной наружности, с внушительною и на первый взгляд даже строгою физиономией, несмотря на его удивительную и деликатнейшую доброту, о которой всякий получал понятие чуть не с первой минуты своего с ним знакомства. Он, впрочем, был молчалив, казался очень хладнокровен и на дружбу не напрашивался. Говорили потом у нас многие, что он недалек; это было не совсем справедливо.
Я не стану описывать красоту Лизаветы Николаевны. Весь город уже кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие, которые уже возненавидели Лизавету Николаевну, и, во-первых, за гордость: Дроздовы почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно было болезненное состояние Прасковьи Ивановны. Во-вторых, ненавидели ее за то, что она родственница губернаторши; в-третьих, за то, что она ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок; естественно, что появление Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что выдавалось в ней с первого взгляда – это ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство. Увы! бедняжка очень страдала, и всё объяснилось впоследствии. Теперь, вспоминая прошедшее, я уже не скажу, что она была красавица, какою казалась мне тогда. Может быть, она была даже и совсем нехороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки, криво; была бледна, скулиста, смугла и худа лицом; но было же нечто в этом лице побеждающее и привлекающее! Какое-то могущество сказывалось в горящем взгляде ее темных глаз; она являлась «как победительница и чтобы победить». Она казалась гордою, а иногда даже дерзкою; не знаю, удавалось ли ей быть доброю; но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы заставить себя быть несколько доброю. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний; но всё в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его, всё было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям.
Она села на диван и оглядывала комнату.
– Почему мне в этакие минуты всегда становится грустно, разгадайте, ученый человек? Я всю жизнь думала, что и бог знает как буду рада, когда вас увижу, и всё припомню, и вот совсем как будто не рада, несмотря на то что вас люблю… Ах, боже, у него висит мой портрет! Дайте сюда, я его помню, помню!
Превосходный миниатюрный портрет акварелью двенадцатилетней Лизы был выслан Дроздовыми Степану Трофимовичу из Петербурга еще лет девять назад. С тех пор он постоянно висел у него на стене.
– Неужто я была таким хорошеньким ребенком? Неужто это мое лицо?
Она встала и с портретом в руках посмотрелась в зеркало.
– Поскорей возьмите! – воскликнула она, отдавая портрет. – Не вешайте теперь, после, не хочу и смотреть на него. – Она села опять на диван. – Одна жизнь прошла, началась другая, потом другая прошла – началась третья, и всё без конца. Все концы, точно как ножницами, обрезывает. Видите, какие я старые вещи рассказываю, а ведь сколько правды!
Она, усмехнувшись, посмотрела на меня; уже несколько раз она на меня взглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении и забыл, что обещал меня представить.
– А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас столько кинжалов и сабель?
У него действительно висели на стене, не знаю для чего, два ятагана накрест, а над ними настоящая черкесская шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела, что я хотел было что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович догадался наконец и меня представил.
– Знаю, знаю, – сказала она, – я очень рада. Мама об вас тоже много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем, это прекрасный человек. Я об вас уже составила смешное понятие: ведь вы конфидент Степана Трофимовича?
Я покраснел.
– Ах, простите, пожалуйста, я совсем не то слово сказала; вовсе не смешное, а так… (Она покраснела и сконфузилась.) Впрочем, что же стыдиться того, что вы прекрасный человек? Ну, пора нам, Маврикий Николаевич! Степан Трофимович, через полчаса чтобы вы у нас были. Боже, сколько мы будем говорить! Теперь уж я ваш конфидент, и обо всем, обо всем, понимаете?
Степан Трофимович тотчас же испугался.
– О, Маврикий Николаевич всё знает, его не конфузьтесь!
– Что же знает?
– Да чего вы! – вскричала она в изумлении. – Ба, да ведь и правда, что они скрывают! Я верить не хотела. Дашу тоже скрывают. Тетя давеча меня не пустила к Даше, говорит, что у ней голова болит.
– Но… но как вы узнали?
– Ах, боже, так же, как и все. Эка мудрость!
– Да разве все?..
– Ну да как же? Мамаша, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню; ей ваша Настасья прибежала сказать. Ведь вы говорили же Настасье? Она говорит, что вы ей сами говорили.
– Я… я говорил однажды… – пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев, – но… я лишь намекнул… j’étais si nerveux et malade et puis…[67]
Она захохотала.
– А конфидента под рукой не случилось, а Настасья подвернулась, – ну и довольно! А у той целый город кумушек! Ну да полноте, ведь это всё равно; ну пусть знают, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано… Да, забыла, – уселась она опять, – слушайте, что такое Шатов?
– Шатов? Это брат Дарьи Павловны…
– Знаю, что брат, какой вы, право! – перебила она в нетерпении. – Я хочу знать, что он такое, какой человек?
– C’est un pense-creux d’ici. C’est le meilleur et le plus irascible homme du monde…[68]
– Я сама слышала, что он какой-то странный. Впрочем, не о том. Я слышала, что он знает три языка, и английский, и может литературною работой заниматься. В таком случае у меня для него много работы; мне нужен помощник, и чем скорее, тем лучше. Возьмет он работу или нет? Мне его рекомендовали…
– О, непременно, et vous fairez un bienfait…[69]
– Я вовсе не для bienfait, мне самой нужен помощник.
– Я довольно хорошо знаю Шатова, – сказал я, – и если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу.
– Передайте ему, чтоб он завтра утром пришел в двенадцать часов. Чудесно! Благодарю вас. Маврикий Николаевич, готовы?
Они уехали. Я, разумеется, тотчас же побежал к Шатову.
– Mon ami![70] – догнал меня на крыльце Степан Трофимович, – непременно будьте у меня в десять или в одиннадцать часов, когда я вернусь. О, я слишком, слишком виноват пред вами и… пред всеми, пред всеми.
Шатова я не застал дома; забежал через два часа – опять нет. Наконец, уже в восьмом часу я направился к нему, чтоб или застать его, или оставить записку; опять не застал. Квартира его была заперта, а он жил один, безо всякой прислуги. Мне было подумалось, не толкнуться ли вниз, к капитану Лебядкину, чтобы спросить о Шатове; но тут было тоже заперто, и ни слуху, ни свету оттуда, точно пустое место. Я с любопытством прошел мимо дверей Лебядкина, под влиянием давешних рассказов. В конце концов я решил зайти завтра пораньше. Да и на записку, правда, я не очень надеялся; Шатов мог пренебречь, он был такой упрямый, застенчивый. Проклиная неудачу и уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова; он входил в дом и первый узнал меня. Так как он сам начал расспрашивать, то я и рассказал ему всё в главных чертах и что у меня есть записка.
– Пойдемте, – сказал он, – я всё сделаю.
Я вспомнил, что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир, а эта старуха, кажется родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той, куда мы вошли, мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак: два ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас затеплила лампадку, а на стенах висели два больших тусклых масляных портрета: один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в двадцатых годах столетия; другой изображал какого-то архиерея.
Господин Кириллов, войдя, засветил свечу и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранного, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку.
– Запечатайте вашу записку и надпишите конверт.
Я было возразил, что не надо, но он настоял. Надписав конверт, я взял фуражку.
– А я думал, вы чаю, – сказал он, – я чай купил. Хотите?
Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные, грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахару.
– Я чай люблю, – сказал он, – ночью; много, хожу и пью; до рассвета. За границей чай ночью неудобно.
– Вы ложитесь на рассвете?
– Всегда; давно. Я мало ем; всё чай. Липутин хитер, но нетерпелив.
Меня удивило, что он хотел разговаривать; я решился воспользоваться минутой.
– Давеча вышли неприятные недоразумения, – заметил я. Он очень нахмурился.
– Это глупость; это большие пустяки. Тут всё пустяки, потому что Лебядкин пьян. Я Липутину не говорил, а только объяснил пустяки; потому что тот переврал. У Липутина много фантазии, вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину верил.
– А сегодня мне? – засмеялся я.
– Да ведь вы уже про всё знаете давеча. Липутин или слаб, или нетерпелив, или вреден, или… завидует.
Последнее словцо меня поразило.
– Впрочем, вы столько категорий наставили, не мудрено, что под которую-нибудь и подойдет.
– Или ко всем вместе.
– Да, и это правда. Липутин – это хаос! Правда, он врал давеча, что вы хотите какое-то сочинение писать?
– Почему же врал? – нахмурился он опять, уставившись в землю.
Я извинился и стал уверять, что не выпытываю. Он покраснел.
– Он правду говорил; я пишу. Только это всё равно.
С минуту помолчали; он вдруг улыбнулся давешнею детскою улыбкой.
– Он это про головы сам выдумал, из книги, и сам сначала мне говорил, и понимает худо, а я только ищу причины, почему люди не смеют убить себя; вот и всё. И это всё равно.
– Как не смеют? Разве мало самоубийств?
– Очень мало.
– Неужели вы так находите?
Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед.
– Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства? – спросил я.
Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, об чем мы говорили.
– Я… я еще мало знаю… два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна очень маленькая, другая очень большая, Но и маленькая тоже очень большая.
– Какая же маленькая-то?
– Боль.
– Боль? Неужто это так важно… в этом случае?
– Самое первое. Есть два рода: те, которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там всё равно… те вдруг. Те мало о боли думают, а вдруг. А которые с рассудка – те много думают.
– Да разве есть такие, что с рассудка?
– Очень много. Если б предрассудка не было, было бы больше; очень много; все.
– Ну уж и все?
Он промолчал.
– Да разве нет способов умирать без боли?
– Представьте, – остановился он предо мною, – представьте камень такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову – будет вам больно?
– Камень с дом? Конечно, страшно.
– Я не про страх; будет больно?
– Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ничего не больно.
– А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все, все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно.
– Ну, а вторая причина, большая-то?
– Тот свет.
– То есть наказание?
– Это всё равно. Тот свет; один тот свет.
– Разве нет таких атеистов, что совсем не верят в тот свет?
Опять он промолчал.
– Вы, может быть, по себе судите?
– Всякий не может судить как по себе, – проговорил он покраснев. – Вся свобода будет тогда, когда будет всё равно, жить или не жить. Вот всему цель.
– Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?
– Никто, – произнес он решительно.
– Человек смерти боится, потому что жизнь любит, вот как я понимаю, – заметил я, – и так природа велела.
– Это подло, и тут весь обман! – глаза его засверкали. – Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь всё боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет всё равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. А тот бог не будет.
– Стало быть, тот бог есть же, по-вашему?
– Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, всё новое… Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до…
– До гориллы?
– …До перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?
– Если будет всё равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет.
– Это всё равно. Обман убьют. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут всё, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот бог. Теперь всякий может сделать, что бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.
– Самоубийц миллионы были.
– Но всё не затем, всё со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.
– Не успеет, может быть, – заметил я.
– Это всё равно, – ответил он тихо, с покойною гордостью, чуть не с презрением. – Мне жаль, что вы как будто смеетесь, – прибавил он через полминуты.
– А мне странно, что вы давеча были так раздражительны, а теперь так спокойны, хотя и горячо говорите.
– Давеча? Давеча было смешно, – ответил он с улыбкой, – я не люблю бранить и никогда не смеюсь, – прибавил он грустно.
– Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем. – Я встал и взял фуражку.
– Вы думаете? – улыбнулся он с некоторым удивлением. – Почему же? Нет, я… я не знаю, – смешался он вдруг, – не знаю, как у других, и я так чувствую, что не могу, как всякий. Всякий думает и потом сейчас о другом думает. Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня бог всю жизнь мучил, – заключил он вдруг с удивительною экспансивностью.
– А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в пять лет разучились?
– Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил… мне всё равно.
– Еще вопрос более деликатный: я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговорились?
– С вами? Вы давеча хорошо сидели и вы… впрочем, всё равно… вы на моего брата очень похожи, много, чрезвычайно, – проговорил он покраснев, – он семь лет умер; старший, очень, очень много.
– Должно быть, имел большое влияние на ваш образ мыслей.
– Н-нет, он мало говорил; он ничего не говорил. Я вашу записку отдам.
Он проводил меня с фонарем до ворот, чтобы запереть за мной. «Разумеется, помешанный», – решил я про себя. В воротах произошла новая встреча.
Только что я занес ногу за высокий порог калитки, вдруг чья-то сильная рука схватила меня за грудь.
– Кто сей? – взревел чей-то голос, – друг или недруг? Кайся!
– Это наш, наш! – завизжал подле голосок Липутина, – это господин Г—в, классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек.
– Люблю, коли с обществом, кла-сси-чес… значит, о-бра-зо-о-ваннейший… отставной капитан Игнат Лебядкин, к услугам мира и друзей… если верны, если верны, подлецы!
Капитан Лебядкин, вершков десяти росту, толстый, мясистый, курчавый, красный и чрезвычайно пьяный, едва стоял предо мной и с трудом выговаривал слова. Я, впрочем, его и прежде видал издали.
– А, и этот! – взревел он опять, заметив Кириллова, который всё еще не уходил с своим фонарем; он поднял было кулак, но тотчас опустил его.
– Прощаю за ученость! Игнат Лебядкин – образо-о-ваннейший…
– Хоть в Севастополе не был и даже не безрукий, но каковы же рифмы! – лез он ко мне с своею пьяною рожей.
– Им некогда, некогда, они домой пойдут, – уговаривал Липутин, – они завтра Лизавете Николаевне перескажут.
– Лизавете!.. – завопил он опять, – стой-нейди! Варьянт:
«Звезде-амазонке».
– Да ведь это же гимн! Это гимн, если ты не осел! Бездельники не понимают! Стой! – уцепился он за мое пальто, хотя я рвался изо всех сил в калитку. – Передай, что я рыцарь чести, а Дашка… Дашку я двумя пальцами… крепостная раба и не смеет…
Тут он упал, потому что я с силой вырвался у него из рук и побежал по улице. Липутин увязался за мной.
– Его Алексей Нилыч подымут. Знаете ли, что я сейчас от него узнал? – болтал он впопыхах. – Стишки-то слышали? Ну, вот он эти самые стихи к «Звезде-амазонке» запечатал и завтра посылает к Лизавете Николаевне за своею полною подписью. Каков!
– Бьюсь об заклад, что вы его сами подговорили.
– Проиграете! – захохотал Липутин. – Влюблен, влюблен как кошка, а знаете ли, что началось ведь с ненависти. Он до того сперва возненавидел Лизавету Николаевну за то, что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице; да и ругал же! Еще третьего дня выругал, когда она проезжала, – к счастью, не расслышала, и вдруг сегодня стихи! Знаете ли, что он хочет рискнуть предложение? Серьезно, серьезно!
– Я вам удивляюсь, Липутин, везде-то вы вот, где только этакая дрянь заведется, везде-то вы тут руководите! – проговорил я в ярости.
– Однако же вы далеко заходите, господин Г—в; не сердчишко ли у нас екнуло, испугавшись соперника, – а?
– Что-о-о? – закричал я, останавливаясь.
– А вот же вам в наказание и ничего не скажу дальше! А ведь как бы вам хотелось услышать? Уж одно то, что этот дуралей теперь не простой капитан, а помещик нашей губернии, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему всё свое поместье, бывшие свои двести душ на днях продали, и вот же вам бог, не лгу! сейчас узнал, но зато из наивернейшего источника. Ну, а теперь дощупывайтесь-ка сами; больше ничего не скажу; до свиданья-с!
Степан Трофимович ждал меня в истерическом нетерпении. Уже с час как он воротился. Я застал его как бы пьяного; первые пять минут по крайней мере я думал, что он пьян. Увы, визит к Дроздовым сбил его с последнего толку.
– Mon ami, я совсем потерял мою нитку… Lise… я люблю и уважаю этого ангела по-прежнему; именно по-прежнему; но, мне кажется, они ждали меня обе, единственно чтобы кое-что выведать, то есть попросту вытянуть из меня, а там и ступай себе с богом… Это так.
– Как вам не стыдно! – вскричал я, не вытерпев.
– Друг мой, я теперь совершенно один. Enfin, c’est ridicule.[71] Представьте, что и там всё это напичкано тайнами. Так на меня и накинулись об этих носах и ушах и еще о каких-то петербургских тайнах. Они ведь обе только здесь в первый раз проведали об этих здешних историях с Nicolas четыре года назад: «Вы тут были, вы видели, правда ли, что он сумасшедший?» И откуда эта идея вышла, не понимаю. Почему Прасковье непременно так хочется, чтобы Nicolas оказался сумасшедшим? Хочется этой женщине, хочется! Се Maurice,[72] или, как его, Маврикий Николаевич, brave homme tout de même,[73] но неужели в его пользу, и после того как сама же первая писала из Парижа к cette pauvre amie[74] … Enfin, эта Прасковья, как называет ее cette chère amie,[75] это тип, это бессмертной памяти Гоголева Коробочка, но только злая Коробочка, задорная Коробочка и в бесконечно увеличенном виде.
– Да ведь это сундук выйдет; уж и в увеличенном?
– Ну, в уменьшенном, всё равно, только не перебивайте, потому что у меня всё это вертится. Там они совсем расплевались; кроме Lise; та всё еще: «Тетя, тетя», но Lise хитра, и тут еще что-то есть. Тайны. Но со старухой рассорились. Cette pauvre[76] тетя, правда, всех деспотирует… а тут и губернаторша, и непочтительность общества, и «непочтительность» Кармазинова; а тут вдруг эта мысль о помешательстве, се Lipoutine, ce que je ne comprends pas,[77] и-и, говорят, голову уксусом обмочила, а тут и мы с вами, с нашими жалобами и с нашими письмами… О, как я мучил ее, и в такое время! Je suis un ingrat![78] Вообразите, возвращаюсь и нахожу от нее письмо; читайте, читайте! О, как неблагородно было с моей стороны.
Он подал мне только что полученное письмо от Варвары Петровны. Она, кажется, раскаялась в утрешнем своем: «Сидите дома». Письмецо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. Послезавтра, в воскресенье, она просила к себе Степана Трофимовича ровно в двенадцать часов и советовала привести с собой кого-нибудь из друзей своих (в скобках стояло мое имя). С своей стороны, обещалась позвать Шатова, как брата Дарьи Павловны. «Вы можете получить от нее окончательный ответ, довольно ли с вас будет? Этой ли формальности вы так добивались?»
– Заметьте эту раздражительную фразу в конце о формальности. Бедная, бедная, друг всей моей жизни! Признаюсь, это внезапное решение судьбы меня точно придавило… Я, признаюсь, всё еще надеялся, а теперь tout est dit,[79] я уж знаю, что кончено; c’est terrible.[80] О, кабы не было совсем этого воскресенья, а всё по-старому: вы бы ходили, а я бы тут…
– Вас сбили с толку все эти давешние липутинские мерзости, сплетни.
– Друг мой, вы сейчас попали в другое больное место, вашим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостны, а иногда бестолковы, pardon,[81] но, вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом, о мерзостях-то, то есть я вовсе не забыл, но я, по глупости моей, всё время, пока был у Lise, старался быть счастливым и уверял себя, что я счастлив. Но теперь… о, теперь я про эту великодушную, гуманную, терпеливую к моим подлым недостаткам женщину, – то есть хоть и не совсем терпеливую, но ведь и сам-то я каков, с моим пустым, скверным характером! Ведь я блажной ребенок, со всем эгоизмом ребенка, но без его невинности. Она двадцать лет ходила за мной, как нянька, cette pauvre тетя, как грациозно называет ее Lise… И вдруг, после двадцати лет, ребенок захотел жениться, жени да жени, письмо за письмом, а у ней голова в уксусе и… и вот и достиг, в воскресенье женатый человек, шутка сказать… И чего сам настаивал, ну зачем я письма писал? Да, забыл: Lise боготворит Дарью Павловну, говорит по крайней мере; говорит про нее: «C’est un ange,[82] но только несколько скрытный». Обе советовали, даже Прасковья… впрочем, Прасковья не советовала. О, сколько яду заперто в этой Коробочке! Да и Lise, собственно, не советовала: «К чему вам жениться; довольно с вас и ученых наслаждений». Хохочет. Я ей простил ее хохот, потому что у ней у самой скребет на сердце. Вам, однако, говорят они, без женщины невозможно. Приближаются ваши немощи, а она вас укроет, или как там… Ma foi,[83] я и сам, всё это время с вами сидя, думал про себя, что провидение посылает ее на склоне бурных дней моих и что она меня укроет, или как там… enfin,[84] понадобится в хозяйстве. Вон у меня такой сор, вон, смотрите, всё это валяется, давеча велел прибрать, и книга на полу. La pauvre amie всё сердилась, что у меня сор… О, теперь уж не будет раздаваться голос ее! Vingt ans![85] И-и у них, кажется, анонимные письма, вообразите, Nicolas продал будто бы Лебядкину имение. C’est un monstre; et enfin,[86] кто такой Лебядкин? Lise слушает, слушает, ух как она слушает! Я простил ей ее хохот, я видел, с каким лицом она слушала, и се Maurice… я бы не желал быть в его теперешней роли, brave homme tout de même, но несколько застенчив; впрочем, бог с ним…
Он замолчал; он устал и сбился и сидел, понурив голову, смотря неподвижно в пол усталыми глазами. Я воспользовался промежутком и рассказал о моем посещении дома Филиппова, причем резко и сухо выразил мое мнение, что действительно сестра Лебядкина (которую я не видал) могла быть когда-то какой-нибудь жертвой Nicolas, в загадочную пору его жизни, как выражался Липутин, и что очень может быть, что Лебядкин почему-нибудь получает с Nicolas деньги, но вот и всё. Насчет же сплетен о Дарье Павловне, то всё это вздор, всё это натяжки мерзавца Липутина, и что так по крайней мере с жаром утверждает Алексей Нилыч, которому нет оснований не верить. Степан Трофимович прослушал мои уверения с рассеянным видом, как будто до него не касалось. Я кстати упомянул и о разговоре моем с Кирилловым и прибавил, что Кириллов, может быть, сумасшедший.
– Он не сумасшедший, но это люди с коротенькими мыслями, – вяло и как бы нехотя промямлил он. – Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autres que Dieu ne les a faites et qu’elles ne sont réelement.[87] С ними заигрывают, но по крайней мере не Степан Верховенский. Я видел их тогда в Петербурге, avec cette chère amie (о, как я тогда оскорблял ее!), и не только их ругательств, – я даже их похвал не испугался. Не испугаюсь и теперь, mais parlons d’autre chose[88]… я, кажется, ужасных вещей наделал; вообразите, я отослал Дарье Павловне вчера письмо и… как я кляну себя за это!
– О чем же вы писали?
– О друг мой, поверьте, что всё это с таким благородством. Я уведомил ее, что я написал к Nicolas, еще дней пять назад, и тоже с благородством.
– Понимаю теперь! – вскричал я с жаром. – И какое право имели вы их так сопоставить?
– Но, mon cher, не давите же меня окончательно, не кричите на меня; я и то весь раздавлен, как… как таракан, и, наконец, я думаю, что всё это так благородно. Предположите, что там что-нибудь действительно было… en Suisse[89]… или начиналось. Должен же я спросить сердца их предварительно, чтобы… enfin, чтобы не помешать сердцам и не стать столбом на их дороге… Я единственно из благородства.
– О боже, как вы глупо сделали! – невольно сорвалось у меня.
– Глупо, глупо! – подхватил он даже с жадностию. – Никогда ничего не сказали вы умнее, c’était bête, mais que faire, tout est dit.[90] Всё равно женюсь, хоть и на «чужих грехах», так к чему же было и писать? Не правда ли?
– Вы опять за то же!
– О, теперь меня не испугаете вашим криком, теперь пред вами уже не тот Степан Верховенский; тот похоронен; enfin, tout est dit.[91] Да и чего кричите вы? Единственно потому, что не сами женитесь и не вам придется носить известное головное украшение. Опять вас коробит? Бедный друг мой, вы не знаете женщину, а я только и делал, что изучал ее. «Если хочешь победить весь мир, победи себя», – единственно, что удалось хорошо указать другому такому же, как и вы, романтику, Шатову, братцу супруги моей. Охотно у него заимствую его изречение. Ну, вот и я готов победить себя, и женюсь, а между тем что завоюю вместо целого-то мира? О друг мой, брак – это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию, мужество в служении делу, пойдут дети, еще, пожалуй, не мои, то есть разумеется, не мои; мудрый не боится заглянуть в лицо истине… Липутин предлагал давеча спастись от Nicolas баррикадами; он глуп, Липутин. Женщина обманет само всевидящее око. Le bon Dieu,[92] создавая женщину, уж конечно, знал, чему подвергался, но я уверен, что она сама помешала ему и сама заставила себя создать в таком виде и… с такими атрибутами; иначе кто же захотел наживать себе такие хлопоты даром? Настасья, я знаю, может, и рассердится на меня за вольнодумство, но… Enfin, tout est dit.
Он не был бы сам собою, если бы обошелся без дешевенького, каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, по крайней мере теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго.
– О, почему бы совсем не быть этому послезавтра, этому воскресенью! – воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии, – почему бы не быть хоть одной этой неделе без воскресенья – si le miracle existe?[93] Ну что бы стоило провидению вычеркнуть из календаря хоть одно воскресенье, ну хоть для того, чтобы доказать атеисту свое могущество, et que tout soit dit![94] О, как я любил ee! двадцать лет, все двадцать лет, и никогда-то она не понимала меня!
– Но про кого вы говорите; и я вас не понимаю! – спросил я с удивлением.
– Vingt ans! И ни разу не поняла меня, о, это жестоко! И неужели она думает, что я женюсь из страха, из нужды? О позор! тетя, тетя, я для тебя!.. О, пусть узнает она, эта тетя, что она единственная женщина, которую я обожал двадцать лет! Она должна узнать это, иначе не будет, иначе только силой потащат меня под этот се qu’on appelle le[95] венец!
Я в первый раз слышал это признание и так энергически высказанное. Не скрою, что мне ужасно хотелось засмеяться. Я был не прав.
– Один, один он мне остался теперь, одна надежда моя! – всплеснул он вдруг руками, как бы внезапно пораженный новою мыслию, – теперь один только он, мой бедный мальчик, спасет меня и – о, что же он не едет! О сын мой, о мой Петруша… и хоть я недостоин названия отца, а скорее тигра, но… laissez-moi, mon ami,[96] я немножко полежу, чтобы собраться с мыслями. Я так устал, так устал, да и вам, я думаю, пора спать, voyez-vous,[97] двенадцать часов…
Глава четвертая
Хромоножка
Шатов не заупрямился и, по записке моей, явился в полдень к Лизавете Николаевне. Мы вошли почти вместе; я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то есть Лиза, мама и Маврикий Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мама требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стала уверять, что вальс не тот. Маврикий Николаевич, по простоте своей, заступился за Лизу и стал уверять, что вальс тот самый; старуха со злости расплакалась. Она была больна и с трудом даже ходила. У ней распухли ноги, и вот уже несколько дней только и делала, что капризничала и ко всем придиралась, несмотря на то что Лизу всегда побаивалась. Приходу нашему обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия и, проговорив мне merci, конечно за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая.
Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, она подвела его к мама.
– Это господин Шатов, про которого я вам говорила, а это вот господин Г– в, большой друг мне и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился.
– А который профессор?
– А профессора вовсе и нет, мама.
– Нет, есть, ты сама говорила, что будет профессор; верно, вот этот, – она брезгливо указала на Шатова.
– Вовсе никогда я вам не говорила, что будет профессор. Господин Г—в служит, а господин Шатов – бывший студент.
– Студент, профессор, всё одно из университета. Тебе только бы спорить. А швейцарский был в усах и с бородкой.
– Это мама сына Степана Трофимовича всё профессором называет, – сказала Лиза и увела Шатова на другой конец залы на диван.
– Когда у ней ноги распухнут, она всегда такая, вы понимаете, больная, – шепнула она Шатову, продолжая рассматривать его всё с тем же чрезвычайным любопытством и особенно его вихор на голове.
– Вы военный? – обратилась ко мне старуха, с которою меня так безжалостно бросила Лиза.
– Нет-с, я служу…
– Господин Г—в большой друг Степана Трофимовича, – отозвалась тотчас же Лиза.
– Служите у Степана Трофимовича? Да ведь и он профессор?
– Ах, мама, вам, верно, и ночью снятся профессора, – с досадой крикнула Лиза.
– Слишком довольно и наяву. А ты вечно чтобы матери противоречить. Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, были, четыре года назад?
Я отвечал, что был.
– А англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами?
– Нет, не был.
Лиза засмеялась.
– А, видишь, что и не было совсем англичанина, стало быть, враки. И Варвара Петровна и Степан Трофимович оба врут. Да и все врут.
– Это тетя и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гарри, у Шекспира в «Генрихе IV», и мама на это говорит, что не было англичанина, – объяснила нам Лиза.
– Коли Гарри не было, так и англичанина не было. Один Николай Всеволодович куролесил.
– Уверяю вас, что это мама нарочно, – нашла нужным объяснить Шатову Лиза, – она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт «Отелло» читала; но она теперь очень страдает. Мама, слышите, двенадцать часов бьет, вам лекарство принимать пора.
– Доктор приехал, – появилась в дверях горничная.
Старуха привстала и начала звать собачку: «Земирка, Земирка, пойдем хоть ты со мной».
Скверная, старая, маленькая собачонка Земирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза.
– Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени-отчества, – обратилась она ко мне.
– Антон Лаврентьевич…
– Ну всё равно, у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич, я только Земирку звала. Слава богу, еще и сама хожу, а завтра гулять поеду.
Она сердито вышла из залы.
– Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем, уверяю вас, что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь, – сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от ее взгляда. Я, нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем.
Дело у Лизаветы Николаевны до Шатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только литературным. Не знаю почему, но мне всё думалось, что она звала его за чем-то другим. Мы, то есть я с Маврикием Николаевичем, видя, что от нас не таятся и говорят очень громко, стали прислушиваться; потом и нас пригласили в совет. Всё состояло в том, что Лизавета Николаевна давно уже задумала издание одной полезной, по ее мнению, книги, но по совершенной неопытности нуждалась в сотруднике. Серьезность, с которою она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня изумила. «Должно быть, из новых, – подумал я, – недаром в Швейцарии побывала». Шатов слушал со вниманием, уткнув глаза в землю и без малейшего удивления тому, что светская рассеянная барышня берется за такие, казалось бы, неподходящие ей дела.
Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия? А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся.
– Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и всё, – заметил Шатов.
Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел, несмотря на трудность и неумелость высказаться. Книга должна быть одна, даже не очень толстая, – уверяла она. Но, положим, хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно, не всё собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы, всё это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить. Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, всё может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху; всё войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею всё целое, всю совокупность. И наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходима для справок! Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. «Нужно, чтобы все покупали, нужно, чтобы книга обратилась в настольную, – утверждала Лиза, – я понимаю, что всё дело в плане, а потому к вам и обращаюсь», – заключила она. Она очень разгорячилась, и, несмотря на то что объяснялась темно и неполно, Шатов стал понимать.
– Значит, выйдет нечто с направлением, подбор фактов под известное направление, – пробормотал он, все еще не поднимая головы.
– Отнюдь нет, не надо подбирать под направление, и никакого направления не надо. Одно беспристрастие – вот направление.
– Да направление и не беда, – зашевелился Шатов, – да и нельзя его избежать, чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь подбор. В подборе фактов и будет указание, как их понимать. Ваша идея недурна.
– Так возможна, стало быть, такая книга? – обрадовалась Лиза.
– Надо посмотреть и сообразить. Дело это – огромное. Сразу ничего не выдумаешь. Опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли еще научимся, как ее издавать. Разве после многих опытов; но мысль наклевывается. Мысль полезная.
Он поднял наконец глаза, и они даже засияли от удовольствия, так он был заинтересован.
– Это вы сами выдумали? – ласково и как бы стыдливо спросил он у Лизы.
– Да ведь выдумать не беда, план беда, – улыбалась Лиза, – я мало понимаю, и не очень умна, и преследую только то, что мне самой ясно…
– Преследуете?
– Вероятно, не то слово? – быстро осведомилась Лиза.
– Можно и это слово; я ничего.
– Мне показалось еще за границей, что можно и мне быть чем-нибудь полезною. Деньги у меня свои и даром лежат, почему же и мне не поработать для общего дела? К тому же мысль как-то сама собой вдруг пришла; я нисколько ее не выдумывала и очень ей обрадовалась; но сейчас увидала, что нельзя без сотрудника, потому что ничего сама не умею. Сотрудник, разумеется, станет и соиздателем книги. Мы пополам: ваш план и работа, моя первоначальная мысль и средства к изданию. Ведь окупится книга?
– Если откопаем верный план, то книга пойдет.
– Предупреждаю вас, что я не для барышей, но очень желаю расходу книги и буду горда барышами.
– Ну, а я тут при чем?
– Да ведь я же вас и зову в сотрудники… пополам. Вы план выдумаете.
– Почем же вы знаете, что я в состоянии план выдумать?
– Мне о вас говорили, и здесь я слышала… я знаю, что вы очень умны и… занимаетесь делом и… думаете много; мне о вас Петр Степанович Верховенский в Швейцарии говорил, – торопливо прибавила она. – Он очень умный человек, не правда ли?
Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел на нее, но тотчас же опустил глаза.
– Мне и Николай Всеволодович о вас тоже много говорил…
Шатов вдруг покраснел.
– Впрочем, вот газеты, – торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку газет, – я здесь попробовала на выбор отметить факты, подбор сделать и нумера поставила… вы увидите.
Шатов взял сверток.
– Возьмите домой, посмотрите, вы ведь где живете?
– В Богоявленской улице, в доме Филиппова.
– Я знаю. Там тоже, говорят, кажется какой-то капитан живет подле вас, господин Лебядкин? – всё по-прежнему торопилась Лиза.
Шатов с пачкой в руке, на отлете, как взял, так и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю.
– На эти дела вы бы выбрали другого, а я вам вовсе не годен буду, – проговорил он наконец, как-то ужасно странно понизив голос, почти шепотом.
Лиза вспыхнула.
– Про какие дела вы говорите? Маврикий Николаевич! – крикнула она, – пожалуйте сюда давешнее письмо.
Я тоже за Маврикием Николаевичем подошел к столу.
– Посмотрите это, – обратилась она вдруг ко мне, в большом волнении развертывая письмо. – Видали ли вы когда что-нибудь похожее? Пожалуйста, прочтите вслух; мне надо, чтоб и господин Шатов слышал.
С немалым изумлением прочел я вслух следующее послание:
«Совершенству девицы Тушиной.
Милостивая государыня,
Елизавета Николаевна!
Составил неученый за спором.
- О, как мила она,
- Елизавета Тушина,
- Когда с родственником на дамском седле летает,
- А локон ее с ветрами играет,
- Или когда с матерью в церкви падает ниц,
- И зрится румянец благоговейных лиц!
- Тогда брачных и законных наслаждений желаю
- И вслед ей, вместе с матерью, слезу посылаю.
Милостивая государыня!
Всех более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю кампанию по сдаче подлого провианта, считая низостью. Вы богиня в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Смотрите как на стихи, но не более, ибо стихи все-таки вздор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в микроскоп? Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострадая по праву собаке и лошади, презирает краткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я. Мысль о браке показалась бы уморительною; но скоро буду иметь бывшие двести душ чрез человеконенавистника, которого презирайте. Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от инфузории разуметь в стихах.
Капитан Лебядкин,покорнейший друг и имеет досуг».
– Это писал человек в пьяном виде и негодяй! – вскричал я в негодовании. – Я его знаю!
– Это письмо я получила вчера, – покраснев и торопясь стала объяснять нам Лиза, – я тотчас же и сама поняла, что от какого-нибудь глупца; и до сих пор еще не показала maman, чтобы не расстроить ее еще более. Но если он будет опять продолжать, то я не знаю, как сделать. Маврикий Николаевич хочет сходить запретить ему. Так как я на вас смотрела как на сотрудника, – обратилась она к Шатову, – и так как вы там живете, то я и хотела вас расспросить, чтобы судить, чего еще от него ожидать можно.
– Пьяный человек и негодяй, – пробормотал как бы нехотя Шатов.
– Что ж, он всё такой глупый?
– И, нет, он не глупый совсем, когда не пьяный.
– Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь такие стихи, – заметил я смеясь.
– Даже и по этому письму видно, что себе на уме, – неожиданно ввернул молчаливый Маврикий Николаевич.
– Он, говорят, с какой-то сестрой? – спросила Лиза.
– Да, с сестрой.
– Он, говорят, ее тиранит, правда это?
Шатов опять поглядел на Лизу, насупился и, проворчав: «Какое мне дело!» – подвинулся к дверям.
– Ах, постойте, – тревожно вскричала Лиза, – куда же вы? Нам так много еще остается переговорить…
– О чем же говорить? Я завтра дам знать…
– Да о самом главном, о типографии! Поверьте же, что я не в шутку, а серьезно хочу дело делать, – уверяла Лиза всё в возрастающей тревоге. – Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедем, а в здешней типографии невозможно для такого издания. Я давно решилась завести свою типографию, на ваше хоть имя, и мама, я знаю, позволит, если только на ваше имя…
– Почему же вы знаете, что я могу быть типографщиком? – угрюмо спросил Шатов.
– Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать, да я забыла.
Шатов, как припоминаю теперь, изменился в лице. Он постоял еще несколько секунд и вдруг вышел из комнаты.
Лиза рассердилась.
– Он всегда так выходит? – повернулась она ко мне.
Я пожал было плечами, но Шатов вдруг воротился, прямо подошел к столу и положил взятый им сверток газет:
– Я не буду сотрудником, не имею времени…
– Почему же, почему же? Вы, кажется, рассердились? – огорченным и умоляющим голосом спрашивала Лиза.
Звук ее голоса как будто поразил его; несколько мгновений он пристально в нее всматривался, точно желая проникнуть в самую ее душу.
– Всё равно, – пробормотал он тихо, – я не хочу…
И ушел совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в меру; так показалось мне.
– Удивительно странный человек! – громко заметил Маврикий Николаевич.
Конечно, «странный», но во всем этом было чрезвычайно много неясного. Тут что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию; потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос «по документам» и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом; наконец, эта типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Всё это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то произошло и о чем я не знаю; что, стало быть, я лишний и что всё это не мое дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого визита. Я подошел откланяться Лизавете Николаевне.
Она, кажется, и забыла, что я в комнате, и стояла всё на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну выбранную на ковре точку.
– Ах и вы, до свидания, – пролепетала она привычно-ласковым тоном. – Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его прийти ко мне поскорей. Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мама не может выйти с вами проститься…
Я вышел и даже сошел уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце:
– Барыня очень просили воротиться…
– Барыня или Лизавета Николаевна?
– Оне-с.
Я нашел Лизу уже не в той большой зале, где мы сидели, а в ближайшей приемной комнате. В ту залу, в которой остался теперь Маврикий Николаевич один, дверь была притворена наглухо.
Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в видимой нерешимости, в видимой борьбе; но вдруг взяла меня за руку и молча, быстро подвела к окну.
– Я немедленно хочу ее видеть, – прошептала она, устремив на меня горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени противоречия, – я должна ее видеть собственными глазами и прошу вашей помощи.
Она была в совершенном исступлении и – в отчаянии.
– Кого вы желаете видеть, Лизавета Николаевна? – осведомился я в испуге.
– Эту Лебядкину, эту хромую… Правда, что она хромая?
Я был поражен.
– Я никогда не видал ее, но я слышал, что она хромая, вчера еще слышал, – лепетал я с торопливою готовностию и тоже шепотом.
– Я должна ее видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же?
Мне стало ужасно ее жалко.
– Это невозможно, и к тому же я совершенно не понимал бы, как это сделать, – начал было я уговаривать, – я пойду к Шатову…
– Если вы не устроите к завтраму, то я сама к ней пойду, одна, потому что Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня нет никого; я глупо говорила с Шатовым… Я уверена, что вы совершенно честный и, может быть, преданный мне человек, только устройте.
У меня явилось страстное желание помочь ей во всем.
– Вот что я сделаю, – подумал я капельку, – я пойду сам и сегодня наверно, наверно ее увижу! Я так сделаю, что увижу, даю вам честное слово; но только – позвольте мне ввериться Шатову.
– Скажите ему, что у меня такое желание и что я больше ждать не могу, но что я его сейчас не обманывала. Он, может быть, ушел потому, что он очень честный и ему не понравилось, что я как будто обманывала. Я не обманывала; я в самом деле хочу издавать и основать типографию…
– Он честный, честный, – подтверждал я с жаром.
– Впрочем, если к завтраму не устроится, то я сама пойду, что бы ни вышло и хотя бы все узнали.
– Я раньше как к трем часам не могу у вас завтра быть, – заметил я, несколько опомнившись.
– Стало быть, в три часа. Стало быть, правду я предположила вчера у Степана Трофимовича, что вы – несколько преданный мне человек? – улыбнулась она, торопливо пожимая мне на прощанье руку и спеша к оставленному Маврикию Николаевичу.
Я вышел, подавленный моим обещанием, и не понимал, что такое произошло. Я видел женщину в настоящем отчаянии, не побоявшуюся скомпрометировать себя доверенностию почти к незнакомому ей человеку. Ее женственная улыбка в такую трудную для нее минуту и намек, что она уже заметила вчера мои чувства, точно резнул меня по сердцу; но мне было жалко, жалко, – вот и всё! Секреты ее стали для меня вдруг чем-то священным, и если бы даже мне стали открывать их теперь, то я бы, кажется, заткнул уши и не захотел слушать ничего дальше. Я только нечто предчувствовал… И, однако ж, я совершенно не понимал, каким образом я что-нибудь тут устрою. Мало того, я все-таки и теперь не знал, что именно надо устроить: свиданье, но какое свиданье? Да и как их свести? Вся надежда была на Шатова, хотя я и мог знать заранее, что он ни в чем не поможет. Но я все-таки бросился к нему.
Только вечером, уже в восьмом часу, я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости – Алексей Нилыч и еще один полузнакомый мне господин, некто Шигалев, родной брат жены Виргинского.
Этот Шигалев, должно быть, уже месяца два как гостил у нас в городе; не знаю, откуда приехал; я слышал про него только, что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью. Виргинский познакомил меня с ним случайно, на улице. В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого. Мы, впрочем, тогда почти ни слова и не сказали, а только пожали друг другу руки с видом двух заговорщиков. Всего более поразили меня его уши неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врозь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны. Если Липутин и мечтал когда-нибудь, что фаланстера могла бы осуществиться в нашей губернии, то этот наверное знал день и час, когда это сбудется. Он произвел на меня впечатление зловещее: встретив же его у Шатова теперь, я подивился, тем более что Шатов и вообще был до гостей не охотник.
Еще с лестницы слышно было, что они разговаривают очень громко, все трое разом, и, кажется, спорят; но только что я появился, все замолчали. Они спорили стоя, а теперь вдруг все сели, так что и я должен был сесть. Глупое молчание не нарушалось минуты три полных. Шигалев хотя и узнал меня, но сделал вид, что не знает, и наверно не по вражде, а так. С Алексеем Нилычем мы слегка раскланялись, но молча и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал, наконец, смотреть на меня строго и нахмуренно, с самою наивною уверенностию, что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они вышли не прощаясь, только Шигалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову:
– Помните, что вы обязаны отчетом.
– Наплевать на ваши отчеты, и никакому черту я не обязан, – проводил его Шатов и запер дверь на крюк.
– Кулики! – сказал он, поглядев на меня и как-то криво усмехнувшись.
Лицо у него было сердитое, и странно мне было, что он сам заговорил. Обыкновенно случалось прежде, всегда, когда я заходил к нему (впрочем, очень редко), что он нахмуренно садился в угол, сердито отвечал и только после долгого времени совершенно оживлялся и начинал говорить с удовольствием. Зато, прощаясь, опять, всякий раз, непременно нахмуривался и выпускал вас, точно выживал от себя своего личного неприятеля.
– Я у этого Алексея Нилыча вчера чай пил, – заметил я, – он, кажется, помешан на атеизме.
– Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил, – проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка.
– Нет, этот, мне показалось, не каламбурщик; он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что каламбурить.
– Люди из бумажки; от лакейства мысли всё это, – спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись обеими ладонями в колени.
– Ненависть тоже тут есть, – произнес он, помолчав с минуту, – они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся… И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незримые слезы! – вскричал он почти с яростью.
– Ну уж это вы бог знает что! – засмеялся я.
– А вы – «умеренный либерал», – усмехнулся и Шатов. – Знаете, – подхватил он вдруг, – я, может, и сморозил про «лакейство мысли»; вы, верно, мне тотчас же скажете: «Это ты родился от лакея, а я не лакей».
– Вовсе я не хотел сказать… что вы!
– Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.
– Какие сапоги? Что за аллегория?
– Какая тут аллегория! Вы, я вижу, смеетесь… Степан Трофимович правду сказал, что я под камнем лежу, раздавлен, да не задавлен, и только корчусь; это он хорошо сравнил.
– Степан Трофимович уверяет, что вы помешались на немцах, – смеялся я, – мы с немцев всё же что-нибудь да стащили себе в карман.
– Двугривенный взяли, а сто рублей своих отдали.
С минуту мы помолчали.
– А это он в Америке себе належал.
– Кто? Что належал?
– Я про Кириллова. Мы с ним там четыре месяца в избе на полу пролежали.
– Да разве вы ездили в Америку? – удивился я. – Вы никогда не говорили.
– Чего рассказывать. Третьего года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, «чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении». Вот с какою целию мы отправились.
– Господи! – засмеялся я. – Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору, «чтоб испытать личным опытом», а то понесло в Америку!
– Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору; всех нас, русских, собралось у него человек шесть – студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были, и всё с тою же величественною целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец я и Кириллов ушли – заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Ну тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом; он об одном думал, а я о другом.
– Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его!
– Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что «мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень». Да что: когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы всё хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится…
– Странно, что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется, – заметил я.
– Люди из бумажки, – повторил Шатов.
– Но, однако ж, переплывать океан на эмигрантском пароходе, в неизвестную землю, хотя бы и с целью «узнать личным опытом» и т. д. – в этом, ей-богу, есть как будто какая-то великодушная твердость… Да как же вы оттуда выбрались?
– Я к одному человеку в Европу написал, и он мне прислал сто рублей.
Шатов, разговаривая, всё время по обычаю своему упорно смотрел в землю, даже когда и горячился. Тут же вдруг поднял голову:
– А хотите знать имя человека?
– Кто же таков?
– Николай Ставрогин.
Он вдруг встал, повернулся к своему липовому письменному столу и начал на нем что-то шарить. У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже и именно года два тому назад, значит, когда Шатов был в Америке, – правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве. «Если так, то зачем же его дернуло теперь с именем вызваться и размазывать?» – подумалось мне.
– Я еще ему до сих пор не отдал, – оборотился он ко мне вдруг опять и, поглядев на меня пристально, уселся на прежнее место в углу и отрывисто спросил совсем уже другим голосом:
– Вы, конечно, зачем-то пришли; что вам надо?
Я тотчас же рассказал всё, в точном историческом порядке, и прибавил, что хоть я теперь и успел одуматься после давешней горячки, но еще более спутался: понял, что тут что-то очень важное для Лизаветы Николаевны, крепко желал бы помочь, но вся беда в том, что не только не знаю, как сдержать данное ей обещание, но даже не понимаю теперь, что именно ей обещал. Затем внушительно подтвердил ему еще раз, что она не хотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение и что она очень огорчена его необыкновенным давешним уходом.
Он очень внимательно выслушал.
– Может быть, я, по моему обыкновению, действительно давеча глупость сделал… Ну, если она сама не поняла, отчего я так ушел, так… ей же лучше.
Он встал, подошел к двери, приотворил ее и стал слушать на лестницу.
– Вы желаете эту особу сами увидеть?
– Этого-то и надо, да как это сделать? – вскочил я обрадовавшись.
– А просто пойдемте, пока одна сидит. Он придет, так изобьет ее, коли узнает, что мы приходили. Я часто хожу потихоньку. Я его давеча прибил, когда он опять ее бить начал.
– Что вы это?
– Именно; за волосы от нее отволок; он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его, тем и кончилось. Боюсь, пьяный воротится, припомнит – крепко ее за то исколотит.
Мы тотчас же сошли вниз.
Дверь к Лебядкиным была только притворена, а не заперта, и мы вошли свободно. Всё помещение их состояло из двух гаденьких небольших комнаток, с закоптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои. Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенес ее в новый дом. Остальные, бывшие под харчевней, комнаты были теперь заперты, а эти две достались Лебядкину. Мебель состояла из простых лавок и тесовых столов, кроме одного лишь старого кресла без ручки. Во второй комнате в углу стояла кровать под ситцевым одеялом, принадлежавшая mademoiselle Лебядкиной, сам же капитан, ложась на ночь, валился каждый раз на пол, нередко в чем был. Везде было накрошено, насорено, намочено; большая, толстая, вся мокрая тряпка лежала в первой комнате посреди пола и тут же, в той же луже, старый истоптанный башмак. Видно было, что тут никто ничем не занимается; печи не топятся, кушанье не готовится; самовара даже у них не было, как подробнее рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим и, как говорил Липутин, действительно сначала ходил по иным домам побираться; но, получив неожиданно деньги, тотчас же запил и совсем ошалел от вина, так что ему было уже не до хозяйства.
Mademoiselle Лебядкина, которую я так желал видеть, смирно и неслышно сидела во второй комнате в углу, за тесовым кухонным столом, на лавке. Она нас не окликнула, когда мы отворяли дверь, не двинулась даже с места. Шатов говорил, что у них и дверь не запирается, а однажды так настежь в сени всю ночь и простояла. При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике я разглядел женщину лет, может быть, тридцати, болезненно-худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытою длинною шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок, толщиной в кулачок двухлетнего ребенка. Она посмотрела на нас довольно весело; кроме подсвечника, пред нею на столе находилось маленькое деревенское зеркальце, старая колода карт, истрепанная книжка какого-то песенника и немецкая белая булочка, от которой было уже раз или два откушено. Заметно было, что mademoiselle Лебядкина белится и румянится и губы чем-то мажет. Сурмит тоже брови, и без того длинные, тонкие и темные. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила, довольно резко обозначались три длинные морщинки. Я уже знал, что она хромая, но в этот раз при нас она не вставала и не ходила. Когда-нибудь, в первой молодости, это исхудавшее лицо могло быть и недурным; но тихие, ласковые, серые глаза ее были и теперь еще замечательны; что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке ее, удивила меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах братца. Странно, что вместо тяжелого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных, наказанных богом существ, мне стало почти приятно смотреть на нее с первой же минуты, и только разве жалость, но отнюдь не отвращение, овладела мною потом.
– Вот так и сидит, и буквально по целым дням одна-одинешенька, и не двинется, гадает или в зеркальце смотрится, – указал мне на нее с порога Шатов, – он ведь ее и не кормит. Старуха из флигеля принесет иной раз чего-нибудь Христа ради; как это со свечой ее одну оставляют!
К удивлению моему, Шатов говорил громко, точно бы ее и не было в комнате.
– Здравствуй, Шатушка! – приветливо проговорила mademoiselle Лебядкина.
– Я тебе, Марья Тимофеевна, гостя привел, – сказал Шатов.
– Ну, гостю честь и будет. Не знаю, кого ты привел, что-то не помню этакого, – поглядела она на меня пристально из-за свечки и тотчас же опять обратилась к Шатову (а мною уже больше совсем не занималась во всё время разговора, точно бы меня и не было подле нее).
– Соскучилось, что ли, одному по светелке шагать? – засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее.
– И соскучилось, и тебя навестить захотелось.
Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собой рядом.
– Разговору я всегда рада, только все-таки смешон ты мне, Шатушка, точно ты монах. Когда ты чесался-то? Дай я тебя еще причешу, – вынула она из кармана гребешок, – небось с того раза, как я причесала, и не притронулся?
– Да у меня и гребенки-то нет, – засмеялся Шатов.
– Вправду? Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни.
С самым серьезным видом принялась она его причесывать, провела даже сбоку пробор, откинулась немножко назад, поглядела, хорошо ли, и положила гребенку опять в карман.
– Знаешь что, Шатушка, – покачала она головой, – человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть; не понимаю я, как это люди скучают. Тоска не скука. Мне весело.
– И с братцем весело?
– Это ты про Лебядкина? Он мой лакей. И совсем мне всё равно, тут он или нет. Я ему крикну: «Лебядкин, принеси воды, Лебядкин, подавай башмаки», – он и бежит; иной раз согрешишь, смешно на него станет.
– И это точь-в-точь так, – опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов, – она его третирует совсем как лакея; сам я слышал, как она кричала ему: «Лебядкин, подай воды», и при этом хохотала; в том только разница, что он не бежит за водой, а бьет ее за это; но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них всё забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает. Вы думаете, она помнит, как мы вошли; может, и помнит, но уж наверно переделала всё по-своему и нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть, хоть и помнит, что я Шатушка. Это ничего, что я громко говорю; тех, которые не с нею говорят, она тотчас же перестает слушать и тотчас же бросается мечтать про себя; именно бросается. Мечтательница чрезвычайная; по восьми часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит, она ее, может, с утра только раз закусила, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала…
– Гадаю-то я гадаю, Шатушка, да не то как-то выходит, – подхватила вдруг Марья Тимофеевна, расслышав последнее словцо, и, не глядя, протянула левую руку к булке (тоже, вероятно, расслышав и про булку). Булочку она наконец захватила, но, продержав несколько времени в левой руке и увлекшись возникшим вновь разговором, положила, не примечая, опять на стол, не откусив ни разу. – Всё одно выходит: дорога, злой человек, чье-то коварство, смертная постеля, откудова-то письмо, нечаянное известие – враки всё это, я думаю, Шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать? – смешала она вдруг карты. – Это самое я матери Прасковье раз говорю, почтенная она женщина, забегала ко мне всё в келью в карты погадать, потихоньку от мать-игуменьи. Да и не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят-рядят, а я-то смеюсь: «Ну где вам, говорю, мать Прасковья, письмо получить, коли двенадцать лет оно не приходило?» Дочь у ней куда-то в Турцию муж завез, и двенадцать лет ни слуху ни духу. Только сижу я это назавтра вечером за чаем у мать-игуменьи (княжеского рода она у нас), сидит у ней какая-то тоже барыня заезжая, большая мечтательница, и сидит один захожий монашек афонский, довольно смешной человек, по моему мнению. Что ж ты думаешь, Шатушка, этот самый монашек в то самое утро матери Прасковье из Турции от дочери письмо принес, – вот тебе и валет бубновый – нечаянное-то известие! Пьем мы это чай, а монашек афонский и говорит мать-игуменье: «Всего более, благословенная мать-игуменья, благословил господь вашу обитель тем, что такое драгоценное, говорит, сокровище сохраняете в недрах ее». – «Какое это сокровище?» – спрашивает мать-игуменья. «А мать Лизавету блаженную». А Лизавета эта блаженная в ограде у нас вделана в стену, в клетку в сажень длины и в два аршина высоты, и сидит она там за железною решеткой семнадцатый год, зиму и лето в одной посконной рубахе и всё аль соломинкой, али прутиком каким ни на есть в рубашку свою, в холстину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется семнадцать лет. Зимой тулупчик просунут ей да каждый день корочку хлебца и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, воздыхают, деньги кладут. «Вот нашли сокровище, – отвечает мать-игуменья (рассердилась; страх не любила Лизавету), – Лизавета с одной только злобы сидит, из одного своего упрямства, и всё одно притворство». Не понравилось мне это; сама я хотела тогда затвориться: «А по-моему, говорю, бог и природа есть всё одно». Они мне все в один голос: «Вот на!» Игуменья рассмеялась, зашепталась о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила, хочешь, покажу? Ну, а монашек стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. «Поняла ли?» – спрашивает. «Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое». Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что есть, как мнишь?» – «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого». – «Так, говорит, богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, всё равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой – наша Острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, – любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и всё вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка. И всё больше о своем ребеночке плачу…
– А разве был? – подтолкнул меня локтем Шатов, всё время чрезвычайно прилежно слушавший.
– А как же: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю.
– А может, и был? – осторожно спросил Шатов.
– Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его всё равно что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка! – усмехнулась она.
– Куда же ребенка-то снесла?
– В пруд снесла, – вздохнула она.
Шатов опять подтолкнул меня локтем.
– А что, коли и ребенка у тебя совсем не было и всё это один только бред, а?
– Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, – раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она, – на этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно только твое любопытство; я ведь всё равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? – И крупные слезы засветились в ее глазах. – Шатушка, Шатушка, а правда, что жена от тебя сбежала? – положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. – Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, Шатушка, я сон какой видела: приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает: «Кошечка, говорит, моя, кошечка, выйди ко мне!» Вот я «кошечке»-то пуще всего и обрадовалась: любит, думаю.
– Может, и наяву придет, – вполголоса пробормотал Шатов.
– Нет, Шатушка, это уж сон… не прийти ему наяву. Знаешь песню:
Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чем не спросишь?
– Да ведь не скажешь, оттого и не спрашиваю.
– Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу, – быстро подхватила она, – жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди!
– Ну вот видишь, всякому, значит, свое, – еще тише проговорил Шатов, всё больше и больше наклоняя голову.
– А попросил бы, может, и сказала бы; может, и сказала бы! – восторженно повторила она. – Почему не попросишь? Попроси, попроси меня хорошенько, Шатушка, может, я тебе и скажу; умоли меня, Шатушка, так чтоб я сама согласилась… Шатушка, Шатушка!
Но Шатушка молчал; с минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам; она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него.
– Э, что мне до тебя, да и грех, – поднялся вдруг со скамьи Шатов. – Привстаньте-ка! – сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место.
– Придет, так чтоб не догадался; а нам пора.
– Ах, ты всё про лакея моего! – засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. – Боишься! Ну, прощайте, добрые гости; а послушай одну минутку, что я скажу. Давеча пришел это сюда этот Нилыч с Филипповым, с хозяином, рыжая бородища, а мой-то на ту пору на меня налетел. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит: «Не виноват, за чужую вину терплю!» Так, веришь ли, все мы как были, так и покатились со смеху…
– Эх, Тимофевна, да ведь это я был заместо рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за волосы от тебя отволок; а хозяин к вам третьего дня приходил браниться с вами, ты и смешала.
– Постой, ведь и в самом деле смешала, может, и ты. Ну, чего спорить о пустяках; не всё ли ему равно, кто его оттаскает, – засмеялась она.
– Пойдемте, – вдруг дернул меня Шатов, – ворота заскрипели; застанет нас, изобьет ее.
И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов, впустив меня к себе, запер дверь на замок.
– Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Вишь, кричит как поросенок, должно быть, опять за порог зацепился; каждый-то раз растянется.
Без истории, однако, не обошлось.
Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу; вдруг отскочил.
– Сюда идет, я так и знал! – яростно прошептал он. – Пожалуй, до полночи теперь не отвяжется.
Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери.
– Шатов, Шатов, отопри! – завопил капитан, – Шатов, друг!..
Ну, да и черт побери с глупым любопытством! Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете!
– Не отвечайте, – шепнул мне опять Шатов.
– Отвори же! Понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка… между человечеством; есть минуты блага-а-родного лица… Шатов, я добр; я прощу тебя… Шатов, к черту прокламации, а?
Молчание.
– Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен, я фрак купил, посмотри, фрак любви, пятнадцать целковых; капитанская любовь требует светских приличий… Отвори! – дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками.
– Убирайся к черту! – заревел вдруг и Шатов.
– Р-р-раб! Раб крепостной, и сестра твоя раба и рабыня… вор-ровка!
– А ты свою сестру продал.
– Врешь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением… понимаешь ли, кто она такова?
– Кто? – с любопытством подошел вдруг к дверям Шатов.
– Да ты понимаешь ли?
– Да уж пойму, ты скажи, кто?
– Я смею сказать! Я всегда всё смею в публике сказать!..
– Ну, навряд смеешь, – поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтоб я слушал.
– Не смею?
– По-моему, не смеешь.
– Не смею?
– Да ты говори, если барских розог не боишься… Ты ведь трус, а еще капитан!
– Я… я… она… она есть… – залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом.
– Ну? – подставил ухо Шатов.
Наступило молчание по крайней мере на полминуты.
– Па-а-адлец! – раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя как самовар, с шумом оступаясь на каждой ступени.
– Нет, он хитер, и пьяный не проговорится, – отошел от двери Шатов.
– Что же это такое? – спросил я.
Шатов махнул рукой, отпер дверь и стал опять слушать на лестницу; долго слушал, даже сошел вниз потихоньку несколько ступеней. Наконец воротился.
– Не слыхать ничего, не дрался; значит, прямо повалился дрыхнуть. Вам пора идти.
– Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить изо всего этого?
– Э, заключайте что хотите! – ответил он усталым и брезгливым голосом и сел за свой письменный стол.
Я ушел. Одна невероятная мысль всё более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне…
Этот «завтрашний день», то есть то самое воскресенье, в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимовича, был одним из знаменательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и еще пущей путаницы. Утром, как уже известно читателю, я обязан был сопровождать моего друга к Варваре Петровне, по ее собственному назначению, а в три часа пополудни я уже должен был быть у Лизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей – я сам не знал о чем, и способствовать ей – сам не знал в чем. И между тем всё разрешилось так, как никто бы не предположил. Одним словом, это был день удивительно сошедшихся случайностей.
Началось с того, что мы со Степаном Трофимовичем, явившись к Варваре Петровне ровно в двенадцать часов, как она назначила, не застали ее дома; она еще не возвращалась от обедни. Бедный друг мой был так настроен, или, лучше сказать, так расстроен, что это обстоятельство тотчас же сразило его: почти в бессилии опустился он на кресло в гостиной. Я предложил ему стакан воды; но, несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, костюм его отличался на этот раз необыкновенною изысканностию: почти бальное, батистовое с вышивкой белье, белый галстук, новая шляпа в руках, свежие соломенного цвета перчатки и даже, чуть-чуть, духи. Только что мы уселись, вошел Шатов, введенный камердинером, ясное дело, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимович привстал было протянуть ему руку, но Шатов, посмотрев на нас обоих внимательно, поворотил в угол, уселся там и даже не кивнул нам головой. Степан Трофимович опять испуганно поглядел на меня.
Так просидели мы еще несколько минут в совершенном молчании. Степан Трофимович начал было вдруг мне что-то очень скоро шептать, но я не расслушал; да и сам он от волнения не докончил и бросил. Вошел еще раз камердинер поправить что-то на столе; а вернее – поглядеть на нас. Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом:
– Алексей Егорыч, не знаете, Дарья Павловна с ней отправилась?
– Варвара Петровна изволили поехать в собор одне-с, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху, и не так здоровы-с, – назидательно и чинно доложил Алексей Егорыч.
Бедный друг мой опять бегло и тревожно со мной переглянулся, так что я, наконец, стал от него отворачиваться. Вдруг у подъезда прогремела карета, и некоторое отдаленное движение в доме возвестило нам, что хозяйка воротилась. Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность: послышался шум многих шагов, значило, что хозяйка возвратилась не одна, а это действительно было уже несколько странно, так как сама она назначила нам этот час. Послышалось наконец, что кто-то входил до странности скоро, точно бежал, а так не могла входить Варвара Петровна. И вдруг она почти влетела в комнату, запыхавшись и в чрезвычайном волнении. За нею, несколько приотстав и гораздо тише, вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной рука в руку – Марья Тимофеевна Лебядкина! Если б я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил.
Чтоб объяснить эту совершенную неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении, происшедшем с Варварой Петровной в соборе.
Во-первых, к обедне собрался почти весь город, то есть разумея высший слой нашего общества. Знали, что пожалует губернаторша, в первый раз после своего к нам прибытия. Замечу, что у нас уже пошли слухи о том, что она вольнодумна и «новых правил». Всем дамам известно было тоже, что она великолепно и с необыкновенным изяществом будет одета; а потому наряды наших дам отличались на этот раз изысканностью и пышностью. Одна лишь Варвара Петровна была скромно и по-всегдашнему одета во всё черное; так бессменно одевалась она в продолжение последних четырех лет. Прибыв в собор, она поместилась на обычном своем месте, налево, в первом ряду, и ливрейный лакей положил пред нею бархатную подушку для коленопреклонений, одним словом, всё по-обыкновенному. Но заметили тоже, что на этот раз она во всё продолжение службы как-то чрезвычайно усердно молилась; уверяли даже потом, когда всё припомнили, что даже слезы стояли в глазах ее. Кончилась наконец обедня, и наш протоиерей, отец Павел, вышел сказать торжественную проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их высоко; уговаривали его даже напечатать, но он всё не решался. На этот раз проповедь вышла как-то особенно длинна.
И вот во время уже проповеди подкатила к собору одна дама на легковых извозчичьих дрожках прежнего фасона, то есть на которых дамы могли сидеть только сбоку, придерживаясь за кушак извозчика и колыхаясь от толчков экипажа, как полевая былинка от ветра. Эти ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают. Остановясь у угла собора, – ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы, – дама соскочила с дрожек и подала ваньке четыре копейки серебром.
– Что ж, мало разве, Ваня! – вскрикнула она, увидав его гримасу. – У меня всё, что есть, – прибавила она жалобно.
– Ну, да бог с тобой, не рядясь садил, – махнул рукой ванька и поглядел на нее, как бы думая: «Да и грех тебя обижать-то»; затем, сунув за пазуху кожаный кошель, тронул лошадь и укатил, напутствуемый насмешками близ стоявших извозчиков. Насмешки и даже удивление сопровождали и даму всё время, пока она пробиралась к соборным вратам между экипажами и ожидавшим скорого выхода господ лакейством. Да и действительно было что-то необыкновенное и неожиданное для всех в появлении такой особы вдруг откуда-то на улице средь народа. Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянена, с совершенно оголенною длинною шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день; с совершенно открытою головой, с волосами, подвязанными в крошечный узелок на затылке, в которые с правого боку воткнута была одна только искусственная роза, из таких, которыми украшают вербных херувимов. Такого вербного херувима в венке из бумажных роз я именно заметил вчера в углу, под образами, когда сидел у Марьи Тимофеевны. К довершению всего дама шла хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Если б она еще капельку промедлила, то ее бы, может быть, и не пропустили в собор… Но она успела проскользнуть, а войдя во храм, протиснулась незаметно вперед.
Хотя проповедь была на половине и вся сплошная толпа, наполнявшая храм, слушала ее с полным и беззвучным вниманием, но все-таки несколько глаз с любопытством и недоумением покосились на вошедшую. Она упала на церковный помост, склонив на него свое набеленное лицо, лежала долго и, по-видимому, плакала; но, подняв опять голову и привстав с колен, очень скоро оправилась и развлеклась. Весело, с видимым чрезвычайным удовольствием, стала скользить она глазами по лицам, по стенам собора; с особенным любопытством вглядывалась в иных дам, приподымаясь для этого даже на цыпочки, и даже раза два засмеялась, как-то странно при этом хихикая. Но проповедь кончилась, и вынесли крест. Губернаторша пошла к кресту первая, но, не дойдя двух шагов, приостановилась, видимо желая уступить дорогу Варваре Петровне, с своей стороны подходившей слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость губернаторши, без сомнения, заключала в себе явную и остроумную в своем роде колкость; так все поняли; так поняла, должно быть, и Варвара Петровна; но по-прежнему никого не замечая и с самым непоколебимым видом достоинства приложилась она ко кресту и тотчас же направилась к выходу. Ливрейный лакей расчищал пред ней дорогу, хотя и без того все расступались. Но у самого выхода, на паперти, тесно сбившаяся кучка людей на мгновение загородила путь. Варвара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась пред нею на колени. Варвара Петровна, которую трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго.
Поспешу заметить здесь, по возможности вкратце, что Варвара Петровна хотя и стала в последние годы излишне, как говорили, расчетлива и даже скупенька, но иногда не жалела денег собственно на благотворительность. Она состояла членом одного благотворительного общества в столице. В недавний голодный год она отослала в Петербург, в главный комитет для приема пособий потерпевшим, пятьсот рублей, и об этом у нас говорили. Наконец, в самое последнее время, пред назначением нового губернатора, она было совсем уже основала местный дамский комитет для пособия самым беднейшим родильницам в городе и в губернии. У нас сильно упрекали ее в честолюбии; но известная стремительность характера Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями; общество почти уже устроилось, а первоначальная мысль всё шире и шире развивалась в восхищенном уме основательницы: она уже мечтала об основании такого же комитета в Москве, о постепенном распространении его действий по всем губерниям. И вот, с внезапною переменой губернатора, всё приостановилось; а новая губернаторша, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и, главное, метких и дельных возражений насчет будто бы непрактичности основной мысли подобного комитета, что, разумеется с прикрасами, было уже передано Варваре Петровне. Один бог знает глубину сердец, но полагаю, что Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась теперь в самых соборных вратах, зная, что мимо должна сейчас же пройти губернаторша, а затем и все, и «пусть сама увидит, как мне всё равно, что бы она там ни подумала и что бы ни сострила еще насчет тщеславия моей благотворительности. Вот же вам всем!»
– Что вы, милая, о чем вы просите? – внимательнее всмотрелась Варвара Петровна в коленопреклоненную пред нею просительницу. Та глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем.
– Что она? Кто она? – Варвара Петровна обвела кругом присутствующих повелительным и вопросительным взглядом. Все молчали.
– Вы несчастны? Вы нуждаетесь в вспоможении?
– Я нуждаюсь… я приехала… – лепетала «несчастная» прерывавшимся от волнения голосом. – Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать… – и опять хихикнула. С самым детским взглядом, с каким дети ласкаются, что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но, как бы испугавшись, вдруг отдернула свои руки назад.
– Только за этим и прибыли? – улыбнулась Варвара Петровна с сострадательною улыбкой, но тотчас же быстро вынула из кармана свой перламутровый портмоне, а из него десятирублевую бумажку и подала незнакомке. Та взяла. Варвара Петровна была очень заинтересована и, видимо, не считала незнакомку какою-нибудь простонародною просительницей.
– Вишь, десять рублей дала, – проговорил кто-то в толпе.
– Ручку-то пожалуйте, – лепетала «несчастная», крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную десятирублевую бумажку, которую свивало ветром. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку; та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблистал каким-то даже восторгом. Вот в это-то самое время подошла губернаторша и прихлынула целая толпа наших дам и старших сановников. Губернаторша поневоле должна была на минутку приостановиться в тесноте; многие остановились.
– Вы дрожите, вам холодно? – заметила вдруг Варвара Петровна и, сбросив с себя свой бурнус, на лету подхваченный лакеем, сняла с плеч свою черную (очень не дешевую) шаль и собственными руками окутала обнаженную шею всё еще стоявшей на коленях просительницы.
– Да встаньте же, встаньте с колен, прошу вас! – Та встала.
– Где вы живете? Неужели никто, наконец, не знает, где она живет? – снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна. Но прежней кучки уже не было; виднелись всё знакомые, светские лица, разглядывавшие сцену, одни с строгим удивлением, другие с лукавым любопытством и в то же время с невинною жаждой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться.
– Кажется, это Лебядкиных-с, – выискался наконец один добрый человек с ответом на запрос Варвары Петровны, наш почтенный и многими уважаемый купец Андреев, в очках, с седою бородой, в русском платье и с круглою цилиндрическою шляпой, которую держал теперь в руках, – они у Филипповых в доме проживают, в Богоявленской улице.
– Лебядкин? Дом Филиппова? Я что-то слышала… благодарю вас, Никон Семеныч, но кто этот Лебядкин?
– Капитаном прозывается, человек, надо бы так сказать, неосторожный. А это, уж за верное, их сестрица. Она, полагать надо, из-под надзору теперь ушла, – сбавив голос, проговорил Никон Семеныч и значительно взглянул на Варвару Петровну.
– Понимаю вас; благодарю, Никон Семеныч. Вы, милая моя, госпожа Лебядкина?
– Нет, я не Лебядкина.
– Так, может быть, ваш брат Лебядкин?
– Брат мой Лебядкин.
– Вот что я сделаю, я вас теперь, моя милая, с собой возьму, а от меня вас уже отвезут к вашему семейству; хотите ехать со мной?
– Ах, хочу! – сплеснула ладошками госпожа Лебядкина.
– Тетя, тетя? Возьмите и меня с собой к вам! – раздался голос Лизаветы Николаевны. Замечу, что Лизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей, а Прасковья Ивановна, по предписанию доктора, поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне.
– Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада, но что скажет твоя мать? – начала было осанисто Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы.
– Тетя, тетя, непременно теперь с вами, – умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну.
– Mais qu’avez-vous done, Lise![98] – с выразительным удивлением проговорила губернаторша.
– Ах, простите, голубчик, chère cousine,[99] я к тете, – на лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей chère cousine и поцеловала ее два раза.
– И maman тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете; maman непременно, непременно хотела заехать, она давеча сама говорила, я забыла вас предуведомить, – трещала Лиза, – виновата, не сердитесь, Julie… chère cousine… тетя, я готова!
– Если вы, тетя, меня не возьмете, то я за вашею каретой побегу и закричу, – быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне; хорошо еще, что никто не слыхал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась и пронзительным взглядом посмотрела на сумасшедшую девушку. Этот взгляд всё решил: она непременно положила взять с собой Лизу!
– Этому надо положить конец, – вырвалось у ней. – Хорошо, я с удовольствием беру тебя, Лиза, – тотчас же громко прибавила она, – разумеется, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить, – с открытым видом и с прямодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше.
– О, без сомнения я не захочу лишить ее этого удовольствия, тем более что я сама… – с удивительною любезностью залепетала вдруг Юлия Михайловна, – я сама… хорошо знаю, какая на наших плечиках фантастическая всевластная головка (Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась)…
– Благодарю вас чрезвычайно, – отблагодарила вежливым и осанистым поклоном Варвара Петровна.
– И мне тем более приятно, – почти уже с восторгом продолжала свой лепет Юлия Михайловна, даже вся покраснев от приятного волнения, – что, кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство… сострадание… (она взглянула на «несчастную»)… и… на самой паперти храма…
– Такой взгляд делает вам честь, – великолепно одобрила Варвара Петровна. Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку, и Варвара Петровна с полною готовностью дотронулась до нее своими пальцами. Всеобщее впечатление было прекрасное, лица некоторых присутствовавших просияли удовольствием, показалось несколько сладких и заискивающих улыбок.
Одним словом, всему городу вдруг ясно открылось, что это не Юлия Михайловна пренебрегала до сих пор Варварой Петровной и не сделала ей визита, а сама Варвара Петровна, напротив, «держала в границах Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы, может, побежала к ней с визитом, если бы только была уверена, что Варвара Петровна ее не прогонит». Авторитет Варвары Петровны поднялся до чрезвычайности.
– Садитесь же, милая, – указала Варвара Петровна mademoiselle Лебядкиной на подъехавшую карету; «несчастная» радостно побежала к дверцам, у которых подхватил ее лакей.
– Как! Вы хромаете! – вскричала Варвара Петровна совершенно как в испуге и побледнела. (Все тогда это заметили, но не поняли…)
Карета покатилась. Дом Варвары Петровны находился очень близко от собора. Лиза сказывала мне потом, что Лебядкина смеялась истерически все эти три минуты переезда, а Варвара Петровна сидела «как будто в каком-то магнетическом сне», собственное выражение Лизы.
Глава пятая
Премудрый змий
Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресла у окна.
– Сядьте здесь, моя милая, – указала она Марье Тимофеевне место, посреди комнаты, у большого круглого стола. – Степан Трофимович, что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину, что это такое?
– Я… я… – залепетал было Степан Трофимович…
Но явился лакей.
– Чашку кофею, сейчас, особенно и как можно скорее! Карету не откладывать.
– Mais, chère et excellente amie, dans quelle inquiétude…[100] – замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович.
– Ах! по-французски, по-французски! Сейчас видно, что высший свет! – хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготовляясь послушать разговор по-французски. Варвара Петровна уставилась на нее почти в испуге.
Все мы молчали и ждали какой-нибудь развязки. Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый; пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу (она сидела в углу, почти рядом с Шатовым). Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно; на губах ее кривилась улыбка, но нехорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку. А между тем Марья Тимофеевна увлеклась совершенно: она с наслаждением и нимало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны – меблировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе.
– Так и ты тут, Шатушка! – воскликнула она вдруг, – представь, я давно тебя вижу, да думаю: не он! Как он сюда проедет! – и весело рассмеялась.
– Вы знаете эту женщину? – тотчас обернулась к нему Варвара Петровна.
– Знаю-с, – пробормотал Шатов, тронулся было на стуле, но остался сидеть.
– Что же вы знаете? Пожалуйста, поскорей!
– Да что… – ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся, – сами видите.
– Что вижу? Да ну же, говорите что-нибудь!
– Живет в том доме, где я… с братом… офицер один.
– Ну?
Шатов запнулся опять.
– Говорить не стоит… – промычал он и решительно смолк. Даже покраснел от своей решимости.
– Конечно, от вас нечего больше ждать! – с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь, что все что-то знают и между тем все чего-то трусят и уклоняются пред ее вопросами, хотят что-то скрыть от нее.
Вошел лакей и поднес ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе, но тотчас же, по ее мановению, направился к Марье Тимофеевне.
– Вы, моя милая, очень озябли давеча, выпейте поскорей и согрейтесь.
– Merci, – взяла чашку Марья Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала лакею merci. Но, встретив грозный взгляд Варвары Петровны, оробела и поставила чашку на стол.
– Тетя, да уж вы не сердитесь ли? – пролепетала она с какою-то легкомысленною игривостью.
– Что-о-о? – вспрянула и выпрямилась в креслах Варвара Петровна. – Какая я вам тетя? Что вы подразумевали?
Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелкою конвульсивною дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку кресел.
– Я… я думала, так надо, – пролепетала она, смотря во все глаза на Варвару Петровну, – так вас Лиза звала.
– Какая еще Лиза?
– А вот эта барышня, – указала пальчиком Марья Тимофеевна.
– Так вам она уже Лизой стала?
– Вы так сами ее давеча звали, – ободрилась несколько Марья Тимофеевна. – А во сне я точно такую же красавицу видела, – усмехнулась она как бы нечаянно.
Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась; даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марьи Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и, хромая, робко подошла к ней.
– Возьмите, забыла отдать, не сердитесь за неучтивость, – сняла она вдруг с плеч своих черную шаль, надетую на нее давеча Варварой Петровной.
– Наденьте ее сейчас же опять и оставьте навсегда при себе. Ступайте и сядьте, пейте ваш кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя милая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать.
– Chère amie… – позволил было себе опять Степан Трофимович.
– Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь, пощадите хоть вы… Пожалуйста, позвоните вот в этот звонок, подле вас, в девичью.
Наступило молчание. Взгляд ее подозрительно и раздражительно скользил по всем нашим лицам. Явилась Агаша, любимая ее горничная.
– Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила. Что делает Дарья Павловна?
– Оне-с не совсем здоровы-с.
– Сходи и попроси сюда. Прибавь, что очень прошу, хотя бы и нездорова.
В это мгновение из соседних комнат опять послышался какой-то необычный шум шагов и голосов, подобный давешнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и «расстроенная» Прасковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку.
– Ох, батюшки, насилу доплелась; Лиза, что ты, сумасшедшая, с матерью делаешь! – взвизгнула она, кладя в этот взвизг, по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ, всё, что накопилось раздражения.
– Матушка, Варвара Петровна, я к вам за дочерью!
Варвара Петровна взглянула на нее исподлобья, полупривстала навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила:
– Здравствуй, Прасковья Ивановна, сделай одолжение, садись. Я так и знала ведь, что приедешь.
Для Прасковьи Ивановны в таком приеме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда, с самого детства, третировала свою бывшую пансионскую подругу деспотически и, под видом дружбы, чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное. В последние дни между обоими домами пошло на совершенный разрыв, о чем уже и было мною вскользь упомянуто. Причины начинающегося разрыва покамест были еще для Варвары Петровны таинственны, а стало быть, еще пуще обидны; но главное в том, что Прасковья Ивановна успела принять пред нею какое-то необычайно высокомерное положение. Варвара Петровна, разумеется, была уязвлена, а между тем и до нее уже стали доходить некоторые странные слухи, тоже чрезмерно ее раздражавшие, и именно своею неопределенностью. Характер Варвары Петровны был прямой и гордо открытый, с наскоком, если так позволительно выразиться. Пуще всего она не могла выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую. Как бы то ни было, но вот уже пять дней как обе дамы не виделись. Последний визит был со стороны Варвары Петровны, которая и уехала «от Дроздихи» обиженная и смущенная. Я без ошибки могу сказать, что Прасковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении, что Варвара Петровна почему-то должна пред нею струсить; это видно было уже по выражению лица ее. Но, видно, тогда-то и овладевал Варварой Петровной бес самой заносчивой гордости, когда она чуть-чуть лишь могла заподозрить, что ее почему-либо считают униженною. Прасковья же Ивановна, как и многие слабые особы, сами долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом выгодном для себя обороте дела. Правда, теперь она была нездорова, а в болезни становилась всегда раздражительнее. Прибавлю, наконец, что все мы, находившиеся в гостиной, не могли особенно стеснить нашим присутствием обеих подруг детства, если бы между ними возгорелась ссора; мы считались людьми своими и чуть не подчиненными. Я не без страха сообразил это тогда же. Степан Трофимович, не садившийся с самого прибытия Варвары Петровны, в изнеможении опустился на стул, услыхав взвизг Прасковьи Ивановны, и с отчаянием стал ловить мой взгляд. Шатов круто повернулся на стуле и что-то даже промычал про себя. Мне кажется, он хотел встать и уйти. Лиза чуть-чуть было привстала, но тотчас же опять опустилась на место, даже не обратив должного внимания на взвизг своей матери, но не от «строптивости характера», а потому что, очевидно, вся была под властью какого-то другого могучего впечатления. Она смотрела теперь куда-то в воздух, почти рассеянно, и даже на Марью Тимофеевну перестала обращать прежнее внимание.
– Ох, сюда! – указала Прасковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощию Маврикия Николаевича. – Не села б у вас, матушка, если бы не ноги! – прибавила она надрывным голосом.
Варвара Петровна приподняла немного голову, с болезненным видом прижимая пальцы правой руки к правому виску и видимо ощущая в нем сильную боль (tic douloureux[101]).
– Что так, Прасковья Ивановна, почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннею приязнию пользовалась, а мы с тобой еще девчонками вместе в куклы в пансионе играли.
Прасковья Ивановна замахала руками.
– Уж так и знала! Вечно про пансион начнете, когда попрекать собираетесь, – уловка ваша. А по-моему, одно красноречие. Терпеть не могу этого вашего пансиона.
– Ты, кажется, слишком уж в дурном расположении приехала; что твои ноги? Вот тебе кофе несут, милости просим, кушай и не сердись.
– Матушка, Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькою девочкой. Не хочу я кофею, вот!
И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофей слуге. (От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Марье Тимофеевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо довольная за это собой.)
Варвара Петровна криво улыбнулась.
– Знаешь что, друг мой Прасковья Ивановна, ты, верно, опять что-нибудь вообразила себе, с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась; а помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался, и как madame Lefebure тебя тут же изобличила во лжи. А ведь ты и не лгала, просто навоображала себе для утехи. Ну, говори: с чем ты теперь? Что еще вообразила, чем недовольна?
– А вы в пансионе в попа влюбились, что закон божий преподавал, – вот вам, коли до сих пор в вас такая злопамятность, – ха-ха-ха!
Она желчно расхохоталась и раскашлялась.
– А-а, ты не забыла про попа… – ненавистно глянула на нее Варвара Петровна.
Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась.
– Мне, матушка, теперь не до смеху; зачем вы мою дочь при всем городе в ваш скандал замешали, вот зачем я приехала!
– В мой скандал? – грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна.
– Мама, я вас тоже очень прошу быть умереннее, – проговорила вдруг Лизавета Николаевна.
– Как ты сказала? – приготовилась было опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочки.
– Как вы могли, мама, сказать про скандал? – вспыхнула Лиза. – Я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезною.
– «Историю этой несчастной»! – со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна. – Да стать ли тебе мешаться в такие «истории»? Ох, матушка! Довольно нам вашего деспотизма! – бешено повернулась она к Варваре Петровне. – Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали, да, видно, пришла и на вас пора!
Варвара Петровна сидела выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд десять строго и неподвижно смотрела она на Прасковью Ивановну.
– Ну, моли бога, Прасковья, что все здесь свои, – выговорила она наконец с зловещим спокойствием, – много ты сказала лишнего.
– А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные; это вы, под видом гордости, пред мнением света трепещете. А что тут свои люди, так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали.
– Поумнела ты, что ль, в эту неделю?
– Не поумнела я в эту неделю, а, видно, правда наружу вышла в эту неделю.
– Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня, объяснись сию минуту, прошу тебя честью: какая правда наружу вышла и что ты под этим подразумеваешь?
– Да вот она, вся-то правда сидит! – указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну, с тою отчаянною решимостию, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, всё время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гостьи и весело зашевелилась в креслах.
– Господи Иисусе Христе, рехнулись они все, что ли! – воскликнула Варвара Петровна и, побледнев, откинулась на спинку кресла.
Она так побледнела, что произошло даже смятение. Степан Трофимович бросился к ней первый; я тоже приблизился; даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла; но всех более испугалась сама Прасковья Ивановна: она вскрикнула, как могла приподнялась и почти завопила плачевным голосом:
– Матушка, Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость! Да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь!
– Не хнычь, пожалуйста, Прасковья Ивановна, прошу тебя, и отстранитесь, господа, сделайте одолжение, не надо воды! – твердо, хоть и негромко выговорила побледневшими губами Варвара Петровна.
– Матушка! – продолжала Прасковья Ивановна, капельку успокоившись, – друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют; ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут, а у меня, матушка, дочь!
Варвара Петровна безмолвно смотрела на нее широко открытыми глазами и слушала с удивлением. В это мгновение неслышно отворилась в углу боковая дверь, и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом; ее поразило наше смятение. Должно быть, она не сейчас различила и Марью Тимофеевну, о которой никто ее не предуведомил. Степан Трофимович первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил: «Дарья Павловна!», так что все глаза разом обратились на вошедшую.
– Как, так это-то ваша Дарья Павловна! – воскликнула Марья Тимофеевна. – Ну, Шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица! Как же мой-то этакую прелесть крепостною девкой Дашкой зовет!
Дарья Павловна меж тем приблизилась уже к Варваре Петровне; но, пораженная восклицанием Марьи Тимофеевны, быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на юродивую длинным, приковавшимся взглядом.
– Садись, Даша, – проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием, – ближе, вот так; ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее?
– Я никогда ее не видала, – тихо ответила Даша и, помолчав, тотчас прибавила: – должно быть, это больная сестра одного господина Лебядкина.
– И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, – с увлечением прокричала Марья Тимофеевна. – А что мой лакей бранится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая? Потому что вы милая, милая, милая, это я вам от себя говорю! – с восторгом заключила она, махая пред собою своею ручкой.
– Понимаешь ты что-нибудь? – с гордым достоинством спросила Варвара Петровна.
– Я всё понимаю-с…
– Про деньги слышала?
– Это, верно, те самые деньги, которые я, по просьбе Николая Всеволодовича, еще в Швейцарии, взялась передать этому господину Лебядкину, ее брату.
Последовало молчание.
– Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?
– Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего триста рублей, господину Лебядкину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь, что он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать, на случай, если господин Лебядкин приедет.
– Какие же деньги… пропали? Про что эта женщина сейчас говорила?
– Этого уж я не знаю-с; до меня тоже доходило, что господин Лебядкин говорил про меня вслух, будто я не всё ему доставила; но я этих слов не понимаю. Было триста рублей, я и переслала триста рублей.
Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку, – что бы она там про себя ни чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностию, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собою вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее всё время, пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала.
– Если, – произнесла она наконец с твердостию и видимо к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу, – если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокоивает, знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты и с чистою совестью могла, по незнанию света, сделать какую-нибудь неосторожность; и сделала ее, приняв на себя сношения с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку. Но я разузнаю о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это всё надо кончить.
– Лучше всего, когда он к вам придет, – подхватила вдруг Марья Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, – то пошлите его в лакейскую. Пусть он там на залавке в свои козыри с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть кофей пить. Чашку-то кофею еще можно ему послать, но я глубоко его презираю.
И она выразительно мотнула головой.
– Это надо кончить, – повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марью Тимофеевну, – прошу вас, позвоните, Степан Трофимович.
Степан Трофимович позвонил и вдруг выступил вперед, весь в волнении.
– Если… если я… – залепетал он в жару, краснея, обрываясь и заикаясь, – если я тоже слышал самую отвратительную повесть или, лучше сказать, клевету, то… в совершенном негодовании… enfin, c’est un homme perdu et quelque chose comme un forçat évadé…[102]
Он оборвал и не докончил; Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошел чинный Алексей Егорович.
– Карету, – приказала Варвара Петровна, – а ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебядкину домой, куда она тебе сама укажет.
– Господин Лебядкин некоторое время сами их внизу ожидают-с и очень просили о себе доложить-с.
– Это невозможно, Варвара Петровна, – с беспокойством выступил вдруг всё время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич, – если позволите, это не такой человек, который может войти в общество, это… это… это невозможный человек, Варвара Петровна.
– Повременить, – обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся.
– C’est un homme malhonnête et je crois même que c’est un forçat évadé ou quelque chose dans ce genre,[103] – пробормотал опять Степан Трофимович, опять покраснел и опять оборвался.
– Лиза, ехать пора, – брезгливо возгласила Прасковья Ивановна и приподнялась с места. – Ей, кажется, жаль уже стало, что она давеча, в испуге, сама себя обозвала дурой. Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерною склад-кой на губах. Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна: в ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые.
– Повремени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя, – остановила Варвара Петровна, всё с тем же чрезмерным спокойствием, – сделай одолжение, присядь, я намерена все высказать, а у тебя ноги болят. Вот так, благодарю тебя. Давеча я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение, прости меня; я сделала глупо и первая каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, ты упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный извет достоин презрения уже потому, что он не подписан. Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоем месте за такою дрянью в карман, я не стала бы мараться. А ты вымаралась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе, что и я получила дней шесть тому назад тоже анонимное, шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая «будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль», я запомнила выражение. Сообразив и зная, что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презренным из всех врагов его, и из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили из-за меня такими же презренными письмами и, как ты выразилась, «бомбардировали», то, конечно, первая жалею, что послужила невинною причиной. Вот и всё, что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя. К тому же я непременно решилась впустить сейчас этого подозрительного человека, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом: что его невозможно принять. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне еще раз поцеловать тебя.
Лиза перешла комнату и молча остановилась пред Варварой Петровной. Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее.
– Ну, прощай, Лиза (в голосе Варвары Петровны послышались почти слезы), – верь, что не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне… Бог с тобою. Я всегда благословляла святую десницу его…
Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла было к своему месту, всё в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась пред мамашей.
– Я, мама, еще не поеду, а останусь на время у тети, – проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость.
– Бог ты мой, что такое! – возопила Прасковья Ивановна, бессильно сплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала; она села в прежний угол и опять стала смотреть куда-то в воздух.
Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны.
– Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайною просьбой, сделайте мне одолжение, сходите взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда.
Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебядкина.
Я как-то говорил о наружности этого господина: высокий, курчавый, плотный парень, лет сорока, с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с маленькими, кровяными, иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и с зарождающимся мясистым кадыком, довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нем то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. «Есть люди, которым чистое белье даже неприлично-с», как возразил раз когда-то Липутин на шутливый упрек ему Степана Трофимовича в неряшестве. У капитана были и перчатки черные, из которых правую, еще не надеванную, он держал в руке, а левая, туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которой он держал совершенно новую, глянцевитую и, наверно, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний «фрак любви», о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Всё это, то есть и фрак и белье, было припасено (как узнал я после) по совету Липутина, для каких-то таинственных целей. Сомнения не было, что и приехал он теперь (в извозчичьей карете) непременно тоже по постороннему наущению и с чьею-нибудь помощью; один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа, предполагая даже, что сцена на соборной паперти стала ему тотчас известною. Он был не пьян, но в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Кажется, стоило бы только покачнуть его раза два рукой за плечо, и он тотчас бы опять охмелел.
Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне.
– Я приехал, сударыня… – прогремел было он как в трубу.
– Сделайте мне одолжение, милостивый государь, – выпрямилась Варвара Петровна, – возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть.
Капитан остановился, тупо глядя пред собой, но, однако, повернулся и сел на указанное место, у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно, это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать, что из раздраженного самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость, при случае. Он видимо боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно, что самое главное страдание всех подобных господ, когда они каким-нибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознаваемая невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними. Капитан замер на стуле с своею шляпой и перчатками в руках и не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны. Ему, может быть, и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался. Марья Тимофеевна, вероятно найдя фигуру его опять ужасно смешною, захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая.
– Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих? – мерно и выразительно произнесла она.
– Капитан Лебядкин, – прогремел капитан, – я приехал, сударыня… – шевельнулся было он опять.
– Позвольте! – опять остановила Варвара Петровна. – Эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра?
– Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении…