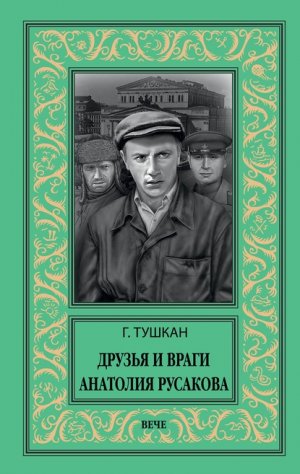
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru
Паутина
Глава I
Случай в дороге
В августе 1953 года поезд Симферополь – Москва, все реже постукивая на стыках рельсов, приближался к станции Орел. В тамбурах запыленных, раскаленных палящим солнцем вагонов столпились изнывающие от духоты и жажды пассажиры.
Анатолий Русаков, юноша в легком синем комбинезоне, выпрыгнул на ходу, едва вагон поравнялся с перроном. Но его опередили пассажиры головных вагонов: у буфета в помещении вокзала уже вытянулась очередь. Раздосадованный, он попытался протиснуться к прилавку, но встретил дружный отпор.
– Не расстраивайтесь, молодой человек, у вас все впереди, – пошутил кто-то.
– Целая очередь впереди! – подхватил другой.
Пассажиры засмеялись. Улыбнулся и юноша. Верно, стоит ли огорчаться из-за такой ерунды? Самое тяжелое позади… Сколько пережито за эти несколько лет! И вот после долгой разлуки он наконец возвращается домой, в Москву!
Всю дорогу Анатолий Русаков был радостно возбужден. Он слонялся по вагону от окна к окну, пытался включиться в чьи-то разговоры.
Когда вносили или выносили багаж, Анатолий, не ожидая просьбы, стремительно бросался помочь, почти вырывая вещи из рук. Его благодарили – он улыбался, не благодарили – тоже улыбался. Он просто не мог, никак не мог оставаться в одиночестве, в бездействии. Потому-то он и помчался за водой. Ему она была не нужна. Хотелось удружить соседям.
Пассажиры беспокойно посматривали на часы, на буфетный прилавок, уставленный бутылками, и на невозмутимую буфетчицу. Неожиданный сильный толчок сзади, передавшийся по толпе, заставил Анатолия оглянуться. Он хотел было что-то сказать об излишней торопливости, но, лишь только взглянул в лицо толкнувшего, веселость мгновенно исчезла. Рослый темноглазый и смуглокожий парень, блестя зубами из «нержавейки», с ухмылкой теснил стоящих впереди. Его сосед сердито крикнул:
– Чего толкаешься, пьяный, что ли?
Парень задиристо спросил:
– А вы меня поили? Что-то не помню, чтобы мы пили на брудершафт.
Вызывающий, дерзкий тон, нагловатая поза, жуликоватый, цепкий взгляд юрких глаз одних возмущал, а других пугал. Люди поспешно отворачивались, показывая, что ввязываться в ссору не намерены. Анатолий не отвел глаз, и парень увидел в них нечто такое, что привело его в замешательство. Но уже в следующее мгновение он зло спросил:
– Ну, чего уставился? Карточка моя знакома, что ли?
Анатолий не ответил. Дуэль глазами – «кто кого пересмотрит» – продолжалась с возрастающим напряжением. Взгляды быстро выразили и взаимное подозрение, и раздражение, и антипатию, и злость, перерастающую в ярость. Казалось, взрыв неминуем.
Анатолий сразу заметил то, что ускользнуло от внимания других. Возле парня, как его тень, стоял рыжеватый подросток в «лондонке» – маленькой кепчонке с блестящим твердым черным козырьком. Он стоял вполоборота и, прищурившись, смотрел в сторону. Анатолий уже все понял: мальчишка, конечно, напарник, видимо из начинающих. А этот горластый чернявый парень в тельняшке, с руками, покрытыми татуировкой, обучал подростка воровству. Он кривлялся, чтобы отвлечь внимание на себя и запугать пассажиров. Прежде всего запугать самого смелого.
Анатолий колебался. Как он ненавидел этого парня с зубами из «нержавейки»! Он один в очереди понимал, зачем этот верзила с татуировкой торчит здесь. Но ведь дано слово самому себе: никогда, нигде и ни по какому случаю не ввязываться в стычку с ворами. Слишком дорого однажды это обошлось… Однако сейчас Анатолий не мог заставить себя отвести взгляд.
«Я знаю, кто ты», – говорили его глаза.
«Не лезь на рожон», – отвечал ему взглядом вор.
– «Отпускник»! – вдруг громко и язвительно прозвучало из толпы.
Пассажиры переглянулись. В тот 1953 год из тюрем и лагерей по амнистии было досрочно освобождено немало преступников. Многие из них вернулись к честной жизни. Но нашлось немало и таких «отпетых», что продолжали преступную жизнь. Пребывание на воле они считали временным. Они знали наперед – как ни ловчи, как ни заметай следы, но, если пошел по старой дорожке, все равно поймают. Их-то и прозвали «отпускниками».
– Ну и «отпускник»! Ну и что? – вызывающе бросил парень и вынул руки из карманов.
Никто не отозвался. Стоящие впереди него старались незаметно смешаться с толпой. Вдруг раздался вопль:
– Бумажник вытащили!
И снова все обернулись.
– Деньги и документы! – бормотал толстый коротышка, лихорадочно шаря в карманах. – Как сейчас помню, переложил из грудного в наружный карман пиджака, чтобы были под рукой, а когда меня толкнули, я невольно вынул руку… потом заспорил… потом начал искать. Нету… украли!
Коротышка недобро уставился на толкнувшего.
– Может, скажете, что я вор, что я украл? – вызывающе спросил «отпускник».
Тон, каким это было сказано, предостерегал, даже запугивал и в то же время как будто наводил на мысль: если украл «отпускник», то почему же он не убегает, а держится так нахально?
Анатолию было все ясно: этот верзила толкнул, он же вытащил бумажник и уже успел передать его своему подручному в «лондонке».
– Так я, что ли, украл? – с угрозой в голосе повторил парень и добавил: – Кричит: «украли, украли», а спроси, и сказать не сможет, сколько у него пропало монет.
– Ну, нет! Я своим деньгам счет знаю! Семь сотенных и одна двадцатипятирублевка! И еще была облигация золотого займа – тысячу рублей выиграла! – с обидой в голосе отозвался пострадавший.
Анатолий даже поморщился от досады. «Ну и дурак! – подумал он. – Если бы у вора перед обыском спросили, сколько у него денег, он бы не смог точно ответить и на этом попался, а теперь…»
– На! Обыскивай! Найдешь – твои! – насмешливо крикнул парень, демонстративно поднимая руки.
Пострадавший неумело водил дрожащими пальцами по тельняшке, плотно облегавшей тело парня.
– Разве так обыскивают? – сказал мужчина в галифе, выходя из толпы. Он быстро извлек из брючных карманов «отпускника» паспорт, начатую пачку папирос, спички и несколько пятирублевок. Бумажника не было.
Анатолий только взглянул на паренька в «лондонке», как «отпускник» мгновенно перехватил этот взгляд и весело крикнул:
– Давай жми! – При этом он подмигнул толпе и кивнул на обыскивающего, чтобы не было сомнений, к кому относятся эти слова.
Мальчишка в «лондонке» чуть попятился и со скучающим видом, волоча ноги, пошел в потоке пассажиров к выходу, никого не обгоняя, но и не отставая.
– Вам чего? – нетерпеливо спросила буфетчица. Анатолий не отвечал, провожая взглядом паренька.
«Сейчас, или будет поздно, – пронеслась мысль. – Паренек выйдет, деньги возьмет, а бумажник выбросит. Пока еще можно задержать… Но ведь дал себе твердый зарок – не вмешиваться…» И все же молодой человек еще раз взглянул на пострадавшего, чтобы окончательно решить, стоит ли за него вступаться. Жирный, круглый, в дорогом костюме, на руке блестят часы в толстой золотой браслетке и золотой перстень. Этот пассажир будто сошел со страниц «Крокодила» и вызывал чувство острой неприязни.
Прозвучал жестяной голос дикторши, объявившей об отходе поезда через две минуты. Отбежав от прилавка с бутылками в руках, Анатолий чуть не наскочил на милиционера. Перелистывая паспорт «отпускника», милиционер задавал ему вопрос, чтобы поймать на неточности: как фамилия, где паспорт выдан?
«Тебе бы газированной водой торговать, а не воров ловить», – подумал Анатолий. Сказалась былая неприязнь к милиции, воспитанная с детства, когда его пугали: «Вот придет милиционер и унесет тебя, баловника, в черном мешке».
Милиционер делал то, что положено, и если бы Анатолий сказал ему о мальчишке в «лондонке», то и разговор с «отпускником» был бы иным и в ином месте.
Ловко вскочив на подножку вагона уже двинувшегося поезда, Анатолий прошел в свое купе, испытывая почти спортивную радость оттого, что успел все-таки раздобыть воду. Он лихо, одним движением, поставил на стол четыре бутылки фруктовой:
– Прошу!
– Как… Это вы для нас? – с изумлением спросила соседка по купе, и довольная улыбка расплылась на ее полном, раскрасневшемся, потном лице.
– Вижу, мучаетесь, а дочь послать боитесь, как бы не отстала от поезда… Ну и я… – Молодой человек не закончил и смутился под благодарными взглядами матери и ее семнадцатилетней дочери.
– Да вы просто прелесть! – восторженно воскликнула женщина. – Совершенно незнакомый человек – и так любезен! – Назидательно подняв пухлый палец, она продолжала: – В чем, собственно, заключается основная черта воспитанности? В том, чтобы делать приятное каждому, кто заслуживает этого.
– Кто же заслуживает? – спросил насмешливый голос с верхней полки.
– Каждый, кто не доказал обратного, – бойко ответила она, и все засмеялись.
Засмеялся и спросивший человек с проседью, лежавший наверху с книгой.
– Об этом мой муж читает лекции, – продолжала дама. – Публика его обожает… Налейте, пожалуйста, лимонной! Его лучшая лекция – «Об основах морали и этики советского человека». Тема, на первый взгляд, скучная, но он умеет так живо ее преподнести, так живо… Чудесная вода. Неужели в Орле такую делают?.. Поверите ли, на его лекции столько публики набивается, что даже в проходах стоят. Как он красиво говорит о рыцарском отношении к женщинам! Да… А этого, к сожалению, так не хватает нашей молодежи… Ах, наша молодежь! Горе! Налейте еще немного. Ох, африканская жара! Невозможно…
Пассажирка выпила два стакана воды и, откинувшись на подушки, принялась обмахиваться платочком.
– Я вам очень советую послушать лекцию мужа. Конечно, не с воспитательной целью… Вы достаточно воспитанный юноша, а из интереса. Скучать не будете. Вы надолго в Москву?
– Теперь надолго. – Юноша сел на край полки.
– Теперь? Откуда же вы едете?
– Из колонии. Возвращаюсь домой.
– Что? Что вы сказали? Из… из колонии? И вы… так спокойно об этом? – Женщина смешалась. – Нет, вы шутите! – пролепетала она.
– Какие тут шутки! – усмехнулся молодой человек.
– А за что вас? – невольно вырвалось у девушки.
– Лика! – возмущенно воскликнула мать.
– Я, право, не хотела… я думала… – пробормотала девушка. – Простите!
– Другие скрывают, а мне… зачем же врать? Ну, был осужден за разбой по Указу сорок седьмого года. Ну, ко мне как к несовершеннолетнему применили смягчающую статью, потому и срок определили в восемь лет. Отбыл четыре года и еду, – строго, почти официально сказал Анатолий, глядя прямо перед собой.
– За разбой?! – воскликнула девушка. Пристальный взгляд ее широко открытых глаз выражал и затаенный страх и любопытство.
– Да, осудили за разбой, но ведь я сам был в этом виноват. Никого не виню. И не жалуюсь. – Молодой человек с вызовом посмотрел на нее. Он был готов ответить на любой ее вопрос, если даже он коснется самого сокровенного из его недавнего прошлого.
– Прошел один по делу? Взял «мокрое дело» на себя? – раздался голос сверху. Спрашивал пассажир с проседью, который почти всю дорогу молча лежал на полке с книгой в руках.
– Могу рассказать, – предложил Анатолий, прямо глядя на мать с дочерью.
– Ни в коем случае! Что вы! О разбоях? Кровавые подробности при девочке… Нет, нет! Даже и не думайте! – На лице пожилой женщины появилось непритворное выражение ужаса. Она даже вскинула руку, будто хотела закрыть рот юноше.
– Как хотите! – буркнул Анатолий и, помолчав, добавил: – Есть восточная поговорка: «Умный человек не споткнется дважды об один и тот же камень». Сам виноват во всей этой истории. Глуп был. – Он неловко улыбнулся пассажирам.
Старушка с боковой полки, ее муж, строгий худой старик, и еще трое скучающих, заглядывавших из купе справа, неприязненно и сурово смотрели на него. Улыбка медленно сошла с лица Анатолия Русакова.
– «Отпускник»! – вдруг громко и язвительно бросил мужчина с одутловатым, рыхлым лицом и белесыми глазами, прислонившийся к вагонной стойке.
Пассажиры переглянулись.
– Никакой я не «отпускник». – Анатолий покраснел. – С меня судимость снята, – тихо объяснил он.
– Знаем мы вас! – зло крикнул стоявший в проходе.
На его голос подошли еще несколько любопытных.
Вверху будто грохнул выстрел. Это пожилой пассажир захлопнул книгу, спрыгнул с полки и сел рядом с Анатолием. Быстрыми насмешливыми глазами он оглядел собравшихся пассажиров. Анатолий не мог отвести взгляда от руки этого человека, вернее, от силуэта церкви, вытатуированного на его руке повыше локтя. Он-то понимал, что это значит. Понимал и молчал, мысленно, в который уже раз, повторяя себе: «Никогда, нигде, ни по какому поводу не связывайся с ворами, с блатными, даже с близкими к ним, даже в случайном разговоре, и ни во что не вмешивайся. Сторонись…»
– Ишь, прикидывается агнцем! – злорадно сказал мужчина, назвавший Анатолия «отпускником». – Теперь, граждане, берегите свои вещички и карманы…
И тут Анатолий промолчал. Но человек с книгой зло посмотрел на говорившего и, четко выговаривая каждое слово, сказал:
– Уходите-ка, гражданин хороший, на свое местечко и парня не обижайте. Что он вам плохого сделал? Украл у вас? Оскорбил?
– Так он же сам признался…
– Вот именно! Это понимать надо! Тот, кто замыслил плохое, о себе такого никогда не скажет. Зачем возбуждать недоверие?
– Я знаю случаи…
– Случаи? – воскликнул пассажир с книгой. – Их немало, не только плохих, а и хороших. Я сам – случай. И со мной когда-то случилось… – Он показал на татуировку выше локтя.
– Вот и защищаешь…
– Вот и защищаю, потому что вижу цену человеку. Ежели уж парень так говорит, не ловчит перед народом, не валит вину на Сашку да Машку – значит, хоть топило его и ломало, да не сломало и не утопило. Выбрался… Человеком хочет стать. И нечего всяким горлопанам мутить душу его, сбивать с веры в себя…
– Это я горлопан?
– Не позволю обижать, травить парня, ставшего на правильный путь. Когда я после лагеря устраивался на работу, нашлись такие, вроде тебя, недоумки, ставшие поперек пути в правильную жизнь. Ну, свет не без умных людей. А то бывает и так: сам тихий ворюга, нахапает, дачку из ворованного и на ворованное себе построит, и сам же орет: «Берегись вора!»
– Позвольте…
– Не позволю! Тоже придумал потеху! Как не стыдно!
В словах этого человека было столько твердого сознания правоты и справедливости, что любопытные разошлись, испытывая неловкость. В купе вошел молодой человек и обратился к нему:
– А мы вас давно ждем, Николай Иванович!
Пассажир встал и негромко сказал Анатолию:
– Не будь овцой, а то волки съедят. Ежели кто к тебе привяжется – дай мне знать. Я буду в крайнем купе направо.
Он быстро двинулся из купе. Молодой человек задержался, уступая ему дорогу. Мужчина с одутловатым лицом, все еще стоявший у косяка, тронул его за плечо и шепотом спросил:
– Этот – кто такой?
– Николай Иванович Семахов, – ответил молодой человек таким тоном, будто это все объясняло. И, так как рыхлый пассажир все еще удерживал его, добавил: – Сталевар! Вы что? Газет не читаете?
Пассажир что-то проворчал и ушел.
В купе наступила тишина. Все молчали.
«Не будь овцой, а то волки съедят, – мысленно повторил Анатолий. – А как же с решением ни во что не вмешиваться, никогда не ввязываться?»
Девушка негромко проговорила:
– Ну, зачем вы сказали о… – Она запнулась. Не хотелось произносить такие страшные слова, как «разбой, грабеж».
– Как – зачем? – нахмурился Анатолий. – Обещал говорить только правду и говорю. А сейчас вижу, что это не легко…
Мать девушки насторожилась.
«Этот пусть раскаявшийся, но все равно преступный тип, – беспокойно думала она, – своей искренностью, конечно, показной, хочет вызвать сочувствие Лики. А она очень отзывчива, ее подкупают честность, благородная поза. Надо сейчас же прекратить это знакомство».
И Агния Львовна с подчеркнутой сухостью спросила:
– Сколько я вам должна за две бутылки воды?
– Да ничего! Я ведь так… угостил, – смущенно пробормотал Анатолий.
– В мои принципы, – заявила Агния Львовна, – не входит принимать угощение от незнакомых лиц. Так сколько же?
– Я не знаю… Да не надо! Мелочь… Не возьму.
– Повторяю, это вопрос принципа! Сколько же?
– Не помню, – резко ответил молодой человек.
Агния Львовна подсчитала сама и протянула деньги.
Они так и остались лежать на столике. Анатолий отвернулся и, почти уткнувшись лбом в стекло, стал смотреть в окно.
Вдруг девушка порывисто встала.
– Лика! – громко, даже несколько вызывающе сказала она и протянула руку юноше.
В этом жесте было все: и протест против мнения большинства, и стремление показать, что она, Лика, совсем не такая, как другие, и утверждение своей самостоятельности, и осуждение матери.
Анатолий был самолюбив, как и большинство молодых людей. Встретив такое враждебное отношение к себе попутчиков, он ни за что не стал бы добиваться их расположения. Но девушка смотрела на него с таким искренним доброжелательством, без малейшего намека на оскорбительную жалость, смотрела так открыто и прямо! Он поспешно вскочил, задев плечом верхнюю полку, и порывисто сжал девичью руку. Ведь это была рука первого человека «на воле», протянутая ему в знак доверия. И он постарался вложить в рукопожатие и во взгляд всю силу своей благодарности.
– Анатолий Русаков, – четко назвался он, глядя в большие карие глаза этой смуглой стройной девушки. Он стоял, не выпуская ее руки, и вопросительно смотрел на Агнию Львовну. Та подчеркнуто резко отвернулась к окну. Девушка искоса взглянула на мать и сердито сжала пухлые, почти ребячьи губы.
– Лика – это Елена. Елена Троицкая, – добавила она, отнимая руку, и, чтобы сгладить неловкость, заговорила быстро, почти скороговоркой: – Вы были в Крыму? Не были! Ах, как там хорошо, изумительно! Море синее-синее, как на детской картинке. А кругом зеленые горы и серые скалы. И внизу, у моря, золотая полосочка пляжа. Я в первый же день обгорела на солнце, и мама три дня мазала меня кислым молоком и не позволяла выходить. Но потом я наверстала. Видите, как загорела?
Девушка приподняла темно-золотистые обнаженные руки.
«Красивые руки», – подумал Анатолий, но сказал:
– Красивый загар!
Лика принялась рассказывать о походах и поездках по Крыму – о вершине Чатырдага, где их застал туман, об олене в заповеднике, о летучих мышах в пещерах и о ядовитых сколопендрах.
– Нет, вы обязательно побывайте в Крыму!
– Клянусь! – с шутливой торжественностью провозгласил Анатолий и усмехнулся чуть снисходительной улыбкой взрослого, порядком уставшего человека, странно мелькнувшей на его мальчишеском лице.
– Вы чего посмеиваетесь? Я серьезно говорю! – горячилась Лика. – Лучше всего начать с поездки на теплоходе «Россия», от Одессы до Ялты. Почему вы улыбаетесь?
– Почему я улыбаюсь? – переспросил юноша. – Да так… Вот вы говорите: «Крым, море, горы, теплоход…» Сами радуетесь и обязательно хотите, чтобы все люди кругом так же радовались. Вы… ну, в общем, славная, очень хорошего людям хотите…
– Приятно слышать! Вы, оказывается, мастер на комплименты. Поздравляю! – Девушка кокетливо поправила волосы.
Анатолий смешался, насупился и с нарочитой грубоватостью пробасил:
– Где уж нам, виноватым да сероватым, деликатесы разводить… Значит, на теплоходе «Россия» вдоль Крыма путешествовать советуете? Только у меня на это монет нет, да и некогда. У меня делов, – он так и сказал «делов», – полон рот.
Теперь Лика смутилась так, что даже сквозь плотный коричневый загар пробился румянец и залил все ее лицо и тонкую шею. Она взлохматила только что охорошенную головку и, не зная, что сказать, пробормотала:
– У моих друзей-студентов тоже было маловато денег, они по туристским путевкам поехали… А я… я в Крыму не бездельничала, я собирала образцы окаменелостей из юрских отложений…
– Вы студентка? – миролюбиво спросил Анатолий после минутной паузы.
– Я выдержала экзамены в МГУ, – обрадовалась Лика. – Мы будем заниматься в новом здании на Ленинских горах. Вы там были?
– Когда же? Показывали кинохронику в колонии.
– Ах, да! – Лика снова так покраснела, что даже росинки пота проступили на висках. «Дура бестактная, – мысленно ругала она себя. – Лошадь!»
Анатолий, будто ничего не замечая, продолжал:
– Я, знаете, всерьез метил в путешественники. Бывало, вернется мой дядя, штурман дальнего плавания, из рейса и столько порасскажет! Подарил он мне книгу Дарвина «Путешествие на корабле “Бигль”». Я ее раза три прочитал. Разложу на полу большую карту мира, на нее книгу, сам тут же растянусь и путешествую… И твердо решил: объезжу все океаны! Потом читал книгу о путешествиях Пржевальского, «В сердце Азии», и захотелось стать таким, как он. Потом решил пойти по маршрутам Арсеньева. Дядя взял меня с собой на охоту. Ну, уж тут я твердо надумал стать следопытом-охотником и на всю жизнь уехать на Север. Книги об охотниках и путешественниках помогали мне в самые трудные и скверные дни даже в колонии…
– А я бы не могла убивать птичек.
– А волки, лисы, медведи? Да разве в добыче дело?
Важно другое: лес, реки, болота, утренние зори… Соревнование с птицей и зверем в зоркости, ловкости, выдержке. Это мировецкий спорт, больше чем спорт.
– Значит, вы изменили науке и решили стать охотником?
– Охотился-то я всего два раза, дядя редко бывал в Москве. А путешествовать и вовсе не пришлось. Разве что ночью убежим из пионерского лагеря, лазаем по кручам и бродим в лесах, ориентируясь по звездам. А то форсируем реку и построим шалаш на острове, разведем костер, наловим рыбы, сварим уху. А сейчас я люблю автомобиль. – Анатолий блаженно улыбнулся. – Сядешь за баранку и весь мир забудешь. Я бы такой вездеход построил, чтобы летать мог. Сел бы на такой – это получше теплохода «Россия» – и подался в дальние края!
– На великие свершения! – воскликнула Лика, и нельзя было понять: то ли всерьез, то ли это был иронический возглас.
– Какие уж там «великие свершения», – отрезал Анатолий. – Мне бы десятый класс окончить… А потом, может, удастся в автомеханический институт поступить.
Он поймал чей-то любопытный, насмешливый взгляд, и ему расхотелось откровенничать.
– Вы будете геологом, – переменил тему Анатолий, – это тоже здорово интересно. Один бывший колонист, он теперь геолог, рассказывал нам, как ищут полезные ископаемые с самолета. Вот здорово! Летает человек над горами, над тайгой, смотрит в аппарат и узнаёт, что таится глубоко в земле.
– Я буду географом, – поправила Лика. – Я хотела на геологоразведочный, да мама запретила.
– Это неженское дело, – не поворачивая головы, заметила Агния Львовна. Она была очень недовольна поведением дочери и с нетерпением ждала малейшего предлога, чтобы прервать разговор молодых людей. «Нет, как он втирается в доверие девчонки! А смотрит, будто объясняется глазами в любви. И следит, следит за собой, – ни одного грубого словца. Ох, волк в овечьей шкуре… А моя-то дурища совсем размякла, – зло размышляла мать, – все принимает за чистую монету, восхищена раскаявшимся грешником». Нет! Ее, Агнию Львовну, на мякине не проведешь.
Но она не дура, чтобы искать с ним ссоры. Это надо кончить как-нибудь иначе.
Агния Львовна дорого бы дала за то, чтобы «этот тип» сорвался в разговоре, позволил бы себе двусмысленность или словцо из Боровского лексикона. Вот тут и был бы конец знакомству. Лика этого не стерпела бы.
Девушка и молодой человек все так же стояли лицом к лицу в узком проходе купе, положив локти на поднятые полки. Почувствовав неприязненность в голосе матери, Лика смутилась и сказала Анатолию:
– Я вам сейчас покажу крымские снимки. Я много фотографировала. – Она присела и вытащила чемодан из-под лавки.
Мать схватила ее за руку:
– Лика, все уложено, и я не позволю перерывать!
– Но мам…
– Дорогая моя, держи свои фантазии при себе.
– Но мам!
– Никаких «но»! И что за тон в разговоре с матерью? Сейчас же задвинь чемодан обратно!
Дочь, не двигаясь, упрямо смотрела на мать.
«Э, да ты избалованное чадо, и с характером», – подумал Анатолий. Девушка рывком задвинула чемодан под лавку и, тяжело дыша, села рядом с матерью. Ее темные глаза стали еще темнее.
– Заходите к нам в Москве, там я покажу вам крымские фотографии, – сказала она юноше. – Особенно хорошо получилась обсерватория. Мой младший братишка бредит астрономией, хочет, когда вырастет, лететь на Луну, на Марс. Все боится, что его опередят. Обсерваторию фотографировала специально для него. Товарищи прозвали Боба «лунатиком». Его специальность – Луна. Есть в их кружке юных астрономов и «солнечники», и «планетарщики», и «переменщики». Эти бредят переменными звездами.
– У меня был приятель Юрка Кубышкин, – оживился Анатолий. – Он тоже по уши влюбился в астрономию, его прозвали Белым карликом. Есть маленькие, но очень плотные звезды. Один наперсток их вещества весит тридцать тонн! Вот такие звезды и называют «белыми карликами».
– Не может быть! В наперстке – два вагона груза! – раздался голос старика с боковой полки.
– Юрка Кубышкин, – продолжал Анатолий, – не был похож на кубышку, а, скорее, на великана. Драчун был. Такой голосистый, шумливый. Характер был не очень подходящий для будущего ученого.
– Вы говорите «был»? Он умер?
– Что вы! Жив-здоров! Когда мы учились – он на три класса старше меня, – уже тогда мастерил настоящие радиоприемники, хотя был драчуном. Но ведь люди очень меняются…
Левая щека Анатолия задергалась. Он снова вспомнил злые строчки из письма Нины – одноклассницы, с которой дружил. Это письмо он получил в колонии вместе с первым письмом матери. Нина писала: «Ты предал нашу дружбу. Ты говорил о Человеке с большой буквы, о красоте и силе его духа. Но к тебе это не относится. Ты подлец!» Захочет ли Нина, захотят ли другие ребята возобновить с ним дружбу? Ведь стоило сейчас сказать о том, что он был в колонии, как мать девушки даже разговаривать с ним не захотела. А тот, из соседнего купе, даже «отпускником» назвал. Если он в Москве позвонит своим бывшим одноклассникам, а они его к черту пошлют? Эта мысль была нестерпимой.
– Так вы заходите к нам. Мы живем в Трубниковском переулке. – Лика назвала номер дома и квартиры.
– Я живу совсем недалеко от вас, на Воровского. Есть телефон… – И тут же подумал: «Вряд ли зайду к ним. Мать отмалчивается… Да что мне мать… Вот Лика почему зовет? Наперекор матери, каприз? Наверное, найдутся друзья, которые ей наговорят: “С кем водишься? Он же был осужден! Уголовник!” Нет, она, кажется, славная, душевная дивчина. По-хорошему приглашает».
– Зайду! – подумав, сказал Анатолий. – Только не знаю когда. Придется сразу засесть за учебники. Нужно еще достать их.
– А вам для какого класса? У меня есть старые. Да вы не стесняйтесь. Если надо, я помогу вам подготовиться. Или вы слишком горды, чтобы принять помощь девчонки?
Агния Львовна не в силах была больше сдерживаться.
– Послушать ее, – сказала она, глядя в окно, – так она весь мир готова пригласить к нам в гости!
– Пусть это вас не беспокоит, – отрубил Анатолий и решил, что в дом к этой «мадам» его нога не ступит.
Он положил локти на столик, уставился в окно.
– Мама! – протестующе воскликнула дочь, но мать ответила ей яростным взглядом.
Постукивали колеса на стыках рельсов, мелькали телеграфные столбы, появлялись и исчезали деревни, поля, заводские трубы, сады.
Анатолий раскрыл книгу. Он машинально перелистывал страницы и думал о своем. Что ждет его дома? Неужели люди будут так же шарахаться от него, как эта Агния Львовна? А что сулит встреча с бывшими «дружками»?
Он хорошо знал, что «блатные» закоренелые уголовники грозят местью и расправой тем воспитанникам колоний, которые твердо решили порвать с преступным миром. На встречах с бывшими колонистами – а среди них были летчики, учителя, инженеры, рабочие, председатели колхозов – заходил разговор и об этих угрозах. Слушая рассказы людей, сумевших выбраться из болота на ясную и прямую дорогу, Анатолий понял, что рецидивистам сильных не запугать, что им удавалось «брать на испуг» только людей трусливых, слабохарактерных или падких на дешевую лесть. Он, Анатолий, не из таких! Теперь его не провести. Старые «дружки», если они в Москве, конечно, опять попытаются втянуть его в свою компанию – кнутом и пряником. Таков неписаный воровской «закон»: если кто связался с ворами, то надо удерживать его всеми средствами, вплоть до ножа. Однако у него хватит сил устоять!
Вспомнился случай в станционном буфете. Правильно ли он сделал, упустив того парня в тельняшке с его мальчишкой-сообщником? Как жить, как поступать дальше в таких случаях?
Уезжая из колонии, Анатолий твердо решил: во-первых, говорить о себе только правду. Не скрывать от людей своего прошлого, ведь он сам же осудил себя строже всех судей. Во-вторых, ни при каких обстоятельствах не сталкиваться с «блатными», не ввязываться в ссоры с ними, проходить мимо. Ни дружбы, ни ссоры.
Но в первый же день здесь, в вагоне, он понял, как трудно – ох как трудно! – выполнить первое правило. А второе? «Проходить мимо, моя хата с краю…» Не трусость ли это? Сколько еще бед наделает тот, в тельняшке. А мальчишку, может быть, можно было спасти, пока он не совсем увяз… Нет, все же надо держаться подальше, подальше от воровского волчьего мира! Эх, скорей бы доехать. Надоел этот вагон…
Анатолий с обидой думал о своих спутниках (кроме Лики, конечно!), злился на себя. Ну почему он назвал только статью кодекса, по которой был осужден, а ни слова не сказал о том, как все это случилось? Но как рассказать? Разве объяснишь все?
В купе вошла Лика, щеки ее пылали, глаза сузились, между бровями легла упрямая, сердитая морщинка. Видно, объяснение с матерью было бурным. Она уселась против Анатолия и тоже с преувеличенным вниманием стала смотреть в окно. Анатолий наклонился к ней и, понизив голос, волнуясь, сказал:
– Может быть, мы никогда не встретимся, но мне не хочется, чтобы вы считали меня… Одним словом, надо было сразу сказать, что я по собственной глупости взял на себя преступление, которого не совершал, и вина моя в другом.
– Значит, вы не… – Лика запнулась.
– Нет! Не вор и не грабитель.
– Но тогда зачем же вы взяли на себя?
В купе вернулась мать, и Лика громко сообщила:
– Мама, оказывается, Анатолий не совершал того, за что был осужден.
Агния Львовна скептически поджала губы, отчего вокруг ее рта собралось множество морщинок, а потом, строго посмотрев на Анатолия, проговорила:
– Но ведь вы же сами назвали статью Уголовного кодекса и сами сказали «за разбой». Подумать только – «за разбой»! Ну, довольно об этом… Что же это мы расселись! Ведь уже подъезжаем! – сказала она, лишь бы прекратить разговор.
– Да, уже Сортировочная! – отозвался Анатолий чуть хриплым от волнения голосом. Он громко откашлялся, привычно встряхнул головой, отбрасывая назад длинные темные волосы.
– Лика! – строго сказала Агния Львовна. – Смотри за вещами…
Девушка обиженно передернула плечами и незаметно скользнула взглядом в сторону молодого человека. Понял ли он намек? Не смеется ли над выходкой матери? Но Анатолий сидел с непроницаемым лицом, словно ничего не видел, ничего не слышал.
Поезд остановился. Высунувшиеся из окон пассажиры перекликались с встречающими.
– Почему-то Поля не видно. Или не получил телеграммы? – волновалась Троицкая. – Носильщик! Носильщик!
– Могу помочь! – предложил Анатолий.
В руке он держал небольшой новенький чемодан.
– Нет уж… спасибо! – отозвалась, не обернувшись к нему, Агния Львовна. – Носильщик! Где же носильщик? – сердито кричала она.
Пассажиры везли с собой много фруктов и сразу же перехватывали носильщиков. Вагон пустел. Не выпуская лаковую сумку из правой руки, Троицкая взялась этой же рукой за чемодан, другой подхватила перевязанный веревками ящик с фруктами и, согнувшись, потащила все это к выходу.
– Не забудь портплед, саквояж, решета… Я пришлю носильщика, – нервно говорила она дочери.
Анатолий мягко, но решительно взял из рук девушки объемистый портплед, поднял три связанных решета с виноградом, свой чемодан и пошел вперед.
Агния Львовна увидела выходящего из вагона Анатолия с их вещами, рядом с ним свою дочь и, уже не надеясь на носильщика, двинулась вперед по перрону. Через минуту она обернулась и увидела, что Анатолий швырнул вещи на перрон и ринулся под вагон. Она оцепенела, инстинктивно взглянула на свою ношу в правой руке. Сумки с деньгами не было… Ошеломленная, она выпустила чемодан. Одновременно из руки выпала кожаная ручка от сумки…
– Вор! Держите вора! – закричала она.
Подбежала Лика. Их мгновенно окружила толпа. Появились два милиционера. Пока Троицкая сбивчиво рассказывала о случившемся, потрясая ручкой от сумки, дочь собирала вещи в одно место.
Мать была близка к истерике. В сумочке было около трехсот рублей. Вместе с ними пропали паспорта, золотые часы, у которых сломался браслет, бусы из гранатов.
Один милиционер полез под вагон, второй попросил пострадавшую зайти в вокзальное отделение милиции, чтобы составить протокол.
Теперь вещи несли носильщик и шофер, с опозданием приехавший за Троицкими. Лика шла, опустив голову, красная от стыда. Она называла себя круглой дурой, девчонкой, которую так легко обманул первый встречный. Если бы Троицкая была спокойнее, она бы заметила состояние дочери, напомнила ей о том, что предупреждала, предвидела…
Они вошли в комнату милиции. Только что выпущенный из школы молоденький сержант с едва пробивающимися усиками заменял ушедшего на обед дежурного. Сержант был горд собой, новым мундиром, своей ответственностью. Единственное, что его смущало, – это маленький рост и молодость. Но и то и другое он старался возместить подчеркнутой официальностью и строгостью. Он обстоятельно расспросил потерпевшую, и Троицкая подробно описала наружность молодого человека, назвала его имя и фамилию, московский адрес. Дежурный взял телефонную книгу, нашел телефон квартиры и попросил позвать кого-нибудь из Русаковых. Он сказал, что звонят из милиции, проверяют адрес Анатолия Владимировича Русакова. Значит, адрес правильный? Нет, спасибо, больше ничего…
Протокол был почти готов, когда дверь открылась и в комнату ввели двоих. Один из них был Анатолий Русаков. Из его носа капала кровь, левая щека была расцарапана, комбинезон на груди разорван.
– Он украл! Этот самый! Русаков! – закричала Агния Львовна, указывая пальцем на Анатолия.
Юноша тяжело дышал. Он вытер ладонью пот с лица, невольно размазывая кровь.
– Вы украли? Вы Анатолий Русаков? – нахмурив белесые брови, спросил сержант. – Предъявите документы!
– Не я! – ответил Анатолий, подавая паспорт и документы, выданные в колонии.
– Как же так? Паспорт выдан на имя Анатолия Владимировича Русакова и фотография ваша, а говорите – не я! – удивленно спросил сержант.
– Я так и знала! Я так и чувствовала, – твердила Агния Львовна.
– Я – Русаков, но я не крал! – закричал Анатолий.
– А ну, потише! Вы срезали сумочку у гражданки Троицкой? Отвечайте!
– Он, он! – истерично взвизгнула Троицкая.
Анатолий в упор смотрел на Агнию Львовну, затем взглянул на Лику, увидел ее презрительный, испытующий взгляд и ударил кулаком по барьеру.
– Гражданин! Не позволяйте себе!.. – крикнул молоденький сержант.
– Дело было так… – начал Анатолий.
…Идя вслед за Троицкой, Русаков заметил возле нее паренька в «лондонке», того самого… Мальчишка быстро срезал сумочку и скрылся под вагоном. Женщина и не заметила этого.
Анатолий бросился вдогонку. Воришка, оказавшись по ту сторону вагона, побежал к «хвосту» поезда. Заметив, что его преследуют, он нырнул под вагон стоящего рядом поезда. Анатолий бежал за воришкой почти до паровоза. Мальчишка нырял под вагоны. Маленький, юркий, он делал это проворнее Анатолия. Анатолий все же не отставал. Воришка, петляя под вагонами, снова очутился возле их поезда.
Внезапно из-под вагона наполовину высунулся парень в тельняшке. Его рука мгновенно перехватила украденную сумочку, Анатолий, сразу разгадавший этот маневр, молча бросился на парня, рывком вывернул правую руку противника назад, заставив его выронить зажатое в пальцах лезвие безопасной бритвы. Обезоружив противника, Анатолий рванул тельняшку из-под штанов, и сумка выпала на землю. Подбежал милиционер. Они вдвоем повели вора. Это был тот самый, из орловского буфета. Мальчишка исчез.
Задержанный предъявил дежурному паспорт. Он, Ханшин Семен Маркович, виновным себя не считает, все сказанное Русаковым ложь и клевета. Никакого мальчишки он, Ханшин, в глаза не видел. Если Русаков срезал сумку и попался, то зачем валить на других? Он, Ханшин, завязывал шнурок на ботинке, когда Русаков, желая проскочить под вагоном, чтобы спастись от милиционера, споткнулся о него, выронил украденную сумочку, а теперь наговаривает. Русаков украл, пусть сам и отвечает, а его, Ханшина, надо немедленно освободить. Улик нет.
Милиционер показал, что видел, как Русаков гнался за мальчишкой, как на пути показался Ханшин, вылезший из-под буферов и снова подавшийся туда же. Передавалась ли сумка, он, милиционер, не заметил, но видел, как Русаков набросился на Ханшина и вывернул его правую руку за спину. Бритва и сумка, когда он подбежал, валялись возле рельсов – вот они. Милиционер подал сумку и лезвие.
Троицкая рванулась к сумке, но сержант поднял руку и предложил ей перечислить все пропавшие вещи. Может быть, это другая сумка? Агния Львовна называла, дежурный записывал, затем сверял с тем, что оказалось в сумочке. Ничего не пропало, Троицкая улыбалась.
– Мама, – неожиданно вмешалась Лика, хмуря брови. – Ты же не видела, что товарищ у тебя срезал сумочку. Зачем же ты это говоришь? Ведь ты не видела!
– Как сумочку срезал, не видела, – растерялась Троицкая. – Но у меня создалось впечатление… когда он побежал…
Анатолий мысленно сопоставлял то, что произошло здесь и в Орле. Если воришка, передав своему «наставнику» сумку Троицкой, отвлекал погоню на себя (упав, он не спешил удрать), значит, украденного на орловском вокзале бумажника у него уже не было, выбросил.
Анатолий сказал милиционерам:
– Обыщите этого Ханшина, он на вокзале в Орле украл бумажник. Бумажник, должно быть, выбросил, а деньги и выигравшая облигация золотого займа должны быть при нем.
Слова Анатолия показались строгому дежурному недопустимым вмешательством в его работу.
– Мы сами, гражданин, знаем, что делать, – назидательно начал он.
Но Ханшин выдал себя: он поспешно сунул руку за спину. Милиционер, более опытный, чем молоденький сержант, заметил это и схватил Ханшина за руку. В заднем потайном кармане брюк нашли пачку денег. Если бы Ханшин уронил их на пол, нельзя было бы доказать, кто именно их выбросил.
– У обокраденного в Орле, – сказал Анатолий, – было семь сотенных бумажек, двадцатипятирублевка и облигация золотого займа, выигравшая тысячу рублей.
– А вы откуда все это так подробно знаете? – недоверчиво спросил дежурный.
Анатолий рассказал об истории в орловском буфете, свидетелем которой он был.
Дежурный пересчитал деньги. Оказалось – точно. Анатолий посоветовал позвонить в отделение милиции на орловский вокзал. Дежурный быстро созвонился, и все подтвердилось.
Начали составлять протокол. Анатолию очень не хотелось, чтобы Ханшин узнал его фамилию, имя и домашний адрес. Но дежурный громко расспрашивал Русакова, хотя обо всем мог прочитать в документах.
– Все это имеется в моих бумагах, – напомнил Анатолий.
– Не учите меня. Адрес? Из Харьковской колонии, значит? Так. Досрочно освобождены… Снята судимость… Так. Были активистом? Отлично!
В самом начале допроса Ханшин поглядывал на Анатолия и чуть улыбался. Он отлично понимал, почему Анатолий не хочет, чтобы вслух называли его имя, адрес. Ханшин держал себя как человек несправедливо обвиненный. Он был вежлив с милиционерами, и даже его резкий, гортанный голос звучал приглушенно. Но, когда у него нашли украденные деньги, а главное, облигацию, послужившую уликой, он сразу переменился. Теперь уже нечего было терять!
– А тебе какое дело? – отрезал он дежурному, когда тот спросил, что за иконка висит у него на шее.
Ханшин был, конечно, зол на задержавшего его «фрайера», но в меру. Он верил в судьбу и приметы, как и все воры. Ему просто не повезло. Недаром черная кошка перебежала дорогу на орловском перроне. Он даже хотел остаться в Орле, но заметил, что одна лапа у кошки белая. Подвела, проклятая! Вдобавок он уже месяц не выполняет клятвы. Дал слово поставить в церкви на сотнягу свечей, но деньги пропил… Все обернулось против него. И «фрайер» этот, как назло…
Так Ханшин думал до той минуты, пока не узнал из громких вопросов дежурного о том, что Русаков вовсе не «фрайер», а «отбывший срок», что в колонии он был активистом. Тогда Ханшин рванул на себе тельняшку и завизжал:
– Продаешь?! Гад! Мусор! Мы с такими активистами…
– Замолчите! – крикнул, покраснев, дежурный.
Ему теперь стало ясно, какой он совершил промах.
Лика не понимала тех слов, которые истерически выкрикивал пойманный вор, но чувствовала – Анатолию угрожает опасность.
– Подпишите протокол! – предложил дежурный.
– Отказываюсь, – сказал Ханшин.
Поставили свои подписи Троицкая и Анатолий.
– Ладно, и я… – медленно проговорил Ханшин.
Он не сводил злых глаз с Русакова.
– Ну, так-то будет лучше, – отозвался дежурный.
Ханшина подвели к барьеру и дали ручку. Он раз-другой окунул ее в чернила, повторяя: «Подпишу, подпишу, сейчас», перегибался через барьер, медленно подвигаясь вправо, к Анатолию, и вдруг выбросил руку с пером в его сторону, целя прямо в глаз юноше. Анатолий, не перестававший следить за ним, мгновенно отпрянул, перо проткнуло кожу над левым ухом, кончик сломался.
Лика бросилась к Анатолию, милиционеры связали вору руки.
Анатолий наклонился над ним:
– Ты что, правилку мне хотел устроить?
– Будет тебе правилка! – кричал вор. – Не уйдешь!
Его увели.
– Как мне благодарить вас? – виновато сказала Троицкая Анатолию.
Он и не глядел на нее.
– Надо немедленно в аптеку, – волновалась Лика, – смазать йодом…
– Вот йод! – Дежурный протянул пузырек. – Вата, пожалуйста, бинт… Сейчас вынем кончик пера… Видите, граждане, с какими нам приходится…
Он встал и торжественно поблагодарил Русакова за содействие милиции, пожал ему руку.
Анатолий хмуро молчал.
Глава II
Выбирая друзей – выбираешь судьбу
Матери Анатолий не помнил. Ему было два года, когда она умерла. У мачехи, Ольги Петровны, своих детей не было, и всю силу неизрасходованной материнской нежности эта добрейшая женщина отдала Анатолию. Чтобы мальчик не узнал, что растит его неродная мать, Русаковы сменили квартиру.
Толя подрос, стал ходить в школу, родители души в нем не чаяли. Был он и тогда упрям, но не до самодурства. Был он и тогда капризен, но не до взбалмошности. Отец никогда не бил его за провинности, но обсуждал с ним его поступки, как взрослый со взрослым. Так никогда не узнал бы Анатолий о том, что Ольга Петровна – его мачеха, если бы ему не шепнула об этом соседка с прежней квартиры. Он не знал тогда, зачем она это сделала. Соседка нашла способ досадить той, которая лишила ее возможности выйти замуж за хорошего человека – отца Анатолия. Она не поленилась разыскать Русаковых, подстеречь мальчика во дворе. Она жалостливо погладила его по головке, перекрестила и, вздохнув, проговорила:
– Сиротинушка ты мой!.. Уж так я любила маму твою, покойницу Лидию Ивановну, так любила… водой нас, бывало, не разольешь… – И, воровато оглянувшись, добавила: – А как с тобой твоя мачеха обращается? Колотит небось?
– Какая мачеха?
– Да Ольга Петровна!
– Так она же моя мама!
– Что ты, что ты, родимый! Грех мать-то забывать! Грех! – Сунув мальчику конфетку, она засеменила прочь со двора.
Толя был удивлен: почему же эта женщина, погрозившая ему пальцем, назвала его маму мачехой? Ведь мачехи из сказок всегда злющие-презлющие, а его мама хорошая, добрая!
Вопрос сына взволновал отца.
– Забудь, сынок, болтовню этой бабы-яги. Она страшнее, чем ведьма из сказки. И, если эта змея снова появится здесь, не слушай ее, не бери у нее ядовитых конфет, а беги домой к мамочке. Уж я постараюсь, чтобы эта дрянь обходила наш дом.
– Я ведь сердцем чуяла! Вот она… твоя знакомая… – непривычно гневным тоном сказала Ольга Петровна.
– Не надо при мальчике. Толя, пойди погуляй.
Толя вышел, но и за дверью слышались их взволнованные голоса. Во дворе он простодушно рассказал ребятам, игравшим в мяч, о том, что случилось с ним сегодня: «Приходила ведьма, принесла ядовитые конфеты, хорошо, что я не успел съесть их, выбросил. Сказала, что моя мама – мачеха».
Ребята смеялись. С неосознанной жестокостью они стали дразнить его «пасынком» и, пасуя ему, кричали: «Пас-сынок, пасынок…» Постепенно «пас-сынок» перешло просто в «инок», а «инок» – в «монах». Толя злился, яростно бросался на обидчиков, кричал:
– Вы врете, я не пасынок, я мамин!
Мальчишки потешались. Незамедлительно появилось прозвище «мамин монах». Наконец кто-то соединил оба слова, взяв первые слоги. Так появилось нелепое слово – «Мамона». Эта кличка крепко прилипла к Анатолию.
Вскоре умер отец. Ольга Петровна – медсестра в больнице, – случалось, и раньше дежурила круглосуточно. А теперь, стараясь заработать побольше, оставалась на сверхурочные дежурства возле тяжелых послеоперационных больных. Толя целыми днями оставался один. Постепенно рушился привычный семейный уклад: мальчик готовил уроки, ел и ложился спать когда вздумается, читал в постели.
Часами он бездельничал во дворе или слонялся на улице. Его влекло к компании великовозрастных подростков. Вначале они не удостаивали Толю своим вниманием. Потом, «просто так», «от нечего делать», они попытались сделать Мамону своим шутом.
Толя был самолюбивый, смелый, добрый и отзывчивый мальчик. Вначале он краснел, стеснялся отвечать на грубую ругань руганью и убегал. Но куда деться? Постепенно он научился сквернословить «ради форса», на один пинок отвечал тремя пинками, на один удар – градом ударов. Самый младший и слабый из них, он дрался отчаянно и яростно, не жалея ни себя, ни противника. Желающих «получить сдачи» находилось все меньше и меньше. Разве что удавалось натравить на Мамону юнца, незнакомого с его нравом. Зато «дружки» раскусили характер Толи.
«Ты, Мамона, парень во, на большой с присыпочкой, свой в доску». «Среди всей компании самый компанейский». «Знаем, ты за друга – в огонь и в воду!» «С характером, смельчага!»
Они наперебой превозносили и нахваливали его, чтобы под разными предлогами выманивать у него деньги, оставленные Ольгой Петровной на хлеб, на молоко.
Толе льстила репутация «самого компанейского парня», «самого бесстрашного друга», которому «море по колено». Дух мальчишеского молодечества, ухарства и озорства все больше овладевал им.
В его классе ребята нечаянно разбили оконное стекло. Пришел директор. Никто не признавался. Все молчали. Толя взял вину на себя.
Кто-то вырезал на парте хулиганскую надпись. Требовали, чтобы виновник сознался. Толя громогласно заявил: «Я вырезал».
Директор несколько раз посылал Ольге Петровне записки, приглашая зайти. Толя записок не передавал: боялся. Не раз приходила классная руководительница, но матери дома не заставала. Когда же Анатолий сильно избил мальчика, ябеду из их класса, руководительница отправилась к Ольге Петровне в госпиталь. Обнаружилось, что Толя не передавал матери записок, что он скрывал полученные двойки…
Ольга Петровна вернулась домой сама не своя.
– Правда ли все это?
– Было дело! Ну и что? Подумаешь!
– Как же так?
– А так, что делал и буду делать!
Ольга Петровна обозвала Толю «неблагодарным, хулиганом, обманщиком». Он грозил уйти из дому. Ольга Петровна разрыдалась, обнимала его, требовала клятв, что это больше не повторится.
– Ну ради отца, сынок, ну обещай быть благородным, как он, честным, никогда-никогда не лгать.
«Учишь не лгать, а сама? – хотел спросить Толя. – Ведь ты же неродная мать… А разве не благородно и не смело брать вину других на себя?» Хотел спросить, но не спросил.
Он насупился, упрямо отворачивался от поцелуев и вот-вот готов был зареветь сам.
– Знаешь что? Начни учиться играть на баяне. Меньше на улице будешь болтаться… Ведь от отца у нас остался баян, сам отец хотел учить тебя, да не пришлось… Хочешь, я найду тебе учителя?
– Найди!
На следующий день Толя вышел во двор притихший, молчаливый. Новоявленные дружки заметили это и встретили его насмешками:
– Неужели поддался на соленую водичку? Слабак! Одно слово – маменькин сынок, Мамона!
О «художествах» Анатолия узнал и дядя Коля, брат отца, штурман дальнего плавания. Он жил в Подмосковье и иногда навещал Ольгу Петровну. Он уговаривал ее держать мальчишку в руках, поблажек не давать, «пожестче драить», а то и до беды недалеко.
Ольга Петровна впервые видела всегда сдержанного моряка таким взволнованным. Она кивала головой, вздыхала: «Если бы отец был жив…», соглашалась, но шли недели и месяцы, а все оставалось по-прежнему. Была она человеком мягким, неспособным на резкость, настойчивость и больше всего боялась, как бы не упрекнули ее в излишней суровости, не напомнили о том, что она мачеха, а не родная мать.
Нашелся учитель-баянист. Мальчик, обладавший отличным слухом, занимался некоторое время с увлечением, а потом снова сорвался. Ольгу Петровну опять вызвали в школу, где был серьезный разговор. Она наконец решила проявить твердость: вечером не пустила Толю на улицу, накричала на него, закрыла дверь комнаты на ключ, в сердцах толкнула к столу – чтобы сейчас же сел готовить уроки.
Мальчик вспылил: ведь сегодня на спортплощадке тренировка по боксу, как же так! В сердцах он впервые бросил Ольге Петровне:
– Чего ты придираешься? Была бы матерью, не издевалась бы надо мной, не тиранила бы. Мачеха!
У Ольги Петровны замерло сердце. Обливаясь слезами, она обнимала сына, а он грубо отталкивал ее, глупо повторяя:
– Не слюнявь! Отстань!
Сколько раз потом он мучительно вспоминал об этом.
С того вечера Ольга Петровна притихла, ни в чем не перечила Толе. Только об одном просила – чтобы он по-прежнему называл ее мамочкой, чтобы никогда-никогда не слышала она от него слова «мачеха».
Школа, двор, улица…
В школе, где учился Анатолий, жизнь шла по одним, писаным, правилам. А на улице и во дворе – по другим, неписаным. И эти вторые, уличные, правила оказывались часто сильнее, чем первые. Школа Анатолия была неудачной. В ней царил дух внешнего, показного благополучия.
Чуткие детские сердца во многом угадывали фальшь и неправду. Ребята знали, что можно не выучить урока, стоять перед доской дурак дураком, но если учитель и поставит двойку, то потом, чтобы не испортить картины «стопроцентной успеваемости» класса, уж тройку-то за четверть выведет.
На пионерских сборах обсуждали все те же классные дела. Скучно… А вот о ребячьих внешкольных делах и интересах, о том, как идет розыгрыш хоккейного первенства, о безобразной драке возле кино, в которой принимали участие и ученики школы, о новых самолетах, о второй, после И.Д. Папанина, экспедиции на дрейфующей льдине, станции «Северный полюс», руководимой С.С. Сомовым, – об этом никогда не заходил разговор.
Однажды школьникам объявили о предстоящей встрече с писателем. Пусть все прочитают его последнюю книгу и будут готовы участвовать в обсуждении.
Анатолий прочел повесть. Нет, он бы не так действовал, как этот Сашко в повести. Бежит Сашко ночью по глубокому снегу в лес, чтобы предупредить командира партизан о том, что в сарае гитлеровцы заперли взятых в плен партизан, а утром их уведут.
Организовал бы Сашко школьников, оглушили бы они часового поленом по голове, выпустили бы партизан из сарая, взяли бы взрывчатку и вместе с партизанами взорвали бы мост! Вот это дело!
И еще… Когда вешали партизанского командира дядю Васю за то, что он поджег фашистские цистерны с бензином, а гитлеровцы не знали о том, что дядя Вася – командир, Сашко нечего было смотреть и плакать, а надо было выйти и сказать гитлеровцам, что это он, Сашко, поджег, а совсем не дядя Вася. Тогда бы дядю Васю освободили и не погиб бы славный партизанский командир.
Толя решил все это сказать писателю. Он попросил учительницу дать ему выступить. «На какую тему?» Толя, волнуясь, пересказал учительнице свои мысли.
– Но ведь это же чепуха, осужденный авангардизм! – возмутилась учительница. – Ты что, писателя учить хочешь?
– Какой такой авангардизм?
– А такой, когда дети, которым надлежит заниматься своими чисто детскими делами, пытаются действовать как взрослые.
– А пионер Павлик Морозов? – возразил Анатолий. – А пионер Леня Голиков, Герой Советского Союза?
– Придется попросить вожатую специально заняться тобой, – рассердилась учительница. – Заруби себе на носу: никаких рецидивов авангардизма в школе мы не потерпим. К тому же список ораторов уже составлен. Будут говорить организованно: трое о достоинствах повести, один о недостатках, а один обратится со словами благодарности к автору и пожеланием ему творческих успехов. И незачем пороть отсебятину. У писателя сложится неправильное мнение об учебном процессе…
Оставь свой нос в покое!
– Вы же сказали: заруби себе на носу, вот я и стараюсь. – А я постараюсь, чтобы с тобой сейчас же, незамедлительно поговорила вожатая, а если этого окажется недостаточным, то поговорим на педсовете. Бессовестный! Недаром же за тобой установилась репутация беспокойного, правда, не лишенного способностей, но дерзкого мальчишки, от которого всего можно ожидать!
Вожатая говорила с Анатолием в том же тоне.
– Проявление инициативы со стороны учащихся мы приветствуем, но, по-моему, тебе в голову лезет нечто несусветное, что нарушает общепринятые меры учебно-воспитательного процесса.
Анатолию очень хотелось спросить у вожатой, почему она, такая еще молодая, а говорит заученными, казенными фразами. Он промолчал. Все равно не поймет…
– Ну почему ты такой? – недовольно спросила вожатая.
Анатолий пожал плечами. Он многое мог бы ей рассказать, о дворе, например, где происходили очень сложные дела. Мог бы, да что с нею, такой, говорить!..
А во дворе обсуждались и решались многие детские дела. Во дворе законодателем был Хозяин – парень двадцати шести лет.
«Кому, – говорил он, – я – Гришка Санькин, кому – Григорий Степанович, а кому и Хозяин».
Хозяин уже давно приглядывался к Анатолию – смелому и ловкому парнишке. Он заметил и его пылкость в дружбе, и его безоглядную щедрость, и бесстрашие, когда дело шло о поддержке товарища. Хозяин, всячески стараясь расположить Анатолия к себе, рассказывал, будто он мальчишкой сбежал на фронт, воевал с фашистами, был отчаянным разведчиком. Из обычного полка он за какие-то мелкие грехи попал в штрафной батальон, а там – самые отчаянные ребята! Но о том, что все его россказни – вранье, Толя узнал намного позже.
«Нет водки, мы организуем ночью экспедицию в окопы к фрицам, захватим шнапса, консервов, “языка” прихватим, какого-нибудь полковника, и назад. Ручных часов у каждого столько, что сплошь от ладони до локтя понавешены. Денег – во! Житуха! Симплекс-комплекс!»
Там же, на фронте, по словам Хозяина, он заболел туберкулезом.
«Я человек, который для друга в огонь и в воду полезет, последним поделится. Этому фронт меня научил», – говорил он.
Но почему-то в рассказах Хозяина отчаянными ухарями, которым море по колено, обычно оказывались не обыкновенные солдаты, а воры. И почему-то сверхгеройские подвиги обязательно сопровождались каким-нибудь удивительно ловким, дерзким и остроумным воровством.
Постепенно Хозяин овладевал воображением Толи. Таких насмешливо говорливых, необычных, не похожих на вечно занятых и скучных взрослых, которые за целый год не перекинутся с мальчишками словом, Толе еще не приходилось встречать.
Отталкивающая внешность Хозяина – скелетообразная фигура, костлявое морщинистое лицо – казалась всем мальчишкам во дворе удивительной. Ребятам нравилась даже его вихляющая походка, они подражали ей, засовывали руки в карманы, оттягивали их так, чтобы с двух сторон «напузырить» брюки, возили по земле расслабленными ногами. Шаг получался какой-то развинченный. Хозяин глядел со стороны и ухмылялся.
Хозяин держался с мальчишками, как с ровней: играл с ними в биту и карты, даже советовался по каким-то мелким делам, сквернословил, бахвалился попойками, рассказывал гнусные истории о жильцах дома. Польщенные таким доверием, ребята старались показать себя старше, чем они были: тоже, отплевываясь, курили, тоже сквернословили, хвастались, грязно говорили о женщинах.
Хозяин не раз вступался за ребят. Кто отобрал у дворника футбольный мяч, когда ребята разбили стекло? Хозяин! Вот так подошел, ни слова не сказал, а только сделал едва заметный жест, и дворник сразу оробел. Кто играл с ними в футбол и прогонял всех, кому не нравились шум и крики? Опять же он, Хозяин! Его ругали хулиганом, бандитом. Ну и что?
Иногда Хозяин водил ребят в кино, угощал конфетами, поил сладким вином. «Потом отдадите», – говорил он. Но долгов он не прощал. Приходило время, и Хозяин становился другим. Не было ни ласковости в голосе, ни шуток. Он требовал. «Нет денег? Возьми у матери из сумочки! Если прячешь деньги в кармане, вытащу насильно. Кто мне не отдает, тот не друг. С друзьями, – поучал Хозяин, – надо рассчитываться в первую очередь». Завидев во дворе чистенького мальчишку в пионерском галстуке, Хозяин подмигивал своей компании, строил смешную постную рожу и издевательски начинал: «Ну, деточки, споем дружнее: “Жил-был у бабушки серенький козлик…”» Он никогда не упускал случая подразнить, высмеять прилежного ученика: «Эй ты, пионер— всем пример! Выслуживаешься перед папенькой и маменькой за конфеточку? Подойди сюда – носик вытру!» Слово «пятерочник» звучало у него издевкой, вроде «подлиза». Получалось, что ребята, которые хорошо учатся, много читают, помогают родителям, – это либо трусы, либо «ишаки», «на таких воду возят». А вот тот, кто поплевывает на все и на всех, знать не хочет никаких обязанностей и живет «легкой жизнью», – о! такой «свой в доску», «кореш», «мировецкий».
Иногда ребята, не желавшие юлить перед ним, яростно спорили, но Хозяин переводил спор в ссору, строптивых бил и прогонял, «чтобы не портили компанию».
Постепенно возле Хозяина сгруппировалось человек шесть самых верных его обожателей. «Хозяйский хвост» – презрительно прозвали их жильцы дома. Эти ребята рабски смотрели в рот своему повелителю, кривлялись, когда кривлялся он, ругались, когда ругался он, улюлюкали и гоготали по его команде. В большинстве своем это были мальчишки, растущие без отцов или настоящей, так необходимой им мужской дружбы.
Анатолий особенно привязался к Хозяину летом, после очень неудачной поездки в пионерский лагерь.
Всегда занятый, часто уезжавший в командировки капитан милиции Корсаков, сосед Русаковых по квартире, как-то встретил Ольгу Петровну и торопливо, на ходу, предупредил, что дружба ее сына с Хозяином может кончиться очень плохо. Ольга Петровна нерешительно заговорила об этом с Толей. Мальчик сразу вспылил, грубо оборвал мать:
– Не учи! Сам знаю, с кем водиться. Немаленький, в няньках не нуждаюсь! К черту твоего Корсакова!
Ольга Петровна ахнула, на глаза ее навернулись слезы, и она поспешила выйти на кухню. Уже не первый раз Толя взрывался необъяснимой, какой-то истерической грубостью. Ольга Петровна робела, недоумевала, тихо плакала, скрывая свои слезы от соседей.
После этой вспышки Анатолий угрюмо замкнулся в себе, несколько дней почти не разговаривал с матерью. Тяжелые, противоречивые чувства одолевали мальчика. Приходили мысли, которые он тут же старался отогнать от себя. Дело в том, что Анатолий и сам иногда испытывал неловкость и стыд при виде жалких кривляний Хозяина и его хищной злобы к людям. Ну зачем, например, портить телефон-автомат, выдавливать стекла в кабине? Или разбивать лампочку в подъезде? Зачем «просто так» сквернословить? Конечно, мать по-своему права. Но когда она сослалась на Корсакова, то Анатолий возмутился.
Чувство мальчишеского желания противоречить, доказать свою самостоятельность оказалось сильнее разума. Какой бы ни был Хозяин, но если Анатолий с ним дружит, то не станет отрекаться от него из-за Корсакова.
Поняв, что Ольга Петровна бессильна, Корсаков позвонил директору школы и сказал, что мальчик попал под дурное влияние, что надо его отвлечь от плохих дружков. Директор школы, узнав, с кем говорит, потребовал от Корсакова, чтобы тот сам занялся Русаковым и этим помог и школе и семье.
– Обязан. Рад помочь. К сожалению, я почти не живу в Москве. Проще всего это можно было бы сделать, если бы я служил в районном отделении милиции, даже в городском управлении и работал на территории Москвы. Но моя работа протекает все время в разъездах. Поверьте мне, это не обычные командировки. В прошлом году я был в Москве в общей сложности один месяц одиннадцать дней. Необходимо занять свободное время Русакова и подыскать ему авторитетного друга… пока не поздно…
– А мать?
– Я предупреждал Ольгу Петровну.
На следующий день директор вызвал к себе Русакова и потребовал признания. В чем? Как – в чем? Ведь не станет же такой занятой человек, как Корсаков, сигнализировать ему, директору, без всякого на то основания.
Анатолий рассвирепел. С этого дня он видел в Корсакове «доносчика и предателя».
Как раз в эти дни Хозяин зазвал Анатолия в котельную. Там в летний день никогда не бывало жарко.
Хозяин молча принялся грызть свои ногти. Потом начал:
– Твоя мать рассказывала женщинам, что этот милицейский, Корсаков, поучал ее: «Не распускайте сына, не давайте болтаться во дворе и водиться с Хозяином, дерите почаще, как сидорову козу». Знаешь об этом?
– Знаю! – угрюмо ответил Анатолий.
– А знаешь, что Корсаков звонил директору школы, чтобы тебя покрепче жучили?
– Так я же сам тебе об этом рассказывал!
– Ну до чего же у этих легавых сволочной характер! Ну чего он к тебе пристал? Жалуется, пакостит. И мне пакостит, и на меня доносит. Из-за него и мне житья не дают. Так что же, прикажешь молчать? Или ты и в самом деле тумак, разиня, симплекс-комплекс?
Хозяин грыз ногти и сопел.
– Никакой я не тумак…
– А я что говорю? Ты парняга что надо, гвоздь! Есть у меня идейка… Надо отбить ему охоту совать нос в чужие дела. Лишь бы ты не оказался рохлей.
– Да ты что? – Анатолий обиделся.
Хозяин не спеша вынул пачку папирос, потянулся к выступу трубы за спичками так, будто они там обязательно должны находиться. Коробка лежала на месте. О ней многие знали, но никто не смел ее снять оттуда.
Хозяин не спеша закурил и дал папиросу Толе. Тот испытывал отвращение к табачному дыму, но «компанейства ради» тоже закурил.
– Когда Корсаков пойдет утром в ванную, – начал Хозяин, – а жена его будет на кухне, ты войди к ним в комнату и стибри пистолет. Как только пистолет будет у тебя в кармане, айда сюда. Меня не будет, спрячешь за печку, вот сюда.
– Ты что! – воскликнул Анатолий. – Украсть?
Хозяин презрительно хмыкнул, дунул табачным дымом в глаза Анатолию и сказал:
– Слушай ухом, а не брюхом. Разве я сказал – укради? Потом вернем.
– А зачем брать?
– Вот дурья башка! Пусть Корсаков побегает, попотеет! Это и будет наша месть.
– Но как же я так…
– А так, пусть Корсаков не доносит, не шпионит… Ну что ты фары пялишь? Ну скажи, чем плохо, если ты со мной, бывшим фронтовиком, сходишь в киношку? Или даже выпьешь сладенького. Почему из-за этого шум поднимать? А Корсаков что? Он только и норовит нам жизнь портить… Он за то и деньги получает, чтобы людям пакостить… Вот мы его и подведем под выговор. Знаешь, как им всыпают за потерю оружия? Он, пожалуй, одним выговором не отделается, недели две ареста дадут. Чем людей сажать – пусть сам посидит, подумает… Ну, как, заметано?
– Так я же пионер…
– Здравствуйте! А почему ты все время со мной? Что тебе это пионерство дает? Вот ты был в пионерском лагере. Весело там?
– Не очень… – признался Анатолий и потупился.
Да, хуже той скуки, что царила в их лагере, придумать трудно. Спали они в душных спальнях. В лес ходили строем. Костры зажигать запрещали – может случиться пожар. Крикунья-вожатая только и делала, что следила, чтобы никто никуда «не отлучался»: ни в лес, ни на речку. А река была рядом, лес рядом, глубокие овраги рядом. Ребята ночью убегали купаться. Тайком ловили рыбу, варили уху, карабкались по оврагам. В овраге соорудили «секретный» шалаш, прятались в нем от вожатой. Сражались деревянными мечами, стреляли из луков. Во всех этих проделках первым был Русаков, он же Мамона.
Кто-то заболел ангиной. Больной сознался в тайных ночевках в шалаше. Разразился громкий скандал, в лагере установили еще более строгий режим. Анатолия отослали в Москву.
– Кого это вы там прозвали «С песенкой»? – не без ехидства напомнил Хозяин.
Анатолий как-то рассказывал ему, что так ребята окрестили вожатую. Куда бы ни шли ребята – на зарядку, с зарядки, в столовую, – она деланно бодрым голосом покрикивала: «А ну, с песенкой! Подтянитесь!»
– «Подтянитесь»! – издевался Хозяин, грызя ногти. – Им одно дело – тянуться. Это же Корсаков в юбке. Житья нет от них… Знаешь что? Уж ты постарайся насчет пистолета. Слабо?
– И совсем не слабо!
Анатолий не стащил пистолет, не мог пойти на воровство. Он почти не выходил во двор, не отзывался на призывные свистки Хозяина, не играл на баяне, сказался больным – словом, всячески избегал встречи. Ведь будет издеваться!
Так прошла неделя. Однажды Анатолий сидел у окна и читал книгу о втором путешествии Ливингстона в Африку. Со двора послышался истошный визг собаки. Он выглянул в открытое окно и увидел Хозяина, склонившегося над лежавшей на земле Лаской, дворовой собачонкой, с которой дружили все ребята. Придавив правым коленом собаку к земле, Хозяин делал над ней что-то такое, от чего она пронзительно визжала.
«Убивает!» Анатолий помчался во двор. Он растолкал мальчишек, налетел на Хозяина, сидевшего к нему спиной, и, задрав его подбородок кверху, изо всех сил дернул на себя. Хозяин опрокинулся на спину. В руках у него была окровавленная финка. Отрезанный пушистый хвост Ласки лежал на земле. Жалобно скуля, собака зализывала кровоточащую рану.
– Фашист, живодер! – крикнул Анатолий в бешенстве.
– Тю на тебя, дурак! – ответил тот, продолжая лежать. – Если хозяин собаки просит меня укоротить хвост, чтобы было как положено, должен я помочь человеку? А ты: «Живодер, фашист»! Ну и хитер, малец! Я свищу-свищу, не идет. Собака завизжала – примчался. Не душа у тебя, а симплекс-комплекс…
– Так Ласка же ничья, у нее нет хозяина.
– Тю на тебя! А Ерофеич?
Так во дворе звали инвалида, переехавшего на другую квартиру.
Анатолий в досаде махнул рукой и убежал домой. С этого дня он обязательно выносил Ласке кусочки и объедки, стараясь не попадаться Хозяину на глаза.
И все же Хозяин однажды подстерег его. Он долго при мальчишках издевался над ним, обозвал слюнтяем, трусом и больно ударил твердым ребром ладони по затылку. Толя яростно бросился на него. Вдруг Хозяина словно подменили. Оттолкнув мальчика, он неожиданно засмеялся и в знак примирения протянул руку.
– Мир, друг, – сказал он. – Не лезь в бутылку. Не бросайся на своих. Молодец, Мамона! Люблю смелых!
Окружавшие их мальчишки, только что вместе с Хозяином задиравшие Толю, приумолкли и даже с уважением посматривали на него.
Дня через три Хозяин отозвал Толю в укромный уголок двора и, артистически плюнув метра на четыре, прямо в прислоненный к стене дворницкий совок, доверительно сказал:
– Дело к тебе есть, Мамона… Других не зову, они против тебя – мелочь… Завтра мне надо наведаться на Бутырскую к двум старым дружкам. Задолжали они мне семь сотенных, а все тянут, не отдают. Надо из них долг вытрясти, хоть часами. И прижучить так, чтобы всю жизнь помнили закон товарищества. Если ты мне друг, Мамона, прогуляемся вместе. А то дела мои плохи, монет совсем нет, скоро жрать нечего будет. Выручал людей, а они теперь подличают…
Дальше Хозяин напомнил, что он и на него, Анатолия, потратился немало: водил в «Художественный» и в «Новостяшку», угощал пирожными и сладким вином, даже на такси один раз возил на стадион «Динамо», билеты на матч покупал… Пусть Мамона не лезет в бутылку, он, Хозяин, сказал об этом к слову. Вот если Мамона поможет ему выкачать долг, то он, Хозяин, будет считать себя его должником и другом на вечные времена. Все пополам! «Ты за меня, я за тебя!» А то есть такие артисты, что когда у него, Хозяина, шуршат в карманах бумажки – они тут как тут, а в тугие времена их и не видать.
– Но ты, Мамона, конечно, не из таких. Ты не бросишь друга в трудном положении…
Знал Хозяин, чем «купить» романтическую душу подростка, чем привязать его к себе.
«Приемчики для дураков, – говорил Хозяин своим великовозрастным дружкам, – а действуют безотказно, и ловятся на них молокососы, как бабочки на огонь».
Анатолий был польщен. Еще бы! Сам Хозяин предлагает ему дружбу навечно и даже просит помочь в трудную минуту. Ну что же, если надо помочь, то он, Анатолий, готов.
Хозяин закурил, ухмыльнулся, хлопнул Толю по плечу и предложил подписать клятву дружбы кровью. «Так надежнее… Будем мы вроде как кровные побратимы».
Глаза Анатолия загорелись. Он мигом сбегал домой и принес ученическую тетрадку, пузырек с чернилами и ручку с пером. Тут же на тетрадочном листке был написан текст клятвы. Затем Хозяин тщательно вытер перо и вытащил из-за пояса финку с цветной плексигласовой ручкой. Он сделал укол на своем и Толином пальце, и они оба, по очереди, подписались под клятвой. Листок Хозяин сложил вчетверо и взял себе на хранение.
В доме уже засветились огни квартир. Анатолий медленно прошел через двор. Он даже не ответил ребятам, предложившим «прошвырнуться» на Никитский бульвар. Лицо его было строгим, торжественным. Дома он раскрыл том «Графа Монте-Кристо», углубился в него и даже почувствовал, что теперь ему стал еще понятнее справедливый и благородный Эдмон Дантес. Ольга Петровна, глядя на сына, тихо радовалась – таким он сегодня был собранным, серьезным.
По аллее в Сокольниках идет компания молодых людей и подростков. Посмотреть со стороны – они чуть навеселе. Подростки «отмачивают штучки» проходящим девушкам, от которых те краснеют. Но вот один из компании с криком «Здравствуй, друг!» заключает какого-то прохожего в объятия, и вся компания сразу же тесно смыкается вокруг. Все они громко смеются. Хозяин что-то запевает, и все подхватывают.
Кому из гуляющих взбредет на ум заподозрить неладное? Видимо, куражатся озорники над одним из своих. Но и громкий смех, и песня, и толкотня, и дружеские объятия – только маскировка.
Так, в людном месте, на глазах у многих, человек лишается денег и часов. Бледный, испуганный, он беспомощно оглядывается вокруг, а хохочущая компания уже разбежалась. Обирали двое, остальные шумели, чтобы заглушить возможный крик о помощи. Если кто из посторонних подойдет, заинтересуется, его сразу «отошьют» шуточками, матом: «Катись, мол, не суйся в наши приятельские дела. Пьяного друга учим…»
Некоторые из этой компании, те, что помоложе, может быть, сперва и не понимают, что происходит у них на глазах, не догадываются, думают, что старший и в самом деле сводит счеты с кем-то из своих недругов…
Несколько таких грабежей в парках и на улицах прошли для Хозяина и других безнаказанно. Пострадавшие, напуганные угрозами и видом ножа, поднимали шум лишь тогда, когда от «веселой компании» и след уже простыл. А некоторые и не заявляли о случившемся.
Безнаказанность, как известно, поощряет. Хозяин решил снова попытать счастья. А заодно – сломить, закабалить Анатолия, обманом втянуть его в преступление. Зачем ему это было нужно? По многим причинам. Вору, как правило, нужны сообщники. Но кто же у нас сознательно захочет стать вором, преступником, отказаться от нормальной жизни, от семьи и друзей, стать отщепенцем и врагом общества, всеми презираемым паразитом? Вот почему, сначала не открывая цели, надо заманить, завлечь неопытного любыми средствами, а потом запугать, запутать и угрозами подчинить себе.
Соучастники в преступлениях нужны вору и как ширма, как «козлы отпущения», на которых можно свалить вину. К тому же вора гнетет волчье одиночество, ведь настоящих друзей у него нет. Поэтому для «самоутверждения» собственной персоны он ищет существо, которое преклонялось бы перед ним. У профессиональных воров, как у запойных алкоголиков, появляется болезненная потребность затянуть, совратить побольше новичков. Опять же – чем больше у вора по-собачьи преданных ему, вконец порабощенных помощников, тем большим авторитетом он пользуется среди преступников, тем большим атаманом он кажется сам себе.
Выбор Хозяина пал на Анатолия. «Парнишка в самый раз: с характером, зубастый. Обломаю, выдрессирую, такой не подведет», – думал он про себя.
Глава III
Роковой шаг
Это случилось на Бутырской улице под вечер. Сначала Хозяин повел всю компанию в «забегаловку», взял водки, пива и сказал:
– Угощаю!
В этой компании Анатолий знал только двоих. Полуглухой, приземистый, средних лет Яшка Глухарь где-то работал водопроводчиком. Шестнадцатилетний подросток Женька с Сивцева Вражка уже два года как бросил школу. Мать Женьки, когда ей говорили о том, что сын не работает и не учится, хулиганит, кричала на весь двор: «Я всю жизнь горб гну, он у меня единственный, пускай погуляет, еще наработается!..»
Двух подростков с Малой Грузинской, хотя Анатолий и встречал их как-то вместе с Хозяином, не знал по имени. А двух других парней видел впервые.
Яшка Глухарь еще у дверей в «забегаловку» уговаривал не пить. «Кто пьет, когда идет на дело, – повторял он, – тот погорит. Опосля соси сколько хошь».
Два парня с Малой Грузинской повторили то же самое. Хозяин не любил, когда ему противоречили.
– Отставить разговорчики! Раз переступили порог – не отступать же. Да и опохмелиться надо…
Анатолия заставили выпить за компанию. Ему не хотелось, было противно, но, чтобы не показаться маленьким, он выпил. В этот день туберкулезный Хозяин был болезненно раздражителен. Он беспрестанно курил, ругался, а выпив, даже стал рваться в драку с какими-то чужими. Приятели едва его угомонили и увели.
На Бутырской улице было людно, и Яшка Глухарь предложил поехать в другое место. Анатолий удивился, подумал про себя: «Зачем же в другое место, ведь должники Хозяина живут где-то здесь…» Женька нашел на тротуаре двадцатикопеечную монету, лежавшую «орлом» кверху, показал ее и сказал: «Ничего, пофартит».
Потом Хозяин крикнул:
– А вот он и сам идет! Коля, друг!
Он устремился навстречу хорошо одетому человеку и заключил его в объятия. Яшка Глухарь тоже обнял прохожего. Семеро остальных окружили их.
Анатолий громко смеялся, вторя другим. Прохожий вырывался, ругался и вдруг закричал:
– Милиция!
Милиционера поблизости не было. Прохожие останавливались.
– Да брось ты брыкаться, Колька! Насосался, алкоголик! – повторял Хозяин. – Чего буянишь? «Милиция»! Пил – не платил, а долг отдать не хочешь? «Милиция»! В вытрезвиловку захотел? Идем-ка, Коля, домой! Не хулигань. Не позорь друзей. Ишь сколько ротозеев поглазеть собралось.
Любопытные смущенно отходили.
– Брось его, Хозяин! Брось! – услышал вдруг Анатолий испуганный шепот Женьки.
Анатолий стоял позади других и не сразу понял то, что произошло у него на глазах. Хозяин со стоном согнулся от удара в живот и выпустил «друга Колю». У Яшки Глухаря правая рука оказалась завернутой за спину, и эту руку крепко удерживал «друг Коля», который предупредил всех:
– Стойте на месте, иначе сломаю ему руку!
Хозяин, оказавшийся позади «друга Коли», чем-то быстро ударил его в спину. Тот пошатнулся, тяжко охнул, выпустил Яшку, схватился левой рукой за бок и, напрягаясь всем телом, прогнулся назад.
Вдруг рядом, как из-под земли, появились милиционер и лейтенант-летчик. Вся компания бросилась наутек. Хозяина, Яшку Глухаря и Анатолия задержали. Толя убежал бы, но летчик больно ухватил его за руку. На помощь милиционеру и летчику пришли и другие прохожие. Милиционер попросил подоспевшего дворника позвонить, вызвать «скорую помощь».
Как Анатолий ни рвался, лейтенант держал его крепко, не выпускал. Потом Анатолий перестал горячиться, присмирел: ведь скоро выяснится, что он здесь ни при чем. Их обыскали. Ни у Хозяина, ни у Яшки Глухаря ничего предосудительного не нашли, а у него, Анатолия, обнаружили чужой бумажник и в кармане брюк окровавленную финку.
Анатолий понял все. Ему стало очень страшно. Он испуганно закричал:
– Мне подсунули! Я стоял позади! Это они, Хозяин и Яшка Глухарь, обнимали его! Я этого Колю и не знаю!
Прохожий уже не мог стоять, он лежал в обмороке. Видимо, рана в спину оказалась серьезной.
Милиционер, дворники и летчик повели задержанных в отделение милиции. Хозяин шел рядом с Анатолием и шептал, стараясь не шевелить губами.
– Ты несовершеннолетний, тебе еще только стукнет четырнадцать. С тебя малый спрос, бери все на себя.
– Да ты что? – возмутился Анатолий. – Зачем мне сознаваться в том, чего я не делал! Теперь я знаю, вы все обманули меня.
Милиционер обернулся и приказал не разговаривать. Квартал они прошли молча. У Хозяина от страха весь хмель прошел, и его трясла нервная лихорадка. Хозяин был очень испуган. Ведь здесь не просто грабеж, а вооруженный – ранен человек – и совершенный не одним, а шайкой, а в этой шайке он атаман… Надо было спасаться любой ценой. И Хозяин снова зашептал Анатолию.
– Слушай, дура, – проговорил он, не поворачивая головы. – Если мы все трое погорим – нам припаяют помногу, как за действия шайки. Тебе тоже как члену шайки много дадут. Я тебя завалю, вспомни-ка расписку кровью… А одному, да еще малолетнему, дадут самую малость…
– Значит, этот «друг Коля» ничего тебе не был должен? Вы обокрали и ранили незнакомого человека, а я должен отвечать? – прошептал Анатолий.
– Не прикидывайся дурачком… Других не путай. Скажи, что сам действовал…
– Так ведь финка-то твоя!
– Выручи, друг, – начал вдруг жалобно ныть Хозяин. – Ведь я совсем пропадал без монеты. Я ведь совсем больной, на лечение, на санаторий деньги были нужны… Я в лагерях заработал туберкулез, а если теперь посадят, совсем пропаду…
– А ты говорил, что заболел на фронте…
– Ни на каком фронте я не был, а в лагерях, тоже за других пострадал…
Хозяин долго просил сжалиться над ним и предложил следующее: Анатолий на допросе в милиции возьмет все на себя, а на суде откажется от показания и скажет, что нападали двое неизвестных. А они, его друзья как свидетели покажут, что собственными глазами видели, будто двое неизвестных напали на прохожего, а бумажник и нож подсунули Анатолию. Дело было в сумерках, пострадавший вряд ли сможет опознать Хозяина и Яшку, а Анатолий сзади держался, его он и вовсе мог не приметить.
Анатолий не соглашался.
– А я-то думал, что ты настоящий друг, а ты сдрейфил и меня, больного, топишь? Эх, ты! На чужой счет в кино ходить, даровые конфеты лопать – так ты здесь, а чуть запахло жареным – хочешь предать. А еще клялся… Все вы такие – дрянь, мелочь, трусы. А я-то думал – ты настоящий парень…
И вот эти слова неожиданно произвели самое сильное впечатление на Анатолия. Никто не посмеет считать его трусом, плохим другом и, главное, предателем!
– Ведь ты же друг, – хныкал Хозяин, – друг! Кто у меня еще есть? Не будь гадом, пропаду!
На допросе в милиции Анатолий держался волчонком, ему казалось, что все вокруг – враги. Он был упрям и немногословен. Он повторял только одно: «Я сам напал, я ударил ножом». Он был слишком потрясен случившимся, чтобы заметить противоречие в предложении Хозяина. Ведь если, как утверждал тот, они будут свидетельствовать на суде, что виновниками являются двое неизвестных, то зачем же тогда Анатолию сейчас брать все на себя?
В милицию вызвали мать, и она присутствовала при допросе. Вместе с ней приехал капитан Корсаков. Увидев его, Анатолий побледнел. Ведь он считал Корсакова главным своим врагом. «Наука» Хозяина, вот уже несколько месяцев внушавшего своим воспитанникам, что милицейские – суть враги рода человеческого, уже изуродовала психику подростка. Да, Корсаков предупреждал, что дружба с Хозяином может плохо кончиться. И вот то обстоятельство, что Корсаков оказался прав, почему-то особенно уязвляло Анатолия, вызывало в нем злобу, упрямый отпор. Он возненавидел Корсакова еще больше.
Ольга Петровна при допросе всхлипывала и лишь повторяла:
– Он не такой! Этого не может быть…
– Так говорят все матери, когда узнают правду о своих сынках, – сказал дежурный. – Он сам во всем сознался.
К сожалению, все это происходило в 1953 году, когда самопризнание обвиняемого больше всего устраивало следственные органы, избавляя их от докучливых и сложных расследований.
Вызвали на допрос и представителя школы – пионервожатую. Она была перепугана.
– Ах, что скажут в роно! – сокрушалась она. – Так испортить репутацию школы! Мы недосмотрели, надо было исключить Русакова раньше… Анатолий, ты должен самокритично осудить свой поступок!
Был бы на ее месте опытный педагог, может быть, все повернулось иначе.
Анатолию протянули на подпись протокол допроса.
Корсаков отвел его руку.
– Послушай, Толя, разве так было дело?
– Я все сказал…
– Анатолий, не будь врагом сам себе. Хозяин у нас давно на примете, мне ясно, что все это – дело его рук. Не выгораживай Хозяина!
Пожалуй, эти слова были наибольшей ошибкой Корсакова, он потом долго в них раскаивался. Гордый и самолюбивый мальчик не мог при всех, перед лицом своего «врага», сейчас же признаться, что он все наврал, и «обмануть» того, кому еще вчера клялся в верности.
– А мне наплевать – верите или нет, – отрезал Анатолий, глядя в глаза своему «врагу». Лицо его горело, ему хотелось оскорбить Корсакова, он бессвязно бормотал: – По пятам за мной ходили… нашептывали матери… – Анатолий ругался, угрожал, губы у него дрожали. Ему казалось, что все виноваты, особенно Корсаков, в том, что он попал в такое ужасное положение.
– Анатолий, через минуту будет поздно…
– Давайте протокол! – срывающимся голосом закричал мальчик и размашисто подписался.
До суда Ольга Петровна взяла Анатолия на поруки. В такси она несколько раз пыталась заговорить, но сейчас же начинала плакать и, обхватив сына за шею, целовала его. Анатолий тоже плакал. Он твердил:
– Да ты не плачь, ну чего ты плачешь! – Так хотелось успокоить ее… Он даже прошептал: – Мамочка, я не грабил, я не убивал…
Мать перестала плакать и переспросила.
Анатолий не ответил, застонал. Нет, не мог он нарушить обещания, данного Хозяину. Придется потерпеть несколько дней до суда, а после суда он все расскажет.
Едва только они вошли в квартиру, как Антонина Алексеевна, жена Корсакова, потихоньку от Анатолия зазвала Ольгу Петровну к себе. В комнате были Корсаков и еще один офицер милиции.
– Нельзя терять ни минуты времени, – начал Корсаков. – Анатолий, я в этом уверен, преступления не совершал. Если он взял все на себя, то, значит, его на это уговорили «дружки». Преступление – дело Хозяина. На их воровском языке это называется «делать стенку», то есть теснить, окружать жертву группой воров, в которую подключают таких желторотых, как ваш Анатолий. А потом на этих-то ребят и валят всю вину. Чтобы не произошло судебной ошибки по вине Анатолия, надо добиться от него правды, надо сейчас оградить его от влияния Хозяина. Воры трясутся за свою шкуру и готовы на все. Надо сделать невозможным общение с Хозяином. Только тогда удастся убедить Анатолия сказать правду. Как изолировать Анатолия от влияния преступников? Запретить ему из дому выходить? Вы простите меня, Ольга Петровича, за прямоту, но Анатолий не послушается вас. Может быть, у вас есть знакомые в Подмосковье, которые бы приютили Анатолия и были бы достаточно авторитетными, чтобы он слушал их и не сбежал? Отвезти его надо сейчас же, немедленно. Есть у вас друзья, имеющие дачу?
– Нет! – прошептала Ольга Петровна.
Корсаков молча прошелся по комнате.
– Существует еще один вариант, самый надежный, – сказал он. – Пусть только это вас не пугает, Ольга Петровна. Я могу поместить Анатолия в совершенно отдельную комнату, скажу прямо – в камеру. Да не машите вы так руками… Подумайте! Ведь речь идет о судьбе вашего сына.
Ольга Петровна разрыдалась. Жена Корсакова успокаивала ее, дала валерьяновых капель.
– Позвольте, а брат вашего мужа, дядя Анатолия? У него ведь, кажется, своя дача?
– Боже, и как только я забыла! Ну конечно! – обрадовалась Ольга Петровна. – Он в плавании, но я позвоню его дочери, она живет на даче.
– Только сейчас же, немедленно.
Когда Ольга Петровна вернулась к себе, Анатолия в комнате уже не было. На столе лежала записка: «Не волнуйся, мамулечка! Я тебя не подведу, не сбегу. На суд явлюсь обязательно. Анатолий».
С этой запиской Ольга Петровна вбежала к Корсакову.
– Эх, черт, «дружки» упредили нас! – с досадой выругался Корсаков. – Положение осложняется. Беда! Они обработают парня, сделают из негo ширму. И самое неприятное то, что я сегодня же должен выехать в долгую командировку. Но я попрошу своих товарищей обязательно отыскать Анатолия.
А в эти минуты Анатолий уже мчался в такси вместе с Хозяином, вызвавшим его, чтобы «отвести душу» и наметить план поведения на суде. «Для друга!» – эти слова были почти в каждой фразе, которую произносил Хозяин. «Ты парень железный, не продажный, я твой кореш – по гроб!»
«Для друга не жалко!» – с этими словами он купил почти на двести рублей водки и закуски. Снова поехали… Такси остановилось в каком-то незнакомом переулке с булыжной мостовой. Темный от старости деревянный дом, осевший чуть не до окон, стоял, как мухомор возле дуба, рядом с новой многоэтажной громадиной.
В этом домишке, в затхлой каморке с маленьким окном, жил Яшка Глухарь, водопроводчик. Сюда Хозяин привез Анатолия. Их встретили Яшка Глухарь, Женька и еще два мордатых парня, молчаливых и угрюмых. Яшка суетливо откупоривал бутылки, вываливал на подоконник и на колченогий стол закуски.
Началась выпивка.
«За друга», «за дружбу», «чтобы друг за друга», «чтобы не капать на друга», «чтобы тому, кто продаст друга, век свободы не видать, на свете не жить». Таковы были тосты.
Анатолий, взвинченный и болезненно возбужденный всем, что произошло в этот день, выпил полстакана водки почти машинально. Потом заставил себя выпить «за компанию». Потом его заставляли пить. «Какой же ты друг, если не пьешь за дружбу, когда все свои пьют? Кто отказывается выпить с людьми – тот враг!»
Утром он очнулся на узкой койке. Рядом с ним храпел Хозяин. У Анатолия болела голова, его мутило, лихорадило. Он встал и направился к двери.
– Ты куда? – зло крикнул один из парней, валявшийся на заплеванном полу на разостланном плаще.
Анатолия удивил и рассердил его грубый тон. Он послал парня к черту и двинулся вперед. Парень вскочил, загородил собою дверь.
Проснулся Хозяин. Узнав, в чем дело, он перевел все в шутку, сам провел Анатолия к умывальнику…
– Будь спок! – то и дело твердил Хозяин, сидя за столиком с остатками вчерашнего пиршества. – Давай заправимся, надо опохмелиться…
Была уже середина дня.
– Для друга я найду мировецкого адвоката!
– А что же все-таки случилось там, на Бутырской? – мрачно спросил Анатолий.
– А я, думаешь, понимаю? Все по пьяной лавочке… А может, это дело каждому из нас стоит полжизни. Ведь прохожий-то помер, дуба дал… Но не от царапины ножом… Ножик только чуть задел. Просто с испугу у него лопнуло сердце.
– Да ну? Умер? – Анатолий вскочил, щеки его побелели.
– Вот тебе и ну! У него, оказывается, было огромное давление, чуть не пятьсот атмосфер… Словом, симплекс-комплекс!
– А почему же в протоколе записано: «бессознательное состояние в результате удара ножом»?
– Ну, сразу не разобрались, – вдохновенно врал Хозяин. – Судебная экспертиза установила. Тебе лучше день-другой отсидеться здесь. Дома-то мать покою не даст, пилить будет, из школы всякие начальнички припрутся, учить уму-разуму начнут. Слезы там всякие, попреки, грызня… А тут мы с тобой, надежные дружки!
На третий день Анатолию опротивело всё: опекуны, карты, водка, затхлая комната. Он запросился домой.
– Не дури! – Хозяин был обеспокоен. – Я уже видел адвоката. Жди его здесь. Учти – дома на тебя все навалятся, и всем нам будет крышка. Ты ведь еще не судился?
– Нет!
– Сразу видно!
Хозяин рассказал несколько историй, когда подсудимого осуждали на больший срок, чем полагалось по закону, только потому, что он не послушался совета своих друзей.
– Теперь у нас одна дорожка, – то и дело твердил Хозяин. – Держись с нами – не пропадешь!
– «С вами, с вами»! – насмешливо повторял Анатолий.
– Ну да, с нами! Мы люди свободные, не шпаки, знай гуляй, веселись!
– Вы воры! – вдруг сердито бросил Анатолий. – Теперь я знаю…
– Ну и что? – улыбнулся Хозяин, обнажив гнилые зубы.
– К черту! – закричал Анатолий. – Никогда! Вор – последний подлец, дерьмо!
Тогда встал один из парней и прогудел:
– Я – человек! Ты меня оскорбил в самую печенку!
Ударом в скулу он свалил Анатолия на пол и навалился на него. Мальчик отчаянно сопротивлялся. На помощь первому пришел второй вор. Вмешался Хозяин.
– Сам погибну, а не дам дружка бить!
Хлипкий Хозяин набросился на здоровенных парней с кулаками, и они разлетелись по разным углам. Уже потом Анатолий понял, что все это было заранее подстроено, а в тот час он так был благодарен Хозяину! Тот быстро помирил его с парнями, и по этому случаю снова выпили. Хозяин долго рассказывал об удачливых ворах, о их развеселой жизни, упрямом характере.
– Знаешь что? – сказал под конец Хозяин. – Бросай-ка ты школу, бросай и мамашу. У нас тебе будет лучше, чем дома. На кой тебе ляд идти на суд? Плюнь! Завтра смотаемся в Ленинград, и всё!
Анатолий не согласился. Ему противны и ненавистны стали «дружки» Хозяина. Он метался по каморке, и казалось, вот-вот взбунтуется всерьез. Хозяин испугался и едва унял его.
– Мамахен твоей, – сказал он, – я позвоню, успокою. Наш спец по юридической части приезжает сегодня. Дура! О твоей пользе пекусь. Думаешь, мне самому интересно сидеть? Да не будь тебя – я уже давно бы по Ленинграду или Горькому гулял.
«Адвокат» приехал. Странное впечатление он произвел на Анатолия. Этот «адвокат» жалел воров, восхвалял их верность дружбе. Поругивал за излишнюю смелость, а больше хвалил и восхищался: «Рисковая бражка!» Он тоже убеждал Анатолия не являться на суд. Анатолий был непреклонен. Он не хочет подводить мать – это раз, и второе – ведь на суде его оправдают. В чем же дело?
Тогда «адвокат» сказал:
– Обязательно оправдают, если ты будешь вести себя как надо, – и принялся поучать, как вести себя на суде. – Во-первых, не признавать себя виновным, от протокола отказаться: подписал, мол, с испугу. Говорить, что ударили какие-то двое неизвестных, из которых один был высокий, другой низкий, а действовали они так…
Анатолий нервничал, плохо соображал, о чем ему говорят. «Сейчас же надо ехать домой, ведь мать ручалась, ее могут арестовать», – твердил он. Хозяин отговаривал, «адвокат» ворчал: «Собьют его дома, всю картину испортят…» А потом сказал Хозяину, в расчете на то, что Анатолий услышит: «Если твоему Русакову так уж хочется скорее сесть за решетку, тогда, пожалуйста, веди его домой…»
Открылась дверь, вошел один из парней и сказал:
– Хозяин, дело табак, выследили нас…
Хозяин заторопился. Он выпустил Анатолия через кухонное окно на задний дворик, заставленный сарайчиками, и вылез вслед за ним. Через пролом в заборе они вышли на территорию какого-то строительства, а затем на незнакомую улицу. Хозяин повел Анатолия домой.
И снова, в который уже раз, он поучал его, как держаться, что говорить адвокату-защитнику, которого обязательно подсунут, а тому лишь бы монету получить.
– Обвинительное заключение дадут – нам покажешь. Главное – стой на своем: «Дрались с гражданином двое неизвестных, а я из любопытства подошел». Мать предложит тебе до суда переехать на дачу к дяде. Соглашайся. Я тоже там буду, по соседству. Приедешь – выйди гулять, я встречу.
Всю дорогу он слезно умолял Анатолия держаться «железно», не изменять слову, «не продавать друга».
– Пойми ты, – убеждал Хозяин, – если на суде и не поверят в неизвестных, то тебе как несовершеннолетнему дадут самую малость. А мы тебя не забудем ни в тюрьме, ни на воле, когда выйдешь. Героем станешь!
Мать, как только Анатолий появился, тотчас же увезла его на дачу дяди. Анатолий подивился предвидению Хозяина. Анатолий, конечно, не знал, что этот шаг обсуждался не только на кухне, но и во дворе.
Вскоре он увиделся с адвокатом, своим будущим защитником, молодой женщиной. Он встретил ее угрюмо, недоверчиво. Взглянув на замкнутое лицо подростка, она вначале смутилась, а потом стала говорить какими-то нарочито юридическими, «бумажными» словами. Видимо, старалась произвести впечатление солидного юриста…
– Мне нужно защищать вас, и если вы не поможете мне установить обстоятельства дела и истинных виновников преступного деяния, то как же я смогу вести защиту? Одним из смягчающих вашу вину обстоятельств могло быть принуждение к пособничеству в совершении группового нападения. Вы могли явиться объектом принуждения, а в этом факте наше уголовное законодательство видит смягчающее вину обстоятельство. Ваша мать указывала на Григория Санькина, по кличке «Хозяин», как на субъекта, дурно влияющего на вас. Разоблачением социально опасного элемента Санькина вы облегчите свою участь и поможете советскому суду…
Анатолий угрюмо молчал, выводя пальцем замысловатые кренделя по клеенке обеденного стола. Нет, не нашла молодая юристка пути к его сердцу.
За несколько дней до суда Анатолию вручили обвинительное заключение. Он сейчас же показал его Хозяину и «адвокату». Тот, по странной своей привычке, молча пошевелил двумя пальцами правой руки в воздухе, хмыкнул, многозначительно посмотрел на Хозяина, а потом снова объяснил Анатолию, как держаться на суде.
Анатолию было с ним легко. К тому же этот «адвокат» рассказывал удивительные истории, правда, из жизни воров, о том, как ловко и остроумно они запутывали суд, в каких дураках оставляли самых злющих «зубатых» прокуроров и следователей. Слушал все это Анатолий, и не такими уж страшными казались ему и предстоящий суд, и собственное положение, в котором он очутился. В обществе Хозяина и «спеца по юридической части» он начинал чувствовать себя чуть ли не героем, от которого в предстоящей битве ждут славных подвигов. А какой мальчишка не жаждет битв, не мечтает о подвигах?
Все смешалось в возбужденной, сбитой с толку душе подростка. Все представления – где враги, где друзья – страшно исказились.
Мать вела с Анатолием невыносимо мучительные, полные однообразных упреков и попреков разговоры, после которых мальчик еще больше ожесточался, почти впадал в истерику.
– А ты пригрози, – поучал Хозяин. – «Будете душу теребить – сбегу совсем…» Хорошо, что Корсакова угнали в командировку. Жена его говорила женщинам во дворе, что месяцев на восемь уехал куда-то на Украину. А будь он здесь, нам с тобой, Мамона, труба была бы! Он уж постарался бы… А на суде держись! Не пугайся, тебе, несовершеннолетнему, лафа! А вот мне трудно было бы словчить… У меня, друг, судимости были. Впаяли бы мне на всю катушку, припухал бы я в тюряге не один год, а я ведь больной… Смотри, Мамона, как спелись мы, так и держись. Хуже подлюги тот, кто друга продаст, – снова и снова напоминал Хозяин.
Умел этот растленный, сгнивший человек спекулировать на святом слове «дружба».
Глава IV
Что посеешь, то и пожнешь
Настал день суда… Этот день даже много времени спустя, стоило Анатолию закрыть глаза, заставлял его содрогаться.
Продолговатый зал весь заполнен. Анатолий волновался, но изо всех сил старался не показать этого. Он дышал прерывисто, как после бега, боялся взглянуть в лицо сразу постаревшей матери. Невыносимо было встречать любопытные, презрительные и осуждающие взгляды посторонних. Трудно было смотреть в глаза судей и народных заседателей. Особенно страшно было взглянуть в ту сторону, где он мельком заметил Нину – девочку из их класса, с которой у него началась дружба. Он стоял, вцепившись пальцами в перила, и отвечал, не поднимая головы.
После чтения обвинительного акта на вопрос: «Признает ли подсудимый свою вину?» – Анатолий хрипло сказал: «Нет, не признаю». А потом сказал, что отказывается от прежних показаний, что подписал протокол сгоряча, с испугу. Суду пришлось считаться с заявлением подсудимого, и начался допрос свидетелей.
И тогда случилось то, чему Анатолий не сразу поверил. У него зашумело в ушах, голоса зазвучали где-то далеко-далеко, кровь горячей волной подошла к горлу, мысли исчезли.
Все «друзья», начиная с Хозяина, даже не упоминали о «двух незнакомых грабителях», а свидетельствовали другое. Все они, как один, выступали против него, Анатолия Русакова, да как! «Дружки» топили его. Что же случилось? Неужели это те, те самые, что так хорошо говорили о дружбе, пили с ним за дружбу, клялись дружбой, восторгались героическими историями о дружбе и преданности? Он растерялся. Оказывается, это он, Анатолий Русаков, грабитель. Он же ударил прохожего финкой. Они шли из кино мимо и видели все. Поскольку личность этого парня им знакома – это парнишка с улицы Воровского, Русаков, – они и подошли. Были показаны билеты, они помнили содержание фильма, в кинотеатре их видели другие, и те готовы подтвердить это. А на улице они хотели задержать Русакова, но тут подоспели милиционер и летчик-лейтенант.
Анатолий молчал. Челюсти его свела судорога. В голове теснились, прыгали, мелькали клочки каких-то мыслей. Он очнулся от дважды повторенного вопроса судьи.
– Ваша? – спросил судья, показывая финку, которой был смертельно ранен ограбленный.
Это был острый нож с ручкой из разноцветных прозрачных кусочков плексигласа. Все мальчишки во дворе знали, что это финка Хозяина. Ею он отрезал хвост Ласке.
Анатолий молчал. Он все еще держался своего слова, еще сохранялись в нем остатки какой-то веры в «справедливость», о которой ему столько говорил Хозяин, он все еще надеялся.
Но все «дружки», включая Гришку Санькина, утверждали, что финку эту без чехла не раз видели у Анатолия Русакова. А в день грабежа он даже показывал им ее и при этом хвастал, как остро наточил, давал пробовать пальцем лезвие.
И вот эта грубая ложь будто расколдовала Анатолия. Он взбунтовался против предателей. Растерянность прошла, он смело обвел глазами зал. Беспощадно отчетливо он вдруг понял, что за словами Хозяина о дружбе и верности прячутся трусливое вранье и предательство. А поняв это – успокоился. «Теперь, – подумал он, – все пойдет хорошо, все объяснится так, как было на самом деле, по правде!» Если все изменили ему, значит, он больше не связан никакими дружескими обязательствами. А раз так, то надо говорить только правду! И Анатолий попросил свидетеля Григория Санькина рассказать всю правду о том, что случилось на Бутырской. Ведь, окружая прохожего, они думали, что Хозяин только отберет у знакомого свои деньги, которые тот упорно не желал возвращать… А Санькину деньги были нужны на санаторное лечение…
Хозяин, обычно наглый и грубый, держался на суде удивительно скромно. Он, конечно, понимает желание подсудимого оправдаться, но зачем же перекладывать свою вину на другого? Нечестно это! Молодой, а как ловко врет! Курорты!
– Зря вы, гражданин Русаков! Я вам зла не желаю, но и меня не впутывайте в дело. Я к нему отношения не имею. Признавайтесь. Так честнее будет.
И снова растерялся Анатолий, растерялся так, что до конца заседания сидел без сил, подавленный, плохо видя и слыша. Снова не мог он собраться с мыслями.
Судья злым голосом потребовал, чтобы Русаков точно ответил, видел ли он, как гражданин Санькин положил ему в карман бумажник и нож.
– Нет! Я этого не видел, – признался Анатолий, решивший быть предельно честным.
В зале засмеялись.
– Зачем же вы утверждаете, что именно он обобрал и ударил ножом прохожего?
Анатолий облизал пересохшие губы, в горле саднило. Он не говорил, почти хрипел. Молодая защитница подала ему стакан с водой. Он жадно пил. Стакан колотился о зубы, вода проливалась на шею и грудь.
Анатолию Русакову задавали всё новые вопросы. Но в тоне вопросов ему чудилась враждебность, недоверие. Значит, кругом – все враги! И за судейским столом, и в зале, и на свидетельской скамье. Он один! Один против всех! И Анатолий замолчал. Он озлобился на всех – на «друзей», на адвоката, который не разоблачил предателей, на суд, который не понял, что его, Анатолия, предают. Он был сражен. Ведь судьи на то и судьи, чтобы видеть человека насквозь, а они не сумели понять его, неспособного на грабеж, на воровство. Ну что же! Пусть ему будет плохо, как графу Монте-Кристо. Но, когда он, Анатолий, вернется, он будет мстить бывшим друзьям за предательство, мстить судье и прокурору за бездушие. Он хотел только одного – чтобы поскорей окончился суд. Его раздражала недоверчивая настойчивость судьи и прокурора. «Вы не хотите видеть правды? – говорил он себе. – Так вот вам: я один виноват». Он уже вошел в роль травимого волчонка. Ему было очень жалко себя, но мальчишечье упрямое, озлобленное несчастием сердце окостенело. Анатолий отвечал на вопросы все грубее и грубее. Он уже почти огрызался.
Да, не повезло Анатолию… Так случилось, что ни во время следствия, ни на суде не повстречался ему чуткий и проницательный педагог-сердцевед, который сумел бы без особого труда отшелушить с души мальчика то наносное, что прилипло к ней в «университете» Хозяина.
Уже потом, в колонии, когда Анатолий сблизился с воспитателем Иваном Игнатьевичем, он спросил его однажды:
– Иван Игнатьевич, может, вы объясните, почему я так по-дурацки вел себя на суде? До сих пор не понимаю…
– Это же не ново, Анатолий, – отвечал Иван Игнатьевич. – Возраст твой особый. В эти годы впервые перед подростком встают сложные вопросы. Жизни он не знает. Но жадно ищет правду, страстно ненавидит несправедливость. И если взрослые не сразу устраняют несправедливость, то он их немедленно обвинит. Он скор на выводы, на решения, он всегда кидается в крайности. Ничего не поделаешь, переходный возраст… Вот и ты озлобился на судей, на Корсакова, на всех за то, что они не поняли, что именно тобой руководило в дружбе с Хозяином.
– Иван Игнатьевич, а почему же они не сдержали слова?
– Кто?
– «Дружки». Почему они не говорили на суде о неизвестных?
– Эх, чудак! Они ведь понимали, что суд не поверит этой сказке, что дело может пойти на доследование. Опасно, могла открыться правда.
– Значит, они играли мной, продали?
– Продали и предали.
Анатолий обхватил голову руками:
– Если когда-нибудь я их встречу…
…Прокурор на суде говорил о тяжелых результатах безнадзорности, о вредном влиянии улицы. Он осуждал слабую воспитательную работу семьи, школы, комсомола и требовал приговорить нераскаявшегося Анатолия Русакова к лишению свободы, с содержанием в трудовой колонии для осужденных несовершеннолетних, сроком на десять лет.
Защитница призывала смягчить приговор, учитывая отсутствие отца, занятость матери, полубеспризорность и, главное, несовершеннолетие подсудимого.
Но никто из них не разглядел стоящей над всем делом зловещей фигуры Хозяина.
От последнего слова подсудимый Русаков отказался.
Приговор суда Анатолий слушал, стараясь сохранить выражение гордого безразличия. И все же он ждал чуда. Он ждал, что и без его участия все объяснится само собой: Хозяин сознается, правда станет правдой, а ложь ложью.
Суд определил – восемь лет. Восемь лет!
Анатолий не мог смотреть в полубезумные глаза матери. Почти в беспамятстве от стыда, унижения и разочарования он наткнулся на дверной косяк, когда его выводили из зала суда. Мать горько рыдала, а негодяи-«дружки» кричали: «Молодец, Мамона!» – и приветственно размахивали кепками-«лондонками».
…Он и сейчас слышит, когда вспоминает о пересыльной тюрьме, стук захлопнувшейся за ним двери камеры. Анатолий в растерянности остановился. У стен на нарах сидели и лежали пожилые и молодые мужчины. Восемь пар глаз, одни с интересом, другие с безразличием, уставились на него. Анатолий попробовал было улыбнуться, но усмешка получилась жалкая. В нерешительности он сделал несколько шагов и опять остановился.
Мы не будем описывать, как случилось, что Анатолий, вопреки строгим указаниям об обязательном отдалении несовершеннолетних от взрослых преступников, оказался в этой камере.
После очередной проверки Анатолия перевели, но то время, которое он провел среди взрослых преступников-рецидивистов, сыграло решающую роль в дальнейшем его поведении.
Сидевший в углу пожилой худощавый мужчина многозначительно подмигнул верзиле, лежавшему рядом, и усмехнулся, обнажая золотые зубы.
– Шлепай сюда, рядом со мной свободно, – пригласил верзила. У него было широкое лицо глинистого цвета. – По какой статье идешь? – с ухмылкой спросил он.
Анатолий чистосердечно рассказал о своем деле, о Хозяине.
Верзила хохотнул и, повернувшись спиной, сказал:
– А ну, почеши под левой лопаткой. Свербит.
Анатолий из благодарности за сочувствие стал чесать. Тот покряхтывал и командовал, где именно нажимать сильнее. А потом лег на спину и, сунув чуть не в лицо Анатолию голую ногу, сказал:
– А теперь почеши мне пятку.
Как только Анатолий услышал смешки, он сразу понял, что верзила издевается.
– Не буду! – тихо и твердо сказал он, встал с нар, но в то же мгновение был сбит ударом ноги на пол.
– Встань и чеши! – приказал верзила.
– Иди к черту! – крикнул Анатолий, поднимаясь с пола и отряхиваясь.
Верзила ругался, угрожал, а потом проговорил:
– Стукни в дверь, придет вахтер и заступится!
Это было испытание: если юнец «стукнет», с ним не стоит связываться, могут наказать. А если не захочет жаловаться, значит, в нем есть «душок», стоит заняться таким.
Трудно сказать, какая из трех причин – дух противоречия, самолюбие или незнание жизни – сыграла роль, но Анатолий решил не обращаться за помощью к блюстителю порядка. Вне себя от ярости и обиды он кинулся к верзиле и ударил его ногой пониже живота. Тот с воплем опустился на пол. Анатолий стукнул его кулаком по уху. Парень, потеряв равновесие, опрокинулся на бок.
– Вот так номер! Крой Апельсина, пусть не пристает! – посоветовал человек с «золотой улыбкой».
Но мальчик считал зазорным бить лежачего. Апельсин отдышался и снова набросился на него, снова сбил с ног и стал колотить головой об пол. Худощавый человек поднялся с нар, подошел к двери и стал прислушиваться, чтобы предупредить о приближении вахтера. Он, прищурившись и улыбаясь, смотрел на то, что происходит, а потом сказал:
– Тащи его сюда, Апельсин, хватит!
Анатолия подняли. «Спаситель» вылил кружку воды на его голову, дал ему напиться и посадил рядом с собой.
– Спасибо, – чуть слышно прошептал Анатолий.
– Спасибо потом, а сейчас скажи: дружить со мной хочешь?
– Конечно.
– А кто я?
– Не знаю.
– Ты еще узнаешь, кто такой Леня Авторитетный, – сказал золотозубый. – А еще иногда зовут меня, – он усмехнулся, – Леней Чумой… Но не советую… Так ты не хочешь, чтобы Апельсин бил тебя?
– Нет.
– Значит, держись около меня. Со мной не пропадешь. Мое слово – закон. Сейчас ты увидишь. Апельсин, ко мне!
Верзила стал перед ним.
– Теперь ты, малец, дай ему сдачи.
– Да что ты, Леня! – начал просить Апельсин. – Чтобы этот сопляк меня…
– Бей!
– Не буду, – мрачно сказал Анатолий.
Но в следующее мгновение ему стало трудно дышать. Железные пальцы золотозубого сжали горло, Толю охватил ужас смерти. Придя в себя, он увидел все ту же золотозубую улыбку.
– Бей!
И Анатолий ударил верзилу по лицу. Тот стоял не шелохнувшись.
– Учил тебя Хозяин, а недоучил, – удовлетворенно сказал золотозубый. – Что такое Хозяин? Мелочь, кусошник, лопух!
– Вы знаете Хозяина? – Анатолий оторопел. Он забыл, что сам же только что рассказывал о себе и о Хозяине.
– Я все знаю, Мамона. Люблю пареньков с «душком». Ты взял все на себя? Прошел один по делу? Молодец! Будешь возле меня кормиться. Тебе повезло, что встретился со мной. Чего уставился?
– Значит, они сказали вам обо мне?
– А?.. – Чума улыбнулся. – Ты о Хозяине, о дружках? Ты что, обозлился на них? Главное теперь не они, а я. Дай-ка еще разок Апельсину по вывеске!
Анатолий привстал и ударил сидящего рядом верзилу кулаком по лицу. Тот свирепо посмотрел на него, но драться не стал.
– Еще бей! – крикнул Чума. – Нет, не Апельсина, а вон того, Патриарха.
В дальнем углу, сгорбившись, сидел белоголовый старик с мятым лицом над тонкой, морщинистой шеей.
– Зачем бить старика? Он же старый и слабый!
– Доброта портит характер. Иди и бей, – приказал Чума. – Ну!
Это было страшнее всего. Старик побледнел и с жалкой улыбкой смотрел на Анатолия. Мальчик глядел на него с ужасом. Что-то сдавило ему грудь, – нет, не железная рука Чумы, а сознание своего бессилия, отвращение к себе.
– Не могу… – хрипло проговорил Анатолий. – Не буду!
Еще секунда, и он разрыдается. Он затравленно, но упрямо посмотрел на Чуму, и тот понял: мальчишка даст убить себя, а старика не тронет.
– Я пошутил! – сказал Авторитетный. Он был своего рода психологом и не стал настаивать, иначе подросток восстал бы.
День подходил к концу. Заключенные располагались на ночлег, а Чума вел тихий разговор с Анатолием.
– Ты, пацан, выбрось из своего котелка все, что тебе твердили дома, в школе, в пионерском лагере: «Прилежно учись… Слушайся и уважай старших…» Здесь все это ни к чему. Здесь все по-другому. Здесь с этим добром пропадешь.
– А разве я не вернусь?
– Куда? Домой? Ты уже не годишься для той жизни. Тебе не будут верить, с тобой не будут водиться. А стоит ли жалеть о том, что ты там оставил? Что самое важное в жизни? Сила, нахрап! И еще – ловкость, уменье обдурить фрайеров и сухим выходить из воды. Что нам надо? Пожрать, выпить… ну, перекинуться в картишки… Урвать кусок и с шиком, с фасоном спустить его… Надо, чтобы нас боялись, всегда боялись! Стоит пустить слух, что кого-то в бок ткнули, когда он пытался задержать нашего брата, – и уважаемые граждане трясутся. Они должны быть как овцы перед волками. Иначе нам, уркам, – амба!
В голосе Чумы больше не было ни веселья, ни задора, ни насмешливости. Он вспомнил о том, как недавно в поезде граждане без милиции задержали двух его старых приятелей, обезоружили и сдали на станции. Вспомнил, но не сказал об этом Анатолию.
Они проговорили всю ночь. И утром Анатолий уже на многое смотрел иначе, чем накануне.
Леня Чума, главарь шайки, всегда умел ловко подставить вместо себя другого. И все же попал в тюрьму. Теперь воры готовили ему побег. Чума намеревался прихватить с собой и Анатолия. Паренек был с «душком», он быстро запоминал воровские законы, усваивал обычаи, привычки, был настойчив и физически ловок.
Правда, насмешливое выражение на лице Анатолия, когда Чума учил его воровским словечкам, раздражало «учителя», но он не давал воли рукам. А скучающий парнишка то насмешливо, то с любопытством тешился этими «уроками», как игрой. Он и не подозревал, как прилипчива и ядовита эта забава. Большинство воров-рецидивистов тоже начинало так, «ради потехи». Кто из них «забавлялся» ножичком, кого «пятачок подвел», а кто, в шутку затвердив «науку», до того распускался, что уже не хотел стать иным.
Чуме нужны были помощники. Для него наступило трудное время: часть его шайки выловлена уголовным розыском, некоторые, испугавшись, бросили воровство и сами пришли с повинной. Надо было держать в страхе остальных и жестоко мстить отступникам.
Чума намеревался со временем немало заработать на Анатолии Русакове, заставив его «работать» на себя. О своих планах Чума, конечно, помалкивал. Два дня он рассказывал Анатолию об «интересной житухе», которая его ожидает. В эти дни был жестоко избит Апельсин, который назвал Леню не Авторитетным, а Чумой. У Апельсина были отобраны продукты, которые он купил в тюремной лавке на деньги, полученные с воли.
Ложась спать, Анатолий спросил Апельсина, почему тот назвал Леню Чумой. Верзила долго сопел, молчал, а потом прошептал:
– Чума он и есть… Хуже холеры… Еще молодым, при царизме, его Чумой прозвали. Когда постарше стал, силу заимел, то запретил так называть себя, а только Авторитетным. Будешь с ним работать, сам про себя Чумой называть его станешь. Ух и вредный, дьявол! Но если передашь ему мои слова – голову оторву!
– Я не доносчик! – отозвался Анатолий.
Чума рассказывал Анатолию о похождениях легендарной воровки Соньки-Золотой Ручки, о воровской удачливости Червонных валетов. Получалось так: если уж кто стал вором, то нет ему и детям его иной судьбы, кроме воровской, «урканской». И ловкость рук, и сноровка передавались из рода в род, от отца к сыну.
– А ты женатый? Дети есть? – как-то спросил Анатолий.
– Ты штё? – Чума дико посмотрел на Анатолия. – Меня ничто не связывает. Захотел погулять – гуляю, была бы монета в кармане. Еще раз запомни: настоящий вор – урка, деляга – плюет на всякое там ученье. И читать газеты ему ни к чему. Расслабляет… И всякие там хоровые и прочие кружки не положены… Портят характер. Смотри не поддавайся там, в колонии, на все эти крючки да удочки.
Рассказы о проделках воров и бандитов были рассчитаны на то, чтобы увлечь слушателя, восхитить его ловким авантюризмом, научить, как воровать, как держаться и действовать в опасных и сложных обстоятельствах: иногда убегать, иногда прикидываться припадочным, скрежетать зубами и биться о мостовую, разбивая голову до крови. Припадочным прощается сопротивление милиции. Чума учил, как давать взятки, клянчить и плакать, чтобы разжалобить, как угрожать, «брать нахрапом», а если поймали и бьют, не защищаться, а давать себя бить, учил воровской наглости и осторожности…
Да, не случайно уголовники на своем воровском жаргоне зовут тюрьму не только тюрягой, но и более многозначительно – академией…
По вечерам Чума пел бандитские песни, заставляя Анатолия подпевать. Он втягивал его в картежную игру, чтобы привить ему дух игрока, азартность, веру в случайную удачу.
Держать карты в тюрьме и играть строго запрещалось. Поэтому в ходу были самодельные карты из листков бумаги, склеенных черным хлебом. Карты часто отбирали. Делали новые.
Анатолий проиграл все, что имел, – одежду и паек. Чума сказал: «Отыгрывайся! Поверю в долг».
И мальчик проиграл почти сто тысяч несуществующих для него денег. Чума стал учить его подтасовывать карты, мошенничать.
В камере появилась водка. Каким путем она проникла сюда – Анатолий не уследил. Но Чума удостоил его чести – пригласил выпить. Апельсину тоже перепало два-три шкалика. Выдано было и Патриарху, старому вору, доживавшему свой век в тюрьме. Выпив, Чума приказал Патриарху снять рубаху. На дряблом стариковском теле Анатолий увидел целую картинную галерею: тут были и якоря, и зелено-красные удавы, опоясывающие всю его руку, затейливые драконы на груди, русалки с зелеными волосами, сердца, пронзенные стрелами, гроб, черти, вензеля с инициалами и на пояснице два боксера. Все это теснилось на жалком теле. Анатолию стало противно, он отвел глаза.
Чума рассердился:
– Эх, дура, фофан! Красоту понимать надо! В Сан-Франциско делали, большие мастера… Патриарх на этом деле тоже набил руку. Эй, Патриарх, сделай пацану отметочку!
Анатолий вскочил:
– Не надо, Леня, не надо…
Пьяный Чума подмигнул Апельсину. Тот с готовностью набросился на Анатолия, ловко свалил его на нары, прижал твердым коленом. Впрочем, опьяневший Анатолий не очень сопротивлялся.
Чума, смилостивившись, миролюбиво спросил:
– Что будем выводить?
После недолгих споров решили: якорь, буквы «А. Р.» и две руки в рукопожатии. Подвыпивший Чума загоготал:
– Знак дружбы! Рука руку моет… Понял, шкет?
Анатолий хотел, чтобы якорь обрамляли слова «Граф Монте-Кристо», но Чума решительно забраковал эту затею.
Старик притащил из своего угла мешочек с инструментом, который загадочным путем оказался в камере. Началась мучительная операция татуировки. На следующее утро рука распухла и потом долго болела.
Однажды утром дверь камеры открылась. Русакову предложили собираться. Его отправляли в трудовую воспитательную колонию, что находилась южнее Харькова.
Анатолий не хотел расставаться с Леней Чумой. Он протестовал, не шел, грубо ругался, старался вести себя, как заправский вор. «Школа» Хозяина и «академия» Чумы сделали свое дело…
Глава V
На полпути от самого себя
К приемнику колонии почти одновременно подъехали два закрытых автобуса. Анатолий вышел из второго и услышал:
– Привет ворам от Франца Красавчика!
Он даже опешил. Ну, кто бы мог подумать, что это выкрикнул выскочивший из первой машины рослый юноша в чистеньком костюмчике, с девичьим румянцем на щеках и взглядом невинных синих глаз!
Колонисты, наблюдавшие приезд новеньких, понимающе переглянулись. Один из встречавших – худощавый, смуглый, стриженный ежиком – в тон красавцу выкрикнул:
– Конец ворам, да здравствуют активисты!
И сейчас же получил замечание от мужчины в форменной одежде.
– Никто, – сказал воспитатель, обращаясь к прибывшим, – не будет вам напоминать о прошлом. То, что было, – сплыло, осталось там, за порогом. А теперь, ребята, начинайте новую жизнь.
Анатолий с неприязнью смотрел на этого невысокого худощавого человека: ведь Чума предупреждал, что воспитатели – гады и мучители. И вместе с тем им овладело ощущение робости, которую непонятно чем вызвал этот воспитатель. Он не кричал, говорил неторопливо, твердо и просто, совсем не начальственно.
– Я в зону не пойду! – заявил Красавчик. – Все равно учиться и работать не буду! – С наглостью, сквозившей в жестах, взглядах и манере говорить, он оглядел прибывших с ним ребят и добавил: – Пусть другие на меня ишачат! – Обратившись к воспитателю, он вызывающе дерзко спросил: – И что вы на меня смотрите? Вы знаете, за что Каин убил Авеля? За то, что Авель смотрел на Каина, как шакал на зайца. То, что мне положено, я все равно буду получать. – Красавчик явно хулиганил, рисовался перед другими подростками.
– А ты, парень, не форси! Поговорим с тобой потом. А вы, новенькие, запомните: с блатными законами надо кончать, здесь мы никому… – В голосе воспитателя послышался металл. – Никому не позволим тиранить слабых. Господ и рабов, как это бывает у воров, здесь нет.
Некоторые из прибывших неуверенно улыбнулись, другие испытующе смотрели на Красавчика в чистеньком костюме. А тот начал ругаться, требовал, чтобы его сейчас же перевели в другую колонию, иначе он искалечит себя, и, наконец, крикнул прибывшим:
– Неужели среди вас нет ни одного стоящего?
И на призыв к «стоящим» откликнулся Анатолий. Вспомнив поучения Лени Чумы, он тоже начал истерично ругаться, дергаться, тоже требовал перевести его, Мамону, в другую колонию.
Остальные прибывшие отнеслись ко всему этому, как посторонние зрители, и на призывы Красавчика «шумнуть» даже не отозвались, чем привели его в ярость.
– Шумим, браток, шумим? – спросил воспитатель, усмехнувшись. – Ну а теперь хватит симулировать психов. Останетесь у нас!
После регистрации их отвели в карантин для вновь прибывающих. Как только воспитатель вышел, Красавчик набросился с кулаками на новеньких, чтобы, как он кричал, проучить «слабаков», но неожиданно встретил дружный отпор. Тогда он позвал Анатолия на помощь.
Через десять минут оба оказались в штрафном изоляторе. Красавчик сразу же перестал изображать разъяренного льва и насмешливо сказал, кривя губы:
– Занавес опущен. Зрители разошлись. Кассир подсчитывает выручку. Сальдо не в нашу пользу. Как тебя?
– Мамона! Я же – Анатолий…
– А я Франц, прозываюсь Красавчик. Так вот, Мамона, надо показать, что ребята мы отчаянные, неисправимые, одним словом – оторви да брось! И лучше для здешних начальников сплавить нас в другое место. Вот и будем колесить, пока не попадем туда, где всех под себя поставим. Пятки нам чесать будут! Ты меня слушай, не пропадешь!
– Я и без тебя не пропаду. Ты для меня не авторитет. Знаешь, кто я такой? Слыхал про Леню Авторитетного, Чуму?
– А как же! – соврал Франц.
– Так мы с ним на пару, кореши, – объявил Анатолий и, чтобы утереть нос Красавчику, принялся впервые в жизни отчаянно врать, выдавая себя за участника тех страшных похождений, о которых слышал от Чумы.
– Это что, – презрительно кривя губы, отозвался Франц, – вот я… – И он тоже принялся вдохновенно врать. Потом, подзуживая друг друга, они принялись колотить в дверь ногами, требуя, чтобы их выпустили.
Русакова привели к тому воспитателю, который встречал их. Анатолий опять попытался кривляться и хамить, чтобы создать впечатление, что парень он отпетый, неисправимый и лучше от него отделаться. Ничего не помогло. Все понимал этот воспитатель, видел, что паренек напялил на себя чужую маску. Он знал, что ведет борьбу не с Анатолием, а с тем невидимым врагом, кто подчинил себе подростка. Влияние этого врага надо было побороть, да так, чтобы паренек содрогнулся от отвращения, увидев своего «бога» во всей его грязи, лжи и ничтожестве при свете ясного дня.
Чем больше неистовствовал Анатолий, тем спокойнее и даже веселее становился воспитатель. Раза два он почему-то, как показалось Анатолию, насмешливо хмыкнул про себя. Это злило и удивляло. Когда же Анатолий притих, воспитатель чуть насмешливо сказал:
– Не робей, воробей, и не таких людьми делали… – И он хлопнул его по плечу.
– Я отчаянный!
– Врешь. И никакой ты не вор!
– Как так? – Анатолий растерянно смотрел на воспитателя.
– А вот так! Вора, брат, за километр даже со спины узнать можно. Вор – он трус, хотя и наглый. Он все время трясется за свою шкуру, он боится, поэтому для храбрости и бахвалится перед такими пацанами. Ходит он не так, как все, а настороженно, оглядывается по-особому, вот так… – Воспитатель показал. – И взгляд у него особенный. А у тебя походка не та, взгляд не тот, все не воровское. Повторяешь ты, как попка, чужие слова.
Анатолий выругался для престижа.
– Да-а-а… Видать, воры изрядно оболванили твои мозги, замусорили. Но меня ты не обманешь. Мы продуем твои мозги свежим ветерком, и весь мусор слетит! Давай знакомиться: зовут меня Иван Игнатьевич.
– А я Мамона! – упрямо ответил Анатолий. Он растерялся, но сдаваться не хотел.
Он упорствовал уже несколько месяцев. Это стало для него своеобразным спортом. Кто кого? Азарт сопротивления! Стоять на своем – и не сдаваться!
В детстве он играл в путешественников, много читал об экспедициях и мечтал, когда вырастет, стать знаменитым путешественником-океанографом. Именно это и толкнуло Анатолия на ночные походы в пионерском лагере, за что и отослали его домой. Когда же он был осужден и ему показалось, что решетка отрезала его от заветной мечты навсегда, то новая игра в борьбу и сопротивление – потребность периода возмужания – помогала ему преодолеть мучительную пору душевного смятения. Уродливая, изломанная, но все же это была форма самоутверждения личности.
К невеселому, болезненному наигрышу Анатолия толкала и обида на судей, на «дружков», порой – на весь мир. Самолюбивый и гордый, даже разоткровенничавшись с Красавчиком, он ничего не сказал ему о своей обиде. Иногда Анатолий так раздувал в себе тлевший под спудом пожар, что он превращался в пожар верховой. Тогда Анатолий неистовствовал и совершал дикие поступки.
«Вы меня посчитали подлецом, виноватым во всех грехах, так нате вам! Смотрите! Я еще хуже, чем вы думаете! Пусть мне, назло вам, будет плохо, пусть я буду мучиться, но никогда не стану на колени и не начну бить поклоны, чтобы меня пожалели. Не нужны мне ни ваша жалость, ни внимание!» Так можно было бы определить буйное поведение Анатолия, мучившего самого себя.
Тогда, в их первую встречу, воспитатель не стал больше с ним спорить.
– На, держи! – весело воскликнул он. – Твоя?
Анатолий увидел свою записную книжку. Как она оказалась у воспитателя?
– Да!
Анатолий почти вырвал книжку из рук Ивана Игнатьевича, единственное, что осталось у него из дома.
– То-то! А говоришь – опытный, отчаянный. Учил, брат, урок, да не выучил… Одна теория, а практики нет. Это хорошо, очень хорошо. – Иван Игнатьевич засмеялся и легонько подтолкнул его к двери в свой кабинет. – Отчаянный вор! А где же твоя воровская наблюдательность, если ты не заметил, как я у тебя вытащил книжку из кармана? В книжке есть выписки. Ты что же, собираешься стать путешественником?
– Ну и что? – вызывающе спросил Анатолий.
– А вот если бы тебя выбросили на необитаемый остров, как ту четверку ученых, которая в конце концов встретила капитана Немо, забыл, как называется…
– «Таинственный остров» Жюля Верна.
– Ага. Они имели знания и потому многое смогли сами сделать. А если бы выбросило тебя? Ну, на что бы ты годился, не умея держать в руках ни топора, ни молотка?
– А я все равно работать не буду…
Иван Игнатьевич засмеялся.
– А все-таки что бы ты делал на острове?
– Ну, я, как Робинзон Крузо…
– Завел бы себе Пятницу? Раба? Да, каждый уголовник-рецидивист имеет привычку заводить себе Пятниц. Ты и сейчас Пятница у Франца.
– Хотите поссорить нас?
– А вы и так поссоритесь. Не такой у тебя характер, чтобы тобой помыкал этот Красавчик.
Анатолий нахмурился и промолчал. Ему казалось, что Иван Игнатьевич знает о нем что-то такое, чего он сам о себе не знает.
Потом Иван Игнатьевич вызвал Франца.
– Что вы на меня тогда так смотрели? – спросил Красавчик.
– Ты в театре играл?
– Я артист на сцене жизни! Мой предок, тот артист знаменитый. А что?
– Да просто пожалел. Артистические способности зря пропадают.
– На дешевку хотите взять? Я в самодеятельности участвовать не буду. Зря стараетесь.
– Характер у тебя… Небось учился на двойках, изводил преподавателей, тиранил малышей и знал, что ничего за это не будет? Мать заступится, а если надо, то и отец…
– Ну и что! Он и сейчас за меня хлопочет.
– Мать, наверное, давала много денег. Самому тратить скучно, завелась компания, рестораны, девушки, подарки… Маминых денег стало не хватать, ну и начал красть? А краденое – надо продавать. Связался с перекупщиками краденого. Ну и пошло… Правильно?
– Вы же сами обещали, что о прошлом никто напоминать не будет.
– Верно! Напоминать не будем, если сам постараешься забыть прошлое и покончить с ним. Если перестанешь ломаться и, как все люди, будешь работать, учиться. Приезжал твой отец. Но учти: до тех пор пока не возьмешься за работу и учебу, я запретил передавать тебе сладкое.
– Значит, предок появлялся? – воскликнул Франц. – Я не могу без сладкого. Это безобразие! – Нижняя губа у Франца загнулась влево, уродуя лицо. – Вы не имеете права задерживать передачи!
– Заруби себе твердо: бездельничать и жрать пышки на чужой счет – не позволим. Ты не болонка… Будешь учиться, овладевать ремеслом – все будет.
– А зачем мне ремесло, я же буду артистом.
– А это тоже труд, да еще какой!
– А я не ишак. У артиста не труд, а вдохновение.
– Ишь ты! – рассердился наконец Иван Игнатьевич. – А я ведь думал, что парень ты калеченый, но неглупый… Да знаешь ли ты, умная голова, каким упорным трудом пришли великие люди искусства к вершинам своего мастерства, сколько трудового пота пролили Шаляпин и Собинов, Качалов и Ермолова, Чаплин и даже хоть не великий, но любимый тобою Дуглас Фербенкс? А читал ли ты когда-нибудь книгу о гениальном скрипаче Паганини? А знаешь ли ты, по скольку часов в день работал и до скольких лет учился Репин? «Вдохновение»! Ты что же, думаешь, без вдохновения воздвигнуты высочайшие здания, перекинуты мосты через реки, построены электростанции, созданы самолеты? «Артист»! А хорошую обувь, красивую мебель, фотоаппараты «ФЭД», автомобили – разве все это не создали артисты своего дела?
Франц молчал.
– Ты понимаешь, кто ты?
– Я? Я же сказал – артист на сцене жизни.
– Ты бездельник по убеждению, игрок по характеру, иждивенец по образу жизни, молодой вор по профессии. А в целом – очередная жертва воров-рецидивистов, отравивших твое сознание. Вошь укусит – человек заболевает тифом. Вот и у тебя тиф от яда паразитов, только тиф моральный, нравственный. И нам выпала нелегкая задача не дать тебе погибнуть.
Франц слушал, опустив голову.
Зато, когда он опять очутился в штрафном изоляторе, чего только ни наплел Анатолию о том, как ловко он «посадил в калошу» воспитателя. Анатолий не отставал от него.
Затем они принялись мечтать о побеге и пришли к заключению, что дело это безнадежное. А если прикинуться раскаявшимися? Ведь пускают же активистов в город. Лишь бы пустили, а там – поминай как звали! Но, чтобы посчитали раскаявшимися, надо и учиться и работать лучше, чем другие. Нет, так не пойдет! Решили держаться непримиримо, но все же так, чтобы не попадать в штрафной изолятор. Ну его к черту. Скучища – подохнуть можно. Да и кормят голодно, на обед одно блюдо…
Закончился карантинный период. Рано утром, когда новичков вели в баню, перед тем как перевести в основной корпус, Франц воскликнул:
– Гляди!
Анатолий впервые увидел воспитанников. В черных костюмах, по четыре в ряд, они выстроились очень длинной колонной. Большинство колонистов были коротко острижены, некоторые же имели длинные волосы.
– Курят! – радостно объявил Красавчик.
У многих колонистов во рту торчали дымящиеся папиросы. Анатолий подметил, что у длинноволосых папирос не было.
В бане Красавчик шепнул Анатолию:
– Длинноволосые – это активисты, наши враги. А если в строю курят – а курить запрещается, – значит, есть в колонии парни с «душком», значит, и здесь жить можно.
Новичков поселили в основном корпусе – хмуром многоэтажном кирпичном здании с железными лестницами. На каждом этаже помещался отряд воспитанников, в комнате – отделение, то есть класс, человек двадцать пять – тридцать. В комнате отделения, куда их зачислили, они получили по железной койке с постелью и по деревянной тумбочке для вещей. Потом им выдали личные вещи и учебники. Красавчик и Мамона учебников не взяли и пригрозили, что если их будут заставлять учиться и совать эту проклятую мораль, от которой их тошнит, то они изорвут книги.
Еще перед этим с новичками знакомилась комиссия по приему в составе начальника колонии, старших воспитателей, врача, директора школы, заведующего производственными мастерскими, а теперь старший воспитатель предупредил Франца и Анатолия, что, если они не будут подчиняться режиму колонии, их поведение будет обсуждаться на совете воспитанников.
– Долой режим, никаких привилегий лучшим, да здравствует уравниловка! – объявил Франц.
И снова они стояли перед Иваном Игнатьевичем.
– Режим есть режим, то есть порядок жизни, и никому мы не разрешим его нарушать. Вы будете делать утреннюю зарядку, сами заправлять постели, учиться и работать.
– Я ненавижу режим, никогда, даже дома, в школе, у меня не было никакого режима. Я вор, и в тюрьме я не подчинялся режиму. Дома не учился и не работал и здесь не буду. – Так объявил Франц, и Анатолий вторил ему.
– Ты, Франц, дома привык прятаться за широкую спину отца, а сейчас не удастся. Не я, так воспитанники заставят.
– Это те, что курят в строю? Воры – свободные люди, и для них режим – смерть…
– Видишь ли, до войны были спецколонии для особенно трудных, а сейчас таких колоний нет, а жаль, так как в них надо бы направить тех, кто у нас мутит воду. Насчет того, что у воров нет режима, ты врешь.
– Я вру? Да вы не знаете, могу рассказать.
– Ну расскажи, расскажи.
И Франц залился соловьем. Послушать его, так нет на свете более свободных людей, чем воры. Братство равных, где добыча делится поровну и никто зря не обидит другого, а если обидит, того судит сходка воров.
– А что это у тебя за метки на руке? – вдруг спросил Иван Игнатьевич.
– Это? – Красавчик смутился. – Это так… порезался.
– Врешь! Это шрамы от бритвы. И порезы эти сделали тебе воры за то, что ты не сумел выполнить их поручение. А шрамов у тебя много. Значит, воры по-своему заставляли тебя придерживаться режима воровской жизни. А режим воровской жизни строгий и жестокий. Можешь ты без разрешения воровской сходки уйти из шайки? Молчишь? А ты что скажешь, Анатолий?
– А зачем мне уходить, мне и в шайке будет хорошо.
– Уходишь от ответа? Юлишь? Вору под страхом смерти запрещается уход из шайки. Он может «завязать» только с разрешения сходки, если женится или болен. И это тоже воровской режим. Конечно, настоящий человек найдет в себе силы уйти из воровского болота, отмыть грязь и зажить честной жизнью. И воры, как правило, только грозят расправиться. Сто уйдет, а расправятся они с двумя-тремя, и то только при чрезвычайных условиях, потому что боятся. Вот ты, Франц, говорил о воровской свободе. А можешь ли ты как вор отказаться, если вор приглашает тебя выпить с ним водки?
– Только лошади от водки отказываются, – отозвался Франц, и лицо его болезненно искривилось.
– А ты, Анатолий, тоже будешь юлить?
– Не может вор отказаться от выпивки, если его приглашает вор.
– Правильно. Железный воровской режим. А почему такой режим нужен ворам? Чтобы подпоить новичка, чтобы заставить его играть в карты. А воры…
Иван Игнатьевич обратил внимание, как Анатолий испуганно взглянул на него.
– …А воры, – продолжал Иван Игнатьевич, делая вид, что не заметил этого взгляда, – говорят: больше будешь играть в карты на деньги, скорее станешь вором. Проиграл – плати. Не заплатишь – пальцы отрубят. Руку отрубят. У нас есть один такой без трех пальцев на левой руке и двух пальцев на правой. Так это называется, как ты говоришь, «братство равных»? Чушь! По воровским законам слабый должен подчиняться сильному. Так, Анатолий?
– Так! Не будь слабым.
– Какое же это «братство», если сильный имеет законное воровское право эксплуатировать слабого! И вы отлично знаете, что старший заставляет малолетнего вора или воров ишачить на себя, берет «положенное». Малолеток украдет десятку, отдаст старшему, а тот ему за это отвалит целковый на мороженое.
– За науку! – Франц засмеялся.
– А попробуй он эту «науку» использовать только для себя одного, что ему за это будет?
– Правилка! – зло крикнул Франц.
– Вот именно. Делись украденным со старшим.
– Ну а вы, выученики, почему отдаете «положенное», часть своей пайки старшему?
– Из уважения! – сказал Анатолий, вспомнив поучения Чумы.
– А что будет с вами, если не отдадите «положенного», этой воровской дани, которую получает старший?
Оба промолчали.
– Так утверждается воровской закон: право сильного на эксплуатацию. Типичный закон буржуазного общества. А должен ли бандит или вор из шайки, если захочет поехать в другой город, обязательно предупреждать других о своем отъезде?
Франц угрюмо промолчал. Анатолий же задиристо спросил:
– А что в этом плохого? Джентльменское отношение!
Не будут знать, куда исчез, будут беспокоиться.
– Правильно, будет беспокойство, вызванное недоверием. А не сбежал ли, не бросил ли вор или бандит шайку или банду, не выдал ли? Потому что каждый обязан следить за другими и, если что-либо заметит предосудительное – а вдруг вор начал книжки читать или учиться, – сейчас же донести. А если он все же осмелился уехать без спросу, за это его потянут на сходку и «джентльмены» будут его судить.
– Что вы смеетесь, «джентльмены»? – передразнил Франц. – Вор не имеет права оскорбить другого вора, а оскорбил – на сходку.
– И ты уверяешь, что никогда не ругаешь другого вора матом?
– Что мат?.. Это ерунда… укрепляет сознание…
– Тоже мне «джентльмены»! А скажи-ка: может ли вор у вора украсть?
Франц злорадно усмехнулся и буркнул:
– Не зевай!
– Правильно, не зевай. Есть такой воровской закон. А почему? Чтобы узаконить эксплуатацию неопытного. Если, для видимости, украденное и поделили поровну, то потом я, более опытный вор, все же отберу себе львиную долю, а для этого я обворую тебя, менее опытного.
Тоже мне романтика, где шага нельзя ступить без спросу, где один «друг» все время следит за другим и к тому же обкрадывает его.
Хороша же «справедливость», когда авторитетный вор заставляет других воров взять на себя его вину, идти вместо него под суд, в тюрьму, колонию, лагерь. Есть такой старый вор «дядя Лева». Он каждый раз остается на свободе и снова ловит легковерных дурачков на приманку «свободной жизни» и «братства равных».
Помню, за десять лет, пока я работал в уголовном розыске, мы задержали лишь шесть авторитетных воров, да и те скорее попали случайно. И пока шло следствие, то их дружки подставили за них тех, кто не участвовал в преступлении, но взял преступление на себя…
– Так это бывает? – вырвалось у Анатолия.
– А что? Тебя тоже «женили»?
– Я «вор в законе» – все равно не останусь в вашей треклятой колонии! – закричал Франц.
– Вот ты сказал «вор в законе». А каждый закон зиждется на режиме соблюдения этого закона. Так как же насчет «свободы»? – усмехнулся Иван Игнатьевич. – И кричишь ты только потому, что боишься, как бы твое «братство равных» не стало мстить тебе за то, что ты не соблюдаешь его режима.
– Я ничего не боюсь! – еще больше разозлившись, завизжал Франц. – Я «елочку» себе сделаю.
– Невинные порезы на животе? Ты лучше почаще на свои шрамы, полученные тобой от воров за несоблюдение их режима, поглядывай. Виктор Гюго в своем романе «Человек, который смеется» описал компрочикосов. Они крали и уродовали детей и продавали их в качестве шутов в богатые дома или балаганы.
Рецидивисты хуже компрочикосов. Они оперировали твою душу, привили тебе культ насилия, звериный эгоизм, злобное человеконенавистничество и, что самое подлое, сделали тебя запуганным страхом смерти – рабом. Эх ты, «вор в законе»!
А мы должны помочь тебе избавиться от всей этой мерзости, сделать честным человеком. Ты, конечно, слышал о Макаренко?
– Не знаю никакого Макаренко.
– А ты, Анатолий?
– Слышал, – нехотя ответил Анатолий, – только бросьте эту мораль.
– Однажды, – хладнокровно продолжал Иван Игнатьевич, – в колонии Макаренко один колонист не пожелал идти на работу, а остался в постели. Колонисты потребовали вызвать его на совет воспитанников. Вы знаете, что это такое? В совет входят командиры отделений, представители общественных комиссий, а их не мало: санитарная, культурно-массовая, производственная и другие. Не советую вести себя так, чтобы пришлось предстать перед советом. Есть еще совет отряда. Макаренко решил иначе. Он разрешил колонисту спать днем. Только приказал на день выносить кровать во двор, чтобы все могли его видеть. Реплики подавать не запрещалось. Колонист был упрям. Много дней провел он в этой постели, не проспал – промучился, потому что колонисты были остры на язык, потом не выдержал, сам стал просить работу. Вас я тоже пока не буду заставлять работать и учиться. Только помните: без окончания школы многие хорошие пути вам будут закрыты.
– Мы победили! – объявил Франц, когда они вышли из кабинета.
Анатолий был того же мнения.
И все же было скучно, чертовски тоскливо. Франц и Анатолий ничего не делали и слонялись из угла в угол.
Франц попытался подчинить своему влиянию прежде всего тех колонистов, которые, нарушая режим, курили в строю, но натолкнулся на их сопротивление. Ими уже командовал Василий Люсенков, по кличке Губернатор, рослый и сильный парень и к тому же рецидивист.
Все в колонии претило Анатолию. Он возненавидел раннее вставание по звонку, заправку постели, проверку по журналу. Он попробовал было остаться в постели, но воспитанники сами «внушили» ему, что подводить отделение, соревнующееся с другим, – не по-товарищески. Это было весьма чувствительное «внушение», и в дальнейшем он не рисковал ссориться с коллективом.
Анатолий исподволь присматривался к воспитанникам из своего отделения: до чего же разный здесь был народ. В отделении было три группы. Самая малочисленная, но зато самая свирепая и крепко сбитая, была группа малолетних преступников – бывших членов шаек и банд. Они уже «запродали» свои души раньше и страшились изменить воровским традициям. Они в каждом подозревали доносчика, который донесет «на волю» ворам об их недостаточном рвении «ворам в законе». Они рассуждали так: «Все равно мы пропащие», «Держись нас», «Ты слово, данное Чуме, не продавай», «Перемучаемся здесь, а когда выйдем, тогда и загуляем», «Выйду, снова банда подберет». И хвалились своими преступлениями.
Самая многочисленная группа состояла из случайных правонарушителей, не имевших в прошлом никаких воровских традиций. Они мучились своим пребыванием в неволе, но подчинялись режиму. О своем прошлом они почти не говорили, а если и говорили, то с сожалением или вообще умалчивали.
И была группа активистов. Их было в три раза больше, чем «воров», и обе группы все время враждовали между собой в борьбе за влияние. Ссоры были часты и вспыхивали по всякому поводу. Нередко случалось, когда игра, обычная игра, кончалась потасовкой. Все они были слишком нервны, слишком издерганны. На многих лицах были преждевременные морщинки, печать тяжелых переживаний. Глаза воспитанников быстро меняли свое выражение, что свойственно молодости, но в минуты одиночества они выражали отчаяние, злобу, а чаще всего печаль. Как-никак приходится жить не на воле, а в четырех высоких каменных стенах, на углах которых вышки с вооруженными стражниками. А перед стенами натянута колючая проволока, перед ней – четырехметровая, усыпанная песком, чтобы оставались следы, полоса. Даже ступеньки в корпусе железные. И все и в коридорах и в комнатах пахнет дезинфекцией. Поневоле начнешь мечтать о вольной жизни. Только каждый мечтает по-своему: один мечтает начать новую, чистую жизнь, а другой – о «разгульной житухе». Днем четыре часа учебы и пять часов работы. Не просто работы. Надо выполнить план. А для этого надо стараться, «вкалывать». И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Трудно, очень трудно для разболтанного юнца, особенно если он слабохарактерный.
Но вечером готовили уроки, участвовали в различных кружках, а то и просто «околачивались», проводя время в болтовне. Франц и Анатолий «принципиально» не участвовали в самодеятельности, так как ворам это запрещалось. Демонстративное поведение Красавчика и Мамоны плохо влияло на многих воспитанников отделения, и это раздражало активистов.
– Я вас заставлю учиться! – однажды вечером объявил староста класса, активист Володя – Влоо, как его прозвали.
Франц вырвался и убежал, Анатолия же активисты силой усадили за стол, положили перед ним учебник и приказали читать.
– Не буду.
– Будешь, а то запустим тебе «реактивный»! – пригрозил Влоо.
Неожиданно вошел воспитатель, и Анатолия отпустили. Он выругался и убежал.
В тот же вечер Франц и Анатолий услышали «романиста» Губернатора. Умел, ох умел Губернатор рассказывать о похождениях воров, о дерзких налетах, об их храбрости и благородстве. Даже «Зверобой» Фенимора Купера он переиначил на воровской лад. Теперь им обоим стало понятно, чем завлекал ребят Губернатор. А если Франц попробует также рассказать, но так, чтобы было ближе к жизни?
На второй же вечер Франц попробовал. Получилось. Удалось привлечь четырех юнцов. Они громко гоготали по поводу любой удачной или неудачной остроты, выражая свое восхищение.
– Мы еще дадим жизни, посмотрим, чья возьмет! – обещал Франц.
Но эта четверка не захотела, как ни уговаривали Франц и Анатолий, бросить учебу и работу. От юнцов удалось только добиться обещания, что они не будут отличаться в учебе и будут работать «втихаря», не участвуя в соревновании.
Дни шли за днями. Франц и Анатолий категорически отказывались учиться и работать. Обо всем интересном было говорено и переговорено. Они надоели друг другу и молча слонялись по двору, скучая. Именно эта опостылевшая «скука зеленая», а совсем не стремление завербовать сторонников, как Франц пытался оправдать свое отступление, заставила их прийти в класс и заявить о желании учиться.
Нестерпимы были насмешливые взгляды воспитанников. Чтобы продемонстрировать свою непримиримость и доказать, что они не сдались, а лишь изменили тактику, Анатолий и Франц мешали как могли.
Тогда же черноволосый Володя потихоньку от Ивана Игнатьевича предупредил обоих, что если Франц и Анатолий и впредь будут баловаться на уроках, то они, активисты, «дадут им дрозда» – словом, отобьют у них охоту мешать другим.
Красавчик хорохорился, даже пугал. Но вечером несколько парней во главе с Влоо взяли их «в реактивный оборот», и Франц побежал к Ивану Игнатьевичу и наябедничал, что их избили, преувеличивая случившееся.
Конечно, Володю вызвали к Ивану Игнатьевичу. Пришел от него Влоо хмурый, злой, Красавчика демонстративно не замечал, хотя тот и пытался поддеть его.
Анатолий никак не ожидал, что его новый дружок окажется ябедой. Поглядывая на Франца, он с неудовольствием думал: «Неужели и я такой же в глазах других?» И, когда они остались одни, он высказал свое возмущение. Франц постарался перевести это в шутку и сказал, что «с волками жить – по-волчьи выть».
– Но ведь Влоо не побежал жаловаться на тебя Ивану Игнатьевичу?
Спор закончился дракой. Потом Франц всячески старался задобрить Анатолия и обещал ему первый шоколадный торт, как только «предок» пришлет посылку.
Анатолий только презрительно усмехнулся: что он, девчонка, чтобы набрасываться на сладкое?
Красавчик очень надеялся на помощь своего «предка», как он называл отца. Этот «предок», обходительный, хорошо одетый человек, появился на второй день после прибытия Франца. Он привез ему всякой всячины, в том числе и шоколадный торт, и старался повлиять на Ивана Игнатьевича, чтобы тот смягчил отношение к сыну. Он говорил о своих связях, о своем положении и намекал на возможные неприятности, если не удовлетворят его просьбы, требовал большей «гуманности».
Иван Игнатьевич отказался передать торт и освободить Франца из штрафного изолятора. Он сказал, что не шоколадный торт, а изолятор – первое лекарство, которое необходимо его избалованному сыну.
Отец Франца уехал рассерженный и пожаловался в областные организации. Оттуда позвонили и пожурили Ивана Игнатьевича, попросили действовать «педагогичнее и мягче».
Забегая вперед, надо сказать, что отец Франца снова явился, уже без торта, через три месяца. За это время он не раз звонил Ивану Игнатьевичу. Теперь он уже не запугивал, а всячески старался расположить к себе воспитателя, намекая, что может быть ему полезен, а когда Иван Игнатьевич отклонил его «предложения», он спросил о сыне.
– По-прежнему хулиганит, не учится, нарушает режим, – ответил воспитатель.
Отец вспылил:
– И за что вы только зарплату получаете? Прошло три месяца, и вы не сумели повлиять на мальчика.
– Вы своего сына шестнадцать лет воспитывали и не смогли воспитать. Да и теперь стараетесь мешать. Довели до тюрьмы, а хотите, чтобы мы все ваши ошибки исправили в три месяца?
Свидание отца с сыном было тяжелым и для того и для другого: Франц понял, что на этот раз «предок» его не выручит. Это означало крушение всех планов на легкое освобождение. Надо было или бежать, а это вряд ли удастся, или менять свое поведение.
Детство Ивана Игнатьевича Ченцова прошло на юге Украины. Отец и мать батрачили у кулака, немца-колониста. После Октября, когда советская власть стала раздавать помещичьи и кулацкие земли крестьянской бедноте, кулачье восстало. Отец и мать Вани были зверски убиты, сироту прогнали из родных мест. И пошел малец бродить.
Это были героические годы Гражданской войны. Вся Украина была охвачена огнем классовых боев. Смышленый, смелый подросток шатался по селам и станицам с такими же ребятами-голодранцами, как и он, и добывал пропитание у кулаков и буржуев, не стесняясь в средствах. Наконец оборванные, изголодавшиеся ребята пришли на станцию, занятую красными конниками. Красноармейцы из воинского эшелона, стоящего на путях, сытно накормили беспризорников, дали кое-что из одежды, по-отцовски расспросили. Ребята не таились, даже бахвалились тем, как ловко они «конфискуют» у буржуев и кулаков харчи и кормятся не только сами, но даже подкармливают беспризорную мелкоту. Взводный, бывший шахтер, сказал:
– Не дело, ребята, анархию разводить. Теперь революция! У буржуев надо конфисковать не харчи, а землю, фабрики и банки. По-пролетарски! Чтобы вы не разбаловались, надо вас к делу пристроить: кого в детский дом – там грамоте и ремеслу обучат, людьми сделают; кто постарше, тому надо за дело приниматься. Вот я с комиссаром о вас поговорю.
Бойцы рассказали, что их командир – Григорий Котовский – тоже в молодости, до революции, отбирал богатства у помещиков и раздавал бедным. Он наводил ужас на буржуев, ловко ускользая от полицейских и жандармов. А сейчас Григорий Котовский со своими конниками не терпит анархии и воюет за рабоче-крестьянскую власть, чтобы землю навечно отдать трудящимся.
Беспризорники услышали много интересного о смелости и ратных подвигах красных конников и их славного командира.
Да, с таким командиром Иван тоже совершал бы великие подвиги.
– Назначьте меня адъютантом к Котовскому! – попросил Иван.
Командир взвода засмеялся, засмеялись и кавалеристы. Шел мимо командир эскадрона, узнал, в чем дело, расспросил Ивана и сказал:
– Ну что ж, хлопчик, и тебе у нас дело найдется. Разведать надо село одно, – говорят, там бандиты осели.
И пошел Иван в разведку. Коня ему не дали, шинели и сапог тоже не дали, в сабле отказали. Довезли до балки и объяснили, куда идти, что смотреть. Походил он по селу, разведал, сколько там бандитов собралось, сколько у них оружия и коней, где их атаман. Вернулся обратно Иван, доложил обо всем командиру, и на следующее утро налетели красные конники, разгромили бандитов, атамана захватили.
Паренька полюбили, стали давать серьезные задания, разведчик из него получился отличный. Два года он воевал в рядах конников Котовского, а потом стал работать в ЧК, участвовал в разгроме тайной организации контрреволюционного офицерства, вылавливал шпионов, спекулянтов валютой, бандитов. В годы перед Великой Отечественной войной Иван Игнатьевич работал в уголовном розыске и разоблачил немало преступников.
Во время Отечественной войны Иван Игнатьевич снова стал разведчиком. По-немецки он научился говорить еще в детстве, когда жил в колонии у немцев. Много раз он ходил с группой в тыл врага и приносил ценные документы, был и ранен и контужен.
Давно бы Иван Игнатьевич мог выйти на пенсию, да как жить, ничего не делая? Жена умерла, два взрослых сына давно женились и разъехались в разные концы страны. И решил Иван Игнатьевич пойти работать в трудовую колонию, где содержались несовершеннолетние правонарушители. Уж так повелось еще со времен Дзержинского, что в детские колонии брали на работу чекистов и педагогов. Он был не только воспитателем, но и секретарем партийной организации.
Он говорил о себе:
– Поработал я мусорщиком, чтобы всякая нечисть не поганила нашу советскую жизнь. А теперь работаю повивальной бабкой, помогаю хлопчикам второй раз в жизнь войти!
Но как трудно порой приходилось «повивальной бабке»!
– Ни с кем говорить не хочу, переведите в другую колонию, а то я себя порежу! – кричит, бывало, отпетый ворюга, доставленный в колонию.
– А с Иваном Игнатьевичем говорить будешь? – спрашивают его.
– С Иваном Игнатьевичем? А он здесь? С ним буду. Иван Игнатьевич был человек своеобразный, острого ума. Он не боялся вести с воспитанниками такие беседы, которые многим должны были бы показаться странными, даже нелепыми. Обычно он появлялся в спальне перед сном. Свет был потушен. Воспитанники лежали в постелях. Иван Игнатьевич подсаживался или ложился к кому-нибудь на кровать и рассказывал интереснейшие истории. Иногда он загадывал загадки, задавал каверзные вопросы, например: «Сколько водки должен выпить человек, чтобы быть счастливым?» Вопрос очень смешной. Все спешили ответить. Кто-то посоветовал по сто граммов перед обедом – для аппетита.
– У тебя, бедняги, нет аппетита? – спрашивал Иван Игнатьевич.
Поднимался хохот – все знали, что парень и без стопки водки мог съесть две-три порции.
И, странное дело, чем больше воспитанники рассказывали о пьющих, тем реже звучал смех. Конечно, смешно, когда пьяный весь в грязи ползет на четвереньках. Легко обокрасть пьяного дурака. А в конце разговора выяснялось, что пьяницы и алкоголики самые несчастные, никем не уважаемые люди, приносящие зло и себе и другим. Они же сами клянут водку, клянут свою судьбу.
– Ну, душа меру знает! – вставит кто-нибудь.
– А что такое душа?
И начинался серьезный разговор: о Боге, о судьбе, о вере в приметы, о везении и прочем.
– Агитируете! – иногда весело крикнет кто-нибудь из воспитанников.
– Да, агитирую, – не смущаясь, отвечал Иван Игнатьевич.
После таких бесед многие задумывались. Иван Игнатьевич охотно давал им читать свои тетрадки, куда он записывал интересные мысли и высказывания. Эти выписки были умно подобраны. Он хорошо знал свойство молодых увлекаться великими свершениями, оригинальными мыслями, смелыми поступками. Его записки переписывались. Тетради несколько раз крали те, кому лень было переписывать, но сами же воспитанники находили вора и тетради возвращали.
Анатолий и Франц по-прежнему отказывались работать и участвовать в общественной жизни колонии, даже в санитарной комиссии. Но член санитарной комиссии Севка оказался на редкость настойчивым пареньком. Анатолий и Франц пробовали «отшить» Севку-прилипалу. Они отшучивались, ругались и, конечно, угрожали. Не помогло. Он поместил на них в стенгазете очень злую и меткую карикатуру. В ней была изображена собачка болонка с лицом Франца, лежавшая на неубранной постели. Перед ней красовался шоколадный торт. А рядом стоял лопоухий щенок с лицом Анатолия, который вылизывал болонке шерстку. Ребята покатывались со смеху, до того карикатура была ядовита и смешна. Легче было постелить постели как положено, чем иметь дело с Севкой. «Такой хуже миллиона комаров», – решили они.
В классы они ходили и уже не так мешали другим, даже учились. Но как? Курам на смех! Работать в мастерских отказались наотрез. Пусть их посадят в штрафной изолятор, куда угодно – не будут работать, и все!
А ведь в колонии работали не просто ради работы. В здешних мастерских всерьез обучали ремеслу, присваивался разряд. Из колонии человек выходил механиком, токарем, слесарем, столяром, электромонтером. Верный кусок хлеба после освобождения! Путевка в жизнь.
– Мне это ни к чему, – цедил сквозь зубы Франц. – Я буду артистом воровского дела.
– А почему бы тебе не стать просто знаменитым артистом? – спрашивал Иван Игнатьевич. – Сделай почин в нашем драмкружке.
– Меня на это не купите!
Вначале Анатолия и Франца объединяла исключительность их положения в коллективе. Знатнее губернаторского.
Когда же все «встречные и поперечные» стали их прорабатывать, они отступили, но не сдались.
Когда же на них перестали обращать внимание и предоставили самим себе, их спаянность заметно ослабела. Симпатии? Только вначале Анатолий был пленен Францем. Теперь он ловил себя на том, как бывало и в отношениях к Хозяину, что у него время от времени возникает неприязнь к Францу. «Балаболка, ябедник, шут гороховый, пустозвон, дрянцо», – думал он.
Они все еще старались держаться вместе, но уже чертовски наскучили друг другу. Наконец наступил день, когда они поссорились.
Деятельный по натуре, Анатолий изнывал от вынужденного бездействия. Трудно бывает человеку понять самого себя, увидеть себя со стороны. А вот в Красавчике, как в кривом зеркале, Анатолий увидел отражение некоторых своих поступков, увидел и не то что испугался, а задумался. Неужели и он такой же?
«Ну и пусть, – сейчас же успокоил он себя. – А почему я должен быть лучше?»
Более сурово, чем суд, он в глубине души сам осудил себя, даже подумывал о самоубийстве. А после знакомства с Чумой решил все снести – и осуждение и презрение. «Сам себе устроил эту жизнь, ну и получай! Так тебе, гаду, и надо. Чем хуже – тем лучше».
Впрочем, он себя плохо понимал, некоторые его поступки были для него самого неожиданными. Но самым трудным было бездельничанье.
Однажды в предвесенний погожий день, в часы, когда все трудились, Анатолий, скучая, брел по двору. Вдруг он услышал сдавленный стон. У стены стояла грузовая машина с открытым капотом. Под ней, спиной на брезенте, лежал шофер. Он кряхтел, стонал и, судя по дергавшимся ногам, тщетно пытался вылезти.
Анатолий бросился было к нему, но потом в нерешительности остановился: снятые с машины скаты лежали на снегу, задний мост зарылся правой полуосью в снег. Видимо, домкрат, поддерживавший машину с этой стороны, соскользнул. Левую полуось все еще удерживало толстое полено, сильно накренившееся вправо. Вот-вот оно соскользнет, и тогда кузов всей тяжестью обрушится на грудь прижатого к снегу шофера, тот держался правой рукой за полено. Да что толку!
Анатолий стоял позади кузова и видел набухшее кровью лицо шофера.
– Беги до гаража, – прохрипел шофер. – Пропадаю!
– Да я сам! – Анатолий бросился к домкрату.
– А сможешь? Ох, тяжко!
Он, Анатолий, да не сможет подвести домкрат? Какая ерунда! Торопясь поскорее освободить шофера, пугаясь мысли, что не удастся, Анатолий дернул домкрат на себя, но не смог вытащить. Он подрыл пальцами снег и с трудом вытянул домкрат. Машина чуточку осела. Шофер прошептал:
– Тише, тише!
Куда же поставить домкрат? На прежнее место не поставишь, слишком низко.
– Ближе до середины, до середины, – шептал шофер. – Ставь на упор. Подмости якусь дровыняку…
Анатолий поискал взглядом, метнулся к палисаднику и выломал в заборчике доску. Бросившись на колени, он укоротил домкрат и попытался поставить его на доску под задний мост, но домкрат не влезал. Анатолий отбросил его в сторону и принялся обеими руками отгребать смерзшийся, колючий, ранящий пальцы снег. Анатолию казалось, что свистящие вдохи и выдохи шофера с каждым мгновением становятся все короче и короче. Лишь бы успеть…
Он снова уложил доску, снова поставил на нее домкрат. Развилка домкрата плотно уперлась в задний мост. Шофер подмигнул. «Ну и характер», – подумал Анатолий и стал поспешно орудовать рычагом. Пот щипал глаза. Три-четыре взмаха, и домкрат уже чуть шевельнул задний мост, но… снег захрустел, доска перекосилась и осела… Анатолий замер.
– Давай, друже! – прохрипел шофер.
Анатолий снова начал действовать рычагом: вправо – влево, вправо – влево. Доска громко треснула, но осталась в том же положении. Полено, подпиравшее левую ось, качнулось в руке шофера. Короткими рывками машина подавалась вверх.
– Уф! Уф! – услышал Анатолий шумные глубокие вздохи. – Да тише ты, хлопчик! Як задавыш Грицька, дивчата плакать будуть.
Анатолий бросил рычаг, попробовал просунуть ладонь между грудью шофера и низом машины – еле пролезает. Он еще немного покачал рычагом, еще чуть-чуть приподнял машину, забежал и схватил шофера за ноги. Шофер закричал: «Рано!» – и… оказался на снегу возле машины.
Лежа, он ощупал грудь, левое плечо и со стоном сел. Анатолий смотрел на него и радостно улыбался.
– Помирать нам рановато, есть у нас ще большие дела! Ну, спасибо, друже! – Он протянул темные от масла и гари пальцы и крепко пожал руку парню.
Анатолий помог шоферу подняться на ноги, подал ему шапку, лежавшую под машиной. Шофер – пожилой, широкоплечий, с сединою в волосах – попробовал стряхнуть с шеи снег и застонал. Кряхтя от боли, попытался согнуть правую руку в локте и сжать пальцы в кулак. Пальцы не сжимались.
– Дывись! – Шофер уставился на непослушную руку. – Ничого! Прысохне, як на собаци! Я ж з тебе шофера наипервейшего класса зроблю. Хочешь?
– Хочу, – охотно согласился Анатолий.
– Раз так – помоги машину до путя довести. Тилько работы тут не мало, били ручки замараешь, – сказал шофер на странной помеси украинского и русского языков.
Анатолий не сразу ответил. Он оглянулся: нет ли поблизости Франца? Ведь похоже на то, что он, Анатолий, изменяет их клятве быть верными воровскому духу и не трудиться. Но как же не помочь человеку в беде?
– Тебе, хлопче, як зовуть?
– Мамона!
– По имени!
– Анатолий.
– Ну а я Григорий Маркович, або як вси зовуть – дядько Грицько. Слухай, друже, а може, у тебе есть якесь дило? Поможешь мени, а вид начальства нагоняй?
– Ладно уж… Помогу.
– Тильки уговор – на полпути не кыдай. А то, може, сбигаешь до гаражу та приведешь кого?
– Раз взялся – сделаю.
– Ну добре! Ты машину хоть трохи знаешь?
– Мотоцикл немного знаю. Помогал разбирать и мыть одному парню у нас во дворе… Он за это катал меня, даже учил управлять. Немного… А с грузовой машиной не приходилось…
– Такой же мотор внутреннего сгорания. Четыре цилиндра. Значит, четыре свечи. Оце задний мост, щоб ему повылазило. Теперь нам треба надиты задни скаты и завести мотор.
Шофер помогал левой рукой. В основном действовал Анатолий. Он подкатил и надел колеса, завинтил гайки, вынул домкрат. Теперь машина стояла на всех четырех колесах. Шофер попробовал запустить мотор, нажимая педаль стартера, но мотор не заводился. Пришлось Анатолию заводить мотор рукояткой. Он крутнул несколько раз, устал, снова крутнул.
– В поте лица своего зарабатываем хлеб свой? – послышался насмешливый голос Красавчика.
– Пошел ты… – Анатолий изо всех сил завертел рукояткой.
Мотор чихнул, рукоятку сильно рвануло назад, в обратную сторону, и Анатолий с воплем отскочил. Большой палец как-то странно торчал.
Шофер выскочил из кабинки и подбежал.
– Выбило? То ж я повинен. Не научил. Коли заводишь, нияк не можно обхватувати ручку большим пальцем… – Говоря, он неожиданно и сильно дернул большой палец Анатолия. Тот вскрикнул, отдернул руку, но палец был уже на месте.
Григорий Маркович засмеялся, хлопнул Анатолия по плечу, сказал, что до свадьбы заживет, хоть и опухнет малость, и попробовал завести мотор сам, но левой рукой было неудобно.
– А ну, хлопче, крутны! – обратился он к Францу, стоявшему рядом и с насмешливым видом наблюдавшему происходящее.
– Что вы, сеньор? Разве я ишак? Я свободный артист! – И Франц демонстративно засунул руки в карманы.
– А-а-а! Так-так! Слыхав про тебе… Артист, значит? Гений? Работать не хочешь, а жрать – ложка мала. Та на черта ты мени такый сдався?! А ну, бисова душа, не смерди, не погань ландшафт. Геть! Эх, жаль, Толя, не сможешь ты теперь крутнуть.
– Да на кой ему? Погрелся и хватит. Топай за мной, Мамона! – приказал Франц.
Шофер с удивлением посмотрел на Анатолия. Трудно сказать почему: потому ли, что Анатолий не терпел, чтобы им командовали, да еще на людях, или из духа противоречия, но он молча взялся за рукоятку.
– Та куды тоби, поклычь кого з гаражу! – уговаривал Григорий Маркович и даже попытался оттащить его за плечо.
– Да не мешайте мне, лезьте в свою кабину, а не хотите – без вас поведу машину в гараж, – с нарочитой грубоватостью сказал Анатолий.
Шофер молча уселся за баранку. Анатолий крутнул. Франц многозначительно засвистел. Анатолий выхватил рукоятку и сильно ударил Франца по спине, и раз и второй. Тот взвыл и попытался выхватить рукоятку, но получил по рукам и побежал, скверно ругаясь. А за ним бежал Анатолий и лупил его.
– Ото так! – сказал шофер, когда запыхавшийся Анатолий вернулся. – Я бы сам турнув его, так не дозволено… Уволят… А ты, хлопче, хоть куды! Хочешь, попрошу, шоб тебе приставили до мене в помощники?
– В какие помощники?
– В помощники шофера. Я тебя, друже, в заправские шофера произведу. Дефицитная профессия!
Анатолий не ответил и с ожесточением начал вращать ручку. Мотор чихнул и заработал. В синеватом бензиновом дымке чудился запах бескрайних дорог. Анатолий молча пошел прочь.
– Анатолий, так як же, пийдешь до мене в помощники? – приоткрыв дверцу, крикнул шофер.
Анатолий не обернулся.
…С Францем они помирились, на работу Анатолий по-прежнему не ходил.
Несколько раз Иван Игнатьевич, встречая Анатолия и Франца во дворе, звал их пройтись в мастерские.
– Хотите сагитировать? Не выйдет! – заявлял Франц.
– А разве тебе не надоело валять дурака?
– Нет, не надоело валять дурака.
– Значит, не пойдешь?
– Если так уж просите… – Франц с наглой усмешкой пожал плечами.
Они ходили по мастерским. Там летали стружки, пахло сосновой смолой. Анатолий присматривался к воспитанникам. Одни работали, «выполняя урок», другие с увлечением.
В слесарной, где работал Влоо, пахло смазочным маслом и каленым железом, гудели станки. Анатолий боялся презрительных взглядов и обидных слов, но воспитанники были заняты делом и обращались только к Ивану Игнатьевичу.
Проходя мимо пустующего станка, Иван Игнатьевич подмигнул и кивнул на станок. Франц засмеялся и покачал головой – «нет». Анатолий с трудом подавил вздох, поймал быстрый, как молния, понимающий взгляд Ивана Игнатьевича, рассердился, покраснел и выбежал.
Ничегонеделание стало хуже всякой пытки. Как ни странно, но кривляние и похвальба Франца не разгоняли тоски, присутствие Франца только усиливало чувство одиночества. Зато оно исчезало, когда Анатолий разговаривал с птицами. Этот «разговор» начался случайно, когда он спрятался от опостылевшего Франца и сидел на скамейке за кустом. На усыпанной искрившимся снегом дорожке затанцевала тройка снегирей: казалось, что гордо подбоченившийся парень в яркой шапке набекрень забирал боком, а две хорошенькие кокетливые девчонки вертелись вокруг него, громко напевая и заигрывая с ним.
Анатолий прислушался и, подражая, свистнул-присвистнул. И что же? Обе «девчонки» повернулись к нему, подпрыгнули и отозвались весело, громко: против приятного знакомства ничего не имеют. А «парень» драчливо выставил грудь колесом, угрожающе оперся в снег крылышками и сердито затопал. С тех пор Анатолий кормил своих пернатых друзей хлебом и был все время настороже, как бы кто-нибудь не заметил.
Пришла весна. Однажды перед рассветом, открывая форточку, Анатолий услышал странные мелодичные звуки. Утром Иван Игнатьевич объяснил:
– Журавли! Люблю слушать их серебряные трубы. Трубят и зовут. Зовут к местам гнездовий. Домой… Тебя не тянет домой? Будешь так себя вести, нескоро вернешься…
Анатолий убежал. Его все раздражало. Ночами, лежа без сна, он прислушивался и боялся услышать журавлиный зов. От мыслей о доме, о случившемся, о своем дурацком положении в колонии все чаще дергалось левое веко и щека. Это началось после знакомства с Чумой и Апельсином…
Городской житель, Анатолий был далек от природы. А этой весной он мог подолгу любоваться грачами, галдящими на ветвях сосен, случайно залетевшей птахой и был бы рад с другими ребятами налаживать скворечни, да боялся насмешек.
И в эту ночь, когда он забылся в дреме, ему приснились синеющие вдали леса. Он долго бежал по цветущему лугу, жаворонок трепетал в небесной синеве…
И надо же, чтобы в этот вечер, когда у него было такое подавленное настроение, всюду, куда бы он ни пошел, его преследовали царапающие слух, назойливые звуки.
Стоял теплый вечер. Все окна были открыты, и начинающий баянист, устроившись на подоконнике клуба, старался подобрать мелодию песни. Он брал «соль» там, где надо брать «си». Для человека с музыкальным слухом это было пыткой: водит и водит напильником по твоим обнаженным нервам. Анатолий был очень музыкален. Именно поэтому он так быстро овладел нехитрой премудростью игры на баяне. Дома, бывало, музыка разжигала его воображение, и тогда он чувствовал себя не просто Толей, а могущественным и всесильным и мысленно свершал многое. Здесь же музыка, особенно героическая, звучала совсем иначе: враждебно и грозно. Чем более впечатляющей была музыка, тем несчастнее чувствовал себя Анатолий.
Он забился в мастерские, но и туда доносилось фальшивое «соль». Вдруг он решительно зашагал, почти побежал к клубу, откуда неслись эти фальшивые ноты.
– Ты куда? – услышал он голос Франца.
– Иду вправлять мозги тому, кто тянет кота за хвост! – зло выкрикнул Анатолий.
– Нет такой силы, чтобы заставила меня перешагнуть порог этого богоугодного заведения, – спесиво отозвался Франц.
Анатолий вбежал на второй этаж, подскочил к худощавому пареньку с туповатым взглядом и приоткрытым ртом и крикнул:
– А ну, кончай волынку!
Паренек поднял голову и спросил:
– Чего надо?
– «Си» надо! Понимаешь? А ты «соль» даешь!
– Соль? Какую соль? – Удивление парня было непритворным.
– «Какую, какую»! – Анатолий сердито выхватил у него баян, присел на край стула и нажал клавиши. Раздался мелодичный ровный звук.
– «Си-си-си», – подпевал Анатолий. – Тяни «си», дурак!
– «Си-си», – в тон ему охотно вторил парень. – Ну и что? – спросил он, недоумевающе разводя руками.
Вместо ответа разозленный Анатолий заиграл песню, которую пытался подобрать парень. Услышав мелодию, парень радостно ухмыльнулся, хлопнул себя по ляжкам и засмеялся:
– Ух ты! Ну и дает!
Анатолий закрыл глаза и играл, играл с упоением, с азартом. Да как играл! С одной песни он перешел на вторую, третью. А потом, когда заиграл «Варяга», то услышал хор голосов и открыл глаза. В комнате было много народу, а сзади стоял Иван Игнатьевич. Анатолий резко оборвал игру и вскочил, протягивая парню баян.
– Закончи уж, не порть ребятам песню, очень тебя прошу, – сказал Иван Игнатьевич.
Анатолий стоял молча, а затем, тряхнув головой, пробормотал: «Доиграю!» И доиграл. Уж ему аплодировали! Уж его благодарили! Анатолий выбежал.
– Что это ты задержался? – ревниво спросил Франц. – Не выпускали? – И пытливо оглядел Анатолия, ища следы драки.
– «Си» парню показывал, «си»!
– Чего, чего? А кто это сейчас там наяривал?
– Ну, я! – И Анатолий вызывающе вздернул голову.
– Ты? Продался? Да ты знаешь ли, собака, что я с тобой сделаю? Я тебе пиковину в бок… я…
Их еле разняли. На другое утро Анатолий разыскал шофера Григория Марковича и спросил:
– Ну как, говорили насчет меня с Иваном Игнатьевичем?
– Я ж тобе – слово, а ты ж мене – спину…
– Поговорите!
– Добре! А як поедем в город, не покажешь пяток? Я до людей добрый. Тилько вирю один раз, до першего обману. Писля обману – то вже для мене не людина, а скотина.
Анатолия даже в жар бросило. Город! Свобода! Куда хочешь! Но если он обещает, то…
– Не сбегу!
– Добре! Будешь шофером.
Вскоре Анатолий первый раз поехал с Григорием Марковичем в город. Сразу же после его возвращения Франц пришел мириться. Анатолий не захотел с ним разговаривать.
– Да не лезь в бутылку! Я тебе дам адресок, забеги. А что передадут – все пополам.
Анатолий отказался, и Франц Красавчик поклялся отомстить «собаке Мамоне». «Беги к Ивану Игнатьевичу и жалуйся на меня», – сказал он напоследок. Анатолий не пошел жаловаться – это было не в его характере.
С этого дня между ними началась острая вражда. Анатолий ждал любой подлости, ждал удара из-за угла и все время был начеку. В это же время до крайности обострилась скрытая борьба между активистами и «ворами». В больнице уже лежало пятеро раненых.
Ивану Игнатьевичу удалось убедить Костю Березова, по прозвищу Моряк, порвать с «ворами» и перейти на сторону активистов. Моряк был правой рукой Губернатора, и его поступок был воспринят активистами как перековка, а «ворами» как измена. Обычно в таких случаях говорят: его поступок был подобен разорвавшейся бомбе. Правильнее было бы сказать – подобен мине замедленного действия. И, чтобы ускорить ее действие, Иван Игнатьевич убедил Костю Березова выступить публично. Об этом не объявляли заранее.
В тот вечер в клубе по расписанию был намечен просмотр приключенческого фильма. Когда все собрались, то киноэкран подняли кверху, и на открытой сцене все увидели Ивана Игнатьевича. Он подошел к рампе и сказал:
– Костя Березов, иди сюда и расскажи откровенно и правдиво, почему ты решил учиться и работать.
Костя сидел во втором ряду, «воры», как обычно, сидели в последнем. И все же двое, севших поблизости, попытались помешать ему встать. Порядок был быстро восстановлен, но начальник колонии и все увидели тех, кто побежал из задних рядов задерживать Костю Березова.
Костя от волнения заикался, и все же воспитанники слушали его очень внимательно и горячо. Даже чрезмерно горячо. Костя сознался в тех «художествах», автором и исполнителем которых он был, и объявил:
– Пора кончать со старым. Хлопцы хотят выйти на честный путь, а им мешают.
– Кто мешает? – донеслось из зала.
– А вы лучше меня знаете кто – губернаторская компания! Так неужели же у тебя, и у тебя… – Он называл имена и прозвища. – Нет душка, чтобы воспротивиться фюрерским замашкам тех, кто хочет сделать вас своими рабами!
Послышались ругань, выкрики. Где-то началась драка. Губернатор, а с ним еще пятеро, и в том числе Франц, попали в изолятор. Пятнадцать воспитанников из группы Губернатора объявили, что присоединяются к активистам. Наконец, почти через два часа после всех волнений и споров, начался кинофильм.
Губернатор, с таким трудом сколачивавший свою группу, чтобы «держать» колонию, то есть стать тайным диктатором, понял, что все его замыслы рушатся, и решил действовать быстро и энергично. Франц и его четверка присоединились к нему.
Иван Игнатьевич обратился к начальнику колонии с просьбой сразу же направить Губернатора, а с ним еще пятерых в колонию со строгим режимом.
В штрафном изоляторе Губернатора, Франца и других продержали пять дней. Они вышли слишком тихие, слишком сдержанные и послушные, чтобы Иван Игнатьевич мог поверить им. Он думал лишь об одном: скорее бы их отправить.
В тот же вечер были замечены небольшие сходки. Увидев воспитателя или активистов, воспитанники расходились. Среди них обязательно был кто-нибудь из группы Губернатора. Начальник колонии приказал следить строже. Ему да и воспитателям и активистам была известна обычная тактика «шумящих» – действовать «кучей». «Куча» все покроет. Пойди узнай, кто виноват. «Кучу» не привлечь к такой ответственности, как одного. Главное – узнать, что затевается, с какой целью. И это было бы сделано, но события разворачивались слишком быстро.
Это случилось на третий день после того, как Губернатора с группой выпустили из штрафного изолятора. Первая смена поужинала как обычно. Во время второй смены, когда ужинали Костя, Анатолий, Влоо, вдруг раздался «голубиный свист» в четыре пальца.
На Костю набросился Губернатор с «пикой» в руке, к Анатолию подскочил Франц с куском железа, а за ними другие.
Костя и Анатолий были все время начеку. Костя схватил табуретку и ударил Губернатора, Анатолий не успел бы отбить удар, но Влоо опередил Франца. Началась свалка. Костя, а за ним Анатолий прижались спиной к стене. Им на выручку бросились активисты.
Опять раздался свист. Все электрические лампочки в столовой были разбиты. Стало темно.
Костя шепнул Анатолию: «За мной». Они пробились в кухню и выскочили в окно. Губернатор с компанией бросились за ними. Костя и Анатолий вбежали в корпус. Теперь все зависело от воспитанников их отряда: выдадут или не выдадут.
Помощники Губернатора помчались в один отряд, потом в другой. Воспитанники забаррикадировали двери. Первый же захваченный сторонник Губернатора выболтал все:
– Да, они решили устроить «шумок» – бить, ломать, громить, чтобы администрация испугалась, а они, воспользовавшись суматохой, тем временем удрали бы из колонии.
Драка разгоралась. Корпус шумел и гремел.
И тут начальник колонии приказал дать сигнал общего построения. Приказ повторили воспитанники и активисты. Приказ есть приказ, и его надо выполнять, если не хочешь попасть в число зачинщиков, а также, если хочешь избавиться от насилия зачинщиков драки «кучей».
Не все сразу, но построились. Зачинщиков вылавливали в кустах, в темных углах. Взяли пятнадцать человек во главе с Губернатором и Францем Красавчиком.
Потом их судили. Все получили дополнительный срок по два-три года, и пятерых отправили в колонии со строгим режимом.
На другой день Франц добился встречи с Иваном Игнатьевичем и предложил тайно доносить на провинившихся воспитанников, если ему, Францу, разрешат ходить в город и будут давать папиросы. Иван Игнатьевич даже побледнел от возмущения и сгоряча сказал, что сейчас же соберет совет воспитанников и доложит им о том, что «несгибаемый Красавчик» – предатель. Потом он успокоился и часа полтора толковал, стыдил, говорил о жизни, о долге, о чести.
Стычка с Францем окончательно уничтожила в глазах Анатолия романтику воровской «дружбы». Ему было стыдно. Как он мог подчиниться такому типу, как Франц? Здесь, конечно, сказалась разница в возрасте. Франц был на два года старше.
То, что в Иване Игнатьевиче вначале казалось Анатолию равнодушием, было на самом деле уверенностью в своей правоте. Колонисты любили его за справедливость, смелость и прямоту. Он никогда не заискивал перед воспитанниками, ненавидел ложь, кляузников, доверял честному слову колониста.
Только через полтора года пребывания в колонии Анатолий полностью раскрылся перед Иваном Игнатьевичем. Он рассказал ему всю правду о деле на Бутырской улице, о Хозяине и Чуме, о том, как он, Анатолий, на суде все взял на себя, как его предали «дружки».
Услышав историю Анатолия и поверив в нее, Иван Игнатьевич сразу начал действовать. Он списался с матерью Анатолия, с Корсаковым. Несмотря на то что Анатолий категорически этого не хотел, Иван Игнатьевич написал несколько заявлений в различные инстанции. Анатолию оставалось только подписываться. Наконец, Иван Игнатьевич написал письмо своему фронтовому другу, журналисту, человеку очень настойчивому, когда дело шло о восстановлении справедливости.
Завертелась машина. Дело Анатолия Русакова вытащили из архивов.
В это время Ивану Игнатьевичу предложили перейти работать начальником детской воспитательной колонии здесь же, на Украине.
Надо сказать, что Ивану Игнатьевичу, ревностному последователю замечательного педагога Антона Семеновича Макаренко, изрядно мешали некоторые деятели суда и прокуратуры. Эти люди, сквозь пальцы смотревшие на грубые нарушения правил изоляции малолетних правонарушителей (как было с Анатолием, почти две недели проведшим в одной камере с матерыми преступниками), – эти люди требовали всяческих скидок, льгот, исключений для сынков влиятельных родителей. Они опасливо посматривали на то, что Иван Игнатьевич считал основой воспитания: широкое самоуправление ребят, полное самообслуживание.
Иван Игнатьевич принял новое назначение и, так как не в его характере было бросать начатое дело, добился перевода Анатолия Русакова в воспитательную детскую колонию, куда ехал работать.
Глава VI
Испытание продолжается
Анатолию очень хотелось уехать в новую колонию вместе с Иваном Игнатьевичем, но это не удалось. Ивана Игнатьевича вызывали срочно, а по делу Анатолия еще не было получено решения.
Наконец Анатолия вызвали в канцелярию с вещами, вручили деньги, документы, запечатанный конверт, адрес новой колонии и пожелали удачи.
А с кем ехать? Анатолий оглядывался и не видел конвойного.
– Сам доберешься. Немаленький…
Дядько Грицько подвез до вокзала. Машину напоследок вел Анатолий. На прощание дядько Грицько настойчиво приглашал его после колонии к себе в напарники.
С вокзала к месту назначения Анатолий приехал уже под вечер. Автобус остановился на краю села. Вдоль улицы белели опрятные хаты. Весело перекликались женщины, поджидавшие коров. В ветвях тополей рьяно чирикали воробьи. По дороге двигалось стадо. Пыльное облачко, розовевшее в лучах заходящего солнца, пахло молоком.
Деревянная стрела с надписью «Колония» показывала на дорогу, исчезавшую в зарослях. За дубовым леском виднелись высокая кирпичная стена, фабричная труба, железные кровли домов, и сердце Анатолия беспокойно забилось.
Он позвонил у ворот. Иван Игнатьевич еще не вернулся из города, и Анатолия после оформления провели в карантин.
Шестеро юнцов, находившихся в карантине, с интересом и не без тревоги уставились на рослого юношу. Но постепенно завязалась дружеская беседа.
Наконец приехал из города Иван Игнатьевич, вызвал Анатолия, и между ними, на скамейке под густыми кустами, состоялся большой разговор.
– О том, что ученье свет, а неученье тьма, тебе говорить уже не нужно? – начал Иван Игнатьевич.
– Не нужно! – Анатолий смущенно улыбнулся.
– Но, за исключением последнего года, ты же черт знает как занимался! И дома второгодничал.
– Говорю же, дурак был, – сдерживая раздражение, сказал Анатолий, очень не любивший поучений.
– А ведь в той колонии, – продолжал Иван Игнатьевич, делая вид, что не замечает недовольства Анатолия, – ставили отметки с б-о-о-ольшой натяжкой.
– Это вы к чему?
– А к тому, что здесь будут требования построже, надо будет нагнать упущенное. Постарайся, пока ты здесь, заполнить основные пробелы в своих школьных знаниях, чтобы не пришлось краснеть в Москве.
– Буду нажимать изо всех сил. Вот если бы меня освободили от работ, то все бы эти часы вколачивал…
И вечером.
– Исключений и поблажек делать никому не буду. Предупреждаю: любимчиков у меня не было и не будет. С тебя буду спрашивать больше, чем с других. А помочь – помогу. И учти: здесь образ жизни, характер учебы и работы другие. Я попрошу учителей сегодня же проэкзаменовать тебя, узнаем, в чем ты слаб.
– Рано экзаменовать… Мне бы сначала подготовиться.
– Не робей! Повторяю: лучше краснеть здесь, чем в Москве. Теперь старшие классы не учатся, еще недели две будут помогать колхозникам убирать картошку. Используй это время на подготовку. Учителя помогут. Пока будешь жить в карантине. Начнут старшеклассники заниматься, переведем тебя в корпус. Будешь хорошо учиться, работать, участвовать в самодеятельности – станешь комсомольцем.
– А много здесь комсомольцев?
– Немало. Коллектив на хорошем счету, впрочем, появились сигналы…
– А что?
– Самому еще надо разобраться. За тебя я спокоен. Верю в тебя, Толя. Умный человек не споткнется дважды об один и тот же камень.
– Да я теперь эти «камни» за сто километров обходить буду.
До начала занятий Анатолий много успел. Он не только все дни занимался, но и обошел колонию, познакомился с шоферами, завоевал известность у младших воспитанников игрой на баяне и даже подружился с собаками, обитавшими в колонии.
Их было три: фокстерьер Леди, белая в больших желтых пятнах; черная дворняжка Цыган и крупный пушистый северокавказский овчар Разбой, с медвежьей мордой и коротко обрезанными ушами.
Анатолий с детства любил собак. У дяди Коли был Майк, очень сообразительный, веселый, но в то же время «строгий» охотничий пес из породы курцхаров. Майк был щенком, когда они подружились. Они гонялись друг за другом, боролись и даже играли в пятнашки. Бывало, они с Майком до того уставали, что потом, обессиленные, долго валялись на траве в садике.
В колонии Анатолий с грустью не раз вспоминал о Майке. Вот почему он обрадовался, встретив четвероногих друзей. Единственное, чего не успел он, – это познакомиться с одноклассниками. Они все еще не вернулись из колхоза.
Наконец девятый класс «Б» начал заниматься. Анатолий сразу заметил, что эти ребята не чета воспитанникам из трудовой. Иное поведение, иное отношение к занятиям, да и разговоры другие.
Анатолий ловил на себе настороженные, снисходительные взгляды, и это его раздражало.
Знают, что перевели из той колонии, решил Анатолий, и подозревают в нем «отпетого».
Вечером в спальне староста потребовал от Русакова чистосердечного рассказа о том, как он «дошел до колонии».
Начальнический тон старосты и особенно его предупреждение: «Не врать и не темнить» – рассердили Анатолия. Он не стал «распространяться» и с протокольной краткостью пересказал существо своего дела.
– Так у нас не пойдет, – заявил староста. – Каждый из нас рассказал ребятам все без утайки, а кто умалчивает – значит, тот себе на уме…
Анатолий вспылил:
– Не учите меня!
Так, слово за слово, они начали спорить, и быть бы драке, да Анатолий вовремя вспомнил об Иване Игнатьевиче и, чтобы «взять себя в руки», выбежал из корпуса и сел на скамейке у дорожки.
К нему подсел парень со странным прозвищем Жевжик. Анатолию он не понравился с первого же взгляда. Нахальная улыбочка, одна нога все время мелко приплясывает, руки не находят места. Был он низкорослый, плотный, широкоплечий, почти четырехугольный. Во время ссоры он не сказал ни слова, только улыбался, блестя золотым зубом.
– Люблю блатных ребят, – буркнул Жевжик и протянул раскрытую коробку «Казбека».
Слово «блатной» да и запрещенные в колонии папиросы насторожили Анатолия. Или Жевжика подослали выведать, что за птица Русаков? За это надо проучить. Разыграть прилипалу.
Анатолий закурил и спросил:
– Ты кто, человек или уже раскололся тут?
Нагловатая улыбка застыла на лице Жевжика. Он взглянул, будто проколол глазами насквозь, и развязно ответил:
– Активист я…
– За сколько продался? – насмешливо спросил Анатолий.
Жевжик не обиделся. Улыбка не сходила с его лица. Он расспрашивал Анатолия, в какой «академии» тот побывал, кого знает. Анатолий сказал о Чуме, и Жевжика будто подменили. Исчез налет добродушия. Рядом с Анатолием сидел другой человек.
– Какой Чума?
– Авторитетный!
– Не ври!
– А зачем мне врать?
– Ты его хорошо знаешь?
– Леньку Чуму? Кореши.
– Поди ты?!
Лицо парня последовательно выразило настороженность, сомнение. А потом он снова пристал к Анатолию с расспросами о Чуме, все требовательнее, как следователь.
Воспоминания о днях позора и унижения, проведенных с Чумой, были ненавистны Анатолию. Он поднялся. Подбежала Леди, фокстерьер. Анатолий нагнулся, чтобы погладить ее, как вдруг Леди, подбитая снизу ногой Жевжика, взвилась в воздух.
Анатолий сильно ткнул живодера кулаком в грудь. Того шатнуло в сторону, но не свалило.
– Из-за кабыздоха?! – яростно выкрикнул Жевжик и перехватил руку замахнувшегося Анатолия.
Они сцепились и упали в крапиву.
Анатолий был очень силен для своего возраста, но сразу же почувствовал превосходство противника и, когда понял: не справиться, схватил Жевжика за горло.
– Брось! Не дури! Я же свой! – услышал он хриплый шепот.
– Сволочь ты!
– Да свой я. От Чумы. Пусти – покалечу!
– Как от Чумы? – Анатолий от неожиданности отпустил горло врага.
– А так! – Жевжик пытался подняться.
– Так ты же активист – сам признался, а в активистах «ворам» ходить не положено.
– Положено – не положено!.. Что ты в этом понимаешь? Чума разрешил… Иначе здесь сразу заметут.
– Так ты «вор в законе»?
– А ты думал! Теперь нас тут будет двое. Надо бы тебе темнить в спальне: «Я, дескать, активист, я с вами», а ты по-дурацки – сразу наизнанку.
Анатолий разжал руки. Жевжик встал и, отряхиваясь, сердито сказал:
– Эх ты, полуцветной! Закон нарушаешь! Две головы не имеешь, руки на своего не поднимай… На воле пришлось бы тебе оправдываться перед сходкой… Ну куда ты против меня? Мне двадцать два, а ты еще сопляк. – Скажи спасибо, что не покалечил тебя…
– Как – двадцать два? Ведь здесь старше восемнадцати не держат!
– Прошел по делу как семнадцатилетний, под чужой фамилией. – Жевжик снисходительно засмеялся.
Анатолий поднялся.
Жевжик ойкнул, чертыхнулся и сильно тряхнул левой ногой, стараясь стряхнуть вцепившуюся Леди.
Парень отбросил фокстерьера, но тут на него набросились Разбой и Цыган. Злобное рычание, визг, вопли Жевжика – и он помчался по дорожке.
Анатолий злорадствовал. Так этому ворюге и надо! «Что же теперь делать? Надо что-то предпринять. А что?» В раздумье он пошел в корпус.
В спальне было шумно. На краешке стула, посреди комнаты, в одних трусах сидел Жевжик, положив левую ногу на другой стул. Староста Котя Лазурин пробкой от бутылочки с йодом смазывал ранки на его ноге. Воспитанник Глеб неумело бинтовал кисть левой руки. Жевжик разглагольствовал, размахивая свободной рукой. Воспитанники охали и переспрашивали.
Тело Жевжика было покрыто татуировкой, а на спине красовалась церковь…
– Трус! За шкуру испугался! Собак на меня натравил!. – закричал Жевжик, показывая пальцем на подошедшего Анатолия.
Послышались возмущенные возгласы.
– Лезь под кровать! – приказал Анатолий, подходя к Жевжику.
В комнате стало тихо. Как бы ни были незначительны прежние проступки воспитанников, но разговоров о ворах и воровских обычаях было много. Все понимали, чего требовал этот новичок. Но почему? На каком основании?
Жевжик оторопело смотрел на Русакова.
– Лезь под кровать!
– Да ты что, очумел? – спросил Жевжик, призывая взглядом собравшихся быть свидетелями наглости новичка.
– Лезь под кровать! – У Анатолия была уверенность в своей правоте.
– Ты здесь не командуешь, – сердито сказал староста, и эти свои привычки брось!
– Каждый из нас рассказал все без утайки, и мы о каждом знаем все, – подделываясь под голос старосты, сказал Анатолий и затем, отчеканивая слова, продолжал: – Так знайте, что этот двадцатидвухлетний «вор в законе» попал сюда под чужой фамилией, как семнадцатилетний. Маскируется, чтобы выполнить приказ бандита Чумы, чтобы разложить ваш коллектив. А вы все шляпы и раззявы!
– Ну и смешняк! – Жевжик криво улыбался. – Хочешь разыграть. Я активист. Ребята меня знают.
– А ну, хлопцы, – сказал Анатолий, – вспомните, не говорил ли этот тип чего-нибудь такого о воровской дружбе, «законе» и прочее…
– А правда ведь говорил, – вдруг признался Глеб. – Рассказывал: «Я вольная птица! Куда хочу, туда лечу… Всякая там агитация – это для дураков…»
– Врешь!
– Нет, не вру. «Блатной, – объяснял ты, – человек момента. Огонь и медные трубы пройдет – и не пропадет. А без водки – пропадет. Бывало, выпьешь водки, все забудешь!»
– Врешь!
– И мне рассказывал о ворах… – вспомнил другой воспитанник, – только я как-то не обратил внимания.
С этого и начался провал Жевжика.
– Пусть докажет, что он не вор, – предложил Анатолий. – Для «вора в законе» пролезть под нарами или кроватью – значит опозориться и потерять авторитет на всю воровскую жизнь. А если ты активист – то что тебе стоит пролезть?
– Не хочу – и все!
– А ты говорил… – Анатолий повернулся к старосте: – «Мы о каждом знаем все!»
Тот досадливо махнул рукой и сердито приказал:
– А ну, Жевжик, лезь под кровать!
– Не полезу! Не имеете права издеваться!
– Силой протащим!
– Не дамся!
Уж как ни защищался Жевжик – даже сумел самодельный нож выхватить из-под матраца, – все-таки протащили!
Он сидел на полу, голый, ругался последними словами и… плакал.
– Что здесь происходит?
Иван Игнатьевич стоял в раскрытых дверях. Воспитанники смотрели на Анатолия, но он молчал.
– Кто тебя так разукрасил? – Иван Игнатьевич подошел к Жевжику.
– Этот! – закричал Жевжик и бросился на Анатолия.
Их разняли.
И когда Жевжика по приказанию Ивана Игнатьевича отнесли в госпиталь (идти он не хотел), Анатолий и староста обо всем рассказали.
– А ведь ты, Лазурин, староста, активист. Как же ты мог пойти на такое: применить блатные приемы унижения вора? Не спорь! Это же не метод перевоспитания. Пришел бы ко мне и доложил.
– А вы не любите, когда вам доносят, – выпалил Анатолий. – В той колонии вам кто-нибудь шепнет, а вы потом при всех спрашиваете, правда ли это.
– Да, наушничества не люблю и не поощряю. Но ведь здесь иное. Скажите, может ли человек, узнавший о том, что в доме заложена мина замедленного действия, не предупредить об этом жильцов, не предупредить домоуправление? С каких это пор вы стали непротивленцами злу?
– Мы сами хотели разминировать…
– Не те методы. Ну ладно, мы выясним, кто такой этот Жевжик, а за самоуправство виновники ответят перед советом отряда.
Из колонии Жевжика увезли. Это столь неожиданное происшествие настроило Анатолия весьма воинственно. Если в первый же день знакомства с классом случилось такое ЧП, то в дальнейшем, пожалуй, можно ждать кое-чего посерьезнее. Но дни шли за днями… Не стало в колонии Жевжика, исчезли появившиеся было нездоровые настроения у некоторых. Именно их имел в виду Иван Игнатьевич, когда в разговоре с Анатолием упомянул о сигналах, в которых ему надо разобраться.
Каждый день приносил Анатолию все новые и новые знакомства, и теперь они не тяготили его, как бывало, когда он водился с Францем. До чего же разнокалиберный и любопытный народ был в девятом «Б» классе!
Задушевный разговор обычно начинался перед сном, в кроватях. И в той колонии воспитанники тоже мечтали. Даже Франц. Он мечтал стать невидимкой. И отнюдь не для того, чтобы похищать военные секреты у врагов, невидимо помогать народам, борющимся за свою независимость против колонизаторов. Нет. Невидимкой Франц хотел проникнуть в Госбанк, чтобы украсть миллион!
А здесь, в новой колонии, был интересный народ и мечтали о другом: о том, чтобы поскорее выйти в большую, светлую жизнь, окончить институт и работать так, чтобы вся страна заговорила: вот, мол, какой человек! Или изобрести машину, которая за час строит сто километров дороги! Но никто не мечтал стать удачливым вором.
Здорово нажимал Анатолий на теорию автомобиля, правила уличного движения и практическую езду на машине. Сдал экзамен отлично и получил удостоверение шофера третьего класса. Вот это праздник! Конечно же, Анатолий упросил дать ему поработать на машине. Возил грузы. И до того этим увлекся, что стал даже пропускать классные занятия. Поэтому Иван Игнатьевич запретил частые поездки.
И было еще одно – то ли дело, то ли отдых души. Анатолий любил собак, любили их и другие ребята. Анатолий первый, ради забавы, пытался собак дрессировать. Вспомнил, как дядя дрессировал Майка. Цыган оказался неподдающимся, а Леди сразу же все поняла, наверное, вспомнила чьи-то былые уроки. Анатолий показал младшим воспитанникам, как дисциплинированно выполняет Леди приказания «апорт», «лечь», «голос», «ищи». Вопли восторга сопровождали каждый номер. Нашлось несколько ребят, приставших к Анатолию с просьбой научить их дрессировке. Анатолий отказался. Ребята пошли к Ивану Игнатьевичу, и тот, к удивлению Анатолия, попросил его заняться с мальчишками дрессировкой.
– Да ну их, вот еще буду тратить время…
– А я на тебя время тратил?
– Ну, тратили.
– Вот и уплати мне свой долг. Среди мальчиков есть трое «трудных». Ничем они не интересуются, а тут загорелись. Начни с этого, а там у них появится интерес к другому.
– Да я сам дрессирую чуть-чуть…
– Я достану тебе книжки, – обещал Иван Игнатьевич.
Через несколько дней Анатолий получил «Служебное собаководство» – книгу знаменитого Анатолия Дурова о сорока годах его работы дрессировщиком. Были и другие. Прочитав их, Анатолий понял, как много надо знать даже по такому, казалось бы, несложному делу, как дрессировка. Сколько же и как надо учиться, чтобы стать специалистом в более сложной области!
– Что я им, нянька? – рассердился Анатолий, подсчитав, как много часов придется потратить на обучение членов вновь созданного кружка юных собаководов.
– Специалист из питомника поможет дрессировать, проинструктирует тебя, а ты возглавишь кружок, организуешь ребят.
– А время? Мне ведь надо учиться, догонять и догонять…
– А как же парни твоего возраста в городах и работают и учатся в вечерних школах? Было бы желание!
Очень не хотелось Анатолию заниматься кружком, но потом он увлекся. Его удивило, что самые недисциплинированные мальчишки ухаживали за собаками точно, по расписанию, строго соблюдали программу дрессировки, гордились послушанием своих питомцев.
Анатолий, как об открытии, рассказал о своих наблюдениях Ивану Игнатьевичу. Тот рассмеялся:
– Не ты первый это открыл. Человек, переделывая природу, переделывает самого себя…
В марте, когда на пруду лед подтаял, Анатолий все же «напоследок» пошел покататься на коньках и провалился в воду. Был человек на льду – и нет его. Только меховая шапка чуть колышется в полынье.
Глеб первым затормозил у полыньи. Тонкий лед со звоном раскололся, и из воды почти до половины выскочил Анатолий. С выпученными глазами, не в силах вздохнуть, он, как рыба глотая ртом воздух, ухватился за протянутую руку, и… Глеб очутился в проруби. Теперь оба пытались уцепиться мокрыми руками за лед, и оба скрывались, каждый раз с головой исчезая под водой.
Уже много рук потянулось к ним. Передних удерживали задние. «Дедка за репку, бабка за дедку…»
Анатолий и Глеб очутились на больничных койках. Пришел Иван Игнатьевич. В окна заглядывали воспитанники. «Утопленники» чувствовали себя героями дня.
Глеб через два дня вышел. Анатолий заболел воспалением легких. Потянулись медленные дни болезни.
Наконец к выздоравливающему Анатолию допустили гостей. Он попросил Глеба принести из его тумбочки в спальне толстую тетрадь с разными записями, стихами, изречениями. Анатолий раскрыл ее и ревниво спросил:
– Читал?
– Я умею хранить тайны! – гордо ответил Глеб и, обиженный, хотел уйти.
Но Анатолий удержал его:
– Давай вместе читать.
Тетрадь открывалась старинной воровской песней о прокуроре, засудившем своего сына вора. Песня кончалась словами: «И снова луной озарился кладбищенский двор, а там уж на свежей могиле рыдает отец-прокурор».
Анатолий усмехнулся. Ему показалось забавным то, что он записал эту песню. Она звучала жалостливо, а сложили ее те, кто при случае не пожалеет ни чужого, ни самого близкого человека.
Прочел песню «Не видать мне уж больше свободы».
Странно, почему он записал ее, что в ней могло понравиться ему, никогда не воровавшему, желторотому мальчишке? Или привлекли воровские словечки и настроение «отпетости»?
– Любит шпана чувствительные романсы, – сказал Анатолий. – Удивительно, как сочетаются в них свирепая жестокость с сопливой слезливостью.
– И я писал стихи, – смущенно сказал Глеб.
– Правда? – удивился Анатолий. – А ну, прочти.
– Забыл…
– Просьба больного – закон. Не ломайся!
Глеб задумчиво посмотрел на Анатолия, уставился в окно и негромко начал:
Мы вставать разучились рано,
Мы ложились в полуночный час,
Мы забыли, как пахнут травы,
Как в полях колосится рожь…
Он прочел еще несколько стихотворений, устремив глаза в одну точку, нахмурив брови. Было видно, что чтение доставляет ему большое наслаждение. Последнее стихотворение он закончил так:
Пусть ладони огнем горят,
Но со мною теперь ребята
Словно с другом своим говорят.
– Почему ты не печатаешь стихи в стенгазете?
– Так…
– Что за дурацкий ответ? – И без всякой связи Анатолий спросил: – Ты, говорят, сирота?
Глеб помолчал, потом каким-то хриплым голосом сказал:
– Было так… Отца, а потом и мать арестовали. Вот я и говорю: «сирота». Отец был большевиком с семнадцатого года, с Лениным был знаком, у Фрунзе в армии воевал… А потом Магнитку строил…
– Они живы?
– Не знаю… Остался я с бабушкой. Ну а дальше… нашелся уголовник, вор. «Пожалел» меня… Вот я и докатился сюда.
– А за что их арестовали?
– Не знаю… Объясняли, они враги народа. Только я не верю! Иван Игнатьевич говорил, что теперь наконец реабилитируют и освобождают хороших советских людей, невинно осужденных по доносам разных подлецов-карьеристов или фашистских агентов. Он говорит, что если отец и мать живы, то и они вернутся. Он даже запрос послал куда-то, ждет ответа…
Мальчики замолчали, каждый думал о своем.
Мать Анатолия просила задержать сына в колонии. Почему же так перепугалась Ольга Петровна?
Первый же допрос в связи с пересмотром дела Русакова насторожил Хозяина. Он понял, что за него взялись всерьез. Хозяин встретил Ольгу Петровну и пригрозил разделаться с Мамоной, если дело кончится для него, Хозяина, плохо. Пусть прекратят пересмотр, так будет лучше… Расследование продолжалось. Хозяин решил «рвать когти» – сбежать из Москвы: черт с ней, с подпиской о невыезде. Перед побегом он надумал «разжиться», но попался на воровстве с поличным. Во время следствия его же «дружки» показали против него и по делу Русакова. Хозяина и Яшку Глухаря осудили. Ольга Петровна радовалась. А потом прошел слух о бегстве Хозяина. Ох, как переволновалась Ольга Петровна. Вот тогда-то она и добилась, чтобы Анатолию дали возможность окончить девятый класс в колонии.
Хозяин попал в дальние лагеря. Встретил там двух бандитов-рецидивистов, и они решили бежать. Обычно хорошо работающих заключенных отпускали досрочно, «засчитывали срок». С помощью угроз они заставили нескольких неопытных, впервые попавших в лагеря заключенных работать так, что кости трещали, а часть их выработки записывали на себя. Администрация поверила, что эта тройка «отпетых» перековалась. Сразу им облегчили режим, расконвоировали, портреты трех «ударников» даже появились на Доске почета. Теперь и бежать нетрудно.
Но тут случилось непредвиденное. После смерти Сталина была объявлена амнистия, и Хозяин вернулся домой.
Не было больше смысла задерживать Анатолия в колонии.
Перед отъездом из колонии Анатолий зашел к Ивану Игнатьевичу вернуть «тетрадь». Ту самую «тетрадь», толстую бухгалтерскую книгу с твердым переплетом, в которую Иван Игнатьевич записывал высказывания мудрых людей, афоризмы, пословицы и свои мысли.
Анатолий подал Ивану Игнатьевичу и свои выписки. Иван Игнатьевич всегда интересовался, какие записи привлекают воспитанников. Выписки Анатолия были самого разного характера.
«…В каждый данный момент человек не только то, чем он был, но и то, чем он будет».
«Каждый ничтожный поступок повседневности создает или разрушает личность, и то, что сделаешь втайне у себя в комнате, будет когда-нибудь возглашено громким голосом с кровли домов».
«…В жизни всегда есть место подвигам. Бывают подвиги в бою, а бывает жизнь как подвиг. Это жизнь, прожитая высокоидейно, подчиненная без остатка одной цели, как, например, жизнь Ленина».
«Лучше быть старым учеником, чем старым невеждой».
«Если не увлечься идеалами современной советской жизни, то чем жить? Какими идеалами? Перед молодым человеком встает вопрос – или стать по-настоящему советским человеком, или махровым мещанином. А так как мещанство находится в разладе с советской действительностью, то буржуазно-мещанские идеалы рушатся. А ведь надо во что-то верить. Если не веришь в наше новое будущее, то не веришь ни во что. Так появляются молодые скептики, которые даже щеголяют своим скептицизмом. И вот тут начинается трагедия. В отрицании, как в огне, есть сила, и эта сила испепеляет волю».
– Во что же ты веришь? – громко повторил Иван Игнатьевич.
– Я? – Анатолий глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, потом быстро сунул в нагрудный карман руку и поднес к глазам Ивана Игнатьевича комсомольский билет с изображением Владимира Ильича Ленина.
Волнение юноши передалось Ивану Игнатьевичу.
– Я рад за тебя!
Перед мысленным взором Анатолия промелькнули кадры из его жизни.
…Приезд в колонию. Шофер дядько Грицько под машиной. Стычка с Францем и его дружками… Их жалкие фигуры в центре, а вокруг ненавидящие глаза воспитанников.
Но не это и не стычку с Жевжиком, и не суд, снявший судимость, а другое, единственное и незабываемое, он запомнил наиболее ярко и будет помнить всю жизнь.
Это было на комсомольском собрании воспитанников, когда ему как активисту, доказавшему своим умом, сердцем и рабочими руками, чего он стоит, вручили комсомольский билет. Только люди, сорвавшиеся с тропинки в пропасть и выбравшиеся из нее, ценят хорошую дорогу, ведущую к цели. А если по этому же пути, помогая друг другу, идет молодежь с пылкими сердцами и горячей верой в будущее и ты среди них, то… Анатолий держал комсомольский билет перед глазами Ивана Игнатьевича, а сам чуть не пел от радости и гордости.
Глава VII
Здравствуй, Москва
Мы расстались в первой главе с Анатолием Русаковым, когда он, раздраженный сценой в дежурке на вокзале и озлобленный выходками Агнии Львовны Троицкой, вышел с нею и Ликой на шумную привокзальную площадь. Он помог им донести и уложить багаж в «Победу».
– Ах, как я вам благодарна… – виновато сказала Агния Львовна. – Садитесь, мы подвезем вас.
Анатолий буркнул «спасибо», простился и направился к метро.
– Так кто же оказался прав? – торжествующе воскликнула Лика, когда «Победа» тронулась.
– Ах, все это так неожиданно… – отозвалась мать. – Конечно, молодец! И все-таки – он не твоего круга. Такое прошлое… Подумать страшно!
Лика сердито отвернулась.
Анатолий вошел в метро. Радостное возбуждение снова овладело им. Он улыбнулся кассирше, улыбнулся девушке-контролерше, отрывавшей билетики.
Москва!
Сколько раз, засыпая на своей койке в колонии, он мечтал, представляя свой первый день возвращения в родной город, в родной дом. Вот она – Москва! Жизнь кипучая и деятельная, озабоченная и веселая! Москва, вечно спешащая работать, строить, учиться, знать. И подумать только: он сам, по своей вине, чуть-чуть не потерял все это. Чуть было не свернул в грязный и темный тупик… Хорошо, что хоть вовремя вытащили, отмыли…
Улыбка на мгновение сошла с губ Анатолия, и он тяжело вздохнул.
На станции «Краснопресненская» Анатолий очнулся от своих дум и ринулся из вагона. Движение эскалатора показалось ему слишком медленным, и он помчался вверх огромными шагами через две ступеньки. Из метро он выбежал на освещенную солнцем небольшую площадь. Мелькали прохожие, автомашины, троллейбусы… По ту сторону улицы, за железной оградой и деревьями, виднелся пруд Зоологического парка, искрившийся солнечными зайчиками. На каменном островке стоял, как изваяние, розоватый пеликан с неподвижно распростертыми крыльями. По воде скользили лебеди. Басовито прожужжал над домами пассажирский самолет. Обычная картина августовского дня…
Анатолий зажмурил на мгновение глаза и открыл их. Нет, все это наяву, настоящее, с детства родное.
Остановка троллейбуса оказалась на старом месте, возле кинотеатра. На афише огромными буквами было напечатано: «Бродяга». Анатолий усмехнулся и вскочил в вагон. Троллейбус пополз по подъему вверх. Справа высились груды земли, обтесанные гранитные глыбы, виднелась каменная стена, а над ней, чуть отступив, высился, сверкая бесчисленными окнами, дом-гора – новый, еще не законченный высотный дом на площади Восстания. О нем Анатолий знал из писем матери и фотографий в «Огоньке». Через две-три минуты Анатолий вышел из троллейбуса у Скарятинского переулка.
– Вот эта улица, вот этот дом… с вывеской почты на нем, – тихонько пропел Анатолий, взбегая по лестнице на второй этаж. У высокой двери он нетерпеливо нажал кнопку два раза и прислушался. Тихо… А вдруг мать на работе? Ведь он не телеграфировал о дне приезда, хотел сюрпризом…
Внезапно дверь широко распахнулась.
– Сынок!
Мать обняла его у порога и заплакала, быстро целуя в щеки, нос, глаза.
Дядя Коля в темном морском кителе, поседевший, ставший как-то меньше ростом, гладил его по плечу, взял из рук чемодан и, заморгав глазами, хрипло скомандовал:
– Полный вперед!
В прихожей мать снова прильнула к сыну и зарыдала.
– Ну что ты, мамочка, что ты! – растерянно бормотал Анатолий. – Ну чего ты? Я же вернулся! – шептал он, целуя ее волосы.
Дяде наконец удалось, когда Ольга Петровна утирала платком мокрое от слез лицо, обнять племянника. Из приоткрытых дверей выглядывали соседи. Затем все трое двинулись в комнату.
Стол был празднично убран: белоснежная скатерть, цветы, графинчик с вишневой наливкой («Дядина специальность», – отметил Анатолий), закуски, блюдо с пирамидой маленьких румяных пирожков. Вкусно пахло свежеиспеченной сдобой. С детства волнующий запах праздничного дня… «Наверное, с грибами и с рисом, и с яйцами, и с мясом», – улыбнувшись, подумал Анатолий и отвернулся, чтобы незаметно протереть уголок глаза. Справа в углу стояла знакомая ширма, загораживающая кровать, и казалось, говорила: «Здравствуй, здравствуй…»
У противоположной стены над стареньким пианино висит большой портрет отца в военной форме. Он снялся в сорок пятом, перед демобилизацией из армии, где командовал саперной ротой. Губы отца чуть улыбались, но глаза смотрели строго, прямо в глаза Анатолию.
На подоконнике зеленели колючие столетники, а между окнами – все тот же письменный стол отца, и над ним – фотокарточка Анатолия в полированной рамочке. А вот и старый знакомый – диван с высокой спинкой, и на полочке над спинкой пасутся все те же семь мраморных слоников.
– Мама, почему такой стол и пирожки, разве сегодня праздник? – спросил Анатолий.
Оказалось, что звонил из Харькова Иван Игнатьевич и предупредил о дне приезда Анатолия в Москву. Тут Ольга Петровна всплеснула руками и, кляня свою память, повела сына в ванную, «где уже давным-давно все ждет тебя».
Анатолий чуть не застонал от удовольствия, опускаясь в горячую воду. Наконец-то он дома! Да разве может почувствовать это так остро тот, кому не случалось терять и вновь находить родной дом!
В поезде Анатолий хотел есть, а сев за стол, взволнованный и счастливый, он вдруг потерял аппетит. Дядя предложил выпить за вернувшегося в «родную гавань». Мать спросила, что налить – водку или вишневку? По тону, каким был задан вопрос, Анатолий почувствовал тревогу матери: не набросится ли он на водку?
– Лучше выпьем немного дядиной наливочки, – предложил Анатолий, и лица стариков просияли.
Мать то и дело посматривала на сына и утирала платком глаза. Дядя рассказывал о своих охотничьих приключениях этой весной. Никто из троих не решался первым заговорить о самом больном и самом важном.
– А почему Майк не встречает меня? – спросил Анатолий у дяди. – Он жив?
– Жив, что ему сделается! На даче песик… Хорошее у нас с ним было поле в этом году. Но ты погоди, встречающие найдутся, – ответил дядя и поспешил в соседнюю комнату.
Он вынес оттуда шелковистого мраморного, в пятнах, щенка-курцхара и поставил его на пол. Щенок, косолапя невысокими ножками, прошелся по комнате.
Анатолий вскочил, радостно засмеялся, подхватил щенка на руки. К ошейнику песика была пришита картонка, на которой крупными буквами выведено:
«Майк II».
Анатолий бережно опустил Майка Второго и крепко обнял дядю. И молодой и старый с одинаковым пылом занялись песиком.
– Ты посмотри, уши-то, уши! – гремел дядя. – А лапы какие большие! Будет сильный пес. Золотая медаль – не меньше. А паспорт у него какой: предки – сплошные чемпионы! И поохотимся же мы с тобой!
Щенок, благосклонно приняв похвалы, возбужденный возгласами и ласками, стал носиться по комнате, а затем присел и, честно глядя в глаза Анатолию, сделал маленькую лужицу.
– Ничего, он всему мигом обучится, – восхищался Анатолий.
Дядя снова вышел в другую комнату, принес оттуда и вручил Анатолию подарки: три книги об охоте, старый бинокль и новый фотоаппарат «ФЭД». Анатолий приподнял дядю в воздух и так его прижал, что тот крякнул:
– Ну и здоров стал, черт!
Снова сели за стол.
– Недели две назад, – сказала Ольга Петровна, – заезжал Юра. Большой стал. Не узнать. Вынул анкету и спрашивает, где ты родился, сколько тебе лет и еще разные вопросы. Я на все вопросы ответила, а потом спрашиваю – зачем? А он: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», и укатил! Чудной!
Анатолий стал расспрашивать о друзьях, знакомых, о новом высотном доме, о том, как бы попасть на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку…
Наконец, поглаживая примостившегося на коленях Майка Второго, он, помолчав, сказал:
– О том, как мне жилось в колонии, я вам писал. Теперь не нужно меня агитировать учиться. Все понял… Сам рвусь. Но сидеть на чьей-либо шее – не хочу.
– Да что ты, сынок! – укоризненно воскликнула мать. – Да я…
– Нет уж, лучше сразу все объяснить, – возразил Анатолий.
И он рассказал, что в колонии закончил девятый класс, а здесь поступит в десятый класс вечерней школы рабочей молодежи. Днем будет работать.
– Не спеши, – вмешался дядя. – Мы думали, что прежде всего – ученье. У меня персональная пенсия, мать твоя тоже теперь повысила квалификацию, экзамены даже сдала. Мы просим тебя – заканчивай десятилетку. А там дело покажет: или дальше учиться пойдешь, в институт какой, или работать начнешь.
– Я не малютка, чтобы на маминых и дядиных харчах сидеть. Руки-ноги есть, не инвалид, – упрямо повторил Анатолий.
– Мы же для тебя стараемся, чтобы ты на мель не сел, чтобы облегчить начало, – настаивал дядя.
– Знаю. Мать будет по три дежурства подряд брать, чтобы подработать, а ты, дядя, откажешься от походов по книжным магазинам… И все это для того, чтобы здоровенный балбес не переутомлялся. Нет! Буду работать днем, а учиться вечером. Закончу десятый класс, поступлю заочником в автомеханический институт.
– Или ты боишься, что после уроков нечем будет занять свободное время? – И дядины серые проницательные глаза с хитринкой уставились на юношу. – Учи иностранный язык: дельная вещь, поверь моряку! Музыке учись, ведь ты умел на баяне…
– Ничего я не боюсь, – уже сердито сказал Анатолий. – Я буду работать и учиться. И точка! Про колонию я вам потом как-нибудь расскажу: там учат и уму-разуму и труду. Я там не только девять классов закончил, но выучился на слесаря пятого разряда и на шофера третьего класса.
Ольга Петровна вдруг всхлипнула, подошла к сыну и порывисто поцеловала его в голову. Лицо дяди расплылось в улыбке.
– Ну, брат, вот это действительно здорово! Вот это хорошо! Но все-таки учиться тебе надо – это прежде всего.
А счастливый Анатолий продолжал:
– В колонии мы и машины ремонтировали, и запчасти к машинам делали, премии получали. Я около трех тысяч с собой привез. Мотоцикл куплю. В колонии остались друзья. Надо будет посылки им послать…
– А кто они, эти твои друзья? – настороженно спросила мать.
– Активисты, конечно!
– Кто-кто? Какие активисты?
– Ну, надо там побыть, чтобы понять. Активист – это тот, кто понял свои ошибки, отвернулся от прошлого гнилья и доказал это делом. Словом, лучшие из ребят.
– И много в колонии у тебя друзей?
– Приятелей много, а друзей только трое…
– А кто они? Как попали туда?
Анатолий налил чай на блюдце и, шумно отхлебывая («совсем разучился прилично есть», – огорчилась мать), сказал:
– Есть у меня друг Влоо, то есть Володька Степин. Отца у него убили гитлеровцы, а у матери вторая группа инвалидности, ее фашисты в гестапо мучили. Умерла сестренка. Влоо, чтобы не умереть с голоду, крал картошку, консервы, шоколад, попал в шайку. Потом пришли наши, а шайка его не отпустила, заставляла красть уже при советской власти. Он слабохарактерный, пошел на это и вместе с шайкой попался. К нам в колонию он пришел полуграмотный, никого не слушал, ругался. А потом начал учиться, работать, да еще как! Стал активистом и помог мне против Франца. Мы подружились. Вот ему-то хочу отправить посылку.
– Пошлем! – горячо отозвалась Ольга Петровна. – А что это за Франц?
– Франц? – Анатолий нахмурился и покраснел. – Неприятно вспоминать. Был такой тип, я даже с ним, дурак, сначала дружил. Хотел он командовать нами, как атаман, и жить паразитом. «Бросай учиться и работать, государство и так нас обязано кормить. А кто не согласен, тому перо в бок…» Ну, кончилось это тем, что вошел он в шайку, сделали они ножи, запаслись железными болтами, видно, собрались крепко пошуметь. Мы, активисты, вовремя заметили. Франц на меня с ножом, а тут Володя – хвать его за руку… Потом еще Глеб. Родителей нет… Он у нас мировецкий поэт. Думаете, заливаю?
– Толя! – воскликнула мать.
– Ну ладно, ладно… ну, не вру. Его стихотворение недавно даже в комсомольской газете напечатали.
– Такой талантливый мальчик… Как же так? – Ольга Петровна поднесла платок к глазам. – Пошлем посылку всем. Я сама им письма напишу.
После завтрака дядя попрощался и направился к двери.
– А охота? – крикнул Анатолий, прижимая к груди щенка.
– Приезжай на дачу в субботу вечером или в воскресенье утром, пораньше. Большой добычи не обещаю, а побродить по лесу – побродим.
– Ну, пойдем к тебе, отдохни с дороги, – сказала мать.
Все как прежде в его комнате: та же кровать, тот же шкаф, коврик с оленем над кроватью. Все было давно знакомо, но все так волновало теперь. Справа на полке стояли все три тома «Графа Монте-Кристо». Анатолии усмехнулся, подмигнул старым приятелям: «Такие-то дела, брат Эдмон Дантес, благородный граф Монте-Кристо! Теперь и мы узнали, что такое коварство и клевета…»
Анатолий потянулся к баяну, который в чехле стоял на этажерке. Что же сыграть? Анатолий начал свою любимую – «Раскинулось море широко». Мать отвернулась, чтобы скрыть слезы: эту песню любил ее покойный муж.
Играя, Анатолий глядел на снимок, висевший на стене. Когда-то снимались всем классом… С фото на него смотрели большие глаза девочки в школьном платье. «Нина, как-то мы встретимся с тобой? Что ты думаешь обо мне?»
– Ты все же поспи, сынок, отдохни, – сказала мать, входя.
– Да я не устал.
– Это так кажется. Поспи! Ну, сделай это для меня.
Спать не хотелось, но Анатолий разделся. Зеркало на столике отразило смуглое стройное тело. На левой руке у запястья красовалась татуировка – якорь, на бицепсе – инициалы «А. Р.» и две руки в рукопожатии. «Проклятая дурость! – с горечью подумал он. – Патриарх! Надо уничтожить эту гадость. Но как ее свести?»
В комнате, оклеенной зеленоватыми обоями, было совсем тихо. Анатолий закрыл глаза, потянулся так, что затрещало в суставах. Днем он не привык спать. Сон не приходил. Он лег, закинул руки за голову, закрыл глаза, и ему удивительно ясно представился невысокий, стройный пожилой человек с внимательными глазами – Иван Игнатьевич. «Что было бы, если бы не он? Что-то теперь поделывают ребята в колонии? К сегодняшнему дню Глеб с членами редколлегии – с “писательско-художественной командой” – должен вывесить новую стенгазету. Надо будет написать им для следующего номера, обещал… Пойду завтра в зоопарк, испробую новый фотоаппарат… Надо купить книжку по фотографии… Интересно, где помещается ближайшая вечерняя школа рабочей молодежи?.. Позвонит ли Лика? Я сам первый не буду звонить… Какая замечательная девушка!..»
В дверь постучались. Анатолий открыл глаза. Дверь приоткрылась, и показалась седая голова матери.
– Толечка, ты говорил – спать не хочешь, а знаешь, сколько проспал? Уже скоро вечер!
Мать вошла в комнату и подала письмо. На конверте значилось:
БЕСКОНЕЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
НАША МЕТАГАЛАКТИКА. ГАЛАКТИКА.
НАША СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА.
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. МАТЕРИК ЕВРОПА.
СССР, РСФСР.
г. Москва, ул. Воровского, дом 29, кв. 41.
Гражданину Анатолию Владимировичу
Русакову
– Узнаю! Узнаю! – закричал Анатолий.
Это была первая весточка от московских друзей. Он разорвал конверт. Внутри оказался крошечный листок бумаги. Разборчиво, но очень мелко было написано:
«Если хочешь услышать мой чудный голос, позвони Б 3—36–13.
Белый карлик».
– Юрка Кубышкин! Это ты! – Анатолий вскочил, в одну минуту оделся и, волнуясь, побежал к телефону.
Разговор был коротким: Юра помнит и по-прежнему любит Анатолия, и в этом он скоро убедится на деле. Сегодня и завтра Юра не сможет зайти, очень занят, работает за Москвой. Заедет утром в воскресенье. У него свой «москвич». «А по телефону у нас с тобой ничего, кроме “ахов” и “охов“, не получится, держу пари», – закончил он.”
– Помню, ты с дедом своим ездил на охоту. И сейчас увлекаешься? – спросил Анатолий.
– И сейчас охочусь.
– Раз так – едем вместе в субботу вечером или утром в воскресенье на охоту. Дядя знает места. Принято?
Условились выехать в субботу вечером.
Анатолий повесил трубку, но долго еще стоял у телефона.
Первый звонок… И какой хороший!
В последние недели в колонии да и в дороге он долго раздумывал о том, какой-то будет встреча со старыми друзьями, с настоящими, с теми, с кем дружил еще до этого проклятого Хозяина. Простят ли они? Захотят ли продолжать дружбу? А вдруг начнут читать скучные нотации? А может быть, отвернутся, постыдятся водиться с отбывшим заключение. Но ведь он, Анатолий, полностью реабилитирован, признан невиновным! Это по суду. А по своей совести? Разве он не изменил друзьям ради Хозяина, Яшки Глухаря, Чумы? Да, он был еще мальчишкой, не разобрался, не понял… И все-таки мысли о предстоящих встречах вызывали робость и неуверенность.
И вот – звонок Юры… Ни намека!..
Был еще один близкий друг. Правда, они, бывало, ссорились. Но в каком бы оскорбительном тоне теперь ни начал говорить Коля Фатеев – он же Маленький маршал, – Анатолий заранее решил не обижаться. Надо восстановить старую дружбу.
В каждом классе есть свой любимчик-заводила, которому подражает большинство. И в каждом классе есть «совесть класса», ученик не слишком любимый, но уважаемый за прямоту и резкость суждений, даже когда они расходятся с неписаными законами школьной жизни. А «законы» эти велят подсказывать «утопающему» и «насолить» нелюбимому педагогу. Но Коля Фатеев не признавал этих правил и держался твердо против всего класса.
Отец Коли, танкист, погиб на войне. Сын гордился подвигом отца и мечтал стать военным, и не просто военным, а маршалом! Об этом он как-то рассказал Анатолию, а потом не раз просил его не разглашать тайну.
Из-за маленького роста и слабого здоровья Колю не приняли в Суворовское училище. Но мальчик решил добиться своего. Прежде всего надо закалить тело и выработать железную силу воли. Он так и сказал своей матери. Ее уговоры и слезы не поколебали будущего маршала. И чего только ни делал Коля, втайне копируя детство Суворова! Он перечитал почти все о любимом полководце, сделал выписки из «Киропедии» Ксенофонта, из «Биографии великих людей» Плутарха и других книг.
Мальчик, раньше спавший на мягком диване, перебрался на ковер. Воспитывая волю, он, сладкоежка, отказался от сладостей. Вставал в шесть утра, ложился точно в «двадцать два ноль-ноль». После утренней зарядки обливался холодной водой и вздумал было перейти на спартанский режим питания – черные сухари, кипяток, каша «геркулес» без масла, – но мать не позволила. Строго, пунктуально выполнял он намеченный порядок дня. Мать вначале огорчалась, потом решила, что блажь сына скоро пройдет. Но так продолжалось и месяц, и второй, и год… Коля втянулся, привык к такому режиму и даже увлекся когда-то нелюбимым спортом. Всегда серьезный, даже хмурый, в очках, он казался маленьким педантом-сухарем.
Самолюбивый, всегда уверенный в своей правоте, Коля нелегко сходился с ребятами и был деспотичен в дружбе. С первой же минуты он начинал исправлять и направлять нового друга. Это надоедало. Такое испытание выдерживали очень немногие. А Коля тяжело переживал, когда новые друзья отворачивались от него, что случалось нередко. Честный до щепетильности, непримиримый в делах чести, он всегда готов был оказать другу важную услугу. Он мог, не жалея своего времени, «натаскивать» перед экзаменом, готов был умереть за друга, но требовал в ответ того же и, главное, безоговорочного подчинения.
Анатолий подружился с Колей во время подготовки к экзаменам. Еще больше их сдружил каток. Оба любили книги о путешествиях и охоте, увлекались моторами, мечтали о мотоциклах. Анатолий под влиянием Коли начал лучше учиться, стал серьезнее.
Так продолжалось два года. Потом Толю стал тяготить деспотизм Маленького маршала, он охладел к нему. А потом… потом запутался в липкой паутине Хозяина. Возможно, что немалую роль в дружбе с Хозяином сыграл неосознанный протест Анатолия против Колиного педантизма и жесткой, прямой как палка, самодисциплины.
Коля начал ссориться с Анатолием и требовал, чтобы тот не водился с Хозяином. Он даже появился в их компании, начал гневно обличать дворовых хулиганов. А кончилось это тем, что Анатолию еле удалось спасти его от избиения.
Вскоре после этого Хозяин, встретив Колю в переулке, окликнул его:
– Давай пять! – Он протянул ему костлявую руку. – Скажи, пожалуйста, чего ты фасон давишь?
– Я? Какой фасон? – Коля растерялся.
– Ну-ну! Ты кого другого разыгрывай, а не меня. Тихоня, тихоня, а кол в дневнике на четверку переделал. На Первое мая нализался. Нам все известно! Хочешь водиться с нами, так фасон брось. Не тебе над Хозяином быть!
Коля смотрел на него во все глаза и ничего не понимал. При встрече с Анатолием он потребовал объяснений.
– Понимаешь, могут тебе бока намять, – сказал Анатолий. – Ну и я им наплел, что ты не такой уж сосунок. Это, так сказать, спасательная маскировка для тебя.
– Гнусное вранье, вот что это! Я не нуждаюсь в маскировке, да еще такой гнусной. Выбирай – я или они!
Анатолий рассердился. Дружбе с Колей пришел конец.
Телефонный разговор с Колей был трудным. Коля спрашивал напрямик, без дипломатии, и Анатолий отвечал так же.
– Рад, что ты вернулся, – сказал Коля, – если ты только не считаешь себя «отпускником».
– Не считаю! – отвечал Анатолий. – Начинаю жить по-новому. Может быть, по старой памяти, поможешь учебниками?
Но Колю не так-то легко было убедить.
– По старой дружбе помогу, если ты действительно хочешь учиться. Ты не врешь?
– Нет, не вру!
В таком же духе Коля допрашивал его довольно долго. О себе он сказал, что работает на автозаводе слесарем и там же учится в вечернем техникуме.
– Я тоже слесарь пятого разряда и к тому же шофер, – похвастался Анатолий.
Коля, видимо, не слишком поверил в пятый разряд и стал задавать специальные вопросы по слесарному делу и моторам внутреннего сгорания.
– Гм… А ты, пожалуй, неплохо разбираешься…
– Думаю, что неплохо.
– Ну, уж об этом предоставь нам судить. Поживем – увидим.
Анатолий не стал спорить, но напоследок с ехидной ноткой в голосе спросил:
– А как дела с маршальством? Продвигаемся?
– Да ну тебя! – Коля рассмеялся. – Подробно – при встрече. Зайду к тебе после занятий, часов в десять вечера. Не поздно?
Теперь можно было позвонить Нине. Анатолий трижды набирал номер, но не до конца и трижды трусливо опускал трубку на рычаг. В четвертый раз он даже услышал низкий гудок и все же положил трубку.
…Нина когда-то жила в этой же квартире, она была года на полтора старше Толи. Они часто ссорились, даже дрались. Дружба началась после того, как Анатолий упал на катке и мчавшийся конькобежец, не успев свернуть, рассек ему норвежкой кожу на лопатке до кости.
Нина, увидев кровь, потащила Толю к врачу, хотя мальчишка упирался и кричал, что незачем. Но вскоре голова у него стала кружиться, спину сводила боль, и он снизошел до того, что, спотыкаясь, покатил, держась за плечо девчонки. Все вокруг ахали и очень ему сочувствовали. Нина привела его в медпункт, разыскала врача, потом взяла такси и отвезла Анатолия домой. В машине его подташнивало, но он вошел в роль пострадавшего, воображая себя тяжелораненым разведчиком, а Нину – фронтовой медицинской сестрой.
Как и другие мальчишки, Анатолий щеголял своим презрением к девчонкам. Для Нины он сделал исключение, но так, чтобы никто не знал об этом. На улице он старался ее не замечать. В шестом классе отношение к девчонкам изменилось. Школы их были недалеко друг от друга, и Толя уже нередко поджидал Нину, чтобы вместе идти домой.
Однажды на классной доске кто-то нарисовал мелом сердце, пронзенное стрелой, и написал: «Толя + Нина». Анатолий гордо смолчал. А через несколько дней подрался с пареньком со своего двора, который глупо дразнил Нину. С тех пор мальчишки, завидев Нину и Анатолия, запевали: «Жених и невеста замесили тесто!»