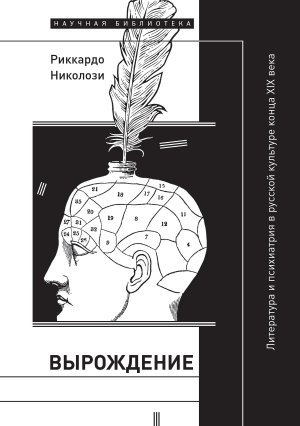
© Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2017
© Н. Ставрогина, перевод с немецкого языка, 2019
© OOO «Новое литературное обозрение», 2019
I. Введение
В 1898 году, в разгар царившего в западноевропейских странах эпохи fin de siècle увлечения русским реализмом[1], один из ведущих представителей итальянского натурализма (веризма) Луиджи Капуана писал о персонажах русского романа:
В русском романе нам встречаются души сумрачные, терзаемые тоской по идеалу; грубые и мощные характеры, с одинаковой страстью творящие добро и зло; неукротимые волевые натуры; сердца, исполненные странной жажды страданий. При ближайшем рассмотрении кажется, что эти персонажи пребывают в состоянии ненормальном; нечто в их мозгу либо повреждено, либо функционирует неправильно. Все они, или почти все, являют собой экзальтированных невротиков, людей, которых следует поручить заботам Шарко или Ломброзо[2].
Поставленный Капуаной психопатологический диагноз созвучен представлению современников о русском романе как о выражении «непостоянной русской души» (l’âme flottante des Russes)[3], якобы заметно склонной к нервным заболеваниям[4]. Однако Капуана идет еще дальше, приравнивая персонажей русского романа к пациентам тогдашней психиатрии, представленной двумя наиболее знаменитыми именами: «изобретателя» истерии Жан-Мартена Шарко и основоположника криминальной антропологии Чезаре Ломброзо. Таким образом, слова Капуаны указывают на тесную взаимосвязь психиатрии и литературы, характерную для европейских культур XIX столетия[5].
Из литературных произведений – например, из драм Шекспира – психиатрия, в качестве самостоятельной дисциплины сформировавшаяся лишь на рубеже XIX–XX веков, черпает знание о психических процессах, приписывая ему не меньшую эпистемологическую ценность, нежели результатам клинических наблюдений; стремясь выработать собственный стиль изложения, прежде всего при описании частных случаев, психиатры ориентируются на заимствованные из художественной литературы повествовательные и риторические приемы. Кроме того, в литературных текстах усматривают симптомы душевных и нервных недугов авторов (в частности, в рамках жанра патографии), а также проявления общего культурного упадка, как это делает Макс Нордау в книге «Вырождение» («Entartung», 1892–1893). Литература XIX века, в свою очередь, осваивает накопленные современной психиатрией знания, функционализируя, трансформируя, пародируя и карнавализируя их в художественно переосмысленном виде; одновременно складываются стратегии литературного письма, опирающиеся на принятые в психиатрии формы изложения, в частности на жанр истории болезни.
Важнейшая роль в этом широком поле взаимодействия литературы и психиатрии конца XIX столетия принадлежит понятию вырождения, или дегенерации[6]. В биологической психиатрии, рассматривающей душевные заболевания как наследственные патологии мозга и нервной системы, теория вырождения становится преобладающей (гл. II.1)[7]. В литературе, прежде всего в натурализме, концепция вырождения – как мотив, структурная модель индивидуальных и коллективных патологий, а также как принцип сюжетосложения – выступает одной из самых распространенных составляющих (био)социального романа (гл. II.2). Такое взаимодействие литературы и психиатрии во многом способствует формированию дискурса о вырождении, служащего европейской культуре fin de siècle инструментом концептуализации «изнанки прогресса», т. е. всей совокупности свойственных модерну девиаций и аномалий. На рубеже веков модель объяснения мира с позиций культурного пессимизма приобретает всеобъемлющий характер. Ее действенность зиждется на ее дискурсивной пластичности и семантической размытости, допускающих свободное и чрезвычайно гибкое «медикализирующее» осмысление социальной жизни в категориях здоровья и патологии, нормы и отклонения. Это позволяет установить связь между дискурсом о вырождении и другими биомедицинскими дисциплинами и дискурсами эпохи, в частности криминальной антропологией (гл. VI) и дарвинизмом (гл. VII), расширяя тем самым его эпистемологические границы[8].
Изменчивая, «протеическая» природа дискурса о вырождении создает определенные трудности в исследовании взаимосвязи литературы и науки. Ограничиться констатацией наличия элементов психиатрической теории в литературных текстах эпохи – значит попасть в замкнутый круг, подтверждающий универсальность дискурса о вырождении. Можно, конечно, продолжить приведенное выше суждение Капуаны и заняться выявлением присущих персонажам русской литературы психопатологических черт, подразумевающих простое воспроизведение объектного языка теории вырождения, – однако такой подход страдал бы обманчивой самоочевидностью. С учетом принятого в тогдашней психиатрии широкого понимания душевных и нравственных расстройств оценка русских литературных героев как «вырожденцев», пусть нередко и оправданная, в конечном счете представляется произвольной и лишенной аналитической строгости. Недаром российская психиатрия того времени использовала этот подход с целью «продемонстрировать» обоснованность теории вырождения на примерах из художественной литературы и легитимировать собственные методы (гл. IV.2 и VI.2).
Специфика взаимовлияния литературы и психиатрии в исследуемом контексте состоит в совместном создании дискурсивных структур, главная роль в которых принадлежит нарративности[9]. Психиатрическая теория вырождения не предоставляет референциального знания, впоследствии конвертируемого литературой в нарративные структуры. Источником знания выступает сам нарративный потенциал концепции вырождения, так как лишь повествовательная модель наследования нервно-душевных заболеваний, передающихся из поколения в поколение одной семьи и принимающих все более тяжелые и разнообразные формы, позволяет добиться эпистемологической убедительности, которой теория в противном случае не обладала бы ввиду отсутствия эмпирических доказательств (гл. II.1).
Дегенерация – это в первую очередь нарратив: masterplot, базовая повествовательная схема, которая придает разрозненным патологическим явлениям сегментированный линейный характер и обеспечивает повествовательную связность, позволяющую обуздать хаотическую «агрессию» ненормальности[10]. Вместе с тем нарратив о вырождении обладает необходимой семантической свободой и гибкостью, позволяющими охватывать всевозможные девиантные формы социального поведения – в частности, преступность и проституцию, – тем самым превращая их в элементы обширного биомедицинского повествования.
Впрочем, постулировать общую нарративную базовую структуру дегенерации – не значит утверждать, что психиатрия и литература конца XIX столетия излагают истории вырождения при помощи одинаковых повествовательных стратегий. Хотя в психиатрическом письме о вырождении ярко выражено повествовательное начало, психиатрия придерживается собственной эпистемологической логики, отличной от эстетического своеобразия литературы. Поэтому в главах II и III рассматриваются черты не только и не столько сходства, сколько различия между художественным и медицинским повествованиями о вырождении. Сначала, в главе II.1, я покажу, каким образом возникшая во французской психиатрии конца 1850‐х годов теория вырождения достигает эпистемологической убедительности единственно путем применения к частным случаям: лишь сама повествовательная схема позволяет выявить связность и смысл в «хаосе» культурных девиаций и первобытных инстинктов. В историях болезней, написанных основоположником теории вырождения Бенедиктом Огюстеном Морелем[11] и Валантеном Маньяном, имеющий неизменные структурные сегменты и топосы нарратив повторяется в бесконечных вариациях, превращая повествовательную схему в модель интерпретации; в результате неограниченная референциальность сводится к одинаковой смысловой линии.
Первое художественное воплощение нарратив о дегенерации получил в литературе французского натурализма: традиция «романа о вырождении» берет начало в двадцатитомной семейной эпопее Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893). В главе II.2 рассмотрено возникновение нарративной грамматики романа о вырождении в результате взаимодействия базовой схемы дегенерации и повествовательной системы натурализма. Аналептическое и антагонистическое повествование; эпическая линейность рассказа и фрагментарность описаний; отказ от категории события и трансгрессивные сюжетные повороты – вот координаты, в которых Золя строит художественную повествовательную модель вырождения, впоследствии воспринятую и переосмысленную в европейских литературах 1880–1910‐х годов.
Отправной точкой дискурса о дегенерации в русской культуре становится – таков один из главных тезисов настоящей книги – освоение и видоизменение созданного Золя романа о вырождении на рубеже 1870–1880‐х годов, еще до того, как российская психиатрия, институциональное становление которой приходится лишь на конец 1880‐х годов, начнет пропагандировать теорию вырождения и разрабатывать соответствующий тип письма. Реконструкция начального этапа русской рецепции Золя в 1870‐х годах – интенсивного, однако сегодня почти забытого (гл. II.3) – позволяет очертить историко-литературный контекст появления первого русского романа о вырождении – «Господ Головлевых» (1875–1880) М. Е. Салтыкова-Щедрина. Творчески перерабатывая опыт Золя, а также русской литературной традиции семейной хроники (С. Т. Аксаков, Н. С. Лесков), Салтыков-Щедрин рассказывает историю психофизической, нравственной и материальной деградации одной помещичьей семьи после отмены крепостного права. В результате возникает одно из самых мрачных и последовательных художественных воплощений концепции вырождения: развитие дегенеративного процесса, ведущего к угасанию рода Головлевых, состоит из навязчивого повторения похожих эпизодов, все более бедных событиями и под конец буквально разрывающих ткань повествования. Таким образом, на перформативном уровне текст «вырождается» точно так же, как и описываемое семейство.
Внутренняя диегетическая логика натуралистического романа о вырождении формируется среди прочего в разработанной Золя поэтике «экспериментального романа» (le roman expérimental). Рассказывая о вырождении семьи Ругон-Маккаров, охватывающем несколько поколений, Золя стремится к фиктивной «верификации» биологических законов, которые, согласно теоретическим воззрениям позитивистской науки XIX века, определяют глубинную структуру жизни. Проблематичная в эпистемологическом отношении аналогизация литературы и эксперимента, осуществляемая Золя, рассматривается в этой книге с точки зрения своих нарративных импликаций: как образцовая повествовательная форма, призванная сообщить наглядную убедительность исходной гипотезе о биологических основах действительности, главными из которых являются наследственность и дегенерация.
В конце 1870‐х – начале 1880‐х годов этот «экспериментальный» аспект романа о вырождении воспринимают русские писатели, переосмысляющие его таким образом, что провозглашенная натурализмом возможность излагать научные теории в повествовании оказывается поставлена под сомнение. В главах III.2 и III.3 последний роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880) и роман «Приваловские миллионы» (1883) Д. Н. Мамина-Сибиряка, одного из ведущих представителей русского натурализма, интерпретируются как направленные против созданного Золя цикла о вырождении литературные «контрэксперименты», в основу которых положена контрфактуальная структура аргументации по принципу reductio ad absurdum. Несмотря на ряд очевидных эстетических и поэтологических различий между романным творчеством Достоевского и Мамина-Сибиряка, оба текста сходным образом инсценируют натуралистический художественный мир, на первый взгляд подчиненный детерминистским силам наследственности и вырождения. Однако оба романа вступают в противоречие с этой натуралистической моделью мира на нескольких уровнях, а впоследствии опровергают ее как ложную эпистемологическую посылку. Эта специфически русская разновидность романа о вырождении интерпретируется как дальнейшее развитие повествовательной техники, свойственной русской тенденциозной литературе 1860–1870‐х годов, т. е. традиции нигилистического и антинигилистического романа (гл. III.1).
Становление российской психиатрии в конце 1880‐х годов ознаменовало конец этой первой, внутрилитературной фазы развития дискурса о дегенерации. Сначала, в главе IV.1, прослеживается значение теории вырождения для первых российских психиатров, которые использовали ее не только для медицинской, но и для социальной диагностики, не в последнюю очередь с целью легитимировать психиатрию в качестве научной дисциплины. Часть психиатров, прежде всего возглавляемая П. И. Ковалевским харьковская школа, применяет к русской действительности заимствованный из франко-немецкого биомедицинского дискурса диагноз «нервный век» (Рихард фон Крафт-Эбинг), присоединяясь тем самым к антимодернистскому политическому дискурсу эпохи Александра III и пытаясь обосновать его с медицинской точки зрения. Неврастения и другие нервные заболевания рассматриваются как симптомы общего вырождения русского народа, причем отправной точкой этого процесса провозглашаются «Великие реформы» 1860‐х годов. Понимают психиатры и необходимость облекать концепцию вырождения в повествовательную форму для достижения эпистемологической убедительности; с этой целью они не только сами пишут истории болезней, но и читают и интерпретируют художественные произведения, например романы Достоевского, как истории вырождения (гл. IV.2). Таким образом, русская психиатрия тесно взаимодействует с натуралистической литературой своего времени, такие представители которой, как И. И. Ясинский и П. Д. Боборыкин (гл. IV.3), продолжают развивать русскую традицию романа о вырождении в русле раннемодернистского литературного «искусства нервов». В творчестве обоих писателей нервные заболевания персонажей предстают составляющей подчеркнуто детерминистского нарратива: инсценировка безуспешных попыток героев вырваться из дегенеративного процесса, частью которого они являются изначально, «по рождению», акцентирует замкнутость базовой нарративной схемы.
На этом этапе становится окончательно очевидным, что сосредоточенность на повествовательных структурах (а не только на самом мотиве) вырождения подводит к необходимости пересмотреть каноническую историю русской литературы эпохи fin de siècle. Декадентству и раннему символизму, до сих пор считавшимся основными выразителями идеи вырождения в литературе[12], в этом исследовании отводится скорее второстепенная роль (гл. V), так как в данном случае не приходится говорить о повествовательной литературе, свидетельствующей о взаимодействии с психиатрией эпохи. Правомерность такого подхода проясняется в рамках сравнительного анализа, который охватывает творчество таких ныне полузабытых представителей натурализма (в узком или широком смысле), как Мамин-Сибиряк, Ясинский и Боборыкин, но также и А. В. Амфитеатров, В. А. Гиляровский, В. М. Дорошевич и А. И. Свирский (гл. IV–VI). Все они выступают героями этой книги наравне с такими классиками русского (позднего) реализма, как М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и А. П. Чехов[13]. Таким образом, на этих страницах натурализм заново обретает ту важность, которой это литературное направление обладало в России конца XIX века, особенно в контексте научного повествования[14].
Подобным образом в книге критически пересматривается и каноническая история русской психиатрии, не уделяющая должного внимания важнейшей для 1880–1890‐х годов научной деятельности таких теоретиков вырождения, как П. И. Ковалевский и В. Ф. Чиж (гл. IV.1). Между тем именно эти психиатры, националисты и консерваторы, раскрыли в своих судебно-медицинских анализах возможности нарратива о вырождении и достигли высот в диагностике социальных отклонений, толкуемых с биомедицинских позиций как угроза целостности империи. В главах VI и VII подробно рассматривается начавшееся в середине 1880‐х годов сближение психиатрической теории вырождения с другими биомедицинскими концепциями эпохи – с криминально-антропологической теорией атавизма и с дарвинистской борьбой за существование, – что позволило ей превратиться в объяснительную модель для всей совокупности социальных «аномальных явлений», не только психических, но и социальных. При этом возникли новые разновидности повествования о вырождении, лишь подчеркивающие интегративный потенциал соответствующей базовой схемы.
Это хорошо видно на примере судебно-психиатрических анализов П. И. Ковалевского и В. Ф. Чижа, принадлежавших к числу убежденных русских приверженцев выдвинутой Чезаре Ломброзо криминально-антропологической теории прирожденного преступника. Восприняв идею атавистической природы этого преступного человеческого типа, концептуализированной Ломброзо как антропологический регресс к первобытному состоянию, Ковалевский и Чиж стали применять ее в своей судебно-медицинской практике, интерпретируя преступления как психиатрические случаи дегенерации. При этом оба мастерски сочетают аналогическую повествовательную структуру с каузальной, заставляя разглядеть в дегенеративной личности жуткие черты атавистического «зверя» (гл. VI.1). Такое представление о чудовищной натуре преступника остается, напротив, чуждо русским писателям, которые вплоть до рубежа веков продолжают создавать тяготеющие к сентиментальности истории, проникнутые сочувственным отношением к преступнику как человеку «несчастному». Это не мешает Ковалевскому и Чижу в собственных «литературно-критических» трудах интерпретировать произведения Достоевского и Чехова о жизни преступников и каторжан как однородное, последовательное изображение прирожденных преступников – опять-таки с целью подкрепить свои научные позиции авторитетом художественной литературы.
Глава VI.2 посвящена сложному отношению русской литературы 1880–1890‐х годов к криминально-антропологическим нарративам о вырождении. С одной стороны, такие художественные и документальные тексты, как «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Воскресение» (1899) Л. Н. Толстого, а также посвященные жизни преступников произведения А. И. Свирского и В. М. Дорошевича, обращаются к идеям криминальной антропологии и психиатрии лишь с тем, чтобы опровергнуть их путем иронии, карнавализации или аргументированного опровержения. С другой стороны, описывающие мир трущоб очерки В. А. Гиляровского («Трущобные люди», 1887) и А. И. Свирского («Мир трущобный», 1898) моделируют московское и петербургское «пространство вырождения», в контексте которого преступность выступает одним из проявлений атавистического, враждебного цивилизации регресса, охватившего целые группы населения.
Вследствие слияния с дарвинистским дискурсом, особенно с центральной для него идеей «борьбы за существование», в дискурсе о вырождении 1890‐х годов усиливается тенденция к обобщению дегенеративных проявлений, которая приводит к возникновению расовых теорий и идей евгеники. Глава VII, посвященная этой последней крупной трансформации нарратива о вырождении, открывается анализом риторического аспекта концепции борьбы за существование в эволюционной теории Чарльза Дарвина. Если рассматривать борьбу за существование как эпистемологическую метафору, в ней обнаруживается полисемия, сознательно допускающая разнообразные и взаимно противоречивые интерпретации. Включая элементы дарвинизма в теорию вырождения, европейская психиатрия перенимает и эту семантическую неоднозначность, сообщающую «дарвинизированной» концепции вырождения двоякий смысл. С одной стороны, борьба за существование понимается как фундаментальная форма человеческой жизни в современную эпоху, вызывающая нервные расстройства и в конечном итоге влекущая за собой вырождение. Такая модель нередко встречается в социальных романах европейского натурализма; в России она опять-таки представлена творчеством Мамина-Сибиряка, в чьем романе «Хлеб» (1895) и борьба за существование, и дегенерация изображаются как составляющие классического натуралистического мира, где старые социально-экономические отношения рушатся под натиском капитализма. Однако автор вновь сводит свою повествовательную стратегию к абсурду, желая подчеркнуть принципиально случайную, ничем не предопределенную природу жизни (гл. VII.2).
С другой стороны, вырождение также считается признаком биологической неприспособленности (unfitness) индивидуального или коллективного организма и, следовательно, оказывается чрезвычайно невыгодным в эволюционной борьбе за выживание. Если природа создала механизмы уничтожения «слабейших», то цивилизация, согласно этой точке зрения, нарушила причинно-следственное эволюционное равновесие путем «ложной» заботы о таких индивидах. Глава VII.3 воссоздает вытекающие отсюда споры о необходимости евгенических мер, причем особое внимание уделяется неоднозначным взглядам Дарвина, высказанным в труде «Происхождение человека» («The Descent of Man», 1871). Именно к противоречиям и парадоксам дарвиновской аргументации – но вместе с тем и к заключенному в них творческому потенциалу – обращается А. П. Чехов в повести «Дуэль» (1891), выводя их на сцену и в буквальном смысле заставляя драться на дуэли. Полная гротескного драматизма карнавализация, которой подверг нарративы о вырождении евгенической направленности Чехов, резко контрастирует с тревожной картиной будущего в утопии «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века» (1903) К. С. Мережковского, где люди находят спасение от всеобщего вырождения в евгенической программе, предусматривающей последовательную селекцию всего населения земли (гл. VIII).
Итак, совместный путь, проделанный литературой и психиатрией в конце XIX века и рассматриваемый в этой книге с ограниченной точки зрения повествовательного аспекта теории вырождения[15], от семейной хроники Салтыкова-Щедрина ведет к евгенической утопии-дистопии Мережковского и позволяет увидеть российскую эпоху fin de siècle в новом, подчас неожиданном свете. Этот путь, который никак нельзя назвать прямым, пролегает через обширное поле биомедицинских дискурсов и нарративов рубежа XIX–XX веков, значение которых в истории русской культуры начали углубленно изучать лишь в последние годы[16]. Цель настоящей книги в контексте этих исследований состоит не только в том, чтобы подчеркнуть до сих пор обделенную вниманием конститутивную роль русской литературы в становлении и развитии дискурса о вырождении[17]. Важно еще и показать, что сам этот дискурс складывается из нарративных структур, возникших в результате тесного взаимодействия литературы и психиатрии. Адекватный анализ принадлежащих к этому дискурсу научных и художественных текстов о вырождении возможен лишь при условии, что они будут рассматриваться как элементы соответствующего интердискурсивного поля. Сосредоточенность на нарративной стороне концепции вырождения позволит лучше понять объединяющий литературу и психиатрию 1880–1890‐х годов совместный процесс испытания возможностей, условий и границ повествовательности вообще.
II. Литературное начало. Роман о вырождении и натурализм
У истоков русского дискурса о вырождении стоит художественное произведение – роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875–1880). Эта «самая мрачная в русской литературе» книга[18] рассказывает о психофизической, нравственной и материальной деградации одного помещичьего рода после отмены крепостного права, причем прогрессирующее вырождение и угасание семьи Головлевых на протяжении трех поколений призвано воплощать упадок русского поместного дворянства. «Господа Головлевы» – это первый в русской литературе роман о вырождении, одновременно принадлежащий к общеевропейскому контексту романов 1880–1910‐х годов о биологически мотивированных «закатах семей». В таких романах, возникающих по всей Европе, семья и семейная наследственность выступают полноправными «героями» проникнутой детерминизмом истории упадка, а психофизические болезни и другие ненормальные явления – симптомами прогрессирующего процесса разложения. Романы этого типа соединены отношением преемственности (а нередко и тесными интертекстуальными связями) с двадцатитомной семейной эпопеей Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893), международный успех которой заметно способствовал утверждению этой формы биологического повествования.
Таково, в частности, содержание скандинавских романов «Дряхлеющий век» («Haabløse Slægter», 1880–1884) Германа Банга и «Флаги реют над городом и над гаванью» («Det flager i byen og på havnen», 1884) Бьёрнстьерне Бьёрнсона; в Германии «Болезнь века» («Die Krankheit des Jahrhunderts», 1887) Макса Нордау кладет начало традиции, к которой принадлежат «Декаденты» («Die Dekadenten», 1898) Герхарда Оукамы Кноопа, «Будденброки» («Buddenbrooks», 1901) Томаса Манна и «Вечерние дома» («Abendliche Häuser», 1914) Эдуарда фон Кайзерлинга[19]; в Италии проект Золя развивает Джованни Верга в романах «Семья Малаволья» («I Malavoglia», 1881) и «Мастро дон Джезуальдо» («Mastro don Gesualdo», 1888), а на португальскую и испанскую почву его переносят Жозе Мария Эса ди Кейрош в романе «Знатный род Рамирес» («A ilustre casa de Ramires», 1901) и Бенито Перес Гальдос в «Обездоленной» («La desheredada», 1881)[20]. Воспринимают эту повествовательную традицию и в славянском мире, причем на рубеже веков роман о вырождении наиболее широко распространяется – помимо России – в южнославянских странах. В Хорватии это «Мертвые капиталы» Йосипа Козарача («Mrtvi kapitali», 1890), «Последние Стипанчичи» («Poslednji Stipančići», 1899) Венцеслава Новака и «Дука Бегович» («Ðuka Begović», 1909) Ивана Козарача, а высшим достижением жанра становится цикл Мирослава Крлежи «Глембаи» («Glembajevi», 1926–1931)[21]; в сербской литературе важнейшим примером служит «Дурная кровь» («Nečista krv», 1910) Боры Станковича[22].
Контекст возникновения первых романов о вырождении, прежде всего цикла романов Золя о Ругон-Маккарах, представляет собой интердискурсивное поле, в формировании которого участвуют в равной степени литература и медицина, причем натурализм стремится к соотнесению обоих дискурсов и достигает цели благодаря причастности к наддискурсивному режиму знания[23]. «Вырождение» как понятие и нарратив изначально возникает в психиатрии. Теория вырождения, изложенная Бенедиктом Огюстеном Морелем в «Трактате о телесной, умственной и нравственной дегенерации человеческого вида» («Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine», 1857) как генеалогическая модель интерпретации нервно-душевных заболеваний, составляет научную базу натуралистического романа о вырождении, воспринявшего нарративный аспект психиатрической теории (гл. II.1) и давшего ему художественное выражение. В русской культуре, напротив, наблюдается обратное соотношение медицинского и литературного дискурсов: задача создать повествование о вырождении встает перед русской литературой еще до того, как институционально сложившаяся лишь к концу 1880‐х годов российская психиатрия начнет насаждать соответствующую теорию.
В том обстоятельстве, что в России дискурс о вырождении сначала возникает в литературе, нет ничего удивительного, если принять во внимание характерную для русской литературы XIX века тенденцию служить пространством формирования различных дискурсов[24]. Как известно, столь высокую ценность, которую литература получила в России, объясняют разными причинами: от почти священного, восходящего к православной традиции статуса письменного слова как носителя «истины»[25] – до строгой цензуры, мешавшей независимому развитию разных дисциплин (в частности, философии) и дискурсов[26]. Впрочем, более уместным для объяснения «литературности» раннего русского дискурса о вырождении представляется системно-теоретический подход в духе Никласа Лумана: гетерономная функция русской литературы XIX столетия как используемого разными дискурсами эпистемологического медиума обусловлена тем фактом, что в России литература так и не выделилась в независимую социальную подсистему[27]. Не в последнюю очередь это касается характерного для русского реализма слияния медицины и литературы. Как убедительно показала Сабина Мертен, русская литература 1840–1860‐х годов, от физиологических очерков до произведений Тургенева, Гончарова и Достоевского, служит пространством формирования – и вместе с тем экспериментального испытания – медицинских теорий о человеке и обществе[28]. Физиологические, нейропсихологические и психиатрические модели разграничения здоровья и болезни, нормы и патологии «проигрываются» в литературе, подтверждая ее выдающиеся возможности в области социальной диагностики. Вместе с тем такая нечеткая дискурсивная дифференциация медицины и литературы способствует развитию специфических приемов и подходов в русском реализме, в частности при изображении человеческого сознания, что позволяет Мертен говорить о «поэтике медицины» как об основе литературного реализма.
Конечно, принципиально интердискурсивный характер русской литературы XIX века и ее близость к медицинским нарративам заметно повлияли на литературное обоснование дискурса о дегенерации в романе Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Однако для того, чтобы понять специфику литературного дискурса о вырождении во всей полноте, необходимо учитывать проблему рецепции. Чисто литературные истоки русского романа о вырождении объясняются не в последнюю очередь тем фактом, что русская литература воспринимает соответствующую концепцию в ее натуралистическом изводе, предполагающем характерное для Золя слияние психиатрической науки и художественных повествовательных моделей. Русский роман о вырождении конца 1870‐х – начала 1880‐х годов, представленный, помимо «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина, «Братьями Карамазовыми» Ф. М. Достоевского (1879–1880) и «Приваловскими миллионами» (1883) Д. Н. Мамина-Сибиряка[29], имеет критические интертекстуальные связи с литературной теорией и практикой натурализма в творчестве Золя, ранняя рецепция которого в России – интенсивная, однако ныне забытая – нуждается в подробном рассмотрении (гл. II.3). Сначала я реконструирую (гл. II.1) историю возникновения во французской психиатрии теории дегенерации, составившей научный фундамент романного цикла Золя. При этом особое внимание уделяется ее повествовательному аспекту, поскольку именно он составляет ядро всей теории: дегенерация с самого начала предстает как masterplot, «большой рассказ»[30], принимающий в натурализме форму мифоэпического повествования[31]. Следующим шагом (гл. II.2) станет анализ диегетического своеобразия романа о вырождении, принадлежащего к традиции Золя, причем главное внимание будет уделено аспекту событийности, важнейшему для понимания романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Наконец, будет показано (гл. II.4), как Салтыков-Щедрин, соединяя золаистский роман о вырождении с русской традицией романа-хроники, представленной прежде всего «Захудалым родом» (1874) Н. С. Лескова, создает такой художественный мир, где дегенеративный процесс предполагает неустанное прогрессирование и вместе с тем проникнутое чувством клаустрофобии оцепенение. В «Господах Головлевых» приемы натурализма гипертрофируются до такой степени, что нарратив о вырождении оборачивается навязчивым повторением одной и той же структуры. Тенденция к бессюжетности, свойственная некоторым романам о вырождении, в «Господах Головлевых» достигает высшей и вместе с тем конечной точки. Последовательный отказ от категории события в изображении болезненно замкнутого мира Головлева приводит к разрыву повествовательной ткани, что делает дальнейший литературный рассказ о вырождении невозможным. Повествовательные стратегии, при помощи которых Достоевский и Мамин-Сибиряк выводят русский роман о вырождении из этого повествовательного тупика, рассматриваются отдельно в третьей части книги.
II.1. Неуловимое вырождение и всесильный нарратив. Теория вырождения во французской психиатрии (Морель, Маньян)
В цикле романов Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893) понятие «вырождение» выступает не только и не столько сциентистской метафорой описываемого упадка Второй империи во Франции, сколько отсылкой к конкретной научной теории[32]. Независимо от уровня научной ценности, признаваемой за созданной писателем инсценировкой дегенеративных процессов (гл. III.1), медицинские основы цикла несомненны: реализованная в «Ругон-Маккарах» эпистемологическая модель dégénérescence восходит к идеям французского психиатра Бенедикта Огюстена Мореля, автора «Трактата о телесной, умственной и нравственной дегенерации человеческого вида» («Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine», 1857)[33]. Успех этого трактата привел к возникновению биологической психиатрии, во второй половине XIX века распространившейся по всей Европе. В основе такой психиатрии лежит теория вырождения[34].
Морель мыслит в русле психиатрии XIX века, сложившейся самое позднее с приходом Вильгельма Гризингера и имевшей неврологическую направленность. Французский психиатр тоже считает патологические перемены в восприятии, мышлении и поведении органически обусловленными изменениями, вызванными ослаблением нервной системы[35]. Подлинное новаторство Мореля состоит в том, что он стал рассматривать психические нарушения в рамках причинно-временной схемы, интерпретирующей причину и ход развития подобных патологий на основе разработанной Проспером Люка теории наследственности («Философский и физиологический трактат о естественной наследственности» [ «Traité philosophique et physiologique de l’hérédité naturelle»], 1847–1850)[36]. В морелевской теории вырождения наследственность, которой еще в первой половине XIX века отводили – в частности, Гризингер – скорее второстепенную роль в этиологии психических расстройств, превращается в главную причину психозов и неврозов[37].
Теория Мореля основана на свойственном XIX столетию доэкпериментальном, априорном представлении о наследственности, определявшемся скорее метафизическим умозрением и комбинаторными «фантазиями»[38], нежели эмпирической доказательностью[39]. Вплоть до начала XX века, когда было заново открыто учение о наследственности Георга Менделя, заложившего основы современной генетики, не существовало ни одного сколь-нибудь удовлетворительного ответа на вопрос о природе наследственности, о том, чтó именно и как наследуется. Вытекающее отсюда расплывчатое представление о механизмах наследования резко контрастирует с эвристически-диагностическим применением понятия наследственности в науках о жизни. В «Трактате» Проспера Люка представлен чрезвычайно широкий взгляд на процессы наследования признаков, охватывающий физические, психические, а также моральные характеристики; при этом выделяются как устойчивые признаки, гарантирующие выживание вида, так и неустойчивые, объясняющие появление индивидуальных вариаций. По мнению Люка, природа обладает творческой силой, способной разрывать детерминистскую цепь имитативной hérédité путем создания различий (innéité)[40].
Именно на выдвинутую Люка концепцию hérédité dissimilaire опирается Морель[41], утверждая, что постулированная им самим возможность передачи приобретенных патологических изменений индивидуальной «внутренней среды» (milieu intérieur) последующим поколениям означает не прямую наследуемость конкретной болезни, а осуществляемую на протяжении поколений передачу общего ослабленного состояния центральной нервной системы, так называемого «нервного диатеза», органической предрасположенности к нервным заболеваниям[42]. Вследствие постоянной трансформации и аккумуляции развитие этого диатеза носит прогрессирующий, изменчивый характер, выливаясь в разнообразные и все более тяжелые психофизические расстройства, а также отклонения в социальном поведении, чтобы в конце концов, на протяжении считаных поколений привести к угасанию пораженного рода[43].
С одной стороны, морелевская теория вырождения принадлежит к ламаркистской традиции наследования приобретенных признаков, обеспечивающей предпосылку для аргументированного обоснования накопительного, прогрессирующего характера дегенеративных процессов[44]. С другой стороны, Морель отчасти разделяет преобладавшую в тогдашней французской биологии концепцию неизменности видов Кювье, в рамках которой изменчивость – вопреки дарвинистской интерпретации – считается негативным для стабильности и выживания вида фактором[45]. Морель прослеживает историю вырождения вплоть до момента грехопадения, в котором усматривает первое «болезненное отклонение от нормального человеческого типа»[46]. Отклонения от «„type primitif“, несшего в себе черты божественного образа и подобия в наиболее чистом виде ‹…› составляют два главных направления, ведущих к появлению двух совершенно различных между собой человеческих разновидностей: естественных вариаций человеческого рода, нормальных расовых групп, а внутри них – тех ненормальных состояний, которые Морель называет проявлениями дегенерации»[47].
Детерминистско-телеологический «закон Мореля», важнейшими элементами которого являются идея сдвоенного наследования телесных и нравственных недугов[48] и представление о прогрессирующем характере вырождения, выстраивает генеалогическую градацию, согласно которой все более серьезные патологии – от легких невротических расстройств до врожденного «идиотизма» – приводят к «вымиранию семьи» на протяжении от трех до пяти поколений[49]. Столь стремительное вырождение вызвано разрушительным взаимодействием эндогенных и экзогенных факторов: губительное влияние среды закрепляется в наследственности конкретной семьи и ослабляет нервную систему до такой степени, что она не может больше сопротивляться ни последующим экзогенным «нападениям», ни эндогенному воздействию изменчивого нервного диатеза[50].
После Мореля концепция вырождения становится универсальным этиологическим и диагностическим инструментом французской психиатрии[51]. В трудах главного врача парижской психиатрической больницы святой Анны Валантена Маньяна, которым предшествовали работы Жак-Жозефа Моро де Тура («La psychologie morbide dans ses rapports avec la philosophie de l’histoire», 1859), Анри Леграна дю Соля («La folie héréditaire», 1873) и других психиатров, теория вырождения подверглась значительной систематизации и вместе с тем претерпела эволюционистский сдвиг[52]. Отвергнув морелевскую религиозную концепцию type primitif, Маньян рассматривает человечество в контексте позитивистской эволюционной мысли, предполагающей процесс постоянного «совершенствования» по направлению к высшим формам дифференциации: таким образом, «идеальный тип» надлежит искать не в начале, а в конце истории вида[53]. Вырождение Маньян считает «прогрессивным движением», противоположным движению эволюционному, поскольку вырождение ведет «от более совершенного состояния к менее совершенному»[54]. При этом речь не идет о «регрессе» или «замедлении с точки зрения эволюции», так как это означало бы «возврат к состоянию, почитаемому нормальным»[55]: вырождение – это скорее патологическое новообразование, «нечто качественно иное, болезненное состояние без возможности восстановления»[56]. Вследствие этого дегенерат «отличается органически ослабленной сопротивляемостью», т. е. необходимыми для «наследственной борьбы за выживание» биологическими предпосылками он обладает лишь частично[57]. Это выражается, в частности, в принципиальной неспособности дегенерата – в отличие от «здорового цивилизованного человека» – сдерживать свои инстинкты посредством «разумной воли»[58]. Как и Морель, Маньян тоже приписывает вырождению каузально-телеологический характер, в силу которого «прогрессивность» нарушений и пороков развития, как правило, оказывается необратимой и в конечном итоге приводит к «бесплодию»[59].
На основе этой эволюционистской объяснительной модели Маньян выделяет четыре группы дегенератов, при всех различиях образующих «общее семейство»[60]: это «идиоты», ведущие «чисто растительную жизнь» и лишенные «способности сдерживать вызываемые чувственными раздражителями побуждения»[61]; «имбецилы, в некоторой степени поддающиеся воспитанию, однако не способные заботиться о себе самостоятельно из‐за слабоумия и неразвитой способности к суждению; дебилы, способные, несмотря на ограниченные возможности, при определенных обстоятельствах устроиться в жизни; и, наконец, неуравновешенные, высший класс дегенератов, обладающие неустойчивой психикой и демонстрирующие интеллектуальные и моральные изъяны, подчас в сочетании с блестящими способностями»[62].
Маньян считает дегенерацию явлением, не имеющим социальных ограничений и угрожающим современной цивилизации в целом; вырождение может поразить «ученого, замечательного чиновника, великого художника, математика, политика, талантливого государственного деятеля, проявляясь в форме вопиющих нравственных изъянов, причудливых наклонностей, странного и беспорядочного образа жизни»[63]. Кроме того, заметное расширение границ вырождения в интерпретации Маньяна выражается в распространении морелевского перечня телесных, умственных и нравственных стигматов, по которым можно узнать дегенерата:
Наследственные дегенераты[64], так сказать, с самого начала несут на себе клеймо: характерные телесные и душевные стигматы. С раннего возраста, иногда уже с четырех-пяти лет, когда еще не приходится говорить о последствиях неправильного воспитания, у больных могут проявиться навязчивые состояния, болезненные влечения, задержки развития, интеллектуальные и моральные отклонения, странности, имеющие характерную природу и, без сомнения, позволяющие отвести их носителям особое место[65].
Как и Морель, Маньян тоже считает, что телесные стигматы сопутствуют душевным, свидетельствуя о нарушениях развития и функционирования нервной системы[66]. Это определение соматических признаков вырождения, восходящее к старой физиогномической традиции, обеспечивает отклонениям очевидный характер в обход эмпирической верифицируемости, приписывая физическим аномалиям функцию «наглядных доказательств»[67].
Однако Маньян придает большее значение душевным стигматам дегенерата, общим знаменателем которых выступает «дисгармония, неуравновешенность душевной жизни»[68]: дегенеративное состояние представляет собой общее функциональное нарушение всего «нервного механизма», влекущее за собой «общую нестабильность»[69]. Эту преднамеренно не уточняемую déséquilibration Маньян понимает как свойственное дегенерату патологическое «состояние» (état), которое существенно отличает его от человека «нормального», так как последствия этого «состояния» намного серьезнее проявлений морелевского «нервного диатеза»: это уже не предрасположенность как нечто потенциальное, а «своего рода постоянный причинный фон, исходя из которого может развиться ряд процессов, ряд эпизодов, которые как раз и будут болезнью»[70]. Это «неизменное»[71] (непрекращающееся) состояние обладает «безграничной способностью интеграции»[72], позволяющей подвести под теорию вырождения не только почти любые душевные и нервные заболевания (от легких функциональных до тяжелых органических), но и ряд форм девиантного поведения, таких как преступность и проституция[73]. Дегенеративное состояние – это «ненормальный цоколь»[74], на котором в любой момент могут возникнуть какие угодно syndromes épisodiques: число синдромов, этих «разных смен платья, в которые переоблачается один и тот же больной – дегенерат», «бесконечно»[75]. Пауль Юлиус Мёбиус, издатель маньяновских «Лекций по психиатрии», перечисляет во введении следующие патологии:
1) Болезненное вопрошание, болезненное мудрствование. Болезненная склонность к сомнениям (folie du doute), встречающаяся или сама по себе, или в сочетании с боязнью прикосновений (délire du toucher). 2) Боязнь острых предметов (айхмофобия), разновидность боязни прикосновений: иглы и любые острые предметы внушают больному страх. 3) Агорафобия, клаустрофобия, топофобия. Последняя представляет собой страх определенных мест. 4) Дипсомания. 5) Ситиомания, непреодолимая потребность принимать пищу. Больные все время едят. 6) Пиромания, навязчивые фантазии о совершении поджога или навязчивая страсть к поджигательству. 7) Пирофобия, беспричинная боязнь огня. 8) Клептомания. 9) Клептофобия, беспричинный страх больного что-либо украсть или беспочвенные опасения, будто он совершил кражу. 10) Ониомания, страсть к совершению покупок. 11) Игромания. 12) Навязчивые идеи, подталкивающие к убийству. 13) Влечение к самоубийству. ‹…›. 14) Ономатомания ‹…›. 15) Арифмомания, навязчивый счет или приписывание отдельным словам зловещего смысла. 16) Зоофиломания, болезненная любовь к животным. 17) Половые извращения, носящие характер одержимости. 18) Абулия, не обыкновенное слабоволие, а неспособность исполнить желаемое из‐за мнимого противодействия некоей внешней силы, сопровождаемая чувством страха[76].
В последней трети XIX века концепция вырождения, благодаря своему безграничному полиморфизму и этиологической пластичности, превратилась в модель интерпретации мира, создание которой стало реакцией европейских культур на страх перед наступлением аномии, питаемый представлением о пугающей «изнанке прогресса»[77]. В теории вырождения с самого начала присутствует антимодернистское социокультурное измерение: уже Морель, оглядываясь на Руссо, объясняет возникновение дегенеративных феноменов влиянием «неестественных» социальных структур XIX века[78], общественными процессами модернизации[79]. Маньян говорит в связи с этим об «эксцессах» современной цивилизации как о первопричине дегенерации[80]. Теория вырождения обещает представить проявления социальной дезинтеграции чем-то однозначным и очевидным (не в последнюю очередь при помощи подробных перечней стигматов) и, таким образом, «защищает общество»[81].
В этом контексте Юрген Линк называет концепцию вырождения «протонормалистской (protonormalistisch)» реакцией на «страх перед денормализацией (Denormalisierung)», возникающий в XIX столетии из‐за размывания границ между нормой и отклонением[82]. Жорж Кангилем связывает эту смену парадигмы с так называемым «принципом Бруссе», согласно которому разница между «нормальным» и «патологическим» из качественной перешла в количественную[83]. Норма становится «динамическим понятием, поскольку нормальность определяется через нормативность, т. е. через установление того, чтó следует считать нормальным»[84]. С одной стороны, теория вырождения считает переход от нормального к патологическому цепью незаметных изменений, начало которой теряется в сфере нормальности[85]; с другой стороны, – и в этом состоит протонормалистская сторона теории – дегенерат изображается как сущностно Другой, как тот, чья природа испорчена (как правило, бесповоротно) дефективной наследственностью. Таким образом, теория вырождения заново устанавливает строгую границу между нормой и отклонением, в то же время размывая ее слишком широким пониманием патологии[86].
Действенность концепции вырождения во второй половине XIX века – и как медицинской теории, и как социально– и культурно-критического дискурса – можно понять лишь с учетом ее нарративного аспекта. Нарративный потенциал дегенерации – это не только и не столько структурная предпосылка для ее художественного освоения в натурализме, сколько неотъемлемая центральная составляющая самой психиатрической теории: «Лишь генеалогический рассказ устанавливает между явлениями значимую связь, которая вне нарративной модели осталась бы бездоказательной»[87]. Ведь теория вырождения всегда сохраняла статус умозрительной гипотезы, так как существование механизмов наследования, обеспечивающих передачу и прогрессирование приобретенных поражений, невозможно было доказать эмпирически[88].
Взаимная обусловленность знания и повествовательности делает теорию вырождения хотя и крайним, однако отнюдь не особым случаем в научном дискурсе эпохи: ее нарративность основана на «генетической мысли» (Рудольф Вирхов)[89] XIX века, т. е. на концептуализации временнóй глубины жизни, которой естественная история XVIII столетия еще не знала[90]. Эта смена парадигмы заставила науки о жизни усиленно заняться поиском структур повествовательности, наилучшим образом подходящих для выражения идей темпорализации[91]. Так, наррация составляет неотъемлемый элемент дарвиновского учения о происхождении видов, где эволюционный «сюжет» используется для придания научной убедительности эмпирически не доказуемому и не поддающемуся точной формализации знанию[92].
В медицине рубежа XVIII–XIX столетий наблюдается переход от естественно-научного, преимущественно нозологического подхода, основанного на представлении об онтологически неизменной природе болезней, к подходу клиническому, для которого важно протекание болезни во времени[93]. Из новаторского «Медико-философского трактата о душевных болезнях» («Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale», 1801) Филиппа Пинеля видно, что «акцент в семиотической практике смещается на этапы истории болезни – как своего рода знакообразующие элементы»[94]:
Трактат Пинеля ‹…› исходит из положения о бессвязном, не поддающемся интерпретации характере внешних признаков болезни в случае, когда речь идет о психических расстройствах. ‹…› Лишь история болезни позволяет в какой-то мере преодолеть и упорядочить сумбурную разрозненность отдельных проявлений[95].
Морелевская концепция вырождения радикализирует этот нарративный аспект психиатрического дискурса: отныне повествовательные приемы призваны компенсировать эмпирическую слабость теории. Таким образом, речь идет не только и не столько о ретроспективном придании знанию наглядности, сколько о самом производстве знания: идея дегенерации немыслима в отрыве от соответствующей повествовательной модели.
В рамках теории вырождения все патологические девиантные явления выступают составляющими причинно-временного парадигматического ряда, связанными между собой отношением метонимии. Внутри этого органического континуума не существует такого болезненного проявления, которое не могло бы быть дегенеративным симптомом, так как уже само включение в историю вырождения устанавливает причинность и, следовательно, создает смысл. Временнáя последовательность подразумевает здесь и причинную связь, поскольку в нарративе о вырождении воплощается принцип post hoc, ergo propter hoc, т. е. приравнивания временной последовательности к логическому следованию: одно, следующее за другим, понимается еще и как следующее из другого[96].
Теория вырождения обретает научную доказательность исключительно благодаря нарративной структуре, в которой действует линейный временной порядок, вносящий смысл в бескрайний жизненный континуум[97]. Это происходит двояким образом. С одной стороны, путем установления отправной точки дегенерации, «трещины» (fêlure) в родословной какой-либо семьи, причем поиск первого звена дегенеративной цепи, по сути, не может привести к достоверному результату ввиду многообразия рассматриваемых патологических явлений и вынужденной необходимости полагаться на рассказы самих пациентов о своих предках, редко поддающиеся проверке[98]. С другой стороны, указанный эффект достигается развитием монокаузальной схемы дегенеративного процесса, предусматривающей неизбежный конец истории – угасание семьи на протяжении считаных поколений.
Модель дегенерации как конечной истории, имеющей начало, середину и окончание, требует аукториального субъекта познания, «который, направляя взгляд в прошлое и будущее, устанавливая необходимые аналогии и используя в высшей степени спекулятивные теории о наследственности (hérédité), должен подняться над эмпирическими данными»[99]. Психиатр теперь выступает – mutatis mutandis – в роли рассказчика, который из аморфного континуума «событий», из неподатливой, понимаемой в биологико-виталистском ключе «жизни»[100] отбирает определенные элементы: «трещину в семейном организме», конкретные события и болезненные проявления в жизни пациента и его предков, – и увязывает все это в «историю», т. е. пролагает через события «смысловую линию», тем самым помещая отобранный материал в определенную перспективу[101]. Нарратив о вырождении функционирует подобно динамическому силовому полю, в котором одновременно действует, с одной стороны, линеаризация, сегментирующая повествование, гипертрофирующая его связность и «усмиряющая» хаотическую «агрессию» патологического, а с другой – принцип максимальной семантической открытости. Это сообщает нарративу чрезвычайную гибкость при описании разрозненных девиантных проявлений и компенсирует отсутствие эмпирических доказательств. Такая нарративная гибкость делает теорию вырождения нефальсифицируемой[102].
Таким образом, жанр истории болезни совершенно необходим для пояснения теории, которая сама по себе доказательств представить не может[103]. В данном случае «нарратологическому дискурсу» отдается явное методологическое преимущество перед «семиологическим дискурсом»[104]: семиотическая практика, которая основана «на описательной модели, предполагающей наличие дискретной патологической сущности со специфической этиологией, равно как и специфическим протеканием и результатом», и понимающей болезнь как «особую группу клинических признаков»[105], оказывается здесь недостаточной. На смену «визуально-семиотической деятельности», выстраиванию «клинической картины» приходит теперь «нарратологическая» модель, направленная на «выразимое словами и носящее временной характер» и нацеленная на «создание клинической „истории“»[106].
На примере истории болезни «jeune imbécile Joseph…» [молодого имбецила Жозефа] Марк Фёкинг показал, каким образом эти нарративные операции функционируют у Мореля[107]. Морель рассматривает «слабоумие» Жозефа не как самостоятельную болезнь, а как конечную точку, как последний – поскольку приведший к бесплодию пациента – патологический эпизод семейной истории вырождения, начало которой Морель усматривает в пьянстве прадеда. Впрочем, такие временны´е рамки вырождения представляются всего лишь нарративной установкой, поскольку неочевидно, почему нервный диатез начинается именно с прадеда, а не с более отдаленного предка[108]. Диахронический взгляд вглубь семейной истории «доказывает» предусматриваемое теорией прогрессивное, изменчивое развитие дегенеративного процесса: все «странности» потомков прадеда – dépravation, abrutissement moral, accès maniaques, tendances hypocondriaques, tendances homicides, stupidité[109] и т. д. – Морель интерпретирует как проявления потомственного нервного диатеза; затем они подводятся «под не зависящую от наблюдений эпистемологическую генеалогическую схему, позволяющую отличать случайные факты от детерминированных»[110].
Итак, с целью сделать теорию вырождения правдоподобной Морель задействует – разумеется, бессознательно, но совершенно явным образом – когнитивные, эпистемологические (в самом широком смысле) возможности повествования[111]. Повествовательная связность и замкнутость нарратива о вырождении позволяют упростить совокупность патологических явлений, тем самым преодолев их внутренне случайный характер. Уже упомянутые приемы: установление причинных связей путем простого включения различных патологий в нарративную синтагму и завершение нарратива неизбежным концом дегенерации, наступающим на протяжении считаных поколений, – обеспечивают «обнадеживающую» нормализацию патологического, которое тем самым лишается своей хаотической, непостижимой разорванности[112].
Однако это обуздание изменчивой природы вырождения становится возможным главным образом благодаря тому обстоятельству, что дегенерация не только удовлетворяет минимальным критериям нарратива, представляя собой репрезентацию цепи событий или «изменение некоей исходной ситуации» во времени[113], но еще и является базовой образцовой схемой, допускающей изложение в бесчисленном множестве вариаций. Дегенерация в качестве masterplot[114] функционирует как устойчивая когнитивная модель, позволяющая «возводить избыток неупорядоченных эмпирических данных к типическим, легко узнаваемым формам»[115] и устанавливать логические связи благодаря одной лишь связности повествования.
Эти свойства нарратива как повествовательной модели особенно важны в трудах В. Маньяна: вследствие осуществленных им расширения и обобщения теории, о которых говорилось выше, появляется минимальный общий знаменатель, позволяющий причислить к проявлениям дегенерации неврозы, психозы и девиантное поведение – «неуравновешенность душевной жизни»[116] человека. Уже сама эта дисгармония толкуется Маньяном как «однозначный» симптом состояния, претерпевающего непрерывные превращения: «неустойчивость» характерна как для дегенерата, так и для дегенерации. Теперь принципиальный полиморфизм вырождения выражается уже не в трансформации из поколения в поколение, а в самом индивиде: на разных этапах жизни дегенерация принимает форму различных патологий, представляющих собой «эпизоды» одной и той же «истории»[117].
В написанных Маньяном историях болезней дегенерация обеспечивает широкий набор сюжетных вариаций, главная роль в которых принадлежит нестабильности. На уровне симптоматики это проявляется – независимо от конкретной болезни, в которую непосредственно вылилась дегенерация, – в импульсивности, скачкообразном и непредсказуемом характере припадков[118]. Неуправляемый характер отклонений[119], неподвластных воле больного, подразумевает в первую очередь бессмысленность и бесцельность навязчивых действий и идей, представляющих собой напрасную трату энергии[120]. Отсутствие у действий целенаправленности отличает дегенерата от «нормального» человека, способного оптимально распределять свои силы. Дегенерация предстает энтропической, изменчивой силой, внезапные и немотивированные превращения[121] которой составляют полную противоположность процессу постепенного развития, характерному для эпохи прогресса[122].
Достижение осмысленной связности и «логическое» обуздание этого хаоса первобытных инстинктов становятся возможны исключительно благодаря повествовательной схеме, позволяющей очертить смысловой горизонт путем повторения одного и того же. Почти безграничному разнообразию симптомов противостоит однообразное постоянство накапливающихся историй болезней, похожих между собой с точки зрения семантики, структуры и языка описания. На парадигматическом уровне изображаемые феномены утрачивают свой пугающий полиморфизм в тот момент, когда оказываются истолкованы как симптомы наследственно обусловленного вырождения. На синтагматическом уровне нарративному обузданию дегенерации способствуют повторяющиеся элементы, такие как последовательность структурных сегментов (диагноз, наличие патологий у родителей и других родственников, изображение дегенеративного процесса как цепи синдромов в порядке появления, информация о лечении и указание на дегенеративное потомство) и топосы[123]. Повторяя одну и ту же (интерпретационную) схему, авторы историй болезней создают нарратив, позволяющий выводить одну и ту же смысловую линию из безграничной референциальности. Примечательно, что эта смысловая линия проявляется также тогда, когда остается невидимой, т. е. в промежутках, когда больной – ввиду скачкообразного течения болезни – кажется нормальным[124]. Дегенерация не исчерпывается патологическими проявлениями. Ее суть неизбежно остается смутной и неуловимой, так как наследуются не те или иные патологии, а само вырождение[125].
Ввиду своей детерминистской предсказуемости нарратив о вырождении, каким он предстает в написанных Маньяном историях болезней, обладает низким уровнем событийности, так как частые изменения состояния, неожиданные и необъяснимые для самого больного, в глазах психиатра-интерпретатора являются всего лишь этапами одного и того же дегенеративного процесса и, соответственно, не представляют собой существенных перемен. Если обратиться к выдвинутому Вольфом Шмидом понятию события[126], то можно увидеть, что описанные у Маньяна происшествия не удовлетворяют критериям «непредсказуемости» и «неповторяемости», которые, наряду с другими условиями, определяют уровень событийности того или иного изменения[127].
Впрочем, тексты о вырождении оказываются бессобытийными и в более широком смысле. Нарратив о вырождении знает лишь одно настоящее событие – начало самой дегенерации, выступающее «скандальным» отклонением от «нормального» человеческого типа, т. е. пересечением антропологической границы. Согласно данному Юрием Лотманом семиотическому определению события[128], событие (происшествие) – это «значимое уклонение от нормы»[129], «пересечение границы запрета»[130] между разными семантическими полями. Однако в нарративе о вырождении «трещина» в семейной наследственности фигурирует уже не только как начало рассказа, но и как своего рода протособытие, перемещающее пораженную семью через границу между семантическими полями нормального и патологического[131]. Это протособытие, аналептически изложенное в историях болезней, в свою очередь, создает замкнутый космос дегенерации, «запрещающую границу» которого больше нельзя пересечь: протагонисты отдельных историй болезней «рождаются» в предзаданный нарративный мир вырождения, откуда нет выхода. Их метаморфозы вследствие тех или иных новых патологий уже не представляют собой повторного пересечения границы, а лишь подтверждают неизменное как с медицинской, так и с семиотической точки зрения состояние (état). Поэтому тексты о вырождении – в терминологии Лотмана – это «бессюжетные» тексты, моделирующие замкнутый мир, незыблемое устройство которого подтверждается снова и снова[132].
В маньяновских историях болезней может показаться странным тот удивительный факт, что в них отсутствуют существенные составляющие нарратива о вырождении, такие как начало, «трещина» в «семейном организме», а главное – прогрессирующее развитие вырождения, качественное нарастание патологий из поколения в поколение. Скупые упоминания дегенеративных симптомов у родителей[133], а иногда даже лишь у более или менее близких родственников обозначают пунктирную линию наследственности, начало которой остается невыясненным, а развитие крайне редко носит прогрессирующий характер; как правило, все патологии рассматриваются как равнозначные[134]. Анализы Маньяна – это портреты единичных, пребывающих в постоянном превращении «нестабильных сущностей», предполагающие, однако не изображающие incrementum дегенерации несмотря на необходимость представить «доказательства» вырождения. Однако этот классический circulus vitiosus отнюдь не опровергает теорию, а скорее раскрывает сущность дегенерации как (выражаясь языком Фуко) объективной трансценденталии: принципа, предпосланного феноменологическим фактам как условие их возможности, однако при этом недоступного позитивному познанию. Позитивистская наука маскировала эту характерную для эпистемы XIX века апорическую дихотомию эмпирии и глубинной метафизики[135], стремясь представлять эти трансценденталии как нечто такое, что можно постичь из эмпирического наблюдения явлений.
II.2. Эпическая линейность, разрыв наррации и литературный модернизм. Роман о вырождении
«Примером семейной дегенерации, обнаруживающим влияние теории Мореля, служит цикл романов Золя о Ругон-Маккарах»[136]. Это высказывание Эмиля Крепелина, содержащееся в его новаторском учебнике психиатрии, свидетельствует о сильном взаимопроникновении науки и литературы в дискурсе о вырождении. Конечно, использование художественного романного цикла в качестве иллюстрации морелевского учения не лишено уничижительных коннотаций, поскольку Крепелин отвергал детерминистский «мортализм» и «простую закономерность»[137] Мореля, выступая за более сложное, менее схематичное понимание механизмов вырождения. Вместе с тем такое соотнесение науки и литературы указывает на принципиальную возможность перевода нарративной модели дегенерации в художественные категории, ставшую основой возникновения романов о вырождении[138] в европейских литературах конца XIX века[139]. Не в последнюю очередь эта переводимость обеспечивается заключенным в дискурсе о вырождении «колоссальным фикциональным „потенциалом“»[140], который в максимально «эпической» форме раскрывает семейная эпопея Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893), «родоначальница» текстов о вырождении[141].
Генеалогический императив[142] семейного романа – т. е. связь линейного повествования с мышлением в категориях причины и следствия, истока и протекания – в романе о вырождении смещается в сторону биологизма под влиянием новейших медико-психиатрических знаний о наследственности и вырождении[143]. Однако роман о вырождении определяется не только на содержательном уровне, т. е. не только как текст о биологически мотивированном семейном упадке. В таком романе наблюдается еще и повествовательный синтаксис, опирающийся на вышеописанные нарративные особенности научной теории вырождения, однако при этом также укорененный в эпистемологической повествовательной системе литературного натурализма. Ведь ранние романы о вырождении – романный цикл Золя и его европейские «последователи» 1880‐х и 1890‐х годов – представляют собой как артикуляции, так и конститутивные элементы этой повествовательной системы.
Несмотря на национально-филологическую специфику, в нарративной структуре натуралистических повествовательных произведений можно выделить базовые структурные элементы, играющие важнейшую роль в определении повествовательного синтаксиса романа о вырождении[144]. В самом общем смысле литература натурализма моделирует такой художественный мир, в котором воспринимаемая действительность представляет собой лишь уровень манифестации по отношению к изначальному уровню биологического обоснования. Эти произведения исходят из представления о «витальной силе»[145], которая предопределяет все человеческие поступки и порождает среду, «получающую от изначального мира себе на долю временный характер»[146]. «Научные» притязания натуралистической литературы состоят в придании этому «изначальному миру» нарративной формы путем причинно-временной линеаризации. Натурализм берет на вооружение такие бионарративы, как наследственность, вырождение или борьба за существование, разработанные тогдашней наукой для концептуализации (опять-таки выражаясь языком Фуко) объективной трансценденталии «жизнь»[147], и организует структуру текста вокруг этой биологически определяемой оси[148].
В результате натуралистический текст расщепляется на разные уровни повествования: основополагающую, однородную базовую схему, воспроизводящую детерминистские «законы природы», – и повествовательный дискурс, раскрывающий многообразные проявления этого фундаментального «закона» на уровне рассказываемой истории[149]. Такая базовая структура свойственна и роману о вырождении: в данном случае диахроническая логика дегенеративной наследственности определяет как отбор событийных моментов для создания истории, так и придание им формы линейной временнóй последовательности, которой – согласно нарратологической модели «нарративного конституирования»[150] – обусловливается трансформация истории в повествование в любом повествовательном произведении. Роман о вырождении превращает аморфную совокупность носящих естественный, инстинктивный характер событий в эпическую смысловую линию, каузальность которой получает статус детерминистской закономерности[151].
Такая эпистемологическая базовая структура натуралистических романов о вырождении напоминает уже описанную повествовательную модель дегенерации в психиатрическом дискурсе, которая выполняет структурирующую функцию «усмирения» «буйного» патологического начала и обретает нарративную реализацию в историях болезней (гл. II.1). Однако у романов о вырождении есть и собственное диегетическое измерение, благодаря которому возможно многообразное варьирование нарративной базовой схемы. Этим они отличаются от психиатрических анализов, в которых научная достоверность гарантируется (навязчивым) повторением одной и той же повествовательной схемы. При этом наблюдается широкий спектр повествовательных возможностей, представляющий собой континуум между двумя полюсами: с одной стороны, приверженность эпической линейности закономерным образом приводит masterplot вырождения к разрыву наррации, обусловленному редукцией событийности; с другой стороны, роман о вырождении позволяет патологической девиации «просочиться» на поверхность текста, так что инсценировка все более сильных нарративных трансгрессий подрывает замкнутую форму повествовательного образца.
Как и в психиатрическом базовом нарративе, в романе о вырождении биологическая граница между нормой и патологией составляет центральную семантическую границу, а именно «трещину» (fêlure) в наследственности пораженной семьи. В семейном эпосе Золя функция трещины приписывается нервному расстройству Аделаиды Фук, «прародительницы» Ругон-Маккаров[152]. Вместе с тем эта начальная точка дегенерации представляет собой явную нарративную установку, так как с точки зрения науки о наследственности совершенно не очевидно, что «тетя Дида» должна считаться носительницей первого патологического отклонения в семье: еще «ее отец умер в сумасшедшем доме»[153]. Золя не пытается скрыть это противоречие, а скорее отрицает дискретность семьи, моделируя «начало без начала», «становление и гибель под знаком вечного возвращения дикого бытия»[154] жизни, нарративное обуздание которого, перенятое у науки, предстает во всей своей противоречивости[155].
Этой нарративной установкой обусловлена структурная необходимость в романе о вырождении аналептического повествования, знакомящего с отправной точкой семейной патологии в интра– или додиегетической форме. Как и в психиатрических историях болезней, «трещина» выступает протособытием, запускающим распространение болезненных отклонений и создающим фиктивный мир, где уже невозможно повторное пересечение границы между нормой и патологией. Поскольку действие романа о вырождении разворачивается согласно детерминистской схеме накопления патологий и прогрессирующей дегенерации, возможность изменения состояния героя-дегенерата оказывается под сомнением. «Перемещение персонажа через границу семантического поля», «значимое уклонение от нормы»[156], в котором Ю. Лотман усматривает суть нарративного события, в тексте о вырождении возможно лишь с оговорками. Прогрессирующее развитие фиктивного мира подразумевает здесь не какие-либо событийные превращения, а лишь постоянное подтверждение биологического порядка вещей. Порядок этот нередко отражается в дихотомической, антагонистической системе персонажей, в рамках которой вырождающимся, слабовольным героям противопоставлены здоровые и деятельные; тем самым оппозиция нормы и патологии приобретает наглядный характер[157].
Поэтому сюжетосложение многих романов о вырождении заключается в парадигматическом нанизывании все более тяжких патологических рецидивов, утрачивающих событийность по мере прогрессирования дегенерации[158]. Подобный бессобытийный застой приводит к разрыву нарративной ткани. Отрицательный телеологизм нередко влечет за собой все большее снижение «способности быть рассказанным» (Erzählbarkeit), так как каждый новый эпизод растянутой на несколько поколений истории упадка предстает, невзирая на изображение тех или иных событий, повторением одного и того же сюжетного образца. По мере неумолимого развития вырождения фиктивный мир все больше застывает в фаталистической неизменности, о которой можно поведать все меньше и меньше. Этот тип романа о вырождении отказывается от острого сюжетного драматизма в пользу «поэтики повтора»[159], которая описывает жизнь как однообразное, банальное повторение одного и того же, подчеркивая тем самым ее неизменность и предсказуемость. Такова, в частности, структура романов «Западня» («L’Assomoir», 1877) Золя, «Дряхлеющий век» («Haabløse Slægter», 1880/1884) Германа Банга и «Семья Малаволья» («I Malavoglia», 1881) Джованни Верги[160].
Так, внебрачная связь Жервезы Купо с Лантье приводит не к драматическому сюжетному повороту в традиционном смысле, а к «банальному» любовному треугольнику, который, хотя все с ним мирятся, одновременно являет собой очередной этап прогрессирующей, неумолимой деградации героини. Как и натуралистический протагонист в целом, она не сознает безвыходности своего положения и машинально движется навстречу гибели, на которую читателю намекают с самого начала, причем дегенеративный процесс, ведущий к пьянству, одиночеству, психофизическому упадку и отупению, сопровождается все большим измельчанием и запустением жизненного пространства[161].
Аналогичный нарративный телеологизм последовательно проводится и в сербском романе о вырождении «Дурная кровь» («Nečista krv», 1910) Боры Станковича; целенаправленный ход дегенерации выливается в своего рода вечное настоящее, где вырождение предстает длящимся состоянием застоя[162]. История материального, социального и физического упадка старинного тюркизированного рода, разворачивающаяся в южносербском городе Вране на историческом фоне постепенного ухода Османской империи с Балкан, складывается из нагнетаемого повторения неизменной схемы дегенерации. Параллельно деградации героини, Софки, идет «на спад» и сама повествовательная форма, оборачиваясь разрывом наррации. Это проявляется в изменении соотношения между повествовательным временем и временем повествования, сжатием и растяжением. За кульминационными сценами романа, которые связаны со свадьбой Софки (ритуальное омовение в хаммаме, гротескное церковное венчание и оргиастическое празднество) и которым присуще выраженное нарративное растяжение, следуют все более короткие главы, отмеченные все более сжатым повествованием и все меньшим уровнем событийности, а финальная сцена – в которой отец Софки наносит оскорбление ее сербскому мужу-простолюдину, что и приводит к окончательной катастрофе, – оказывается заметно короче всех предшествующих кульминационных эпизодов. В последних трех главах романа временны´е координаты растворяются в неопределенном континууме, который соответствует восприятию времени самой Софкой, проводящей дни между буйными выходками мужа и апатией. В последней главе, начинающейся словами «И ничего не происходит»[163], грамматическое повествовательное время сменяется с прошедшего на аорист, превращая время повествования в вечное настоящее. У ожидания смерти, в котором живет Софка, нет фикционального конца, отчего безысходность ее дегенеративного состояния усиливается еще больше. Похожее сжатие повествовательного темпа наблюдается и в романе «Нильс Люне» («Niels Lyhne», 1880) Йенса Петера Якобсена, причем рассказ о последних событиях в жизни героя: о свадьбе, рождении сына, безвременной кончине жены и ребенка, участии в войне и, наконец, смерти, – становится все более небрежным.
Такой отказ от категории события чрезвычайно важен для русского романа о вырождении и характерен для него с самого начала. Наиболее последовательно этот повествовательный прием воплощен в «Господах Головлевых» (1875–1880) М. Е. Салтыкова-Щедрина, хронологически первом русском романе о вырождении. Как будет показано в главе II.4, Салтыков-Щедрин моделирует поместье семьи Головлевых как замкнутое, вселяющее чувство клаустрофобии пространство, как застывший мир, где прогрессирующее развитие дегенеративного процесса оборачивается навязчивым повторением одного и того же. Захваченные неудержимым процессом психофизического разложения, символизирующим вымирание целого социального класса – поместного дворянства, Головлевы бессильны изменить свое состояние.
В отличие от редукции событийности во французском натурализме, которую следует рассматривать скорее в контексте флоберовской традиции[164], в романе Салтыкова-Щедрина происходит явный разрыв с русской реалистической традицией событийного повествования. Так, в произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского структурообразующее событие инсценируется как «прозрение» или «просветление», т. е. как «ментальная перипетия, как когнитивный, душевный или нравственный переворот»[165]. Отказ Салтыкова-Щедрина как от реалистической модели мира, допускающей способность человека к глубоким внутренним переменам, так и от реалистической поэтики события, в контексте русской литературы оказывается предвосхищением модернистского повествования, возможности которого раскроются сполна лишь в прозе Чехова.
Одной из особенностей романа о вырождении является возможность по-разному реализовывать базовую схему предопределенного упадка. Некоторые тексты о вырождении облекают ее в форму не вышеописанного нарративного разрыва, а все большего нагромождения трансгрессивных событий, скандальных поступков, обусловленных девиантным поведением ненормального персонажа[166]. Впрочем, столь высокая возможность дегенерации раскрываться в повествовании не означает роста уровня событийности, так как – что уже разъяснялось – с точки зрения текста в целом подобные трансгрессивные эпизоды, ввиду своей повторяемости и предсказуемости, не влекут за собой событийного изменения состояния персонажей. Ярче всего это протеическое многообразие дегенеративных поступков и персонажей проявляется в цикле «Ругон-Маккары», рисующем подробнейшую картину вырождения на материале пяти поколений и самых разных патологий. «Дикое бытие»[167] патологического, «бушующее» на микроструктурном уровне отдельных романов, подчинено контролю макроструктурной наследственной линии, занимающей более высокое, аукториальное положение[168].
Проект генеалогического изображения целого наследственного ряда требует гетеродиегетического, аукториального рассказчика, который, подобно врачу, распознает и истолковывает проявляющиеся в фиктивном мире признаки вырождения; признаки, которых сами действующие лица обычно не замечают[169]. Лишь в последнем романе цикла, «Доктор Паскаль» («Le Docteur Pascal», 1893), эту двойную структуру, складывающуюся из микро– и макроструктурного уровней, нарушает появление персонажа нового типа – врача и исследователя вопросов наследственности Паскаля Ругона, который на правах интрадиегетического porte-parole аукториального рассказчика[170] обобщает и интерпретирует историю вырождения собственной семьи с научной точки зрения. При этом пятая глава «Доктора Паскаля», где Паскаль Ругон объясняет своей племяннице Клотильде семейную историю Ругон-Маккаров в свете учения о наследственности на основе генеалогического древа и собранных материалов, предстает проявлением принципа mise en abyme, который заново раскрывает макроструктурную схему романного цикла с ее функцией глубинной структуры, определяющей всю совокупность разрозненных, по видимости, случайных явлений[171].
В романе о вырождении наблюдается взаимодействие между приверженностью традиционной эпической линейности, телеологически заостряемой с позиций биологического детерминизма, и расшатыванием или растворением этой линейности при помощи приемов, предвосхищающих модернистское письмо. Чем больше наррация в романе о вырождении тяготеет к повторам, чем более предсказуемой становится, тем сильнее возрастает и доля описательности: для текста о дегенерации характерно покидать временну´ю ось линейности и углубляться в пространственные меандры фрагментарной действительности, в частности в пространных описаниях, выступающих – прежде всего у Золя – моделью современного человеческого восприятия как своего рода лабиринта[172].
Это свойство романа о вырождении восходит к особой семиотической практике натурализма в целом. Представляется, что в своей программной установке на миметическую воспроизводимость действительности натурализм радикализирует семиотическую практику реализма в двояком отношении. С одной стороны, он идет еще дальше в типичной для реализма дереференциализации художественного мира[173], добиваясь «фотографической» иллюзии действительности. С другой стороны, натурализм (в известном смысле вопреки первой тенденции) продолжает реалистическую практику разрушения созданной иллюзии путем «вторжения» в нее реальности – с той, впрочем, разницей, что вторжение это оказывается «скандальным» постольку, поскольку натурализм сознательно стремится к радикальному изображению насилия, сексуальности, нищеты и т. д.
Однако вместе с тем в натуралистическом мимесисе наблюдаются специфически модернистские элементы, разительно отличающие его от мимесиса реалистического. Так, на первый взгляд может показаться, что характерная для натурализма гипертрофия descriptio, одерживающего верх над narratio, подчеркивает важность внетекстовой референции в сравнении с «романическим» началом. Но de facto достигается эффект прямо противоположный, поскольку такая гипертрофированность сообщает описаниям самостоятельный характер, заставляя действительность выглядеть случайным нагромождением атомизированных впечатлений, уже не составляющих целого. Можно было бы даже сказать, что все эти потоки реалий, упоминаемых в описаниях, а прежде всего – в характерных для натурализма каталогообразных перечислениях, кажутся чем-то реальным, чуждым фиктивному миру и в своей (неконвертируемой) настойчивости ставящим под угрозу завершенность аукториальных и эстетических порядков. Однако такому центробежному движению натуралистических текстов противодействует тенденция к пониманию действительности исключительно как проявления глубинной эпистемологической структуры, претворение которой в фиктивный мир, собственно, и составляет основную миметическую операцию натурализма.
Между этими полюсами: приверженностью принципу связного, логичного, осмысленного целого и «упадочным разложением» целостных форм[174]; телеологическим повествованием и фрагментарным описанием; неизменной нормой и протеической патологией, – роман о вырождении вырабатывает изобразительные формы, которые ставят его в промежуточное положение между реализмом и модернизмом. Если интерпретировать романы о Ругон-Маккарах как цикл о вырождении, можно увидеть парадоксальный характер литературы натурализма, которая, с одной стороны, кладет в основу наррации научный детерминизм, а с другой – допускает изображение лишь «непосредственных причин»: натуралист, утверждает Золя в статье «Экспериментальный роман» («Le roman expérimental», 1879), ищет ответа на вопрос не о том, «почему» возникает то или иное явление (ответить на который невозможно), а о том, «каким образом» оно непосредственно происходит, т. е. каковы те конкретные условия, при которых возможен определенный феномен в определенной ситуации[175].
Фундаментальная апория позитивизма, пусть и отвергающего метафизические системы, однако в конце концов разработавшего метафизику истории, отражается в натурализме, который создает повествовательные тексты в поле напряжения между трансцендентальным, телеологическим детерминизмом и тенденцией к разрушению этой монокаузальности при помощи хаотичной, фрагментарной картины действительности. Так, умножение числа таких «непосредственных» причин в романе «Западня» приводит к множественной детерминации судьбы Жервезы Купо, чье физическое, психическое и моральное вырождение выступает следствием сразу многих факторов: наследственности (предрасположенности к алкоголизму и к лени по материнской линии); среды в самом широком смысле, т. е. и плохих условий жизни в рабочем квартале, и «общественного мнения», сложившегося о Жервезе у соседей и как будто тоже влияющего на ее поступки; а также социальной дерзости героини, стремящейся выбраться из поставленных рамок жалкого существования.
Отказ Золя от характеризации персонажей путем приписывания им размышлений о своем ненормальном состоянии[176] и его приверженность научно-аукториальной нарративной точке зрения обусловлены среди прочего тем обстоятельством, что цикл о Ругон-Маккарах во многом идет вслед за учением Мореля, сосредоточенным на представителях низших социальных слоев. Лишь в ходе дискурсивной интеграции учения о неврастении в теорию вырождения (гл. IV.1) высшие (буржуазные) слои общества тоже становятся протагонистами романов о вырождении: теперь патологическое служит очерчиванию современных характеров, поскольку дегенеративный обладатель расшатанной нервной системы воплощает собой чувствительность модерна[177]. При этом повествовательная перспектива – если использовать терминологию Жерара Женетта[178] – сменяется с аукториальной нулевой фокализации на фокализацию внутреннюю: «ненормальная» психика дегенерата становится «героиней» истории, на уровне действия почти лишенной событий[179].
Такое эстетизирующее обращение полюсов «нормы» и «патологии», которое обозначилось в скандинавских романах о вырождении 1880‐х годов, в значительной степени характерно для «Будденброков» («Buddenbrooks») Томаса Манна[180]. Можно заметить, как по мере развития действия фокус изображения все больше смещается внутрь сознания персонажей, а ненормальные проявления наблюдаются скорее в сфере восприятия и мышления, нежели поступков. Вместе с тем эта беспрецедентная в немецкой литературе психологизация вырождения, финальным аккордом которой становится изображение нервной гиперчувствительности на примере Ганно Будденброка, сопровождается деаукториализацией и умышленно неоднозначной подачей научного знания, лежащего в основе нарратива. Знание это уже не исходит из аукториальной повествовательной инстанции, а содержится в преднамеренно затемненной форме – речь здесь идет о туманной «обреченности упадку» – на уровне персонажей, которые могут лишь строить предположения о применимости интерпретационной схемы нервного вырождения к истории своей семьи[181].
Все эти изменения в структуре романа о вырождении, которые в немецкой литературе происходят лишь на рубеже XIX–XX веков, когда натурализм уже начинает уходить в прошлое, с самого начала характерны для соответствующей русской литературной традиции. В этом пункте можно выделить фундаментальную отличительную черту русских текстов о вырождении: характерное для творчества Золя различение между уровнем знания рассказчика или его фиктивного porte-parole, с одной стороны, и «уровнем неведения» действующих лиц, с другой стороны, не играет здесь структурообразующей роли. Знание о дегенерации с самого начала выступает составляющей общего знания (doxa) художественного мира; иными словами, оно не навязывается этому миру извне аукториальным рассказчиком в качестве непререкаемой модели интерпретации. По этой причине русскому роману о вырождении нередко свойственна персональная повествовательная ситуация; внутренняя фокализация позволяет представить медицинское знание частью ограниченного восприятия персонажей. Так, в романе П. Д. Боборыкина «Из новых» (1887) наследственность и вырождение изображаются и интерпретируются исключительно с точки зрения больной героини (гл. IV.3). В фиктивном мире таких романов медицинское знание циркулирует в неуточненной форме и потому приводит персонажей в биологически мотивированное смятение. В «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского (1879–1880) инсценируется зараженный идеями биологизма фиктивный мир, в котором смутное представление о возможной наследственной передаче отцовской «карамазовщины» внушает братьям тревогу, заставляя их сомневаться в свободе собственной воли (гл. III.2). Такая деаукториализация медицинского знания о вырождении характерна и для «Приваловских миллионов» (1883) Д. Н. Мамина-Сибиряка. Как и Достоевский, Мамин-Сибиряк строит романный сюжет на присутствии внутри фикциональной действительности знания о вырождении, которым и пользуются персонажи, плетя интриги вокруг приваловского наследства. Обрекая эти планы на крах, писатель иронизирует над приписываемой нарративу о дегенерации перформативной силой, якобы влияющей на действительность (гл. III.3). Как будет показано, этот особый подход к формированию натуралистического мира выполняет контрдискурсивную функцию: в противоположность русской науке того времени, с энтузиазмом воспринявшей учение о наследственности и дегенерации как инструментарий диагностики проявлений социальной дезинтеграции (гл. IV.1), романы Достоевского и Мамина-Сибиряка разоблачают теорию вырождения как фиктивную, чисто спекулятивную модель интерпретации действительности.
Впрочем, наряду с таким «субверсивным» воплощением повествовательной схемы дегенерации русская литература натурализма – вслед за «Господами Головлевыми» Салтыкова-Щедрина – демонстрирует и «аффирмативную» реализацию нарратива о вырождении, подтверждающую его биологическую оправданность. В таких текстах, как «Из новых» Боборыкина и «Старый сад» (1883) И. И. Ясинского, рассказывается о крахе попыток изгладить биологически-семантическую границу между нормой и патологией, причем понимание патологического черпается из характерного для медицинского дискурса эпохи объединения дегенерации с неврастенией (гл. IV.1). Ясинский моделирует эту биологическую границу как социокультурный рубеж, отделяющий неврастеничные, прозападнически настроенные (петербургские) высшие слои от здоровых, русско-крестьянских нижних. «Слияние» с крестьянской средой, к которому стремится протагонист «Старого сада», можно истолковать как своеобразное выражение нарративной самонадеянности, состоящей в попытке заменить нарратив о вырождении нарративом о возрождении народнического толка. Крах же этих попыток связан среди прочего с критикой идеализации «мужика» и постулата о преодолимости бездны между интеллигенцией и народом, т. е. ключевых пунктов программы русских народников (гл. IV.2).
Похожую форму нарративной дерзости, за которой следует расплата, развивает и Боборыкин в романе «Из новых» (гл. IV.3). Он инсценирует ее как узурпацию власти над нарративом героиней, которая тем самым достигает уровня осознанности и рефлексии, позволяющего составить «конкуренцию» рассказчику в создании истории. Кроме того, бросается в глаза осуществляемая в романе «ремедицинизация» повествовательной модели, т. е. использование медицинского описательного языка в изображении патологических состояний героини, что необычно для ранних русских романов о вырождении. То обстоятельство, что этот опубликованный в 1887 году роман полнее всего отвечает повествовательной схеме дегенерации, объясняется соотношением внутри– и внелитературного распространения в русской культуре соответствующего нарратива. Ведь возникновение первых романов о вырождении стало реакцией на цикл Золя о Ругон-Маккарах, варьированием изначально литературной повествовательной модели, еще до того, как теория вырождения успела утвердиться в русском медицинском дискурсе, а нарратив о вырождении – приобрести статус модели культурной интерпретации. Этим также объясняется многообразие модификаций повествовательной схемы, наблюдающееся в русских романах о вырождении конца 1870‐х – начала 1880‐х годов. Боборыкин же пишет свой роман о вырождении в эпоху, когда дегенерация, наследственность и психопатология начинают превращаться в прочные составляющие российского культурного дискурса. Консолидация концепции вырождения как интердискурсивного нарратива делает возможным возвращение к изначальному повествовательному шаблону, перед тем деавтоматизированному в рамках чисто литературного ряда: лишь утверждение нарратива о дегенерации еще и в рядах внелитературных позволяет воспринять его как нечто «новое» и меняет его литературную функцию.
II.3. «On ne lit que vous en Russie». Успех Золя в России
Обзор историко-культурных и историко-литературных предпосылок для появления в конце 1870‐х – начале 1880‐х годов русского романа о вырождении был бы неполным без изображения интенсивной русской рецепции Золя в 1870‐х годах, которое и будет предпринято в дальнейшем. Выше уже говорилось, что роман о вырождении возникает как первая российская формация дискурса о вырождении в теснейшем интертекстуальном взаимодействии с теорией и практикой натурализма в творчестве Золя. Впоследствии рецепция Золя, значение которой для русской литературы невозможно переоценить, оказалась преимущественно забыта. За исключением первопроходческих работ М. К. Клемана[182] и библиографии, составленной Г. И. Лещинской[183], исследования натурализма в русистике, пусть и не раз затрагивавшие эту тему[184], никогда не были посвящены ей специально – возможно, ввиду постулированной советским литературоведением принципиальной (и априорной) независимости русской литературы от французского натурализма[185].
Популярность Золя в России, на несколько лет опередившая его успех во Франции[186], началась уже в 1872 году, когда переводы отрывков из двух первых романов цикла «Ругон-Маккары»: «Карьера Ругонов» («La Fortune des Rougon», 1871) и «Добыча» («La Curée», 1871) – были напечатаны в петербургском ежемесячнике «Вестник Европы», вслед за чем появились первые хвалебные литературно-критические статьи, в частности за авторством П. Д. Боборыкина, снискавшего себе тем самым репутацию первого русского специалиста по творчеству Золя[187]. В 1873‐м в шести разных журналах появились переводы романа «Чрево Парижа» («La Ventre de Paris»), который в том же году вышел в виде книги под названием «Брюхо Парижа». Этот роман, а также «Завоевание Плассана» («La Conquête de Plassans»), перевод которого (преимущественно сокращенный) напечатали в 1874 году все ведущие толстые журналы, сделали Золя самым читаемым в России иностранным автором. И. С. Тургенев, лично познакомившийся с Золя еще в 1872 году, писал ему в 1874‐м: «On ne lit que vous en Russie»[188]. Тургенев как никто другой содействовал раннему успеху Золя в России: живший тогда в Париже русский писатель помог французскому коллеге заключить эксклюзивный договор с либеральным журналом «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича[189], в котором Золя с 1875 по 1880 год ежемесячно публиковал свои «Парижские письма», включая статью об экспериментальном романе (гл. III.1)[190]. Кроме того, «Вестник Европы» напечатал переводы нескольких романов из цикла о Ругон-Маккарах еще до того, как французские читатели смогли прочесть их в оригинале[191].
Необычайный успех Золя в России 1870‐х годов объясняется прежде всего первоначальным убеждением левой (петербургской) интеллигенции, что в его лице она открыла социально-критического писателя. Интерес критиков и рецензентов распространялся прежде всего на политические и социальные моменты в произведениях Золя, тогда как аспекты физиологические и патологические почти не находили отклика: примечательно, что в переводах – как правило, значительно сокращенных – аспекты эти и вовсе опускались наряду с любовными линиями[192]. Так, анонимный рецензент журнала «Дело» увидел в романе «Le Ventre de Paris» «‹…› изображение самодовольной буржуазии, созданной декабрьской империей и думающей только о своем брюхе»[193]. В предисловии к переводу этого романа, вышедшему в «Отечественных записках», Алексей Плещеев завершает характеристику Золя сравнением с Бальзаком, подчеркивая принципиальную разницу политических позиций двух авторов:
Упомянувши о сходстве между Бальзаком и Золя, мы должны прибавить, что последний чужд того политического индифферентизма, которым отличался автор человеческой комедии. Он республиканец по убеждениям, и симпатии его всецело принадлежат народу ‹…›[194].
Подчеркнутое внимание к социально-политическим аспектам романов Золя сопровождается игнорированием их биологической составляющей, которой русская критика поначалу или не уделяет никакого внимания, или дает отрицательную оценку[195].
Однако в последующие годы ситуация меняется, и на первый план выдвигается обсуждение биологических моментов в творчестве Золя. При этом научную программу цикла о Ругон-Маккарах, заключающуюся в исследовании законов наследственности, оценивают по-разному. Если консервативный критик Е. М. Феоктистов обличает «шарлатанизм» Золя, якобы пропагандирующего «неясную теорию какого-то беллетристического дарвинизма»[196], которую петербургская критика приняла за чистую монету[197], то П. Д. Боборыкин оценивает концепцию научно обоснованной прозы Золя по большей части положительно, считая описанное в повествовательной форме вырождение главной темой всего цикла. В своей третьей лекции о «реальном романе во Франции», посвященной Золя, Боборыкин рисует перед русской публикой биобиблиографический портрет французского натуралиста, свидетельствующий о глубоком знании его творчества[198]. При этом русский писатель считает вырождение «тайной темой» Золя, акцентируя эту мысль в связи с «научно-художественной программой»[199] цикла о Ругон-Маккарах:
Золя задумал взять первое попавшееся семейство – полубуржуазное, полупростонародное, сложившееся в провинции, и проследить его физиологическое, общественное и нравственное развитие за целый период новейшей французской истории, заканчивающейся нашими днями. ‹…› В семействе Ругоны-Маккар, как показывает самое их двойное прозвище, текут, так сказать, два потока крови, производящих в отпрысках этой фамилии два разряда организмов: один более жизненный, сохранивший основу народного темперамента, другой уже заключающий в себе тайное худосочие, уже в корне подверженный порче, которая сказывается в различных видах вырождения. Вот это слово «вырождение» и составляет тайную мысль, тайную тему автора[200].
При этом Боборыкин подчеркивает, что программа Золя, пусть и обнаруживающая некоторую «преднамеренность», не дает оснований говорить об «априорическом положении», предопределяющем ответ на поставленные вопросы, поскольку цикл романов еще не завершен[201]. При дальнейшем обсуждении первых пяти романов цикла Боборыкин раз за разом указывает на развитие макроструктурной, научной смысловой линии, которой и приписывает основное значение[202]. Такое подчеркнутое внимание к научно-экспериментальному аспекту цикла о Ругон-Маккарах знаменательно еще и потому, что к выдвинутой Золя концепции литературы как анализа физиологических процессов Боборыкин относился, как явствует из его критических замечаний по поводу раннего произведения Золя «Тереза Ракен» («Thérèse Raquin», 1867), не слишком сочувственно[203]. В собственном литературном творчестве Боборыкин опирается на модель Золя, однако видоизменяет ее, создавая собственную форму биологического повествования (гл. IV.3)[204].
Из опубликованной в 1877 году статьи Н. К. Михайловского видно, что споры о попытках французского писателя подвести под литературу научный фундамент велись еще до выхода эссе Золя об экспериментальном романе[205]. В этой статье Михайловский, соредактор близкого к идеологии народничества журнала «Отечественные записки» и один из влиятельнейших литературных критиков своего времени, рецензирует сборник успевших на тот момент выйти «Парижских писем», в которых Золя представил русским читателям свой литературный метод. В отличие от Боборыкина, Михайловский не поддерживает аналогию, которую Золя проводил между романистами и ставящими эксперименты химиками или естествоиспытателями; не поддерживает по двум причинам. Во-первых, натуралисты не могут объяснить суть своего метода, якобы научного[206]; во-вторых, литературе как таковой в целом чужда научная точность. Поэтому программа Золя, предполагающая фотографически точное воспроизведение действительности при отказе от субъективной авторской позиции кажется Михайловскому «дикой и нелепой»[207]:
У писателей нет уверенности математиков. ‹…› В литературе есть всегда место сомнению. ‹…› Надо, следовательно, ввести человеческий элемент, который сразу расширяет задачу и делает решения столь же разнообразными, столь же бесчисленными, сколь разнообразны умы людей[208].
При этом Михайловский обращается к критике, которую Золя высказывает в «Парижских письмах» в адрес романтиков Виктора Гюго и Жорж Санд, чтобы использовать ее против самого Золя. По мнению Михайловского, литература романтизма способна осуществить то, в чем и заключается главная задача литературы: создать систему моральных и политических идеалов. А возможно это прежде всего благодаря «вмешательству» автора с его идеологическими воззрениями в рассказываемую историю[209]. Желая пояснить свою мысль, Михайловский прибегает к сравнению. Если бы перед «реалистами»[210] и «романтиками» поставили задачу написать историю на одну и ту же тему, например изобразить «мученика свободы в тюрьме», то реалисты тщательно изучили бы историческую эпоху, в которую жил этот борец за свободу, и подробно описали бы камеру и самого узника, однако не смогли бы заглянуть в его душу и передать ту «высшую Правду», ради которой он сидит за решеткой, будучи бессильны постичь его идеал свободы. Романтики же, напротив, превратили бы эту картину в «нечто глубоко потрясающее», что позволило бы читателю проникнуться чувствами борца за свободу и понять правду, ради которой тот сидит в тюрьме[211]. С этой точки зрения, заключает Михайловский, именно Гюго и Санд, а вовсе не Золя или братья Гонкуры являются настоящими «химиками» человеческой психики[212].
Текст Михайловского отмечает поворотную точку в восприятии Золя русской левой интеллигенцией, которая теперь все более отрицательно оценивает теоретические положения и романы Золя. Слава Золя (ничем не подкрепленная) как социально-критического писателя меркнет; радикальные критики обнаруживают в его творчестве все больше «цинизма» и «порнографии»[213]. Критическое отношение Золя к «романтикам» Виктору Гюго и Жорж Санд, которых он называет «идеалистами» в негативном смысле и которым противопоставляет новое, объективное искусство натурализма, не находит поддержки в радикальной печати, считавшей Гюго и Санд прогрессивными авторами огромного значения[214]. Помимо Михайловского стать на защиту французских романтиков спешит и другой авторитетный критик из «Отечественных записок», А. М. Скабичевский, посвящающий им обширную статью, цель которой, согласно настойчивому заявлению автора, заключается в «восстановлении истины»[215]. Скабичевский подчеркивает, что для русской литературы романное творчество Золя не несет в себе ничего нового, даже напротив, является чем-то устаревшим и пройденным, так как фотографический реализм натуральной школы 1840‐х годов уже успел отвергнуть сам Белинский, на первых порах его приветствовавший[216].
Из воссозданной здесь картины рецепции Золя в России видно: с натурализмом, освоившим повествовательный потенциал теории наследственности и вырождения, в России ознакомились рано и вдумчиво. Было бы опрометчиво отрицать важность биологических повествовательных схем в русской литературе той эпохи лишь на том основании, что русская литературная критика оценила их по большей части отрицательно. Как будет показано в дальнейшем, критическое отношение к французскому натурализму, которое можно обнаружить у Салтыкова-Щедрина и у Достоевского, отнюдь не противоречит литературной практике освоения и развития присущих роману о вырождении структурных и тематических особенностей. (Салтыков-Щедрин даже намеренно заостряет литературные приемы натурализма.) Открытая преемственность по отношению к семейной эпопее Золя у Мамина-Сибиряка (гл. III.3) парадоксальным образом приводит к тому, что нарратив дегенерации – при сохранении повествовательной структуры романа о вырождении – оборачивается семиотическим зиянием. Повествовательная схема вырождения не только присутствует в русской литературе 1880‐х годов, но и допускает сложные вариации (заслуживающие среди прочего внимания в сравнении с западноевропейской литературой).
II.4. Вырождение как нарративный застой. «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина
В романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875–1880), первом русском романе о вырождении, переплелись две разные литературные традиции: русского романа-хроники, представленной в первую очередь «Захудалым родом» (1874) Н. С. Лескова, и натуралистического романа о вырождении. Из объединения двух этих форм генеалогического повествования возникает мир, охваченный неумолимо прогрессирующим дегенеративным процессом и вместе с тем клаустрофобическим оцепенением. Как будет показано ниже, Салтыков-Щедрин гипертрофирует литературные приемы натурализма до такой степени, что нарратив о вырождении оборачивается навязчивым повторением одной и той же структуры, заранее предопределенной и проникнутой фаталистическим чувством неизбежности. Разоблачаемый в романе выхолощенный, оторванный от жизни язык симулякров, на котором говорят персонажи, безуспешно стремится замаскировать реальность всеобъемлющего вырождения, поразившего Головлево. Важнейшую роль в болезненно тесном головлевском мире играет особая форма интимности, характерная для натурализма в целом; ее можно назвать «принудительной близостью». Здесь не остается места чередованию близости и отстранения, этой неотъемлемой составляющей нормальных близких отношений; внутрисемейная близость преимущественно сводится к вынужденному сосуществованию бок о бок. Сравнительный анализ близости в «Господах Головлевых» и раннем произведении Золя «Тереза Ракен» («Thérèse Raquin», 1867), где такая форма интимности представлена особенно ярко, позволяет выявить тот факт, что герои романа о вырождении обладают лишь ограниченной возможностью действовать и вносить в существующую ситуацию изменения, наделенные событийным статусом.
Кроме того, в «Господах Головлевых» происходит заметное отступление от натуралистической поэтики, проявляющееся в углублении психологии персонажей, начинающих сознавать свою принадлежность к вырождающемуся роду. Психологизм в изображении героев, по мере развития дегенеративного процесса все больше постигающих всю изолганность своей жизни, составляет удивительную, хотя и неоднозначную противоположность гнетущей безысходности неудержимого психического, физического и морального вырождения, определяющего прежде всего близкородственные, семейные отношения. Вместе с тем, как будет показано, такое постижение истинной сути своей жизни, невзирая на сходство с классическим событием в литературе реализма, обладает лишь весьма относительным уровнем событийности: тенденция к бессюжетности, характерная для многих романов о вырождении, в «Господах Головлевых» достигает высшей точки.
Развитию романа о вырождении в русской литературе способствовала не только ранняя и интенсивная рецепция Золя (гл. II.3), но и преемственность первого такого русского романа, «Господ Головлевых», по отношению к отечественной литературной традиции семейной хроники. В этом контексте особенно важную роль сыграл «Захудалый род» Н. С. Лескова – непосредственный претекст романа Салтыкова-Щедрина[217]. Не прибегая к медицинской тематике натуралистического типа, лесковский роман обнаруживает повествовательную схему генеалогического «захудания», предвосхищающую некоторые приемы, свойственные и «Господам Головлевым».
Если романы С. Т. Аксакова – «Семейная хроника» (1856) и продолжающие ее «Детские годы Багрова-внука» (1858) – положили начало традиции романа-хроники, изображающей жизнь помещичьего семейства на протяжении нескольких поколений, то Лесков вводит в этот жанр мотив упадка дворянского рода[218]. Восходящей генеалогической линии Багровых, почти сплошь состоящей из светлых эпизодов (рождений, свадеб, идиллических и радостных сцен), Лесков противопоставляет череду поколений, нисходящий характер которой явствует уже из названия. Паратекстуальные элементы хроники – заглавие и эпиграф – выполняют важную пролептическую функцию в сюжетосложении, с самого начала указывая на тему упадка в истории Протозановых. В заглавии род назван «захудалым», а эпиграф – «Род проходит и род приходит, земля же вовек пребывает (Екклез. I, 4)»[219] – отсылает к вечному круговороту жизни и смерти, не делающему исключения и для знатных родов, тоже обреченных угаснуть. Важна роль пролепсиса и в основном тексте. Княжна В. П. Протозанова, от лица которой ведется рассказ, внучка главной героини романа – княгини Варвары Никаноровны, описывает события семейной истории уже из более позднего времени, и, следовательно, обладает знаниями об истории рода, сообщаемыми читателю в «аукториальных» вставках:
[Патрикей] был чтитель высоко им ценимой доблести рода, постепенное, но роковое исчезновение которой ему суждено было видеть во всеобщей захудалости потомков его влиятельной и пышной княгини. ‹…› Это был один из тех тяжелых и ужасных случаев, с которыми в позднейшую эпоху не только ознакомилось, но почти не расставалось наше семейство[220].
Подобные пролептические элементы позволяют проложить сквозь отдельные эпизоды семейной истории, по большей части напоминающие анекдоты, связную смысловую линию и, соответственно, представить их звеньями роковой цепи, неизбежно ведущей к упадку.
Героиня хроники, княгиня Варвара Никаноровна, сознает власть «рока» и безропотно ей покоряется. Однако речь идет не о биологическом детерминизме, а о «закономерном» чередовании счастья и несчастья:
Словом, все было хорошо, но во всем этом счастье и удачах бабушка Варвара Никаноровна все-таки не находила покоя: ее мучили предчувствия, что вслед за всем этим невдалеке идет беда, в которой должна быть испытана ее сила и терпение. Предчувствие это, перешедшее у нее в какую-то глубокую уверенность, ее не обмануло: одновременно с тем, как благополучным течением катилось ее для многих завидное житье, тем же течением наплывал на нее и Поликратов перстень[221].
Предчувствие «наплывающего» «Поликратова перстня» заставляет княгиню оставить все общественные дела в Петербурге и уехать в Протозаново, где она поселяется затворницей в усадебном уединении; это предчувствие особенно крепнет после гибели в бою ее мужа, которого буквально преследовали несчастья. Мотив судьбы как не зависящей от человека причины семейного «захудания», присутствующий и у Щедрина, в «Господах Головлевых» сочетается с патологизацией упадочных явлений, что придает истории вымирания рода оттенок прогрессирующей психофизической деградации.
Впрочем, этой предугаданной, предвосхищаемой в пролептических вставках целенаправленности семейного угасания в «Захудалом роде» соответствует не однозначная нисходящая линия развития, а «сложное переплетение разных процессов»[222], среди которых встречаются и взлеты. Так, после смерти мужа княгиня становится богатейшей женщиной губернии. В ее лице род Протозановых переживает свой последний расцвет; утратившая общественное влияние княгиня отличается духовным совершенством и нравственной чистотой. Героиня воплощает в себе высшие достоинства помещичьего сословия, находившегося на тот момент (по мнению Лескова) в процессе неудержимого разложения, олицетворяемого в романе реакционной фигурой графа Функендорфа. Деградация Головлевых у Салтыкова-Щедрина тоже имеет исторический аспект, символизируя разложение целого социального класса, утратившего право на существование. Однако от лесковского произведения веет ностальгией, чего никак нельзя сказать о щедринском романе.
Временнáя структура романа обнаруживает похожее наложение разнонаправленных векторов движения. Телеологической природе нарратива об упадке противопоставляется понимание времени как «возвращения одного и того же», или «чистого настоящего»:
Нередко то или иное событие не встраивается во временну´ю цепочку, сохраняя обособленный, хронологически неопределенный характер. Такие вневременные островки очень типичны и уже в силу самой этой типичности неуловимы для временнóй фиксации, поскольку сама их суть заключается в длительности или повторении. Время переживается не как изменение, а как повторение одного и того же. Ход времени кажется упраздненным из‐за того, что события не следуют одно за другим частой вереницей, не теснятся, подталкивая друг друга, а невозмутимо, безмятежно покоятся во всем богатстве подробностей и конкретной полноте. В результате рождается чистое настоящее, «неподвижное» время, длящееся почти по-гомеровски[223].
Отказ от поступательного течения времени ярче всего проявляется в первой части романа, события которой разворачиваются в замкнутом мире имения Протозаново. Пространственно-временные координаты теряются в вечном «здесь-и-сейчас» идиллического, «органического»[224] микрокосма, а действие развивается скорее скачкообразно, нежели линейно благодаря ритмичному, повторяющемуся характеру эпизодов, рисующих портреты отдельных действующих лиц.
Такие повторяющиеся элементы действия, превращающие повествовательную целенаправленность и прогрессирующий упадок в вечное повторение, вполне типичны для романа о вырождении (гл. II.2). Поэтому в семейном романе «Господа Головлевы» Салтыков-Щедрин опирается на обе традиции, рисуя гибель помещичьего рода стилистическими средствами как русского романа-хроники, так и французского натуралистического романа о вырождении. При этом нарратив о вырождении позволяет писателю создать модель нарративного застоя, застывшего мира, где, однако, безудержно прогрессирует гибельный процесс психофизической деградации[225]. Таким образом, Салтыков-Щедрин создает образцовую картину упадка целого социального класса при помощи новых изобразительных средств, с поэтологической точки зрения выделяющих роман из тогдашней социально-критической литературы о «помещиках» как о преодоленном общественном институте (С. Н. Терпигорев, А. И. Эртель и др.)[226].
В щедриноведении давно ведутся споры об интертекстуальной близости «Господ Головлевых» к циклу о Ругон-Маккарах. Дореволюционная критика, включая современную писателю, отмечала очевидные параллели между этими произведениями, при этом подчеркивая различия авторских поэтик и идеологий[227]. Так, К. К. Арсеньев считает, что «Господа Головлевы» «превосходно иллюстрируют» закон наследственности, причем Салтыков, в отличие от Золя, обходится без «торжественных» теоретических высказываний[228]. По мнению Арсеньева, в романе ясно обозначена характерная для натурализма связь между наследственностью, средой и вырождением. Унаследованные от родителей негативные характерные признаки приводят к дегенерации детей; свой отпечаток в форме «уродливого, бессмысленного воспитания» накладывает и среда. Эгоизм Арины Петровны у ее сына Порфирия «переходит ‹…› в полнейшее бессердечие, в холодную, почти бессознательную жестокость»[229], выливающуюся в патологическую форму мономании. При этом Арсеньев подчеркивает поэтико-стилистическое «превосходство» Щедрина над Золя, поскольку русский сатирик рассматривает патологические явления не как «медик», а как «психолог»[230].
Советская критика, напротив, по большей части игнорировала эти параллели, видя в Салтыкове-Щедрине социально-критического писателя, который, пусть и считая процесс общественного упадка детерминированным, объясняет его не биологическими, а социальными причинами[231]. Роман «Господа Головлевы» трактовали как картину вырождения помещичьей семьи, причина которого – паразитическое общественное положение. В патологической лицемерности Иудушки, в его нравственном и духовном падении советские ученые видели закономерную реакцию представителя уходящего правящего помещичьего класса на утрату экономического базиса – отмену крепостного права[232]. В этом отношении типизирующее сатирическое письмо Щедрина рассматривалось как золотая середина между, с одной стороны, чрезмерной эмпирицистской объективацией в натурализме и, с другой стороны, идеалистическими крайностями Достоевского[233]. Дореволюционная критика, напротив, не видела никакого противоречия между вниманием к социально-критическому уровню текста и учетом его натуралистического фона[234].
Впрочем, критические высказывания самого Щедрина о натурализме в цикле очерков «За рубежом» (1880–1881) как будто опровергают какую бы то ни было интертекстуальную связь между его творчеством и романами Золя. Русский писатель критикует «французских реалистов» за то, что в центре их внимания находится не «весь человек», а «торс человека», т. е. исключительно физическая, половая сторона жизни[235]. Подобно Михайловскому и Скабичевскому (гл. II.3), Салтыков-Щедрин противопоставляет натурализму романы Виктора Гюго и Жорж Санд, сочетающих, в отличие от Золя, реализм с идеализмом. Скандальный роман Золя «Нана» Щедрин называет «экскрементально-человеческой комедией»[236], единственная цель которой – доставить острые ощущения пресыщенной французской публике. Как и впоследствии Георг (Дьёрдь) Лукач в известной статье «Рассказ или описание?»[237], Салтыков-Щедрин критикует произведения натурализма за описания, не имеющие необходимой причинно-следственной связи с действием, т. е. простое «фотографическое копирование» действительности, не предполагающее отбора сюжетных моментов и углубления в психологию персонажей:
Перед читателем проходит бесконечный ряд подробностей, не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его обстановкой, подробностей, ни для чего не нужных, ничего не характеризующих и даже не любопытных сами по себе. ‹…› Реалист французского пошиба имеет то свойство, что он никогда не знает, что он сейчас напишет, а знает только, что сколько посидит, столько и напишет[238].
Выражаясь языком нарратологических категорий, Салтыков-Щедрин критикует литературу натурализма за то, что она сводит к минимуму необходимую для любого фикционального произведения операцию отбора ситуаций, персонажей и действий, а также присущих им свойств, из множества событий (Geschehen), т. е. вплотную приближает историю (Geschichte) к событиям[239].
Щедринские критические высказывания о французском натурализме принадлежат к широкому контексту описанной выше полемики, которую левая интеллигенция вела против Золя и его идеологических и литературных позиций в конце 1870‐х – начале 1880‐х годов после первоначального периода увлечения творчеством французского натуралиста (гл. II.3). Примечательно, что это «увлечение Золя» разделял и Салтыков-Щедрин, пытавшийся в 1875–1876 годах привлечь Золя к сотрудничеству с журналом «Отечественные записки», редактором которого был. Во время своей первой заграничной поездки он долго вел с Золя переговоры через Тургенева, так ни к чему и не приведшие из‐за противодействия со стороны М. М. Стасюлевича, редактора «Вестника Европы», желавшего сохранить «исключительные права» на издание произведений Золя в России[240]. В то время Щедрин как раз работал над «Господами Головлевыми». Первоначальный замысел возник осенью 1875 года и заключался в создании сатирического портрета одной помещичьей семьи, но впоследствии отдельные сцены из жизни Головлевых сложились в самостоятельную семейную хронику, последняя глава которой была напечатана в 1880 году[241]. В том же году вышло первое издание романа в виде отдельной книги, а в 1883‐м – второе, переработанное.
Из истории создания романа видно, что превращение традиционной сатирической семейной хроники в роман о вырождении совпадает по времени с высшей точкой интереса к Золя в России, а также с издательским интересом самого Щедрина к французскому писателю[242]. Таким образом, невзирая на критическое отношение Щедрина к Золя, возможность интертекстуальных связей отвергать нельзя. Как будет показано в дальнейшем, это историко-рецептивное совпадение может быть отражено в аналитических категориях ввиду примечательного сочетания в романе сатирических приемов с натуралистическими при моделировании упадка помещичьей семьи. Тем самым Салтыков-Щедрин закладывает традицию русского романа о вырождении и вместе с тем создает одно из наиболее последовательных и мрачных (благодаря клаустрофобическому аспекту) литературных воплощений нарратива о дегенерации в целом.
В статье Н. К. Михайловского, посвященной его многолетнему соратнику Салтыкову-Щедрину, затрагивается особенность щедринской прозы, отличающая ее от творчества Достоевского, – фабульная редукция и «дедраматизация»:
Тут [в Господах Головлевых] и фабулы-то почти никакой нет. Пожалуй, есть она в виде материала, зародыша, и заурядный писатель мог бы извлечь много головокружительных эффектов, например, из трагической развязки жизни обоих сыновей Иудушки, но у Щедрина обе эти развязки происходят за кулисами. С другой стороны, самые потрясающие страницы Головлевской хроники посвящены необыкновенно простым, в смысле обыденности, вещам[243].
Если у Достоевского такие события, как убийства, самоубийства и покушения, играют важную роль и обставляются при помощи «целого арсенала кричащих эффектов»[244], то Салтыков-Щедрин очищает подобные происшествия от всякого драматизма:
Припомните, например, щедринских самоубийц, которых довольно много. Убивают себя сын Иудушки и молодой Разумов; но на сцене самоубийства нет, имеются только известия о совершившемся факте. ‹…› [Щедрин] явно нaмеренно обходил тот арсенал внешних, кричащих эффектов, из которого Достоевский черпал свои ресурсы; без них умел он потрясать читателя и с чарующей силой приковывать его к трагедии в семье Разумовых, к ужасающей фигуре Иудушки Головлева и проч.[245]
Позднейшее щедриноведение тоже разделяет тезис о событийной редукции как о важном приеме щедринской прозы, особенно ярко представленном в «Господах Головлевых». Ввиду жанровой специфики вся щедринская сатира имеет структуру скорее описательную, нежели повествовательную, а роман «Господа Головлевы», кроме того, строится на ритмических повторах. Как и в «Захудалом роде» Лескова, отдельные главы – это не связанные между собой ни хронологически, ни причинно-следственно эпизоды семейной истории, рассказывающие о деградации того или иного члена семьи по похожей схеме. Такое ритмичное повторение заканчивается лишь потому, что семья вымирает, – и в тот самый момент, когда это происходит[246].
Однако наблюдения Михайловского интересны еще и предпринятой в них попыткой критического сравнения с поэтикой «кричащих эффектов» Достоевского. Вспоминается критика французскими натуралистами напряженного действия прозы Бальзака и Гюго, т. е. риторики coups de théâtre, которой натурализм предпочитал бедное неожиданными поворотами, сосредоточенное на однообразной прозаической повседневности письмо. Такая близость к натуралистической нулевой степени напряжения[247], давшая критикам повод упрекать Щедрина в утомительной пространности[248], обнаруживает более конкретный интертекстуальный аспект, если принять во внимание, что «Господа Головлевы» – это единственный текст, в котором чудовищная натура щедринского «антигероя»[249], в остальных случаях статичная, не лишена динамического компонента: Головлевы, как и персонажи натуралистического романа, проходят путь развития, по своей сути всецело дегенеративный. Вырождение – это не только главная тема истории, но и ее сюжетообразующий принцип, как на макро-, так и на микроуровне, поскольку в каждой главе заново повторяется одна и та же структура дегенерации: все Головлевы проходят через одни и те же фазы упадка, по нисходящей ведущие к гибели. В результате уже упомянутая натуралистическая поэтика повтора утрируется, сводясь к серийному повторению одной и той же схемы действия[250], – что, кроме того, изглаживает из семейной истории малейшие намеки на индивидуальную судьбу[251].
Присутствие в «Господах Головлевых» нарратива о вырождении проявляется прежде всего в том, что в основу сюжета положена прогрессирующая психическая, физическая и моральная деградация трех поколений семьи. Первое поколение (Арина Петровна и ее супруг Владимир Михайлович) еще доживает до преклонных лет, второе – их сыновья Степан, Порфирий (Иудушка) и Павел – умирает в расцвете лет, а третье – сыновья Порфирия и его племянница Аннинька – погибает молодым. Кроме того, сам автор относит свой роман к дискурсу о вырождении в пространном аукториальном комментарии, предшествующем трагическому эпилогу истории:
Но наряду с удачливыми семьями существует великое множество и таких, представителям которых домашние пенаты, с самой колыбели, ничего, по-видимому, не дарят, кроме безвыходного злополучия. Вдруг, словно вша, нападает на семью не то невзгода, не то порок и начинает со всех сторон есть. Расползается по всему организму, прокрадывается в самую сердцевину и точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднолюбцев и вообще неудачников. И чем дальше, тем мельче вырабатываются людишки, пока, наконец, на сцену не выходят худосочные зауморыши, вроде однажды уже изображенных мною Головлят, зауморыши, которые при первом же натиске жизни не выдерживают и гибнут. Именно такого рода злополучный фатум над головлевской семьей. В течение нескольких поколений три характеристические черты проходили через историю этого семейства: праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие, последний – являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы. На глазах у Пoрфирия Владимирыча сгорело несколько жертв этого фатума, а кроме того, предание гласило еще о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда непригодные пьянчуги, так что головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Эта женщина благодаря своей личной энергии довела уровень благосостояния семьи до высшей точки, но и за всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих качеств никому из детей, а напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием[252].
В этой аукториальной вставке упадок семьи Головлевых предстает в виде прогрессирующего, неудержимого вырождения, причина которого усматривается в биологически детерминированном механизме наследственности. Такие отрицательные качества, как «праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой», передаются из поколения в поколение и приводят к неминуемому вымиранию рода, предваряемому страшным душевным и телесным опустошением: «пустословие», «пустомыслие» и «пустоутробие» становятся неизменными «побочными эффектами» дегенерации.
С одной стороны, здесь налицо радикализация натуралистского постулата о предопределенности вырождения: причина наследственных процессов переносится в неопределенную, неподвластную человеку сферу, так как «конкретное» влияние среды или болезней подменяется действием «домашних пенатов» или «фатума». В этом отношении Салтыков-Щедрин приближается к лесковскому фаталистическому пониманию судьбы, которая в «Захудалом роде» непостижимым образом определяет будущее персонажей.
С другой стороны, наследование различных характерных признаков вторым поколением Головлевых, изображаемым в первой главе, не играет привычной в натуралистическом романе роли причинного фактора индивидуальных судеб – пусть предопределенных, однако отличающихся друг от друга. Различие между ревностной хозяйственностью, которую Порфирий наследует от матери, и доставшимися Степану и Павлу от отца апатичностью и легкомыслием нивелируется по мере развития истории, включающей всех Головлевых в один и тот же недифференцированный, трагический дегенеративный процесс. Неизменность этой участи выражается среди прочего в неспособности даже деятельной, хозяйственной Арины Петровны добиться настоящего прогресса, возрождения: картина портящихся, гниющих припасов в доме Головлевых перечеркивает поразительные успехи хозяйки в умножении состояния, превращая ее усилия в бессмысленную, «энтропическую пустопорожнюю деятельность»[253].
Кроме того, вырождение Головлевых лишено отправной точки, поддающейся медицинскому или социальному определению («трещины» Золя), поскольку начало процесса, описываемого в настоящем, теряется в неопределенной предыстории[254], а конец остается непредсказуемым даже после смерти Порфирия. В какой-то мере конец истории – это еще и новое начало, так как после смерти Порфирия заботы о дальнейшем поддержании в Головлеве «заведенного порядка» переходят в руки дальней родственницы[255]. Кроме того, впечатление атемпоральности повествования достигается нарушением последовательного хода времени путем хронологической перестановки эпизодов: действие главы «Недозволенные семейные радости» содержательно предшествует смерти Арины Петровны, описанной еще в предыдущей главе. Таким образом, вопреки принципам натурализма поступательность и линейность дегенеративного процесса нарушаются, что еще больше усиливает его безысходность и безнадежность.
Главные герои этой истории вырождения – Арина Петровна и ее сын Порфирий, прозванный Иудушкой. Последний как будто являет собой извращенный пародийный образ властолюбивой матери. Властные притязания сына выглядят бледной карикатурой на деспотизм Арины Петровны: фантазии о власти призваны компенсировать бессилие[256]. Иудушка являет собой воплощенное лицемерие и обнаруживает ряд вырожденческих «стигматов»: крайний мистицизм, в котором ханжества больше, чем набожности, так как его молитвенный пыл свидетельствует не столько о вере, сколько о страхе перед чертом[257]; патологический эгоцентризм, граничащий с бредом величия[258]; и, что важнее всего, отсутствие нравственных границ, которое теоретики вырождения вслед за Джеймсом К. Причардом[259] определяли как «нравственное помешательство» (moral insanity)[260].
Важный элемент заострения натуралистических приемов в «Господах Головлевых» – соответствие наследственности и среды. Единственным внешним фактором, влияющим на развитие персонажей, является семья, что сближает роман с биологическим подходом и рождает единое, замкнутое, безвыходное пространство детерминизма, недаром носящее то же имя, что и само семейство (Головлево). Немногочисленные указания на влияние среды касаются исключительно семьи и семейного воспитания, наложившего неизгладимый отпечаток на младшие поколения Головлевых. Происходящее с персонажами вне поместья не оказывает на них заметного влияния. Все эти события, связанные с неудачами Головлевых во внешнем мире, не принадлежат к непосредственному сюжету и нередко излагаются лишь в самых общих чертах. Место действия ограничивается тремя семейными имениями (Головлево, Дубровино и Погорелка), из‐за внешнего сходства и однообразия событий, которые там происходят, воспринимаемых как единое замкнутое пространство; в результате фатальная безнадежность головлевской судьбы приобретает клаустрофобический аспект, еще больше усиливающий тесноту и замкнутость натуралистического пространства. Головлево – это могила, смерть, это место, куда члены семьи, попытавшиеся избежать неминуемой участи, вынуждены вернуться, чтобы умереть и позволить дегенеративному процессу завершиться. Ярчайший пример – возвращение Степана: «Eму кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что, как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся, – и тогда все кончено»[261]. Уже перед самой усадьбой он повторяет: «Гроб, гроб, гроб!»[262] В этом роковом месте возможно лишь такое движение, которое приближает к гибели, как это происходит, в частности, с Ариной Петровной. Изгнание из богатого Головлева в бедную Погорелку ускоряет физическую и психическую деградацию помещицы:
‹…› погорелковский дом был ветх и сыр, а комната, в которой заперлась Арина Петровна, никогда не освежалась и по целым неделям оставалась неубранною. И вот среди этой полной беспомощности, среди отсутствия всякого комфорта и ухода приближалась дряхлость[263].
Все большее обнищание, измельчание и запустение жилого пространства – вот фон заключительной фазы вырождения Головлевых, как будто поражающего не только их самих, но и окружающую обстановку. В грязных, непроветриваемых, неубранных комнатах, в абсолютной – вынужденной или добровольной – изоляции доживают они последние дни, описываемые в одних и тех же выражениях: сначала Степан, затем Арина Петровна и, наконец, Порфирий. Это состояние нарастающей изоляции и одиночества заставляет персонажей сужать жилое пространство в попытке защититься от внутренней и внешней пустоты. Вот как, в частности, описывается душевное состояние Арины Петровны после отъезда внучек:
С отъездом сирот погорелковский дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. ‹…› Проводивши внучек, она, может быть, в первый раз почувствовала, что от ее существа что-то оторвалось и что она разом получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видела перед собой, кроме пустого пространства. Чтоб как-нибудь скрыть в собственных глазах эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадные комнаты и мезонин, в котором жили сироты ‹…› а для себя отделила всего две комнаты ‹…›[264].
Окружение Арины Петровны как будто приспосабливается к ее дегенеративному состоянию. Из прежней многочисленной прислуги остались только две женщины почти гротескной, монструозной наружности: «старая, едва таскающая ноги ключница Афимьюшка да одноглазая солдатка Марковна».
Головлевы коротают последние дни, подолгу бездумно глядя в окно, но это не помогает расширить границ пространства. Чаще всего над поместьем нависают давящие осенние облака, как, например, во время «агонии» Степана:
Безвыходно сидел он [Степка] у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. ‹…› серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в развернувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков[265].
Удручающему сужению пространства соответствует изменение времени, теряющего привычные координаты: оно больше не движется вперед, превращаясь в бесформенный, недифференцированный континуум, в котором нет ни прошлого, ни будущего. Это происходит и со Степаном («Потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени»)[266], и с его матерью:
‹…› для [Арины] не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить. ‹…› Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи[267].
В этом изолированном мире, охваченном неудержимой, всеобъемлющей и без конца повторяющейся дегенерацией, объясняемой скорее фаталистически, нежели детерминистски, важнейшую роль играет натуралистическое представление о принудительной близости, подробно рассматриваемой ниже. Сначала необходимо пояснить натуралистический концепт интимности на примере раннего романа Золя «Тереза Ракен», после чего будет рассмотрена щедринская модель близости.
В натурализме XIX века нередко встречается особая форма интимности, подразумевающая серьезное видоизменение базовой структуры близких взаимоотношений, прежде всего доли собственно близости и отстранения. Главная составляющая близости – своего рода общий знаменатель разных ее концепций – заключается в открытости одного человека другому, что может означать как причастность к чужому миру, так и самозабвение, сведение собственной индивидуальности к минимуму[268]. Интимность подразумевает чередование близости и отдаления, позволяющее стирать и вместе с тем поддерживать границу между собой и другим. Именно сохранять дистанцию в близких отношениях и неспособен человек в литературе натурализма. Натуралистский герой, чья детерминированная наследственностью и средой природа сводится преимущественно к нервам, крови и инстинктам, часто вступает в близкую связь, которая определяется и регулируется средой и наследственностью, а не свободной волей. Интимность сводится здесь к своего рода вынужденной близости, не предполагающей ни дистанции по отношению к другому, ни возможности прекратить отношения. Отчуждение, одиночество и солипсизм – вот следствия этой детерминированной близости, которую утрата индивидуальности превращает в нечто прямо противоположное: клаустрофобию.
Дегенеративное состояние сообщает натуралистической детерминированной близости прогрессирующий характер, заставляя ее переходить в смертоносное крещендо, ведущее к полному вырождению самого героя и всего, что его окружает: психики, тела, жилого пространства. Так, Тереза Ракен и Жервеза Купо («Западня»), равно безвозвратно затянутые в дегенеративный процесс и в интимные отношения, движутся к трагическому концу, намеки на которой в детерминированном фикциональном мире разбросаны с самого начала. Прогрессирующее развитие дегенеративной интимности выступает составляющей «научного» эксперимента, инсценируемого в натуралистских романах. Одним из первых таких произведений стал ранний роман Золя «Тереза Ракен» («Thérèse Raquin», 1867). Представленная в нем натуралистская картина вынужденной близости, еще несколько схематичная, – один из ярчайших примеров изображения детерминированных, дегенеративных близких отношений, похожая разновидность которых присутствует и в «Господах Головлевых» Салтыкова.
Более чем за десять лет до того, как Золя сформулировал теорию экспериментального романа, в «Тереза Ракен» уже присутствовали многие элементы литературы, понятой как «урок анатомии», как опыт над объектом «человек», предпринятый с целью показать работу человеческих страстей в конкретном физиологическом и социальном контексте[269]. Роман выявляет причинно-следственные связи, детерминирующие внутреннее и внешнее развитие персонажей, на примере любви замужней Терезы и Лорана, изображаемой как роковое, почти неизбежное столкновение двух чувственных темпераментов:
В «Терезе Ракен» я поставил перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты. В этом весь смысл книги. Я остановился на индивидуумах, которые всецело подвластны своим нервам и голосу крови, лишены способности свободно проявлять свою волю и каждый поступок которых обусловлен роковой властью их плоти. Тереза и Лоран – животные в облике человека, вот и все. ‹…› Любовь двух моих героев – это всего лишь удовлетворение потребности; убийство, совершаемое ими, – следствие их прелюбодеяния, следствие, к которому они приходят, как волки приходят к необходимости уничтожения ягнят; наконец, то, что мне пришлось назвать угрызением совести, заключается просто в органическом расстройстве и в бунте предельно возбужденной нервной системы. Душа здесь совершенно отсутствует; охотно соглашаюсь с этим, ибо этого-то я и хотел. ‹…› я ставил перед собою цель прежде всего научную. Создав два своих персонажа, я занялся постановкой и решением определенных проблем: ‹…› я показал глубокие потрясения сангвинической натуры, пришедшей в соприкосновение с натурой нервной. ‹…› Я просто-напросто исследовал два живых тела, подобно тому как хирурги исследуют трупы[270].
Такая авторская интенция, ясно выраженная в предисловии, реализуется в тексте при помощи аукториального голоса рассказчика, постоянно комментирующего действие; в последующих произведениях Золя попытается преодолеть эту технику, отдавая все большее предпочтение полифонической несобственно-прямой речи. Рассказчик многократно подчеркивает, что половая связь Терезы и Лорана – это всецело следствие их природы и обстоятельств[271]; так полагают и сами герои, в чьих глазах эта связь «предопределена, неизбежна, совершенно естественна»[272]. Эта детерминированная близость, подобная (ал)химической реакции, поначалу оказывает на обе натуры благотворное воздействие, позволяя им дополнять друг друга: чисто животная жизнь Лорана, выходца из крестьян, уравновешивается миром долго подавляемых чувств Терезы[273]. Их связь обостряет нервную организацию Лорана, его новообретенная чувствительность отчасти подавляет страстную кровь; напротив, «кровь африканская» Терезы, долго сдерживаемая «неестественной» близостью к супругу, болезненному, изнеженному Камиллу, «‹…› неистово заволновалась, заклокотала в ее худом, еще почти девственном теле»[274].
Вопреки ожиданиям любовников-сообщников спланированное и совершенное ими убийство Камилла, призванное устранить все препятствия к окончательному соединению двух дополняющих друг друга натур, становится началом катастрофы. Рассказчик объясняет это нарушением равновесия вследствие «сильного нервного потрясения», вызванного прелюбодеянием: «То были как бы приступы жестокой болезни, какая-то истерия убийства. Действительно, только болезнью, только нервным расстройством и можно было назвать страхи, овладевавшие Лораном»[275]. Чем полнее Тереза и Лоран воплощают в жизнь вожделенную близость (впоследствии они женятся), тем безнадежнее погрязают в близости вынужденной, безвыходной и ведущей к гибели. В этом процессе выражается нарастающее психическое расстройство, ведущее к галлюцинациям и мономании. Единственный выход – это (совместное) самоубийство.
Роман «Тереза Ракен», лишенный пространных описаний среды в стиле позднейших произведений Золя и обладающий вполне традиционным сюжетом, насыщенным мотивами «темного романтизма»[276], рисует картину принудительной близости, усеченной до базовой структуры и проникнутой отчетливым фатализмом. Подчеркивая чувственность темпераментов как первопричину, толкнувшую героев друг к другу и запустившую процесс вырождения, Золя сводит к минимуму роль среды, равно как и возможность что-либо изменить. Кроме того, необычная для натуралистического текста важная роль событийности, пронизывающей narratio (супружеская измена и последующее убийство), нивелируется повторением изначальной ситуации в конце истории: Тереза вновь оказывается «заключена» в галантерейной лавке в пассаже Пон-Неф, с самого начала описываемой при помощи метафор смерти и тлена[277]. Пытаясь вырваться из своей убийственно бессобытийной жизни, из «неестественной» близости с Камиллом, Тереза вступает в новую интимную связь. Ее поступок, во-первых, детерминирован ее «натурой», а во-вторых, приводит к формированию новой – на сей раз поистине смертоносной – вынужденной близости. Показательно, что в конце концов Тереза и Лоран, после тщетных попыток разорвать свой роковой союз, оказываются «‹…› все в той же темной, сырой квартире; отныне они были как бы заключены в ней ‹…›»[278]. Недвусмысленная метафорика цепей и тюремного заключения представляет близость Терезы и Лорана во всем ее клаустрофобическом качестве:
И как два врага, скованные вместе, которые тщетно стремятся избавиться от этой принудительной близости, они напрягали мускулы и жилы, они делали отчаянные усилия и все-таки не могли освободиться. Они понимали, что никогда им не удастся высвободиться из этих оков, цепи впивались им в тело и доводили до неистовства, соприкосновение их тел вызывало отвращение, с каждым часом им становилось все тяжелее, они забывали, что сами связали себя друг с другом, и им было невмоготу терпеть эти узы хотя бы еще минуту; тогда они обрушивались друг на друга с жестокими обвинениями, они старались взаимными упреками, бранью и оглушительным криком как-нибудь облегчить свои муки, перевязать раны, которые они наносили друг другу[279].
Продиктованная инстинктами, непреодолимая близость Терезы и Лорана создает новые отношения принуждения, не допускающие возможности уклониться. Речь идет прежде всего о принудительной близости любовников-прелюбодеев к трупу Камилла, каждую ночь являющемуся им так отчетливо, что Лоран даже обдумывает, «как бы ему еще раз убить Камилла»[280]. Кажется, что зримое присутствие покойника в спальне молодоженов – следствие их желания разорвать невыносимо тесную близость; они надеялись, что после свадьбы это станет возможным. Но эти упования оборачиваются новой, еще более страшной формой близости. Труп Камилла возвращает себе «законное» место в супружеской постели:
Когда убийцы оказывались под одним одеялом и закрывали глаза, им мерещилось, что они чувствуют подле себе влажное тело их жертвы, – оно лежит посреди постели и их пронизывает идущий от него холодок. ‹…› Ими овладевала лихорадка, начинался бред, и препятствие становилось для них вполне материальным; они касались трупа, они видели его, видели зеленоватую разложившуюся массу, они вдыхали зловоние, которое исходило от этой кучи человеческой гнили ‹…›[281].
Несколько облегчает их страдания – хотя бы по вечерам – присутствие госпожи Ракен, матери Камилла. Ей отводится роль третьего лица, нарушающего их «одиночество вдвоем». Показательно, что физическое угасание госпожи Ракен, у которой постепенно развивается паралич, повергает Терезу и Лорана в ужас:
Когда разум старой торговки совсем угаснет и она будет сидеть в кресле немая и недвижимая, они окажутся одни; по вечерам им уже никак нельзя будет избежать страшного пребывания с глазу на глаз. Тогда ужас будет овладевать ими не в полночь, а уже часов с шести вечера. Они сойдут с ума[282].
Сама же госпожа Ракен, «замурованная ‹…› в недрах мертвого тела», немая и недвижимая, обречена теперь на гнетущую принудительную близость к Терезе и Лорану. Узнав, что они убили ее сына, она не только бессильна разгласить эту тайну, но и вынуждена вести невыносимо близкое сосуществование с убийцами. Тереза донимает ее сценами раскаяния, которые госпоже Ракен приходится переносить в безмолвном отчаянии. Приходится терпеть и телесную близость Лорана, каждый вечер относящего ее в постель. Удушающая, неотвратимая близость – единственное, к чему в конце концов сводится взаимодействие персонажей. Последняя попытка супругов преодолеть это состояние, окунувшись в порок и разврат, терпит неминуемый крах[283]:
Как только в карманах у Лорана появилось золото, он стал пить, якшаться с уличными девками, повел шумную, разгульную жизнь. ‹…› Но в результате ему становилось все хуже и хуже. ‹…› В течение месяца она [Тереза], как и Лоран, проводила жизнь на улицах и в кабачках. ‹…› Потом Терезой овладело глубокое отвращение, она почувствовала, что разврат не удается ей так же, как не удалась и комедия раскаяния. ‹…› На нее напала такая отчаянная лень, что она не выходила из дому и с утра до ночи слонялась нечесаная, неумытая, с грязными руками, в неопрятной нижней юбке. Она погрязла в неряшестве. ‹…› Они оказались все в той же темной, сырой квартире; отныне они были как бы заключены в ней, ибо, сколько ни искали они спасения, им не удавалось расторгнуть кровавые узы, которые связывали их[284].
Из вынужденной близости и вырождения есть лишь один выход – самоубийство, которое они, что показательно, совершают вместе, как последний «интимный» акт.
Поэтика близости французского натурализма, имеющая научные импликации (детерминизм и вырождение), составляет – таков мой тезис – важный фон концептуализации вырождающихся семейных отношений в романе Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Как и в произведении Золя, в этой мрачной истории упадка и вымирания внутрисемейные близкие отношения оборачиваются принудительной близостью, ведущей к одиночеству, солипсизму, утрате связи с действительностью и безудержному разгулу фантасмагорий.
Почти все описанные в романе человеческие отношения ограничиваются тремя поколениями Головлевых, т. е. имеют биологическую основу; супруги членов семьи упоминаются лишь вскользь[285]. Отношения эти носят в высшей степени извращенный характер, а прогрессирующее разложение контрастирует с «положительными» высказываниями о семье, которые автор раз за разом вкладывает в уста Арины Петровны и Иудушки. Так, образ матери, питающей своих детей, оказывается вывернут наизнанку в образе матери-людоедки, детей пожирающей: «Что, голубчик! Попался к ведьме в лапы! ‹…› съест, съест, съест!»[286] – говорит Владимир Михалыч вернувшемуся сыну Степану, под «ведьмой» подразумевая собственную жену Арину Петровну.
Библейская сцена возвращения блудного сына, намеки на которую не раз возникают в тексте (ср. возвращение Степана и возвращение Пети)[287], систематически выворачивается наизнанку, оборачиваясь сценой рокового, ведущего к гибели отвержения сына матерью (Ариной Петровной) или отцом (Порфирием)[288]. Биологическому взрослению детей Арины Петровны препятствует тот факт, что статуса взрослых они – во всяком случае, с точки зрения матери – так и не достигают: для нее они остаются навек инфантильными. Размышляющей о будущем Степана Арине Петровне даже приходит в голову определить его в «смирительный дом»[289]. На «семейном суде» Павел внимает матери, словно ребенок, слушающий сказку:
Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, по-видимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. ‹…› Павел Владимирыч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку[290].
Свойственная всем троим сыновьям Арины Петровны инфантильность особенно ярко проявляется у Порфирия, выражаясь прежде всего в его речи, обильно уснащенной уменьшительно-ласкательными формами[291]. Инфантильность Порфирия – это признак регресса, продвигающегося по мере все большего ухода от реальности в мир фантазий. Извращение связи между детьми и родителями достигает высшей точки в забвении, в конце концов стирающем эту связь. Со временем родители окончательно забывают о существовании детей. Так, Арина Петровна забывает, что в одной из комнат дома прозябает, доживая последние дни, ее сын Степан: «Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни»[292].
Однако эта биологическая связь – предзаданная основа головлевского вырождения – непреодолима. Родители не могут полностью забыть о детях, а те бессильны вырваться из ненавистного Головлева. Их словно зловещим магнитом притягивает к имению, где им предстоит провести последние годы в тесной пространственной близости друг к другу. Особенно «удушлива» принудительная близость, возникающая между Порфирием и другими членами семьи. Лицемерными, пустопорожними разговорами, уподобляемыми постоянно гноящейся язве[293], он сплетает вокруг ближних плотную словесную сеть, выпутаться их которой очень трудно, чтобы не сказать – невозможно. Яркий пример – сцена у смертного одра Павла, напоминающая «Терезу Ракен» метафорами принудительной близости:
Павлу Владимирычу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит словно скованный, в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его[294].
Дважды возникает ситуация, когда Порфирий, пытаясь помешать отъезду кого-либо из родных софистическими речами, словно берет человека в психологический «плен». Впервые это происходит на поминках после похорон Павла. Иудушка затягивает трапезу праздной болтовней, принуждая уже готовую ехать мать к нестерпимо долгому ожиданию; парадокс в том, что в то же самое время он как раз выживает ее из имения Дубровино[295]. Ситуация повторяется, когда Аннинька посещает Головлево после смерти Арины Петровны. Порфирий целую неделю против воли удерживает племянницу при себе, отпуская шутки на тему «плена»: «Тебе не сидится, а я лошадок не дам! – шутил Иудушка, – не дам лошадок, и сиди у меня в плену!»[296]
Есть в «Господах Головлевых» и моменты, на первый взгляд дышащие теплотой и уютом, свойственными некоторым произведениям русской усадебной литературы[297]. Клаустрофобическая принудительная близость на мгновение оборачивается чувством защищенности. Визиты Арины Петровны в Головлево наполняют большую усадьбу жизнью, вечера проходят в беседах и за игрой в карты, а во всех окнах, как в праздник, горят огни. Дом превращается в островок тепла посреди сурового зимнего пейзажа: «Село, церковь, ближний лес – все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе; старинный головлевский сад могуче гудит. Но в барском доме светло, тепло и уютно»[298]. Однако эта задушевность обманчива; речь идет о желаемом, но недостижимом состоянии. Именно во время этих приятных непринужденных бесед Порфирий пытается убедить мать вытребовать у племянниц «полную доверенность на Погорелку», чтобы после ее смерти имение досталось ему, а не сиротам. Арина Петровна, хотя и разгадывает план сына, не решается возражать из страха лишиться этого уюта, что опять-таки раскрывает лживую природу такой «эрзац-близости»[299]. Все, что следует за этой сценой: обнаружившаяся рассеянность Порфирия, забывшего о дне смерти своего сына Володи (моральная ответственность за его самоубийство лежит на отце); абсурдные, отвратительные оправдания Иудушкой своей оплошности; приезд Пети и трагический разговор отца и сына, – все эти сцены предельно ясно показывают, как обманчива воцарившаяся было под головлевской крышей недолгая гармония. Разоблачение фиктивного характера семейной близости и задушевности вписывается в общий контекст идеологической борьбы, которую Салтыков вел в своем творчестве против «призраков» русской действительности и один из важных этапов которой составили «Господа Головлевы».
Утверждать, что головлевская принудительная близость коррелирует, как и во французском натурализме, с концепциями детерминизма и вырождения, а Салтыков-Щедрин, рисуя одну из самых последовательных и радикальных картин клаустрофобической вынужденной близости, перенимает и заостряет натуралистские приемы, – не значит рассматривать роман как натуралистическое исключение в творчестве писателя. Царящий в «Господах Головлевых» пессимизм есть и в других произведениях Щедрина, в которых он – начиная с «Губернских очерков» – рисует беспощадную, гротескную картину нравственной низости и тупоумия русской провинции, продолжая гоголевскую линию «пошлости»[300]. Вырождающиеся Головлевы стоят в одном ряду с другими щедринскими персонажами, дегуманизация которых принимает форму физиологизации, анимализации и (метафорической) рейфикации[301]. Характерно для художественного мира «Господ Головлевых» и отсутствие положительного горизонта, выступающего противовесом отрицательной действительности, за которое радикальная критика порицала сатирические произведения Салтыкова-Щедрина с самого начала[302].
Наряду с указанными константами поэтики, роднящими щедринскую сатиру с натуралистическими картинами вырождения, роман обнаруживает и такие сатирические элементы, которые отличают его от натурализма и обосновывают особую поэтику дегенерации у Салтыкова-Щедрина. Речь прежде всего об исконном сатирическом приеме типизации персонажей, отвергнутом французскими натуралистами как элемент модели бальзаковской «Человеческой комедии» («La Comédie Humaine»), которую они оценивали отрицательно. Салтыков-Щедрин эксплицитно описывает Порфирия как лицемера «русского пошиба», отличающегося от французского типажа[303]. Персонаж приобретает антропологические свойства, как будто заслоняющие социально-критическую характеристику, так как Иудушка не выступает однозначным представителем конкретного класса – помещиков. Еще К. Ф. Головин (Орловский) указывал на эту специфику типажа Иудушки вопреки трактовке левых критиков, считавших роман обличением выродившихся помещиков-крепостников[304]. Действительно, эксплицитно социальная проблематика затрагивается в тексте редко[305]. Социально-политические события как будто не влияют на неизбежную участь головлевского семейства. Упомянутая во второй главе отмена крепостного права ускоряет лишь отдельно взятый процесс вырождения – деградацию Арины Петровны, заставляя героиню осознать семейный упадок; на семейном же процессе вырождения изменение социально-экономических условий никак не сказывается.
Несомненно, однако, что в тексте выражена социально-критическая позиция автора, легко считываемая в контексте всего его творчества. Щедрин-сатирик подносит русскому обществу той эпохи остраняющее зеркало, которое отражает его чудовищную смехотворность и химеричность. Главные объекты социально-критических обличений писателя – «семейство, собственность и государство», рассматриваемые им как «три общественные основы»[306]. «Господа Головлевы» – первое щедринское произведение, полностью посвященное первой «основе» – семье. Еще в 1863 году писатель сформулировал концепцию «призрачности» российской действительности[307]; семья – один из таких «призраков», властвующих над людьми в «эпоху разложения»[308]. В выявлении «призраков» и состоит задача сатирика:
Исследуемый мною мир есть воистину мир призраков. ‹…› Освободиться от призраков нелегко, но напоминать миру, что он находится под владычеством призраков, что он ошибается, думая, что живет действительною, а не кажущеюся жизнью, необходимо[309].
Разоблачение семьи как симулякра, как знака, за референтом которого обнаруживается пустота[310], достигается в романе прежде всего постоянным указанием на несовпадение слов и вещей. Речь не только о том, что частые рассуждения Арины Петровны и Порфирия о семье и семейных ценностях резко расходятся с их поступками. Слова еще и начинают жить самостоятельной жизнью, создавая собственный знаковый мир, без остатка поглощающий в первую очередь Иудушку, который все больше утрачивает связь с реальностью. В его «пустословии» воплощается обманная, лживая сущность головлевского мира. Софистическим речам Порфирия, не допускающим однозначной трактовки, на уровне поведения соответствуют притворство и симуляция[311]. Язык, обильно уснащенный универсальными шаблонами, например пословицами и афоризмами, позволяет Порфирию выстроить собственную реальность, помогающую отгородиться от кошмара головлевской жизни:
‹…› что бы ни случилось, Иудушка уже ко всему готов заранее. Он знает, что ничто не застанет его врасплох и ничто не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия[312].
Царящий в Головлеве обман призван скрыть не только нравственную низость обитателей усадьбы, но и метафизическое зло, главным носителем которого является сам Порфирий. Демоническая характеристика, даваемая ему автором, включает метафорическое отождествление не только с Иудой, но и со змеем – и даже с сатаной[313]. Умирающему брату Павлу он кажется привидением из загробного мира:
Он не слыхал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате – как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки. Ему померещилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась; что там есть и еще, и еще… тени, тени, тени без конца! Идут, идут…[314]
Жизнь в обманчивом, призрачном мире означает для Головлевых все большее отдаление от действительности, прогрессирующее по мере развития дегенеративного процесса. Это приводит к бурному расцвету воображения, рождающему все более замысловатые фантасмагории. Такой подъем внутренней жизни разительно отличается от душевного отупения вырождающихся героев французского натурализма. Агония головлевской жизни выливается в торжество «призраков» – иными словами, в своеобразное обнажение и гипертрофию изначального состояния. Для Павла мир фантазий, где можно одержать верх над ненавистным братом, играет компенсирующую роль:
Уединившись с самим собой, Павел Владимирыч возненавидел общество живых людей и создал для себя особенную, фантастическую действительность. Это был целый глупо-героический роман, с превращениями, исчезновениями, внезапными обогащениями, роман, в котором главными героями были: он сам и кровопивец Порфишка. ‹…› В разгоряченном вином воображении создавались целые драмы, в которых вымещались все обиды и в которых обидчиком являлся уже он, а не Иудушка[315].
У Иудушки гипертрофированная фантазия принимает форму экстаза и полностью подменяет собой умственную деятельность. Сидя у себя в кабинете, он придумывает собственный фантастический мир; одна из его сторон – видения, состоящие из цифр:
Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом. ‹…› Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. ‹…› Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой; с лихорадочною торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам. Цифры растут, растут…[316]
Патологическая неспособность к концентрации внимания, обнаруживающая явные параллели с картиной болезни дегенеративной личности в представлении тогдашней науки, способствует разгулу фантазии:
Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставал его врасплох. Едва начинал он «соображать», как целая масса пустяков обступала его со всех сторон и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Лень какая-то обуяла его, общая умственная и нравственная анемия. Так и тянуло его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которые он мог перестанавливать с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, словом, распоряжаться, как ему хочется[317].
Абсолютная власть над «призраками» делает Порфирия господином собственного воображаемого мира, допускающего бесконечные возможности комбинирования.
По мере все большего погружения Головлевых в мир фантазий, прогрессирующей физической деградации и утраты связи с действительностью протагонисты романа – Арина Петровна и Порфирий – парадоксальным образом начинают осознавать свое состояние. На последней стадии вырождения Арине Петровне, а затем и Иудушке, влачащим жалкое, уже скорее растительное существование, открывается горькая правда о прожитой жизни. Хотя это и не означает спасения, как в романах Достоевского, однако разительно отличается от почти бессознательной дегенерации персонажей Золя, не замечающих своего положения.
Головлевы как будто и сами сознают всю неминуемость и предопределенность своей участи. Так, Степан, возвращаясь в Головлево, отдает себе ясный отчет в своем будущем:
В воображении его мелькает бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой пропасти, – и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухою, и даже не злою, а только оцепеневшею в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слова, некуда бежать – везде она, властная, цепенящая, презирающая[318].
Перед смертью Арине Петровне, вынужденной подвести горький итог прожитому, удается разглядеть всю иллюзорность своей семейной жизни:
Господи! и в кого я этаких извергов уродила! Один – кровопивец, другой – блаженный какой-то! Для кого я припасала! Ночей не досыпала, куска недоедала… для кого? ‹…› Всю жизнь слово «семья» не сходило у нее с языка; во имя семьи она одних казнила, других награждала; во имя семьи она подвергала себя лишениям, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь – и вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и нет![319]
Молча наблюдая трагическую сцену объяснения Пети с Порфирием, она вдруг отчетливо видит крушение «дела всей своей жизни»:
‹…› с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни[320].
Такая же догадка посещает и Порфирия, пробуждая в нем «одичалую совесть». На последней стадии дегенеративного процесса история семьи предстает перед протагонистом как история вырождения, а сам он – как ее заключительная глава:
Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали «умертвия». ‹…› И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью… И над всеми этими призраками витает живой призрак, и этот живой призрак – не кто иной, как сам он, Порфирий Владимирыч Головлев, последний представитель выморочного рода…[321]
Сознание своей вины в смерти матери вызывает в нем жажду получить прощение:
– А ведь я перед покойницей маменькой… ведь я ее замучил… я! – бродило между тем в его мыслях, и жажда «проститься» с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце[322].
На первый взгляд, пробудившуюся совесть Порфирия можно описать при помощи важнейшей для русского реализма категории «прозрения» или «просветления». В романах Толстого и Достоевского эта «ментальная перипетия» выступает манифестацией реалистического события[323]. Действительно, такая текстуальная модель событийности как будто проступает в эпилоге «Господ Головлевых», однако при ближайшем рассмотрении не подтверждается[324]. В тексте и теперь не происходит истинного события, так как желание Порфирия быть прощенным, пусть и возникшее именно на Страстной неделе, ничего не меняет в судьбе семьи, не спасает от вырождения. Забрезживший было горизонт надежды сразу же гаснет: душевный «переворот» Иудушки (а впоследствии многих героев Чехова)[325] совершается слишком поздно и не несет в себе консекутивности – одного из критериев событийности[326], – что подчеркивает и сам рассказчик:
И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарелся, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет на свете существа, которое приблизилось бы к нему, «пожалело» бы его. ‹…› Повторяю: совесть проснулась, но бесплодно[327].
Горькая ирония состоит в том, что осознанное переживание собственного жизненного краха персонажем, неспособным к событию нравственного «возрождения», усиливает трагизм дегенерации. Порфирию остается одно: «[П]асть на могилу [матери] и застыть в воплях смертельной агонии»[328]. Сама идея самоубийства как способа спастись от вырождения свидетельствует о том, что в этой ситуации Щедрин считает возрождение невозможным. Раскаяние, настигшее Порфирия на Страстной неделе, означает лишь, что он – в соответствии со своим прозвищем – принимает «решение Иуды», которое не принесет «раз-решения от грехов», спасения. Добровольно замерзая насмерть на могиле матери, сын завершает головлевскую историю вырождения. Самоубийство Иудушки как метафорический возврат в материнское лоно может означать регрессивное отступление к биологическому началу; как акт принудительной близости – последний из возможных – оно наглядно свидетельствует о ее пагубной природе[329].
III. Эксперименты и контрэксперименты. Научный нарратив в романе о вырождении
Разрыв наррации в «Господах Головлевых» (1875–1880) Салтыкова-Щедрина – таков вывод предшествующей главы II.4 – осуществлен настолько планомерно, что этот первый русский роман о вырождении вполне мог стать последним. Но этого не случилось: Ф. М. Достоевский и Д. Н. Мамин-Сибиряк сумели найти выходы из «повествовательного тупика», в который завел нарративную схему дегенерации Щедрин. В начале 1880‐х годов российскому дискурсу о вырождении только предстояло выйти за пределы литературы и превратиться в модель научной интерпретации социальных и культурных девиаций. Еще не произошло его слияния с другими биомедицинскими дискурсами – с учением о неврастении, дарвинизмом и криминальной антропологией, – приведшего к возникновению новых литературных повествовательных шаблонов (гл. IV–VII). Так что Достоевский и Мамин-Сибиряк остаются в рамках парадигмы Золя. Сосредоточившись на присущем натуралистической литературе противодискурсивном (в фуколдианском смысле) моменте, они облекают его в особую форму, позволяющую продолжать литературное повествование о наследственности и вырождении.
В отличие от Салтыкова-Щедрина, которому научно-медицинский аспект нарратива о дегенерации в целом был чужд, и Достоевский, и Мамин-Сибиряк пристально изучают биологическую сторону такого повествования, опираясь на экспериментальную поэтику Золя. Мой тезис заключается в том, что оба писателя выстраивают свои романы – «Братья Карамазовы» (1879–1880) и «Приваловские миллионы» (1883) – как фикциональные контрэксперименты, направленные против натуралистического романа Золя с его экспериментальной верификацией детерминистских концепций наследственности и вырождения. Достоевский выступает против натурализма открыто, желая показать принципиальную свободу человека в поступках и решениях. Мамин-Сибиряк же, оставаясь в рамках поэтики натурализма, использует ее противодискурсивный потенциал с целью оспорить применимость научных нарративов к глубинным структурам действительности.
Поставленные Достоевским и Маминым-Сибиряком фикциональные контрэксперименты обогащают научно-медицинское повествование, каким оно предстает в рамках русского романа XIX века[330], новым измерением. Опираясь на традицию русской тенденциозной литературы 1860–1870‐х годов и вместе с тем воспринимая экспериментальную поэтику Золя (гл. III.1), оба автора строят свои романы как reductiones ad absurdum – воплощения логического приема сведения к абсурду. Эти произведения организованы как эксперименты, где типично натуралистический мир, подчиненный телеологическим, детерминистским нарративам, инсценируется с единственной целью: продемонстрировать внутренние противоречия такой модели и разоблачить ее как ложную посылку.
В «Братьях Карамазовых» Достоевского смутное представление о возможности унаследовать от отца «карамазовщину» тревожит братьев и заставляет их сомневаться в свободе собственной воли. Инсценируя в своем последнем романе проникнутый идеями биологизма фиктивный мир, писатель дает художественный ответ Золя с его фантасмагориями на тему наследственности. Перенимая структуру и повествовательную логику золаистского экспериментального романа, Достоевский стремится опровергнуть позитивистский детерминизм, доказав антитезис о примате свободной воли над биологией. Однако необходимо также показать, что этот роман идей, задуманный как антипозитивистский эксперимент, оказывается окрашен в тревожные тона биологического детерминизма (гл. III.2).
В «Приваловских миллионах» Мамина-Сибиряка концепция вырождения оборачивается дискурсивным фантомом, не подкрепляемым реальностью: сталкивая темы наследственности и наследства, автор разоблачает фантасмагорический характер современной ему теории наследственности и раскрывает спекулятивность научного нарратива. При этом Мамин-Сибиряк, как и Достоевский, строит сюжет на факте знакомства персонажей с теорией вырождения. Пользуясь этим знанием, действующие лица плетут интриги вокруг приваловского наследства. Заставляя эти биологически мотивированные планы потерпеть крах, писатель иронизирует над той перформативной возможностью моделировать действительность, которую приписывали нарративу о дегенерации натуралисты (гл. III.3).
III.1. Научное повествование, тенденциозная литература и Reductio ad Absurdum. Роман о вырождении и экспериментальный роман
Споры вокруг натурализма касаются, в частности, его экспериментальной стороны. Как известно, Эмиль Золя считал ее программной. В статье «Экспериментальный роман» («Le roman expérimental», 1879)[331] писатель изложил принципы экспериментальной поэтики и открыто заявил, что натуралистический роман вполне может отвечать эпистемологическим требованиям научного эксперимента. На первый взгляд это утверждение кажется странным: очевидно, что сам по себе литературный текст не удовлетворяет обязательному для эксперимента критерию повторимости или интерсубъективной проверяемости. Неудивительно поэтому, что убежденность Золя в пригодности литературы для экспериментальной проверки номотетических объяснительных моделей с самого начала вызывала бурные споры[332]. Современную Золя критику «Экспериментального романа» наиболее емко выразил Макс Нордау в работе «Золя и натурализм» («Zola und der Naturalismus», 1890):
Понятие романа заведомо исключает понятие эксперимента. Эксперимент имеет дело с фактами, роман же – с вымыслом. Золя мнит, будто ставит эксперимент, выдумывая нервнобольных людей, помещая их в вымышленные условия и заставляя совершать вымышленные поступки. Но во всем этом столь же мало от невропатологического эксперимента, сколь в лирическом стихотворении – от биологического опыта. Естественно-научный эксперимент – это вопрос, обращенный к природе, ответить на который и должна природа, а не сам вопрошающий. Золя тоже задает вопросы, не спорю; но кому? Природе? Нет, собственному воображению. В этом и состоит различие между Золя и естествоиспытателем – огромное до комизма[333].
Вслед за современной Золя критикой[334] литературоведение долго рассматривало теорию экспериментального романа как «простую имитацию достижений физиологии, совершенно неприложимых к литературе»[335]. Лишь в последнее время экспериментальный роман – со всеми своими несомненными апориями – сделался предметом дифференцированного анализа[336]. Поэтому в дальнейшем необходимо подробно рассмотреть концепцию экспериментальной литературы Золя, сыгравшую, как будет показано, важную роль в развитии русского романа о вырождении.
Статья «Экспериментальный роман» построена как коллаж цитат из «Введения в изучение экспериментальной медицины» («Introduction à l’étude de la médicine expérimentale», 1865) Клода Бернара, где тот постулирует применимость экспериментального метода не только к неодушевленным предметам, но и к живым организмам; таким образом, физиология отделяется от анатомии. По мысли Золя, экспериментальный роман должен стать следующим шагом, который позволит изучить экспериментальным путем чувственную и духовную жизнь человека с целью сформулировать «законы мышления и страстей» и заняться «практической социологией»[337]. Вслед за Бернаром Золя различает наблюдение и эксперимент, а также придерживается представления о фикциональной природе гипотез, которая и позволяет применить понятие эксперимента к литературному дискурсу[338]. Бернарово понятие эксперимента Золя излагает следующим образом:
Наблюдатель просто-напросто устанавливает, какие явления происходят перед его глазами… Он должен быть фотографом явлений ‹…›. Но когда факт установлен и явление подверглось наблюдению, возникает идея, вмешивается в дело рассуждение, и тогда экспериментатор выступает в роли истолкователя явления. Экспериментатор – это тот, кто в силу более или менее вероятного, но предварительного истолкования наблюдаемых им явлений ставит эксперимент таким образом, чтобы, опираясь на логический ряд догадок, получить возможность проконтролировать гипотезу или априорную идею ‹…›[339].
Концептуализация эксперимента как испытания «вероятной» гипотезы, возможного благодаря «творческой фантазии» исследователя[340], подчеркивает фикциональный аспект наблюдения за природой в ситуации status conditionalis, отсылающий к происхождению эксперимента как «практики вымысла»[341]. Это фикциональное измерение эксперимента и лежит в основе тезиса Золя об экспериментальном романе:
‹…› романист является и наблюдателем и экспериментатором. В качестве наблюдателя он изображает факты такими, какими он наблюдал их, устанавливает отправную точку, находит твердую почву, на которой будут действовать его персонажи и развертываться события. Затем он становится экспериментатором и производит эксперимент – то есть приводит в движение действующие лица в рамках того или иного произведения, показывая, что последовательность событий в нем будет именно такая, какую требует логика изучаемых явлений[342].
«Логика изучаемых явлений» определяет внутреннюю логику нарративной организации эксперимента, а рассказываемая история служит верификации научной смысловой линии. В соответствии с позитивистским мировоззрением жизнь человека для Золя предопределяется плотной сетью причинно-следственных связей, в основе которой лежат два важнейших фактора: с одной стороны, внешняя социальная среда (milieu extérieur), с другой стороны, внутренняя среда (milieu intérieur) с ее физиологическими законами, главный из которых – наследственность[343]. Созданный писателем-натуралистом фикциональный мир должен служить экспериментальным полем, где причинно-следственные связи между поступками персонажей, их наследственностью и влиянием среды могут быть показаны более отчетливо, нежели в действительности. При этом Золя подчеркивает, что экспериментальный роман представляет собой не чистое, «фотографическое», наблюдение действительности, а соответствующее Бернаровой концепции наблюдение в условиях специально созданной экспериментальной ситуации, активное вмешательство в реальность. Романист-экспериментатор не воспроизводит документально засвидетельствованные события, а выстраивает, исходя из наблюдаемой действительности и ее детерминистских законов, нарративную историю. «Изменяя» действительность[344], история эта выступает в роли научной «дедукции»[345].
Русская литературная критика с самого начала энергично подчеркивала непригодность литературы для экспериментальной проверки научных гипотез[346]. В начале 1880 года, спустя несколько месяцев после выхода «Экспериментального романа» в сентябрьском номере «Вестника Европы», публицист-позитивист и географ Л. И. Мечников опубликовал в радикальном журнале «Дело»[347] полемическую статью, в которой указал на несовместимость понятий «роман» и «эксперимент». Если принять во внимание принципиальное различие между простым наблюдением и научным экспериментом, пишет Мечников, понятие «экспериментальный роман» так же бессмысленно, как, например, «трансцендентальная корова»[348]. В проекте Золя сомнительно не только недопустимое смешение литературной и научной практики, но и недостаточно глубокое понимание автором теории наследственности, которую он вознамерился исследовать в цикле «Ругон-Маккары», – и это невзирая на тот факт, что она остается неразрешимой проблемой даже для лучших ученых эпохи. Теория романа Золя кажется Мечникову «невероятным винегретом из отрывков трансформистского и эволюционного учения ‹…› а пуще всего из литературных приемов, перенятых у Бальзака»[349]. Поэтому «Золя не осуществит своего плана не только в двадцати, но даже в двухстах романах»[350], тем более что ему «существенно недостает способности проводить ясно и логически свою мысль»[351].
Столь же резкой была и реакция Н. К. Михайловского, последовавшая непосредственно за публикацией программной статьи Золя[352]. По мнению литературного критика из «Отечественных записок», высказывания Золя, основанные на заведомой теоретической «путанице», доводят ее до «комизма» и «пародии»[353] и к тому же напрямую оскорбляют русскую публику, перед которой Золя претендует на роль «учителя» в вопросах эстетики[354]. Михайловский не может извлечь ничего положительного из экспериментальной теории Золя: ссылка на Клода Бернара кажется критику настолько случайной, что это имя можно было бы без ущерба для смысла заменить любым другим, сославшись на Ньютона, Галилея или Дарвина[355]. Золя может проводить «забавную» аналогию между литературой и медициной лишь потому, что слабо разбирается в научных теориях, которые стремится пропагандировать[356]. Наконец, Михайловский оспаривает притязания экспериментального романа на статус новой художественной формы, приводя два аргумента. Во-первых, в структурном отношении экспериментальным оказывается любой роман, ибо каждый автор заставляет своих персонажей действовать в вымышленных ситуациях так, как того требует «механизм фактов»[357]. Во-вторых, Золя не первый, кто использует теорию наследственности в литературном творчестве; так, она уже служила романной «рамкой» у Эжена Сю. По мнению Михайловского, вполне оправданно использовать научные концепции наследственности и среды в качестве элементов художественного мира произведения. Однако «чистый вздор» – пытаться превратить их в движущую силу повествования, понимаемого как «эксперимент» и, следовательно, призванного не только воспроизводить, но и производить научное знание[358].
После окончания сотрудничества Золя с «Вестником Европы»[359] последний тоже начинает печатать критические отзывы об экспериментальной теории писателя. Так, значительная часть статьи К. К. Арсеньева о Золя посвящена вопросу о том, в какой мере французскому натуралисту удалось реализовать свою программу и экспериментально исследовать законы наследственности в романах из цикла «Ругон-Маккары»[360]. Анализ Арсеньева, более подробный и менее полемический в сравнении со статьями радикальных критиков Мечникова и Михайловского, объясняет причины неосуществимости программы Золя. По мысли Арсеньева, искусство устроено так, что не может взять на себя задачи науки даже в том случае, если признать – вслед за Золя – важность того факта, что в обеих этих сферах деятельности возможно построение гипотез[361]. Говорить об исследовании законов наследственности в «Ругон-Маккарах» не приходится, в частности, потому, что в романах, успевших на тот момент выйти, описанные феномены наследственности носят неопределенный, неточный и зачастую незначительный характер[362], причем некоторые книги могли бы и вовсе обойтись без каких-либо отсылок к подобным феноменам[363]. Арсеньев сомневается, что наследственность может выступать структурообразующим принципом литературных произведений[364], и утверждает, что она оказывается гораздо важнее для характеристики персонажей: тут романист, по мнению критика, мог бы стать настоящим психологом[365]. Именно в этом Арсеньев видит сильную сторону Золя-романиста, называя его «мастером ‹…› психического анализа»[366]. Впрочем, при этом критик подчеркивает, что удавшиеся Золя изображения психических расстройств не привели к осуществлению научного плана произведения. О провале этого плана Арсеньев писал уже в 1882 году[367]. Цикл о Ругон-Маккарах он ценил прежде всего как всеохватное полотно, изображающее эпоху Второй империи при Наполеоне III и «внутреннюю жизнь французского общества», которую Золя сумел облечь в картины «поразительной силы»[368].
Напротив, И. И. Ясинский – писатель, тоже руководствовавшийся в своих романах «научным методом» и отвергавший «теолого-метафизическое миропонимание»[369], – положительно отзывался о выдвинутой Золя концепции литературы, развивающей научные гипотезы в повествовательной форме. Однако и он отрицал возможность поставить в романе истинный эксперимент. Роман скорее следует понимать как «художественное обобщение наблюденных фактов»[370]. Из этого определения также следует, что новый «реальный роман», вопреки натуралистическим идеям Золя, не может отказаться от приема типизации:
Роман, как серьезное произведение ума писателя, вооруженного научным методом и глубоким философским знанием, не говоря уже о таланте, должен быть трактатом, дающим ответы в образах на разные вопросы жизни целой эпохи (или небольшого промежутка времени) и потому, в силу такого назначения своего, долженствующим иметь скрытый теоретический характер, достигнуть чего, в большей или меньшей степени, только и возможно при помощи типичности, т. е. обобщения[371].
Таким образом, русская критика того времени оценивала экспериментальную поэтику Золя вдвойне отрицательно. Опровергалась не только сама возможность возложить на роман научно-экспериментальные функции; большинство русских критиков еще и отрицали структурный нарративный потенциал научной повествовательной схемы[372]. Сосредоточившись на самом понятии эксперимента, попытки ввести которое в литературный дискурс вызывали понятное раздражение, критики упустили из виду другое. Они недооценили тот факт, что нарративная структура гипотез о законах наследственности и вырождения, пусть и непригодная для научной верификации в строгом смысле слова, обладает художественным формообразующим потенциалом. О нем и пойдет речь ниже[373].
За последние десятилетия исследователи натурализма заметно расширили контекст изучения экспериментальной поэтики Золя. В результате свойственные ей апории предстали в новом свете. Приписывая фикциональному преобразованию действительности доказательную силу «подлинного»[374] научного эксперимента, Золя следует особой логике позитивистской эпистемологии XIX века, допускавшей непосредственный переход от эмпирического наблюдения к метафизическому умозрению. Как показал вслед за Мишелем Фуко Ханс Ульрих Гумбрехт, в рамках этой эпистемы предполагалось, что онтологические закономерности действительности можно постичь путем наблюдения явлений и их «непосредственных причин» (causes prochaines)[375].
Рассматривая теорию экспериментального романа Золя в этом расширенном контексте, исследователи в большей степени сосредоточиваются на ее нарративных, нежели эпистемологических импликациях[376]. Так, Ютта Колькенброк-Нетц видит значение экспериментальной поэтики французского натуралиста прежде всего в ее (скорее традиционном) литературном потенциале:
Используя терминологию Бернара, Золя излагает определенную эстетическую концепцию литературного реализма. Согласно этой концепции, художественность литературы состоит как раз в замкнутой цельности вымысла, причем эстетическая реализация какой-либо «идеи» действительности раскрывает высшую правду этой идеи[377].
К похожему выводу пришел еще в 1887 году Вильгельм Бёльше:
Всякое поэтическое творение, стремящееся не преступать границ естественного и возможного и предоставлять вещам развиваться логически, с научной точки зрения есть не что иное, как простой эксперимент, осуществляемый в воображении[378].
В такой трактовке экспериментальная поэтика Золя – это описание натуралистического художественного творчества вообще, изложенное языком позитивистской науки. В соответствии с рассмотренной выше повествовательной системой натурализма (гл. II.2) наррация в каждом отдельном случае «верифицирует» одну и ту же изначально сформулированную гипотезу о детерминированных основах действительности, варьируя уже многократно использованную базовую схему с целью «подтвердить» ее «эпистемологическую правильность»[379].
С одной стороны, этот принцип проявляется на макроструктурном уровне «Ругон-Маккаров», позволяя интерпретировать весь романный цикл как серию нарративных «экспериментов», исследующих возможность рассказывания историй, которые разворачиваются по мере ветвления единого вырождающегося «семейного организма». С другой стороны, на микроструктурном уровне цикла, т. е. в отдельных романах, эта повествовательная модель рождает структуру, основанную на принципе парадигматического нанизывания похожих исходных положений. На протяжении романного действия один и тот же персонаж многократно попадает в аналогичные, хотя и не идентичные ситуации, причем варьирование этих схожих ситуаций оказывает решающее воздействие на повествование. Так, за социальным возвышением Жервезы в первой части романа «Западня» («L’Assommoir», 1877) следует описание прогрессирующей деградации героини, начавшейся после несчастного случая с ее мужем, Купо, и возвращения ее первого возлюбленного, Лантье. При этом во второй части фигурируют те же самые места, персонажи и сцены, что и в первой, однако модификация отдельных элементов позволяет направить действие в иное русло[380].
В свете этого уместно говорить не столько об эпистемологическом, сколько о метафикциональном характере натуралистической экспериментальности. Экспериментальный роман – это прежде всего литературный эксперимент, т. е. опыт нарративного моделирования действительности, вписывающего в сюжет глубинную эпистемологическую структуру со всеми ее детерминистскими закономерностями. Таким образом, экспериментальный роман проверяет не только и не столько научные гипотезы, сколько пределы и возможности художественного вымысла, ограниченного факторами, детерминирующими развитие действия.
Поэтому в структурном отношении корректнее было бы говорить об иллюстративном (экземплярном) повествовании, т. е. о таком, которое иллюстрирует заранее сформулированные тезисы при помощи нарративных примеров (exempla). Таким образом, способность художественного вымысла как такового представлять сложные горизонты возможностей в правдоподобной и связной форме реализуется в натуралистическом романе с целью не столько доказать, сколько подтвердить лежащие в основе повествования тезисы посредством своеобразной наглядной доказательности[381]. Это сближает натуралистический роман с романом идей (нем. Thesenroman, фр. roman à thèse), которому свойствен ряд тех же структурных признаков. Сьюзен Рубин Сулейман пишет[382], что roman à thèse стремится наглядно и отчетливо проиллюстрировать заранее сформулированное идеологическое, философское или научное положение, определенную картину мира путем моделирования иллюстративной истории. Как и для литературы натурализма, для романа идей характерны аукториальная повествовательная перспектива, телеологический сюжет, схематичная ценностная иерархия и антагонистическая система персонажей. Все эти элементы повествования позволяют – в частности, при помощи реализуемого на разных текстуальных уровнях приема избыточности – очистить романную семантику от любых проявлений неоднозначности и открытости.
Такая форма аукториального романа, призванная проверять истинность заранее выдвинутой гипотезы и основанная на принципе варьирующего повтора строго определенной экспериментальной ситуации, сложилась в русской литературе еще до появления экспериментального романа Золя. Без сомнения, впоследствии это обстоятельство благоприятствовало восприятию идей французского писателя в России. Особо важна в этом контексте литературная традиция так называемого «тенденциозного романа», расцвет которого пришелся на 1860–1870‐е годы[383]. Влияние этого жанра на русский роман о вырождении обусловлено тем обстоятельством, что тенденциозный роман тоже проверял достоверность определенной социальной идеологии путем слегка видоизменяемого фикционального изображения нарративных «экспериментов», уже поставленных в предшествующей литературе.
В контексте русского романного творчества XIX столетия, близость которого к тенденциозной литературе многократно отмечалась[384], тенденциозный роман выступает преемником более ранних примеров литературного экспериментирования, в частности романа А. И. Герцена «Кто виноват?» (1847). Герцен преодолевает статичное письмо натуральной школы, где персонажи выступали исключительно представителями той или иной социальной среды, и делает «повествовательный акцент на динамическом развитии персонажей, ставя своего рода эксперимент с неизвестным исходом», в ходе которого «помещает персонажей в определенные обстоятельства с целью проверить, какова будет их реакция»[385]. Нечто подобное происходит и в тенденциозном романе. Сам жанр складывается из многочисленных социальных романов, которые в зависимости от своей идеологической направленности подразделяются на «нигилистические» и «антинигилистические»[386] и которые, вслед за «Отцами и детьми» (1862) Тургенева[387] и, прежде всего, за «Что делать?» (1863) Чернышевского, инсценируют в повествовательной форме конфликт между старой и новой идеологией, между «новыми людьми» и традиционным обществом[388].
Все эти романы обнаруживают единообразную основополагающую структуру: система персонажей, место действия и сюжет почти без изменений переходят из романа в роман. В нигилистическом варианте сюжет строится вокруг вторжения героя, молодого «нового человека», в традиционный, консервативный мир. Мир этот представлен замкнутой средой провинциального города или дома, куда герой прибывает в качестве учителя, гувернера или врача. Завязывается конфликт между новым и старым порядком, причем выразителем последнего выступает немолодой консервативный антагонист. Распространение нового, бескомпромиссно насаждаемого героем социального порядка приводит к общественным волнениям (крестьянским или рабочим восстаниям) и к переоценке традиционных моральных представлений, вызванной новыми формами взаимоотношений, которые определяют любовную линию романа. В антинигилистическом варианте протагонист – молодой дворянин, носитель традиционных, положительных ценностей, попадающий в «зараженную» нигилизмом среду и вступающий с ней в борьбу. Возникающие при этом конфликтные ситуации схожи с ситуациями нигилистического романа, однако завершаются торжеством старых ценностей.
Тенденциозный роман можно рассматривать как специфически русскую разновидность roman à thèse, обнаруживающую типичные для этого жанра черты иллюстративного, стереотипного повествования. С точки зрения связи тенденциозного романа с русским романом о вырождении в его «противодискурсивном варианте» важен тот факт, что антинигилистические тенденциозные романы функционируют не столько как романы идей, сколько как «романы опровержения идей» (Gegenthesenromane). Как показала вслед за Лидией Лотман[389] Ирина Паперно, цель любого тенденциозного романа – и в нигилистическом, и в антинигилистическом изводе – заключается в «верификации» фикционального «эксперимента-прообраза», инсценированного Чернышевским в романе «Что делать?». При этом некоторое варьирование параметров организации эксперимента приводит либо к подтверждению, либо к опровержению выводов Чернышевского[390].
В случае антинигилистического романа целенаправленное опровержение позитивистских тезисов достигается при помощи повествовательных приемов, превращающих текст в фикциональное воплощение принципа reductio ad absurdum (сведение к абсурду). При этом речь идет не столько о нарративном подтверждении заранее выдвинутой исходной гипотезы, сколько об опровержении определенного тезиса путем варьирующего повтора уже осуществленного фикционального эксперимента, «доказавшего» верность соответствующего положения. К этой традиции литературного экспериментирования с поставленными ранее литературными экспериментами примыкают Ф. М. Достоевский, активно развивавший традицию антинигилистического романа, и Д. Н. Мамин-Сибиряк: на рубеже 1870–1880‐х годов оба критически переосмысляют творчество Золя. Прежде чем обратиться к анализу их романов – «Братья Карамазовы» (1879–1880) и «Приваловские миллионы» (1883) – в главах III.2 и III.3, необходимо вернуться к экспериментальной поэтике Золя и подробно рассмотреть, во-первых, заложенное в ней понимание мысленного эксперимента, а во-вторых, свойственную ей контрфактуальную нарративно-аргументационную структуру, основанную на приеме сведения к абсурду.
В рамках концепции экспериментального романа поэтология и эпистемология отнюдь не исключают друг друга: это становится очевидным при обращении к более широкому культурно-историческому контексту, который до сих пор на удивление мало учитывался в литературоведении. Речь идет о связи экспериментальной поэтики Золя с идеей мысленного (умственного) эксперимента, возникшей в европейском научном дискурсе в конце XIX столетия. Недаром Эрнст Мах, введший это понятие в теорию науки, цитирует статью Золя об экспериментальном романе в своем очерке «Умственный эксперимент» («Über Gedankenexperimente», 1897) и открыто рассматривает литературу как одну из возможных форм мысленного экспериментирования[391]. Показательно, что Золя тоже понимает экспериментальный роман как «протокольную запись опыта», который писатель сначала осуществляет «в голове», а затем «повторяет на глазах у публики»[392]. Действительно, прослеживаются отчетливые параллели между вышеописанным принципом варьирования сходных повествовательных ситуаций в экспериментальном романе и Маховым «методом вариаций». Этот метод составляет ядро «логико-экономического очистительного процесса», отделяющего в ходе мысленного эксперимента существенные обстоятельства от несущественных с целью соединить организацию опыта и его осуществление в рамках одного и того же умственного процесса[393].
Указанный контекст не исчерпывается идеями Золя и Маха, в остальном рассуждающих о мысленном экспериментировании исходя из совершенно разных теоретических предпосылок[394]. Речь идет скорее о принципиально проницаемой границе между эмпирией и воображением, характерной для эпистемы XIX столетия в целом[395]. Можно заметить, что тогдашняя наука – располагавшая (еще) неточным знанием, недоказуемым эмпирически или экспериментально и не поддающимся строгой формализации – использовала мысленные эксперименты с более или менее выраженной повествовательной структурой в качестве «интуитивных насосов», обеспечивающих доказательность[396]. Безусловно, самым знаменитым примером служит здесь трактат Чарльза Дарвина «Происхождение видов» («On the Origin of Species», 1859), где за невозможностью экспериментальной демонстрации используются «воображаемые иллюстрации» (imaginary illustrations)[397] – важная составляющая обширного риторико-нарративного авторского инструментария[398].
Золя открыто опирается на это взаимопроникновение двух дискурсов, обосновывая легитимность экспериментального романа, в частности, тем обстоятельством, что научные познания о человеке пока находятся на ранней стадии формирования гипотез и, следовательно, воображение – включая литературный вымысел – выполняет важную познавательную функцию. Вот как описывает эту функцию применительно к теориям наследственности и вырождения доктор Паскаль, герой последнего романа о Ругон-Маккарах и alter ego автора:
Ах, эти зарождающиеся науки, гипотеза в них еще только лепечет и главенствует воображение, – тут поэты соперничают с учеными. Поэты идут первыми, они в авангарде, и зачастую им удается открыть неисследованные области, предвосхитить грядущие[399].
Этот литературный поиск альтернатив основополагающей научной модели того времени, сформулированной П. Люка в «Философском и физиологическом трактате о естественной наследственности» («Traité philosophique et physiologique de l’hérédité naturelle», 1847–1850), можно проследить на примере разных нарративных воплощений теории наследственности в семейном эпосе Золя[400]. По мере работы над циклом писатель отходит как от предположения, что каждый из родителей передает детям половину своей наследственности, – эта модель присутствует в предисловии к первому роману цикла, «Карьера Ругонов» («La Fortune des Rougon», 1871), утверждающем «математическую точность» закона наследственности, – так и от теории атавизма, повлиявшей на романы «Жерминаль» («Germinal», 1883) и «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890). В заключительном же «романе о наследственности», «Доктор Паскаль» («Le Docteur Pascal», 1893), Золя развивает чисто корреляционную модель, в рамках которой решающая роль отводится постоянному притоку чужой наследственности. В результате наследственность оборачивается бесконечной комбинаторикой, фантасмагорические плоды которой постоянно видоизменяются.
Если, однако же, не ограничивать задачу простой констатацией принципиальной преодолимости границы между фактом и вымыслом, эмпирией и воображением в обеих сферах, то интерпретация натуралистической экспериментальной литературы при помощи понятия мысленного эксперимента оказывается сопряжена с рядом проблем эвристического характера. В исследовательском поле «эксперимент и литература», где в последнее время, особенно в немецком литературоведении, разрабатывается вопрос литературно-научных мысленных экспериментов, эти методологические проблемы тоже не получают решения. В исследовании «литературных экспериментальных культур» эксперимент как таковой понимается как точка соприкосновения науки с литературой, связующее звено между эмпирическим доказательством и открытием новых возможностей[401]. После теоретического поворота в эпистемологии эксперимента, инициированного Гастоном Башляром и Людвиком Флеком, эксперимент из простого инструмента проверки теорий или гипотез превратился в «творческую» практику, обладающую некоторой «самостоятельной жизнью»[402] относительно теории и порождающую научные факты как «непредвиденные события»[403] лишь в процессе осуществления опыта. Такое подчеркивание перформативной стороны эксперимента было воспринято литературоведением дискурсивно-аналитической направленности, которое обратило внимание на взаимосвязь между организацией научных опытов и литературным письмом[404].
Таков контекст, в котором мысленный эксперимент становится предметом пристального внимания как философии науки, так и литературоведения. Однако если науковеды крайне противоречиво оценивают смысл, функции и эпистемологическую ценность мысленного эксперимента[405], то литературоведы рассматривают его как мост, позволяющий преодолеть разрыв между «двумя культурами» (Ч. П. Сноу). По мнению Томаса Махо и Аннет Вуншель, в рамках мысленного эксперимента «литература и наука буквально вынуждены объединиться»[406]; Зигрид Вайгель усматривает в мысленном эксперименте воплощение первоначального слияния науки и литературы в рамках общей «практики вымысла», причем наблюдение законов природы при помощи гипотез и моделей соответствует поэтологическому понятию правдоподобия[407].
Впрочем, такая очарованность инструментом познания, сливающим эмпирию и воображение в неразрывное единство, контрастирует с крайне расплывчатым определением принципов его действия и преобразования в процессе взаимной конвертации научного и литературного дискурсов. Большинство авторов, изучающих связь умственного эксперимента и вымысла, ограничиваются воссозданием научно-философских споров о таких экспериментах – в трудах Маха, Дюгема, Башляра, Поппера и, наконец, Куна – и, как правило, не уделяют внимания художественной литературе[408]. Другие авторы используют понятие «мысленный эксперимент» в метафорическом смысле, подразумевая причастность литературы к естественно-научному знанию определенной эпохи[409]. И даже те работы, в которых постулируется тесная взаимосвязь литературы с мысленным экспериментом[410], не поясняют, в какой мере и при каких структурных и эпистемологических предпосылках можно говорить о фикциональных текстах как об умственных экспериментах[411].
Разумеется, здесь не может быть предложен принципиальный выход из вышеописанного концептуального затруднения, связанного с мысленным экспериментом. Важнее сосредоточиться на определенной литературно– и научно-исторической констелляции, в рамках которой возможно проследить процессы взаимодействия между художественной литературой и научными мысленными экспериментами на основе конкретных структурных и гносеологических признаков. Задача состоит не в том, чтобы выявить принципиальную аналогичность художественного вымысла и мысленного эксперимента[412], а в том, чтобы показать: к русским романам о вырождении, возникающим из экспериментальной поэтики натурализма, понятие «фикциональных мысленных экспериментов» оказывается применимо на том основании, что некоторым из этих текстов присущ ряд поэтологических и эпистемологических признаков, сближающих такие романы с контрфактуальными мысленными экспериментами вида reductio ad absurdum, направленными на опровержение какой-либо идеи[413]. В данном случае возможность соотнесения научных экспериментов и литературного письма обеспечивается использованием общей аргументационной структуры, в рамках которой логическое доказательство и нарративно-риторические приемы взаимно обусловливают друг друга.
В логике сведением к абсурду называют форму аргументации, опровергающую какой-либо тезис путем демонстрации вытекающего из него неприемлемого следствия или противоречия («абсурдности»). Частный случай сведения к абсурду – метод доказательства «от противного» (апагогического), когда верность тезиса доказывается путем опровержения противоположного утверждения[414]. Аргумент reductio ad absurdum использовал, в частности, Галилео Галилей для опровержения Аристотелева закона падения в «Беседах и математических доказательствах» («Discorsi e dimostrazioni matematiche», 1638). Доказательство Галилея считается образцовым мысленным экспериментом. Сначала Галилей делает контрфактуальное предположение о правильности Аристотелева утверждения, согласно которому тяжелые предметы падают быстрее легких; затем он указывает, что два соединенных веревкой шара, тяжелый и легкий, в соответствии с теорией Аристотеля будут падать одновременно и быстрее и медленнее, чем отдельно взятый тяжелый шар. Тем самым Галилей доказывает наличие в теории противоречия, делающего ее несостоятельной[415].
Однако сфера применения принципа reductio ad absurdum не ограничивается точными науками. Уже Платон («Государство» I, 338c–343a) использует его в целях диалектики. Нередко к нему прибегают и в повседневной жизни, поскольку прием доведения до абсурда – это одна из наиболее распространенных форм контрфактуального вымысла вообще[416]. Контрфактуальные предположения – это предположения о неактуализированных возможностях вида: «Если бы p было справедливо, то справедливо было бы и q», – причем антецедент, т. е. посылка «если бы p было справедливо», явно ложен либо его ложность подразумевается говорящим. Контрфактуальные рассуждения могут облекаться в более или менее развитую языковую структуру: в этом случае говорят о «контрфактуальных имагинациях»[417].
Ввиду мощного имагинативного потенциала контрфактуальности сведение к абсурду может принимать формы, в которых наблюдается принципиальная проницаемость границы между наукой и литературой – результат переплетения нарративных, риторических и аргументационных приемов обоих дискурсов. С одной стороны, в некоторых научных мысленных экспериментах такая формально-логическая аргументационная структура обнаруживает выраженный риторико-нарративный аспект, существенно повышающий убедительность аргументации. С другой стороны, прием сведения к абсурду используется в фикциональных текстах, разоблачающих с его помощью определенные эпистемологические концепции. Таковы, например, вольтеровские contes philosophiques. В повести «Человек с сорока экю» («L’Homme aux quarante écus», 1768) Вольтер стремится опровергнуть экономическую теорию физиократов, инсценируя фиктивный мир, где эта теория воплотилась в жизнь, и показывая вытекающие отсюда нелепые следствия, призванные свидетельствовать о нелепости предпосылок[418]. При этом, однако, речь идет не о доказательстве от противного, подтверждающем верность противоположных взглядов, а о как можно более наглядном опровержении этой теории, разоблачаемой в ходе мысленного эксперимента как фиктивный, чисто воображаемый порядок, как «стратегия маскировки фактической несостоятельности и бессмысленности»[419].
Похожее моделирование фиктивного мира согласно принципу reductio ad absurdum характерно и для некоторых русских романов о вырождении. В поэтологическом смысле такая структура аргументации ведет к формированию специфических повествовательных стратегий, придающих литературному произведению характер фикционального мысленного эксперимента. В эпистемологическом смысле эти тексты, в отличие от романов Золя, служат не верификации, а оспариванию научных постулатов биологизма и их познавательной ценности.
Сам по себе вывод о наличии в литературе натурализма (выражаясь языком Фуко[420]) «противодискурсивного» потенциала, как было показано в главе II.2, не нов. Обращаясь к научным концепциям наследственности или вырождения, литература натурализма может оспаривать действенность этих моделей. Так, Райнер Варнинг показал, что трансгрессивные фантазии Золя – это образы «дикого бытия» жизни, «разбивающие посредством письма» (zerschreiben) указанные научные построения[421], а Иоахим Кюппер продемонстрировал, что сюжет романа Джованни Верги «Мастро дон Джезуальдо» («Mastro don Gesualdo», 1888) подчеркивает фундаментальную бессмысленность естественного[422].
Как будет показано в дальнейшем (гл. III.2 и III.3), от этой натуралистической «противодискурсии» некоторые русские романы о вырождении отличает лежащая в их основе контрфактуальная аргументационная структура сведения к абсурду. Это превращает их в своеобразные «романы опровержения идей»: сначала они симулируют натуралистический фиктивный мир с его типичной для roman à thèse ролью иллюстрации детерминистской картины мира, а затем доводят его до абсурда, показывая противоречивость («абсурдность») такой модели действительности. В «Братьях Карамазовых» Достоевского и в «Приваловских миллионах» Мамина-Сибиряка инсценируются фикциональные опыты, в ходе которых типичное натуралистическое мировоззрение сначала контрфактически принимается за истину. Однако вместо того чтобы представить наследственность и вырождение как фундаментальные, неизменные первозданные силы, как часть биологически детерминированной глубинной структуры мира, оба писателя вводят эти теории в общее знание (doxa) художественного мира. Псевдонаучные рассуждения персонажей о наследственности и вырождении вносят в вымышленный мир особое биологически мотивированное смятение. Сюжет обоих романов в конечном счете опровергает научное представление о детерминированном ходе вещей: развитие действия приводит к последствиям, противоречащим предполагаемому устройству созданного мира, и разоблачает его как ложную модель. Индексальные знаки, поначалу как будто указывающие на существование детерминистских закономерностей, в конце концов предстают в радикально ином свете, оставляя человека в хаотическом царстве случая. При этом романы Достоевского и Мамина-Сибиряка не только демонстрируют «абсурдность» научных теорий, но и сводят к абсурду их натуралистическую репрезентацию – иными словами, экспериментальную поэтику Золя. Тем самым оба русских писателя ставят под вопрос саму возможность повествовательного изложения научных парадигм, утверждаемую натурализмом.
III.2. Карамазовская кровь. Наследственность, эксперимент и натурализм в последнем романе Достоевского
Передается ли по наследству «карамазовщина», иными словами – вся совокупность нравственно порочных, ненормальных качеств Федора Павловича Карамазова? В романе «Братья Карамазовы» (1879–1880) этот вопрос ставится с прямо-таки навязчивой частотой. Идет ли речь о некоей необоримой биологической данности, оказывающей неизбежное отрицательное воздействие на поступки и решения братьев? Вопрос о биологической сущности рода и о передаче ее дальнейшим поколениям – это вопрос о наследственности. В последнем романе Ф. М. Достоевского вопрос этот – таков мой тезис – обнаруживает дискурсивную и интертекстуальную связь с двадцатитомным циклом романов Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893). Выше подробно показано (гл. II.2 и III.1), что во второй половине XIX века семейная эпопея Золя, как никакое другое литературное произведение, способствовала выработке интердискурсивных нарративов о наследственности и вырождении[423].
Утверждать это – отнюдь не значит упускать из виду глубокие различия между творчеством Достоевского и Золя. Нужно сразу оговориться, что в связи с «Братьями Карамазовыми» не приходится говорить ни об адаптации, ни о верификации научных концепций, менее же всего – о создании художественного мира, управляемого законами детерминизма. Фикциональная реальность последнего романа Достоевского скорее пронизана тревожным предположением о власти детерминистских закономерностей, прежде всего наследственности. Такого мнения придерживаются не только носители тривиально-позитивистских взглядов, в частности Ракитин: в первую очередь это предположение не дает покоя самим братьям Карамазовым. В сравнении с литературой натурализма это означает, что с уровня автора, выступающего в роли ученого наблюдателя и экспериментатора, вопрос о наследственности переносится на уровень действующих лиц, которые, наблюдая ее проявления как в самих себе, так и в других, размышляют о ее возможном влиянии на человеческие решения и поступки.
С одной стороны, это в значительной степени лишает вопрос о наследственности медицинских коннотаций, превращая его в смутное зловещее представление о некоей непреодолимой биологической силе[424]. С другой стороны, деаукториализация этой проблемы, т. е. упразднение фигуры автора как воплощения медицинской нормализации, перекладывает задачу разграничения нормы и патологии на самих персонажей полифонически организованного романа. Это не только наглядно демонстрирует всю зыбкость такой границы, в конечном счете произвольной, но и выявляет возможные драматические последствия подобного биологически мотивированного смятения[425]. В результате «Братья Карамазовы» предстают нарративной инсценировкой свойственного европейской культуре конца XIX века «страха перед денормализацией» (Ю. Линк), вызванного, как разъяснялось выше (гл. II.1), туманным, не получившим строгой научной дефиниции представлением о наследственных дегенеративных процессах[426].
Неустойчивый, неопределенный онтологический статус наследственности равносилен фантасмагорической природе трех тысяч рублей, в которые Дмитрий Карамазов оценивает еще не выплаченную ему долю наследства. Тема наследия, в рамках которой наследство и наследственность взаимосвязаны не только этимологически (гл. III.3), придает имущественной распре символический смысл. Дмитрий недаром полагает, что отец лишил его материнского наследства. Борьба сына за наследство равносильна борьбе за здоровую, как утверждается, материнскую наследственность против унаследованных от отца болезненных качеств. Предположение Дмитрия, что от убийства его удержала мать, которая «умолила бога»[427], можно истолковать как указание на здоровую материнскую наследственность, в решающий миг возобладавшую над карамазовскими инстинктами. Пожалуй, Аделаида Ивановна Миусова, «‹…› дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательною физическою силой»[428], составляет единственный здоровый элемент в системе персонажей карамазовского семейства, чье наследие – и наследство, и наследственность – предстает некоей призрачной величиной.
Проблема дурной наследственности составляет семантическое ядро семейного вопроса, вокруг которого Достоевский в «Братьях Карамазовых» группирует и по-новому осмысляет свои старые темы: веру и мораль, человеческое достоинство и свободу воли, преступление и наказание, убийство и самоубийство. Так, важнейшую в своем творчестве проблему нарушения и попрания убийцей моральных запретов писатель раскрывает на примере отцеубийства, радикализируя фундаментальный вопрос о том, «зачем живет такой человек», которым уже задавался Раскольников в отношении старухи-процентщицы. Точно так же заостряется проблематика, связанная с аксиомой «если бога нет, то все позволено», поскольку отцеубийство явно мыслится равносильным богоборчеству. Наряду с «Бесами» (1871–1872) и «Подростком» (1875) «Братья Карамазовы» – это попытка писателя создать собственных «Отцов и детей». Все три романа Достоевского посвящены «разложению» русской семьи, о котором он неоднократно рассуждал в «Дневнике писателя» (1872–1881) и которое находится в центре всего его позднего творчества. Сначала, в «Подростке», Достоевский обличал это разложение при помощи техники, задуманной как «разложение» аукториальной формы повествования. В этом отношении «Братья Карамазовы» как будто знаменуют собой возвращение к традиционной романной форме: отказавшись от персональной повествовательной ситуации «Подростка» с ее ненадежным, склонным к рисовке рассказчиком, писатель обращается к аукториальной ситуации романа идей с целью как можно более отчетливо выразить собственную позицию[429]. На примере «нестройного семейства»[430] Достоевский хотел показать разложение русского общественного организма, части которого, по мнению писателя, утратили друг с другом естественную связь[431].
Инсценировка Достоевским фиктивного мира, зараженного идеей наследственности, рассматривается ниже как контрфактуальный контрэксперимент, направленный против экспериментального цикла Золя. Симуляция экспериментальных условий, характерных для романов французского писателя, с похожей системой персонажей, на первый взгляд подвластных биологическим силам, призвана вскрыть внутреннюю противоречивость такой ситуации. История, которую рассказывает Достоевский, стремится подтвердить не натуралистический детерминизм, а свободу человеческой воли, априорно постулированную автором. В отличие от эпопеи Золя, рисующей биологически и социально предопределенное вырождение одной семьи в эпоху Второй империи, история семейства Карамазовых, согласно прослеживаемому авторскому замыслу, должна продемонстрировать преодолимость дурной наследственности и указать на возможность возрождения, понятого в христианском ключе[432]. Несмотря на общее биологическое происхождение, судьбы братьев Карамазовых складываются по-разному, свидетельствуя об ответственности человека за свои поступки, не уменьшаемой ни внешними, ни внутренними детерминирующими факторами.
В очерке «Среда» (1873) Достоевский ясно высказался о позитивистской теории, составляющей социологическое соответствие биологической теории наследственности. Показательны слова писателя об ответственности преступника за свое преступление. Ставя человека в зависимость от пороков общественного устройства, теория среды отказывает людям в индивидуальности, самостоятельности и ответственности. Человек приравнивается к животному. Христианство, напротив, возлагает на человека ответственность за его поступки, признавая человеческую свободу[433]. В этом смысле опровержение концепции наследственности вписывается в широкий контекст полемики Достоевского с западными позитивистскими теориями, которые, по его мнению, лишают мир метафизического измерения, тем самым уничтожая любые гарантии мирской нравственности[434].
Инсценируя натуралистическую экспериментальную ситуацию, писатель осуществляет фикциональное вмешательство в действительность, предоставляя натуралистическое моделирование мира вымышленным героям. Поэтому поставленный Достоевским контрэксперимент можно назвать литературным воплощением приема reductio ad absurdum. Положенная в основу опыта гипотеза (в заостренной формулировке) могла бы звучать так: опасно ли человеку полагать, что он «функционирует» подобно персонажам натуралистической литературы? Впрочем, как будет показано, в тексте одновременно содержится и противоположный смысл, грозящий сорвать контрэксперимент с «порченой» карамазовской кровью. Опровержение теории наследственности, которого добивается автор, затрудняется тем обстоятельством, что структурная близость романа к экспериментальному методу Золя позволяет говорить о биологической, дегенеративной детерминированности зла, которое Достоевский намеревался представить как величину метафизическую. Это возвращает тексту семантическую неоднозначность, которую автор, создавая роман идей, сознательно хотел ограничить[435].
Уже Ирина Паперно указала на то, что романы Достоевского, устройством напоминающие эксперименты Золя, преследуют противоположную цель. Русский писатель стремится доказать несостоятельность позитивистских и материалистических положений, наглядно демонстрируя разрушительные последствия попрания этических запретов в мире, зараженном атеизмом[436]. При этом следует подчеркнуть внутрификциональное измерение эксперимента, чуждое большинству натуралистических романов. Достоевский не только экспериментирует с персонажами, но и позволяет им самим экспериментировать, т. е. разрабатывать умственные эксперименты и претворять их в жизнь.
«Братья Карамазовы» – ярчайший пример поэтики множественных внутрификциональных опытов, которые, не ограничиваясь уровнем мысленных экспериментов, таких как «Легенда о великом инквизиторе» Ивана Карамазова, еще и осуществляются на практике: так, гипотезу Ивана об оправданности убийства при условии, что Бога нет, эмпирически проверяет Смердяков. Отражением этих главных экспериментов служат более скромные опыты Коли Красоткина, выступающего своеобразным двойником Ивана. Во-первых, Коля ставит эксперимент над самим собой с целью доказать: «‹…› можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего»[437]. Во-вторых, он устраивает опыт с гусем и ломающей гусиную шею телегой, чтобы выяснить: «Если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед – перережет гусю шею колесом или нет?»[438] Удваивая свой эксперимент, проводимый в художественном мире, Достоевский стремится компенсировать главный недостаток литературного эксперимента – невозможность эмпирической верификации вне нарративной организации текста. Верность гипотезы подтверждается не только развитием действия, но и ex negativo, изображением краха основанных на «ложной» гипотезе эмпирических опытов, поставленных самими персонажами.
До сих пор литературоведы по большей части обходили вниманием возможность такой интерпретации «Братьев Карамазовых» в контексте французского натурализма, которая в первую очередь сосредоточивалась бы на проблеме наследственности. Поэтологические и идеологические различия между Достоевским и Золя казались слишком большими. Антропологическое мировоззрение первого, отстаивающего безусловную свободу воли и, следовательно, ответственность личности за свои дела, контрастирует с натуралистической депсихологизацией человека, сведением его природы к нервам, крови и инстинктам, вследствие чего понятия преступления и наказания приобретают относительный характер. Золя чужд занимающий Достоевского поиск ответов на метафизические вопросы, поскольку натурализм программным образом отказывается от метафизического вопроса о непосредственных причинах вещей – «почему» – в пользу вопроса «каким образом».
Стилистически Золя и Достоевский тоже разительно отличаются друг от друга. Сознательная фабульная редукция и дедраматизация в творчестве Золя, отдающего предпочтение малособытийному, монотонному повествованию, в рамках которого события нередко лишь повторяют предшествующие и заметная роль отводится описательности, плохо сочетается с поэтикой внезапности, нарративного coups de théâtre, представленной творчеством Достоевского. Столь же взаимно противоположны, с одной стороны, характерное для натурализма смешение голоса рассказчика с голосами персонажей в несобственно-прямой речи, значительно уменьшающее долю диалогов, и, с другой стороны, как раз основанная на диалогах повествовательная техника Достоевского.
Кроме того, эти поэтологические и идеологические различия подкрепляются взаимной критикой, подчас весьма резкой. Достоевский называет прозу Золя «гадостью»[439] и критикует пространность описаний, не имеющих необходимой причинно-следственной связи с событиями[440], а Золя в романе «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890) полемизирует с Достоевским, оспаривая возможность рассудочного убийства à la Раскольников. Убийство, утверждает Золя, совершается лишь в состоянии аффекта или под воздействием инстинктивных импульсов, которые, как в случае героя романа, Жака Лантье, зачастую имеют атавистическую, дегенеративную природу[441].
Единственным, кто исследовал интертекстуальные связи «Братьев Карамазовых» с циклом Золя, был Б. Г. Реизов[442]. Критика, которой подверг его точку зрения Г. М. Фридлендер, в целом характерна для позиции литературоведения, особенно советского, в вопросе о возможном влиянии Золя на Достоевского. Влияние это считалось немыслимым на том основании, что поэтика Достоевского вращается вокруг морально-психологических, а не физиологических проблем[443]. Более очевидным оно представлялось современной писателю критике, которая указывала на напоминающую о «Ругон-Маккарах» роль теории наследственности в создании характеров братьев Карамазовых[444]. В этом же русле написана работа психиатра В. Ф. Чижа о психопатологической стороне романов Достоевского. В соответствии с тогдашней теорией вырождения Чиж рассматривает наследственность как первопричину карамазовского «нравственного помешательства» (гл. IV.2). Наследование врожденной психической болезни, как в случае Смердякова, чья мать была «идиоткой», психиатр отличает от наследственной предрасположенности к безумию, как в случае Ивана, сына «кликуши»[445].
Наличие в «Братьях Карамазовых» мотива наследственности и тип письма, который можно назвать экспериментальным или же контрэкспериментальным, вписываются в контекст рассмотренной выше русской рецепции Золя в 1870‐х годах (гл. II.3 и III.1). Достоевский причастен к ней и как читатель: в каталоге его личной библиотеки упомянуты первые пять томов «Ругон-Маккаров»[446]. Показательно, что интертекстуальные отсылки, сигнализирующие о связи последнего романа Достоевского с циклом Золя, помещены в самом начале текста, в предыстории основного действия, которая, как и в первом томе «Ругон-Маккаров», знакомит читателей с происхождением семейной патологии. Болезненно гипертрофированное сладострастие – патологическая наследственность Федора Карамазова – вплотную приближается к «безудержности вожделений» (le débordement des appétits)[447], выступающей исходным характерным признаком всех Ругон-Маккаров. Первую «трещину» (fêlure) в биологической истории семьи, дающую начало последующим болезненным отклонениям, Золя отождествляет с нервной болезнью Аделаиды Фук, «прародительницы» Ругон-Маккаров. Произведя на свет Пьера от брака с батраком Ругоном и Урсулу с Антуаном от внебрачной связи с бандитом Маккаром, Аделаида создает почву для всего дальнейшего многообразия комбинаций и модификаций «семейного организма».
Без сомнения, Достоевский не случайно наделяет первую жену Федора Карамазова именем Аделаида. При этом структура карамазовского семейства словно бы перифразирует систему персонажей «Ругон-Маккаров», сохраняя ее основные элементы, однако расставляя их иным – или и вовсе противоположным – образом[448]. Корнем патологических отклонений здесь выступает не женщина, а мужчина – Федор Карамазов, а две его жены представляют собой как бы расщепленный надвое образ Аделаиды Фук. Первая, Аделаида Ивановна Миусова, является ее тезкой, а вторая, Софья Ивановна, страдает нервной болезнью, из‐за которой во время припадков теряет рассудок. Подобно мужу и любовнику Аделаиды Фук (первый породил Ругонов, законную линию нравственного помешательства, а второй – Маккаров, незаконную ветвь насилия и алкоголизма), две супруги Карамазова-старшего стоят у истоков дифференциации карамазовской наследственности.
«Горячность» и недюжинная физическая сила Аделаиды Миусовой, напоминающие здоровье и силу Ругона, проявляются в буйном характере Дмитрия, а истеричность и экзальтированный мистицизм Софьи Ивановны, соответствующие патологическому пьянству Маккара в наследственной конфигурации Золя, передаются обоим ее сыновьям. Алеша больше похож на мать, поэтому повторение отцовского богохульного поступка, некогда спровоцировавшего тяжелый нервный припадок у Софьи Ивановны, вызывает у него столь же патологическую реакцию[449]; наследственное нервное расстройство Ивана оканчивается нервной горячкой, которая едва не приводит к смерти. Мотив же незаконной, скандальной связи Достоевский переносит на третью женщину, умственно отсталую Лизавету Смердящую. В результате этого «сексуального эксперимента» Федора Карамазова рождается эпилептик Смердяков. Это неустановленное, неизменно отрицаемое самим Федором Павловичем биологическое отцовство обретает семиотический статус вследствие того обстоятельства, что Смердяков носит не только отчество Федорович, но и то же имя, что отец Карамазова-старшего, – Павел.
Разумеется, «Братья Карамазовы» отвечают не всем критериям романа о вырождении. Прежде всего, время романного действия не охватывает жизни нескольких поколений, что необходимо для изображения прогрессирующей деградации семейного организма во всей ее вариативности. Тем не менее налицо некоторые моменты начинающегося психофизического упадка Карамазовых, вполне соответствующие научному представлению о дегенерации как о биологической энтропии, в ходе которой отмеренная конкретной семье жизненная энергия постепенно расходуется и истощается[450]. Начинается этот биологический упадок уже с ослабления материнской наследственности: сначала здоровая и сильная Аделаида, затем нервнобольная Софья и, наконец, слабоумная Лизавета Смердящая. Физическая сила братьев тоже убывает от старшего Дмитрия к младшему Алеше. Это видно из сцены борьбы после того, как Дмитрий избивает Карамазова-старшего: «Иван Федорович, хоть не столь сильный, как брат Дмитрий, обхватил того руками и изо всей силы оторвал от старика. Алеша всею своею силенкой тоже помог ему, обхватив брата спереди»[451].
Точно так же ослабевает и половое влечение, унаследованное братьями от отца и заставляющее их соперничать друг с другом. У Дмитрия оно проявляется явно и открыто; у Ивана принимает скрытую форму, сублимируясь в умственную деятельность; Алеша же, которому свойственна «дикая, исступленная стыдливость и целомудренность»[452], его подавляет. Смердяков, хотя и почти ровесник Ивана, находится на самом краю этой шкалы: обладающий вследствие эпилепсии слабой конституцией, со «скопческим, сухим лицом»[453] и презрением как к женскому, так и к мужскому полу, он как будто начисто лишен полового влечения.
Последняя, однако немаловажная интертекстуальная отсылка к Золя – это имя Клода Бернара. В одиннадцатой и двенадцатой книгах Дмитрий упоминает его в уничижительном смысле и с почти навязчивой частотой, преимущественно в качестве отрицательного эпитета для Ракитина, главного в романе поборника тривиального позитивизма[454]. Поскольку имя Бернара появляется только в главах, написанных уже после публикации статьи Золя об экспериментальном романе, это можно расценить как не столько возобновление старой полемики с Н. Г. Чернышевским и его романом «Что делать?» (1863), где Клод Бернар упоминается с одобрением[455], сколько как отсылку и к статье, и к методу Золя.
Идеи наследственности в романе недаром впервые звучат из уст Ракитина, которого Дмитрий именует «русским Бернаром». За драматической и вместе с тем карнавальной встречей всех Карамазовых в келье старца Зосимы, в ходе которой Федор Карамазов называет старшего сына отцеубийцей, а Зосима, к всеобщему изумлению, преклоняет перед Дмитрием колени, следует беседа Ракитина с Алешей. Ракитин предлагает первое – и весьма показательное – объяснение произошедшему: «По-моему, старик действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердит у вас. ‹…› В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой»[456]. В дополнение к этой интерпретации необычного поступка Зосимы Ракитин выдвигает своего рода научное объяснение карамазовской наследственности, проявления которой он, в соответствии с законом природы, усматривает и в Алеше с Иваном:
– Он – сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. ‹…› В вашем семействе сладострастие до воспаления доведено. ‹…› Ты сам Карамазов, ты Карамазов вполне – стало быть, значит же что-нибудь порода и подбор. По отцу сладострастник, по матери юродивый. Чего дрожишь? Аль правду говорю? ‹…› Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые![457]
Дарвинистский лексикон Ракитина помещает его слова в контекст тривиально-детерминистского мировоззрения, считающего характер исключительно вопросом наследственности. По мнению Ракитина, «генетические данные» Карамазовых делают убийство неизбежным, так как дурная наследственность непреодолима. Конечно, автор морально дискредитирует Ракитина как носителя такого мировоззрения, рисуя образ явного стяжателя и карьериста. И все же представляется, что концепция наследственности со всеми своими детерминистскими импликациями, будучи облечена в слова, полностью завладевает художественным миром. Вопрос о нездоровой наследственности поднимают прежде всего Дмитрий, Иван и Алеша. Ее суть они усматривают в инстинктивной, патологической, переходящей всякие границы «безудержности вожделений», в доведенном «до воспаления» сладострастии[458]. Предшествующие убийству разговоры Алеши с обоими братьями вращаются вокруг проблемы непреодолимой карамазовской наследственности. Так, Дмитрий говорит Алеше:
– И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это – бури, потому что сладострастье буря, больше бури! ‹…› Любил разврат, любил и срам разврата. Любил и жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано – Карамазов![459]
Алеша признает, что ощущает в себе те же инстинкты («я то же самое, что и ты»), и предсказывает их целенаправленное развитие, которое Достоевский собирался описать в задуманном продолжении романа: «Всё одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. ‹…› Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно вступит и на верхнюю»[460].
Необоримость «силы низости карамазовской» утверждается и в беседе Алеши с Иваном:
– Есть такая сила, что все выдержит! ‹…›
– Какая сила?
– Карамазовская… сила низости карамaзовской.
– Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да?
– Пожалуй, и это… только до тридцати лет, может быть, и избегну, а там…
– Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями.
– Опять-таки по-карамазовски.
– Это чтобы «все позволено»? Все позволено, так ли, так ли?[461]
Именно Алеша формулирует важнейшую для авторского замысла проблему «земляной карамазовской силы»: «Братья губят себя ‹…› отец тоже. ‹…› Тут „земляная карамазовская сила“ ‹…› земляная и неистовая, необделанная… Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы – и того не знаю»[462].
Развитие сюжета, особенно нравственное возрождение Дмитрия, призвано показать, что в карамазовской природе заключена и «жажда жизни» – потенциальный источник веры и спасения в христианском смысле. Жажда жизни, напоминающая инстинкт самосохранения, была свойственна уже Раскольникову. Именно она уберегла его от безумия и побудила признать вину. Тот факт, что жажду жизни в «Братьях Карамазовых» утверждает Иван, а на собственном опыте познает прежде всего Дмитрий[463], служит более дифференцированному, чем в «Преступлении и наказании» (1866), изображению свободы выбора между жизнью и смертью, добром и злом. При этом душевное заболевание, постигающее евклидов разум Ивана, противопоставляется христианскому смирению чувственной натуры Дмитрия с прямо-таки плакатной наглядностью.
Кроме того, высказанный в романе парадоксальный тезис о карамазовской низости как о потенциальном источнике нравственного спасения призван опровергнуть еще одну «опасную» рационалистическую идею – возможность преодолеть порочные задатки путем радикального отрицания ценности биологического отцовства. В финале своего красноречивого выступления защитник Фетюкович, опираясь на предпосылку, что «‹…› родивший не есть еще отец, а отец есть – родивший и заслуживший»[464], делает вывод, что совершенное Дмитрием убийство нельзя назвать отцеубийством[465]. Отцовство, сведенное к биологическому аспекту, т. е. к зачатию и передаче отрицательных качеств или болезней (Фетюкович приводит в пример потомственный алкоголизм), – это еще не отцовство:
Вид отца недостойного ‹…› невольно подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти вопросы: «Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его». Юноша невольно задумывается: «Да разве он любил меня, когда рождал? ‹…› он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть разгоряченной вином, и только разве передал мне склонность к пьянству – вот все его благодеяния»[466].
«Конструктивизм» Фетюковича – кульминация пронизывающего весь текст сомнения в значимости биологического отцовства или материнства[467]. Его аргументация, равно как и психиатрическая экспертиза, призвана выявить смягчающие обстоятельства, уменьшающие вину Дмитрия. Цель аргументации самого Достоевского, напротив, – доказать, что лишь полное и сознательное признание, даже непосредственное проживание собственной наследственности, сколь угодно отрицательной, ведет к истинному ее преодолению, т. е. к возможности принимать свободные, ничем не ограниченные решения.
Это, однако, не значит, что Достоевский сводит вопрос отцовства к биологическому детерминизму, так как в «Братьях Карамазовых», равно как и в «Подростке» и в «Бесах», очевидна проблема неудавшегося, несостоявшегося отцовства, а также его ведущей роли в разложении (русской) семьи. Недаром наряду с образом отца, в буквальном смысле забывающего о детях, возникают такие заменяющие отца фигуры, как Зосима и Кутузов, играющие конститутивную – положительную или отрицательную – роль в личностном развитии детей, которыми пренебрегли родные отцы. В этом наглядно воплощается идея необходимости «созидать» семью, не сводимую к биологической данности[468]. Такое созидание возможно лишь путем «неустанного труда любви»[469], что делает семью местом, где «деятельную любовь» (одна из ключевых идей романа) возможно познать в непосредственном опыте. Эту мысль высказывает отставной штабс-капитан Снегирев во время первого разговора с Алешей:
– Позвольте же отрекомендоваться вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын – мой помет-с. Умру я, кто-то их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них возлюбит? Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с…[470]
То обстоятельство, что такая любовь живет в семье, где сосредоточились всевозможные физические и психические патологии (сам штабс-капитан пьет, у его слабоумной жены и у горбатой дочери парализованы ноги, сын Илюша смертельно болен), превращает семью Снегиревых в положительную противоположность семейству Карамазовых. В данном случае патологическое становится источником любви, апофеоз которой – завершающая роман сцена похорон Илюши.
Болезнь и смерть сына Снегиревых, сплачивающие родных и друзей, резко контрастируют с («коллективным») убийством отца Карамазовых, чье погребение упоминается лишь вскользь. Точно так же мучительное раскаяние Илюши в садистском эксперименте, предпринятом по наущению Смердякова и приведшем к гибели бездомной собаки, противоположно отцеубийственному эксперименту, в котором Иван, осуществивший его руками Смердякова, не способен понастоящему раскаяться. Именно любовь в состоянии преодолеть биологические ограничения в положительном ключе: показательно, что Снегирев называет сына «милый батюшка»[471].
Устройство контрфактуального эксперимента, инсценированного Достоевским в «Братьях Карамазовых» и направленного против Золя, можно точнее всего пояснить путем сравнения с романом «Человек-зверь», рассказывающим историю убийства на сексуальной почве. В поступках протагониста, машиниста паровоза Жака Лантье, отчетливо прослеживается детерминирующее влияние болезненных биологических задатков. Жак Лантье – образцовый пример натуралистического персонажа, чьи поступки изначально предопределены внутренними факторами, значительно ограничивающими свободу выбора. Борьба Лантье с атавистическими инстинктами заведомо проиграна, человек обречен уступить «зверю». Литература натурализма демонстрирует читателям, что над человеком властвуют импульсы, аффекты, предрасположенность и влияние среды, почти никогда не дающие свернуть с предначертанного пути вырождения.
Лантье – один из немногих персонажей цикла «Ругон-Маккары», сознательно размышляющих о собственной потомственной ненормальности и о патологической «трещине» (fêlure). Протагонисты большинства отдельных романов плохо осведомлены о семейной родословной, исследование и интерпретация которой остаются прерогативой доктора Паскаля (гл. II.2)[472]. Именно высокая сознательность Лантье в этом вопросе, его способность к рефлексии и позволяет сравнить «Человека-зверя» с «Братьями Карамазовыми»: как сказано выше, в романе Достоевского вопрос наследственности обсуждается на уровне персонажей.
Мысль о возможном влиянии патологической наследственности на поступки особенно беспокоит Дмитрия, который испытывает отвращение к отцу и боится в себе отцовских неконтролируемых инстинктов и импульсов. Особенно ненавистно ему отцовское лицо, «его кадык, его нос, его глаза»[473], причем Карамазов-старший, что характерно, как раз гордится своей физиономией, сравнивая ее с лицом римского патриция времен упадка[474]. Дмитрий инстинктивно ненавидит дегенеративные черты отца, которые, будучи унаследованы, могут проявиться и в сыне. Достоевский создает типичную для натурализма повествовательную ситуацию: будь «Братья Карамазовы» натуралистическим романом, «карамазовский зверь» бесповоротно предопределил бы судьбу Дмитрия, толкнув его на неминуемое убийство. На первый взгляд может показаться, что таков и будет исход сцены, когда Дмитрий оказывается близок к совершению убийства. Стоя в саду, он сбоку наблюдает за отцом, выглядывающим из окна в надежде увидеть Грушеньку:
Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладостном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити ‹…› Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алеше в разговоре с ним в беседке четыре дня назад, когда ответил на вопрос Алеши: «Как можешь ты говорить, что убьешь отца?» ‹…› «Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. ‹…› Вот этого боюсь, вот и не удержусь…» Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана…[475]
Ситуация, которой боялся Дмитрий, воплощается в точности так же, как он предчувствовал. «Безудерж» импульсов, запускающий неуправляемую, иррациональную цепную реакцию, как будто делает отцеубийство неминуемым. Изображая борьбу Лантье с атавистическими фантазиями об убийстве женщин, Золя показывает, к чему подобные инстинктивные порывы приводят в художественном мире натурализма. Французский писатель прибегает к метафоре парового двигателя, о которой Юрген Линк пишет:
Подобно машинисту локомотива, регулирующему паровую силу машины при помощи приборов, «цивилизованный» мозг пытается управлять создающими высокое давление жизненными инстинктами телесного низа (entrailles, viscères). В обоих случаях потеря управления приводит к крушению, к взрыву насилия или к изнасилованию (violence/viol), к убийству[476].
Постоянное наблюдение бдительного мозга за телесной «машиной», свидетельствующее об осознанном страхе денормализации, не уберегает Лантье от неотвратимого деяния. Самонаблюдение, которое могло бы пресечь предрешенный процесс, изменяет ему в тот самый момент, когда вид обнаженной шеи его возлюбленной, Северины, запускает реакцию, подобную реакции Дмитрия Карамазова при виде ненавистного отцовского профиля:
Северина все приближалась, и Жак, пятясь, оказался у самого стола, дальше ему уже некуда было отступать, а она стояла перед ним, ярко освещенная лампой. Никогда еще Жак не видал ее такой: волосы молодой женщины были высоко подобраны, сорочка спустилась так низко, что открывала шею и грудь. Он задыхался, тщетно борясь с собой, но отвратительная дрожь уже охватывала его, кровь яростной волною кинулась ему в голову. Он все время помнил, что нож тут, на столе, позади него, он почти физически осязал его – надо было только протянуть руку![477]
Лантье убивает, Дмитрий удерживается. Лантье не раскаивается в содеянном: напротив, он испытывает облегчение от прекращения изнурительной борьбы с собственной природой. Дмитрий же чувствует, что его спас Бог, и признает свою вину, в конечном счете состоящую в нездоровых инстинктах. Каким бы непостижимым ни казалось его решение не убивать, оно возвращает ему человеческую индивидуальность и ответственность, опровергая тезис о механическом действии инстинктов.
В этом контексте отчаянные выкрики Дмитрия при аресте на постоялом дворе в Мокром о неповинности в крови отца[478] обретают дополнительный смысл, соответствующий символическому аспекту крови в рамках характерной для XIX века литературной концепции наследственности[479]. В этом крике выражено заявление о невиновности в собственной биологической природе. Ведь Дмитрий хоть и не убил отца, вину все же признает – потому что хотел убить. Само желание убить Дмитрий объясняет «отцовской кровью», собственной больной наследственностью, в которой он не виноват. Готовность же все-таки нести за это ответственность знаменует собой начало его нравственного возрождения.
Эксперимент Достоевского содержит в себе и собственную противоположность, контрэксперимент, который предназначается для проверки исходной гипотезы (т. е. решающего вопроса о допустимости нарушения этических запретов под влиянием иррациональных, бессознательных, физиологических сил) и ставится в похожих условиях, но дает противоположный результат. Судьба Ивана, который пассивно поддерживает зло, способствует свершению этого зла руками Смердякова и, неспособный к чистосердечному раскаянию, впоследствии заболевает тяжелым нервным расстройством, призвана доказать, что рациональное мышление и религиозный скептицизм не могут победить биологическое дурное начало, а лишь укрепляют его.
Давая Смердякову косвенное согласие на отцеубийство, то есть решаясь на убийство как на преступление запрета[480], Иван действует отчасти бессознательно, не в силах контролировать собственный голос и собственные слова, словно повинуясь инстинктам[481]. Возникает впечатление, что Иванова рациональная теория вседозволенности – это лишь теоретическая надстройка или ширма, скрывающая некое патологическое, неуправляемое начало, нечто такое, чему Иван, опять-таки слагая с себя вину, приписывает во время судебного процесса антропологический аспект, предвосхищающий учение Фрейда: «Кто не желает смерти отца?»[482]
Кроме того, разные судьбы Дмитрия и Ивана должны показать, что в дегенеративной биологической силе Карамазовых содержится и потенциал самопреодоления, который, однако, доступен лишь тому, кто интуитивно верит в Бога. Таким образом, Достоевский с успехом сводит натуралистический тезис к абсурду, «доказывая» недостаточность позитивистских представлений о чисто физиологической сущности человека и демонстрируя тем самым метафизическую сторону его природы.
С точки зрения созданных автором экспериментальных условий «Братья Карамазовы», как и «Преступление и наказание», – это роман об одном преступлении. На примере этого преступления, вокруг которого почти навязчиво вращается действие, доказывается опасность нарушения этических запретов. Повторяя литературный эксперимент, ранее поставленный в «Преступлении и наказании», в «Братьях Карамазовых» Достоевский несколько изменяет экспериментальную ситуацию, призванную – в отличие от лабораторного опыта – «подтвердить» результат. С одной стороны, изменения касаются «распределения» фигуры преступника между несколькими персонажами, а также системы многочисленных двойников, повторяющих или отражающих образы героев. С другой стороны, изменения затрагивают повествовательную подачу, заметно ослабляя функцию аукториального рассказчика и вместе с тем усиливая значение повествовательных точек зрения. При этом важнейшую тематическую роль играет введение вопроса о биологическом детерминизме, которого не было в «Преступлении и наказании».
Однако нарративная организация эксперимента, повторно предпринятого в «Братьях Карамазовых», содержит в своей основе парадокс. Испытание человеческой свободной воли перед лицом зла требует фактического пересечения черты, т. е. убийства. Без убийства не было бы и катарсиса, евангельской «смерти пшеничного зерна»[483] – предпосылки воскресения в вере. В художественном мире Достоевского зло – это не просто теоретическая возможность. Ответственность за происходящие в мире события, суть которых заключается в фундаментальной борьбе добра и зла за человеческую душу, несет дьявол – противник Бога и искуситель рода человеческого[484]. Но чтобы заставить зло открыть в преступлении свое истинное лицо и продемонстрировать торжество Бога в душе отдельно взятого человека, Достоевский вынужден кого-то принести в жертву. Тем самым он как будто утвердительно отвечает на вопрос, поставленный в том дьявольском мысленном эксперименте, который Иван описывает Алеше:
– Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице ‹…›[485].
Таким образом, в своем экспериментальном мире Достоевский словно бы берет на себя ту самую роль, которую Иван Карамазов полемически приписывет Богу: роль экспериментатора, создавшего людей как «пробные существа»[486] с целью испытать себя в извечной борьбе со злом. (Вуайеристская) жестокость Достоевского как экспериментатора, исследующего свободу воли, ничем не уступает жестокости Золя, обрекающего своих персонажей на смерть ради того, чтобы проверить детерминированный характер вырождения.
Однако именно эта структурная необходимость преступления и подразумевает наличие в «Братьях Карамазовых» скрытого, парадоксального мотива, заставляющего усомниться в неоспоримости опровержения биологического детерминизма. Начнем с того, что процитированное выше предсказание убийства, сделанное Ракитиным («Смердит у вас. ‹…› В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой»[487]), оказывается поразительно точным. Оно указывает не только на общую нравственную вину старших братьев, Дмитрия и Ивана, но и на фактического убийцу, Смердякова, чья фамилия отсылает к глаголу «смердеть». Точность предсказания, хотя сам Ракитин ее и не сознает, обращает читательское внимание на его детерминистскую предпосылку, заложенную самим автором и нашедшую парадоксальное подтверждение в образе Смердякова.
Своего рода «расщепление» фигуры убийцы в «Братьях Карамазовых», обусловленное дифференциацией возможного базового отношения человека к злу[488], отводит Смердякову функцию орудия дьявола, роль воплощенного зла. Неотвратимость участи Смердякова, равно как и его неспособность к развитию, делающие его единственным безвозвратно погибшим грешником в романе[489], мотивированы не только его структурной функцией в системе персонажей, но и биологическим детерминизмом, обусловившим психофизические стигматы вырождения, которыми отмечен Смердяков.
Образ Смердякова во многом соответствует картине дегенеративной болезни с обязательным диахронным аспектом – запойным пьянством деда Ильи и полным «идиотизмом» матери Лизаветы Смердящей[490]. В синхронной же перспективе Смердяков составляет, как сказано выше, конечную точку прогрессирующего истощения карамазовской жизненной силы. Его эпилептические припадки, отвечающие медицинским представлениям того времени, служат образцовым примером неизлечимого нервного расстройства, из‐за которого «он вдруг как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно с возрастом сморщился, пожелтел, стал походить на скопца»[491]. Уже в детстве Смердяков проявляет признаки патологического нравственного помешательства, как будто позаимствованные из учебника психиатрии, – садистское пристрастие «вешать кошек и потом хоронить их с церемонией»[492].
Показательно, что другие действующие лица «ощущают» неминуемость его участи, обрекающую его на роль убийцы в криминально-антропологическом смысле слова. Это выражается в проведении параллели между ночью рождения Смердякова и ночью убийства. Дмитрий перелезает через забор отцовского сада, и об этом в романе говорится с его точки зрения: «Тут он выбрал место и, кажется, то самое, где, по преданию, ему известному, Лизавета Смердящая перелезла когда-то забор»[493]; с точки зрения Марфы Игнатьевны сказано: «‹…› стоны повторились опять, и ясно стало, что они в самом деле из саду. „Господи, словно как тогда Лизавета Смердящая!“ – пронеслось в ее расстроенной голове»[494].
Может показаться, что Смердяков осуществляет эксперимент убийства в надежде избежать неминуемой участи, продиктованной внутренней романной логикой, поскольку убийство, основанное на аксиоме «все позволено», сулит преступнику неограниченную свободу выбора и действий. Однако то обстоятельство, что он становится не только орудием, но и жертвой этой атеистической аксиомы, сообщает контрфактуальному контрэксперименту Достоевского тревожный оттенок биологического детерминизма[495].
Таким образом, «Братья Карамазовы» показывают всю зыбкость сведения к абсурду как литературного приема. Сложность и семантическая неоднозначность романа не позволяют представить логические «нелепости» художественного мира со всей наглядностью. Вытекающий отсюда вывод в заостренном виде звучит так: контрэксперимент Достоевского терпит неудачу из‐за авторского повествовательного мастерства, для которого ясная структура романа идей, каким должны были стать «Братья Карамазовы», оказывается слишком простой. В этом отношении Д. Н. Мамин-Сибиряк избирает более подходящие предпосылки для успешного контрфактуального эксперимента с приваловской кровью, анализу которого посвящена следующая глава.
III.3. Вырождение как симулякр. Противодискурсивность и научный нарратив в романе Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы»
Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка, этого «Золя» русской литературы[496], выделяется в контексте русского натурализма особым подходом к моделированию биологических нарративов. Как и Достоевский в «Братьях Карамазовых» (гл. III.2), Мамин-Сибиряк в своих социальных романах вступает в критический диалог с поставленными Эмилем Золя «экспериментами-прообразами». Вместо того чтобы строить романное повествование сообразно представлениям об эпистемологических основаниях действительности, как это происходит в классическом натурализме (гл. II.2 и III.1), Мамин-Сибиряк раскрывает неукротимую, хаотичную сущность жизни и, соответственно, фиктивный характер любой научной модели. В романе о вырождении «Приваловские миллионы» (1883) теории наследственности и дегенерации не определяют сюжет на глубинно-структурном уровне, а выводятся на поверхность текста, в буквальном смысле превращаясь в орудия действий персонажей: интриги вокруг наследства последнего Привалова, его «миллионов» плетутся на основе научно-популярных знаний о теории вырождения. Крах этих биологически обоснованных планов по ходу развития сюжета, не приводящего к неизбежному с научной точки зрения (и ожидаемому персонажами) усугублению деградации главного героя, развенчивает теорию вырождения как фиктивную модель, противопоставляя ей неукротимость и непредсказуемость жизни. Важнейшую роль в этом играет соединение концепции «наследственности» с мотивом «наследства». Априорно-онтологический статус, которым наделяются оба этих элемента в художественном мире романа, в итоге оказывается мнимым. «Приваловские миллионы» изображают вырождение как дискурсивный фантом, не подкрепляемый действительностью.
Контрэксперимент Мамина-Сибиряка сводит натуралистическое повествование к абсурду в двойном отношении: эпистемологическом и метафикциональном. С одной стороны, ложная посылка, которую должен опровергнуть этот фикциональный мысленный эксперимент, выражается в том, что поначалу повествование словно бы строится согласно базовому нарративу о психофизическом и социальном упадке, направляемом фундаментальным «естественным законом» дегенерации. Таким образом, сначала концепция вырождения предъявляется, как и в классическом натурализме, в качестве действенной объяснительной модели, позволяющей предвосхищать дальнейшие события. Однако этот контрфактически принятый исходный тезис оказывается несостоятельным, поскольку развитие сюжета, как будет показано, обнажает внутреннюю противоречивость («абсурдность») этой посылки и демонстрирует непригодность концепции вырождения для объяснения действительности, по сути своей неукротимой и хаотичной. С другой стороны, в «Приваловских миллионах» осуществляется метафикциональное сведение натуралистического письма к абсурду, подрывающее сами основы натурализма.
Эти противодискурсивные повествовательные приемы типичны и для последующих социальных произведений Мамина-Сибиряка, в частности для романа «Хлеб» (1895), рассмотренного в главе VII.2 в контексте слияния нарративов о вырождении и о «борьбе за существование». В «Хлебе» инсценируется еще более радикальное, чем в «Приваловских миллионах», крушение научных нарративов, коллапс их индексальной функции, приводящий в итоге к мощному всплеску непредвиденных обстоятельств, который почти исключает возможность истолкования описанных социальных процессов модернизации. В этой главе я сначала проанализирую «Приваловские миллионы» как контрфактуальное повествовательное воплощение концепции вырождения[497].
«Приваловские миллионы» – первый из так называемых уральских романов Мамина-Сибиряка. Как и романы «Горное гнездо» (1884) и «Золото» (1892), он описывает жизнь уральской горнодобывающей среды. Нарратив о вырождении, в 1880‐х годах едва начавший утверждаться в русских культурных дискурсах, в «Приваловских миллионах» парадоксальным образом сразу же ставится под сомнение. В то самое время, когда русские психиатры воспринимают концепцию вырождения, а публицисты впервые обращаются к ней как к научной модели интерпретации мира (гл. IV.1), Мамин-Сибиряк пишет роман, вносящий в науку коррективы[498]. Это свидетельствует не только и не столько о принципиально скептическом отношении (многократно подчеркнутом в советском литературоведении) Мамина-Сибиряка к разным вариантам биологического детерминизма[499], сколько о том, что «русский Золя» создавал свой роман на интертекстуальном фоне европейской литературы натурализма, устойчивым компонентом которой и был нарратив о вырождении. Еще до появления собственной традиции романа о вырождении русские писатели, благодаря уже рассмотренной (гл. II.3) ранней рецепции Золя, успели познакомиться с художественной литературой, основанной на биологизации социальной истории и на сведении биологического начала к диахронному аспекту наследственности и вырождения.
Примечательно, что первоначальный, неосуществленный литературный проект Мамина-Сибиряка заключался в создании романного цикла по образцу «Ругон-Маккаров»[500]. «Приваловские миллионы» задумывались как третья часть трилогии о взлете и падении одной семьи уральских промышленников, однако после десятилетней работы опубликован был лишь заключительный роман о Сергее Привалове, последнем представителе рода, «отягощенном» семейным наследием[501]. Для повторения эпического проекта Золя Мамин-Сибиряк явно недостаточно верил в повествовательную осуществимость и в эпистемологическую достоверность биологической нарративной схемы.
До сих пор литературоведы (преимущественно советские[502]) сводили влияние Золя на Мамина-Сибиряка к социально-историческому аспекту, а биологическую сторону рассматривали как поверхностную дань литературной моде времени, обходя вниманием структурную и семантическую роль биологических концепций в прозе русского писателя и обусловленную ими специфику его социальных романов. Между тем именно повествовательная подача детерминистских идей наследственности и вырождения в творчестве Мамина-Сибиряка позволяет раскрыть специфику его натуралистической прозы, состоящую в радикализации того противодискурсивного потенциала, которым отчасти обладала уже повествовательная программа естественной и социальной истории, выдвинутая Золя (гл. II.2 и III.1). Радикализация эта выражается в том, что «логика изучаемых явлений» остается невидимой и необъяснимой как для действующих лиц, так и – в этом русский писатель отличается от Золя – для рассказчика. В художественном мире Мамина-Сибиряка все знаки-индексы, сначала как будто указывающие на детерминистские закономерности, терпят роковое крушение, ввергающее человека в непроходимые дебри хаотических случайностей[503]. При этом естественные и социальные силы равно слепо и разрушительно воздействуют на герменевтические построения, возведенные людьми, чьи социальные и психофизические взлеты и падения обнаруживают в конечном счете необъяснимую, непредсказуемую динамику.
На хаотичность и фатализм, лежащие в основе художественного мира Мамина-Сибиряка, указывал уже В. Альбов, анализируя изображение капиталистических процессов в творчестве писателя:
В жизни господствуют не разум и не воля людей, а слепые стихийные силы. Из-за необозримых рядов отдельных личностей, которые кажутся какими-то живыми точками на жизненной сцене, перед глазами читателя вырисовывается невидимая сеть взаимно перекрещивающихся и причудливо перепутанных сил, гигантская система невидимых колес, шестерней, валов и приводов, которая связывает людей в одно сложное целое. ‹…› Длинный ряд цепляющихся друг за друга фактов, начало которого скрывается в глубине истории, обложил человека железным кольцом, которого он даже не пытается разорвать, потому что в большинстве случаев не замечает и не видит его, и благодаря которому он зайдет в такую трясину, где нет просвета и из которой нет выхода. Какая-то беспощадная и безжалостная рука властно распоряжается человеческой судьбой и вопреки всяким надеждам и планам рисует на ней свои собственные узоры[504].
Если Альбов к «стихийным силам», этим «настоящим деятелям» в романах писателя, наряду с деньгами, банками, золотом и т. д. причисляет наследственность[505], указывая тем самым на сочетание естественных и социальных сил[506], то пореволюционные критики игнорируют биологическую грань произведений Мамина-Сибиряка, видя в нем лишь добросовестного бытописателя, повествующего о продвижении индустриализации вглубь Урала и западных районов Сибири, а также о переходе от аграрного патриархального общества к раннекапиталистическому. Первозданные силы хаоса, царящие в художественном мире Мамина-Сибиряка, рассматриваются исключительно как (исторически необходимая в марксистском понимании) власть капитализма, закономерности которого, согласно советскому литературоведению, и исследует писатель:
Хаос частных, индивидуальных отношений отражает случайность, неупорядоченность действительности. Но над этим миром случайности встает внеличная механика капиталистических отношений – подлинный сюжет романа, неумолимая сила, определяющая судьбу персонажа[507].
В этом контексте семейное вырождение расценивается как всецело социальный феномен, неизбежный результат «тлетворного влияния праздной жизни» на буржуазную семью, «историческое возмездие за социальную неправду, которую несет с собою капиталистический строй»[508].
Задача дальнейшего обсуждения заключается не в критике «идеологических очков» – и без того хорошо известных, – сквозь которые советское литературоведение рассматривало социальный роман XIX века. Для нас важно другое: показать, что именно на этом биологическом уровне, который до сих пор обходили вниманием, наиболее отчетливо проявляется противодискурсивный аспект творчества Мамина-Сибиряка и прослеживается критическое осмысление писателем современной ему литературы. С этой точки зрения капиталистический строй тоже предстает фаталистической природной силой, чьи законы в конечном счете непостижимы[509]. Последовательно проводя позитивистскую, натуралистическую программу исследования не метафизических истин, а непосредственных причин вещей, Мамин-Сибиряк разоблачает фиктивность априорных универсалий. За непосредственными причинами явлений, всегда обусловленными ситуативно, раскинулись дебри знаков, расшифровать которые человек не в силах.
Действие «Приваловских миллионов», разворачивающееся в 1870‐х годах, открывается возвращением Сергея Привалова, наследника династии золотопромышленников и владельцев железоделательных заводов, в уездный город Узел[510] после нескольких лет жизни в Петербурге. Вокруг него и его наследства («миллионы», как следует из заглавия, выступают полноправными героями романа) плетется паутина алчности, интриг и страстей, которая затрагивает все провинциальное общество и в которую попадается слабовольный, нерешительный Привалов. Он собирается вступить в права наследства с намерением возместить «моральный долг» тысячам заводских рабочих, эксплуатируя которых его предки нажили состояние, и башкирам, у которых за бесценок скупили землю[511]. Эти проникнутые народническим идеализмом планы наталкиваются на сопротивление и непонимание.
Частичному восстановлению справедливости также служит организованное и руководимое лично Приваловым строительство мельницы, которое он воспринимает как первый шаг к широкому развитию хлеботорговли, призванному избавить жителей Урала от проклятия голода. За имуществом Привалова пристально следят два бесчестных опекуна, Половодов и Ляховский, которые обогащаются за счет приваловских железоделательных Шатровских заводов и доводят их до окончательного разорения – разорения, начавшегося еще при предыдущем поколении Приваловых, когда сначала отец Сергея, Александр, а затем его вторая жена, цыганка Стеша, истратили семейное состояние на роскошь и оргии.
Желая отвлечь Сергея Привалова от хлопот о наследстве, его опекуны, особенно Половодов, плетут интриги, основанные на «научном» предположении о «вырожденчестве» Привалова. Рассчитывая на заложенную в приваловской наследственности слабость к женскому полу, Половодов сводит Сергея сначала с собственной женой, а затем с дочерью Ляховского Зосей, в которую влюблен сам и на которой впоследствии женится Привалов. Трясина общества, где властвуют неконтролируемые импульсы и сплетни, постепенно душит филантропические мечты Привалова. Но вместе с тем терпят крах и планы его противников. Для покрытия казенного долга приваловских железоделательных заводов их пустили с молотка, так что «от приваловских миллионов даже дыму не осталось»[512].
Половодов, бежавший с Зосей в Париж, стреляется. Привалов разводится с Зосей и женится на своей первой любви – Наде Бахаревой, дочери Василия Бахарева, многолетнего делового партнера Приваловых, в доме которого Сергей воспитывался после трагической смерти матери. В эпилоге мы видим супругов Приваловых в деревне Гарчики, где Привалов занимается мельницей, а Надя обучает крестьянских детей. После описания этой частичной реализации народнических планов героя сообщается, что у рода Приваловых появился наследник[513]. Ведя за руку маленького Павла, старый Бахарев рассуждает: если и «разлетелись дымом приваловские миллионы, то он не дал погибнуть крепкому приваловскому роду»[514].
Специфика изображения наследственности и вырождения в «Приваловских миллионах» заключается, как сказано выше, в том, что от эпистемологической глубинной структуры, которой рассказчик и персонажи в начале истории приписывали возможность моделировать действительность, в конце ничего не остается. Наследственность и вырождение предстают во всей «абсурдности» (в результате сведения к абсурду) априорных универсалий, которые обосновывают действительность, при этом сами обоснованию не поддаваясь. Весь фиктивный мир романа, включая протагониста Сергея Привалова, верит в существование и действенность концепций наследственности и вырождения, которые, таким образом, предстают неотъемлемыми составляющими общего знания (doxa) на Урале. Если учесть, что к началу 1880‐х годов теория вырождения еще не успела распространиться в России настолько, чтобы прочно войти в «уральскую доксу», то напрашивается вывод, что doxa, созданная Маминым-Сибиряком, восходит к литературе натурализма и возникает на интертекстуальном фоне творчества Золя[515]. Однако развитие романного сюжета сводит предполагаемый дегенеративный процесс к абсурду: Привалов не только не деградирует сам, но и обзаводится здоровым потомством. Таким образом, концепция вырождения разоблачается как фиктивная модель, якобы позволяющая обнаружить в жизни, особенно в патологической ее стороне, смысл, которого в них на самом деле нет. В конце романа остается лишь власть чистого случая, которым и определяются события, не укладывающиеся в теорию и не поддающиеся научной интерпретации.
Контрфактуальное разоблачение фантазматической природы дегенерации происходит не в последнюю очередь путем обращения к эпистемологическому полю наследия[516], в котором биологическое понятие наследственности переплетается с юридической категорией наследства[517]. Как убедительно показал Карлос Лопес-Бельтран, выражение биологической идеи наследственности в форме существительного (лат. hereditas, фр. hérédité, англ. heredity, нем. Vererbung) – это черта XIX столетия, «овеществляющего» таким образом известную со времен Античности аналогию между передачей имущества или титулов и передачей телесных и нравственных качеств из поколения в поколение[518]. В медицинской традиции Аристотеля, Гиппократа и Галена этой аналогией пользовались при описании наследственных болезней, причем употребительной была лишь форма прилагательного (haereditarii morbi)[519]. После 1830 года французские врачи впервые используют существительное hérédité в контексте новых физиологических теорий, придав этому понятию онтологический аспект, которым оно прежде не обладало:
Эта замена прилагательного существительным указывает на переход от аналогии (или метафоры) к прямому, онтологическому признанию референта соответствующего понятия. Иными словами, этот сдвиг знаменует собой завершение процесса реификации, начавшегося, быть может, за много веков до этого (когда греческие врачи взяли на вооружение термин «наследственный»)[520].
Этот «эпохальный сдвиг»[521] от метафорического употребления понятия «наследственный» к причинно-следственной объяснительной модели «наследственность» в медицине и биологии XIX века совершается и в России. Как и в Германии и в Англии[522], происходит это лишь в 1870‐х годах в связи с восприятием эволюционной теории Дарвина. Так, если в 1830‐х или 1850‐х еще говорят о «наследственном помешательстве»[523], то начиная с 1870‐х годов все чаще можно встретить понятия «наследственность» или «закон наследственности»[524]. Теория вырождения, ставшая главной движущей силой распространения концепта наследственности[525], способствует развитию российской науки о наследственности, из рядов которой на рубеже веков выйдут такие всемирно признанные специалисты, как Исаак Оршанский[526].
Обращение к научной концепции наследственности в «Приваловских миллионах» примечательно тем, что Мамин-Сибиряк «обращает вспять» историческое развитие этой идеи, вкратце обрисованное выше. Текст возвращает понятию наследственности, ставшему катахрезой, или мертвой метафорой, его первоначальную полисемию путем нарративного соединения с его nomen proprium, наследством. Такое «возрождение» научной метафоры, уже не воспринимаемой в качестве таковой[527], раскрывает, с одной стороны, ее исходную роль аналогической вспомогательной конструкции и, с другой стороны, неустойчивый и неопределенный онтологический статус закона наследственности. В конце истории бесследно рассеивается и порченый «генетический», и денежный капитал последнего Привалова; интриги вокруг приваловского наследства, сплетенные в расчете на приваловскую наследственность, и соответствующие стратегии терпят крах. Действия, в основе которых лежит концепция наследственности (и потому сама эта концепция), сводятся к абсурду, т. е. разоблачаются как сверхсемиотизация.
Возвращение от моносемичного понятия наследственности к полисемичному удается Мамину-Сибиряку не в последнюю очередь благодаря использованию одного и того же существительного – «наследство» – как в прямом значении, так и в переносном смысле биологической наследственности. Присутствие в тексте существительного «наследственность» и прилагательного «наследственный», передающих в русском языке XIX века биологизацию идеи наследования, свидетельствует о том, что речь идет не о (новой) катахрезе, а о сознательном использовании полисемии[528]. Персонажи, однако, преимущественно употребляют слово «наследство» и как nomen proprium, и как nomen improprium. Это видно из примера, в котором Половодов разъясняет Зосе «закон природы» вырождения Привалова и его «двойного наследства» с энтузиазмом (и риторикой) позитивиста:
– Обратите внимание, Привалов – последняя отрасль Гуляевых и Приваловых, следовательно, в нем должны перемешаться родовые черты этих фамилий: предрасположение к мистицизму, наконец – самодурство и болезненная чувствительность. Привалов является выродком, следовательно, в нем ярче и шире оставили свои следы наследственные пороки и недостатки, чем достоинства. Это закон природы, хотя известным образованием и выдержкой может быть прикрыто очень многое. Ведь вместе с своими миллионами Привалов получил еще большое наследство в лице того темного прошлого, какое стоит за его фамилией[529].
Опираясь на естественный закон дегенеративной наследственности, Половодов и дядя его жены Оскар Филипыч («дядюшка») вынашивают план воспользоваться наследственной слабостью Привалова к женщинам, чтобы помешать ему хлопотать о наследстве:
– Привалов очень сложная натура, хотя он кажется простачком. В нем постоянно происходит внутренняя борьба… Ведь вместе с правами на наследство он получил много недостатков и слабостей от своих предков. Вот для вас эти слабости-то и имеют особенную важность.
– Совершенно верно: Привалов – представитель выродившейся семьи.
– Да, да… И между прочим он унаследовал одну капитальнейшую слабость: это – любовь к женщинам.
– Привалов?!
– О, да… Могу вас уверить. Вот на эту сторону его характера вам и нужно действовать. Ведь женщины всесильны, Александр Павлыч, – уже с улыбкой прибавил дядюшка[530].
Именно здесь проявляется предопределяющая сила нарратива, которому приписываются такие широкие возможности моделирования действительности, что персонажи строят на их основе далеко идущие расчеты. Выражение «капитальная слабость», которым Оскар Филипыч описывает врожденное пристрастие Привалова к женщинам, раскрывает аналогию с точки зрения кумулятивного наследования, общепринятой в научном дискурсе эпохи[531]. Аналогия эта становится развернутой метафорой, пронизывающей весь роман. Помимо Привалова, она применяется и к другим персонажам, в частности к детям Ляховского[532]. Вера в естественный закон вырождения, в его роковую необратимость охватывает весь вымышленный мир Узла; у нее есть лишь сторонники и ни одного оппонента. Так, Привалов, почти не расходясь в этом вопросе со своим противником Половодовым, понимает идею вырождения как теорему, объясняющую целый ряд фактов его собственной жизни, на первый взгляд обрывочных и бессвязных. В беседе с Надей он говорит:
– Вы обратите внимание на отсутствие последовательности в отдельных действиях, – говорил Привалов. – Все идет скачками… Целое приходится восстановлять по разрозненным звеньям и обрывкам. ‹…› Но, чтобы понять всего человека, нужно взять его в целом, не с одним только его личным прошедшим, а со всей совокупностью унаследованных им особенностей и характерных признаков, которые гнездятся в его крови. Вот если рассматривать с этой точки зрения все те факты, о которых я сейчас рассказываю, тогда вся картина освещается вполне… Пред вами во весь рост встает типичный представитель выродившейся семьи, которого не могут спасти самые лучшие стремления[533].
Привалов удивительно ясно размышляет о якобы лежащем в основе романа нарративе, через призму которого можно истолковать многослойную, сложную и разорванную действительность. К такому прочтению, составляющему ложную посылку контрфактуального сведения к абсурду, словно бы подталкивает читателя и рассказчик, посвящая целую главу первой книги аналептическому изложению истории семьи Приваловых как истории вырождения[534]. Это аналептическое отступление, неотъемлемая часть романа о вырождении (гл. II.2), содержит сюжет второго романа запланированной, но так и не написанной трилогии о семействе Приваловых и начинается с женитьбы Александра Привалова, отца Сергея, на дочери золотопромышленника Павла Гуляева. Опустив историю основания приваловского предприятия в XVIII веке волевым и жестоким Титом Приваловым[535] (предполагаемый сюжет первого из задуманных романов), рассказчик описывает упадок приваловских заводов в 1840‐х годах, сопровождающийся вырождением «приваловской крови». Объединение с гуляевским капиталом (понятым еще и как капитал здоровых нервов) бессильно остановить обе формы упадка. После смерти Павла Гуляева ничто не ограничивает разврат и деградацию Александра Привалова:
Александр Привалов, потерявший голову в этой бесконечной оргии, совсем изменился и, как говорили о нем, задурил. Вконец притупившиеся нервы и расслабленные развратом чувства не могли уже возбуждаться вином и удовольствиями: нужны были человеческие страдания, стоны, вопли, человеческая кровь[536].
В результате жена его скончалась, а сам он окончательно «задурил». Сначала кажется, что развитие сюжета соответствует нарративу о вырождении: Привалов действительно вступает в связь с женой Половодова и пренебрегает личной поездкой в Петербург по делу об опеке, решение которого и стремятся затянуть его противники. Его последующая женитьба на дочери Ляховского Зосе – отчасти дело рук Половодова, использующего слабоволие и бесхарактерность Привалова для дальнейшей беспрепятственной эксплуатации Шатровских заводов[537]. Несложившаяся семейная жизнь с Зосей поначалу тоже вписывается в нарратив о вырождении, поскольку Привалов предается пьянству и азартным играм, т. е. движется верным путем к психофизической деградации в классически натуралистическом смысле.
Этот мнимый дегенеративный процесс, однако, оказывается лишь временным жизненным кризисом, не изменяющим существенно личность героя. Кроме того, общая неопределенность характера Привалова (примечательно, что Мамин-Сибиряк воздерживается от описания его внешности) не позволяет сделать выводов о каком-либо положительном или отрицательном развитии. Образ Привалова статичен; сцену романного действия герой покидает таким же, каким впервые на ней появился. Текст даже намекает на телесное «возрождение» Привалова, когда тот, выбравшись из неврастенической трясины узловского общества, посвящает себя хлеботорговому проекту в Гарчиках. На первый взгляд это указывает на излечимость дегенеративных состояний при помощи здоровой, далекой от «нервозности» жизни в деревне, т. е. на возможность «гигиенической» меры, которую действительно предусматривает научная теория вырождения[538].
В случае Привалова, однако, речь идет не о процессе возрождения (не получающем никакого повествовательного развития), а скорее о парадигматически повторяющемся состоянии телесного и душевного благополучия или равновесия, которое Привалов каждый раз испытывает в деревне. Здоровая уравновешенность и неврастеническая неуравновешенность проявляются у Привалова в зависимости от ситуации. Они не связаны с наследственной предрасположенностью и не становятся приобретенными органическими качествами. Патологическое у Мамина-Сибиряка носит принципиально случайный характер, не объяснимый никакой научной теорией. Недаром дегенерации протагониста, ожидаемой с научной точки зрения, однако так и не наступающей, противопоставляется психофизический упадок Максима Лоскутова, спутника жизни Нади Бахаревой, вызванный «каким-то мудреным нервным расстройством»[539]. Это не поддающееся медицинской диагностике расстройство лишает больного жизненных сил, вызывает бредовые идеи и оканчивается мучительной смертью[540]. Участь Лоскутова, не вписанная ни в какую линию наследственности, показывает, что, хотя патологические процессы разрушения являются наблюдаемой реальностью, их невозможно объяснить при помощи нарратива вырождения. Тот факт, что вырождение настигает «не того» персонажа «Приваловских миллионов», наглядно демонстрирует бессмысленность научного разграничения нормы и патологии.
По мере того как развитие сюжета разоблачает фиктивность биологической концепции наследственности, улетучивается и сам предмет первоначального семантического поля «наследия» – «миллионы» Привалова, от которых, как сказано выше, «даже дыму не осталось». Отношение аналогии между обеими формами наследственной передачи раскрывается в повествовании в том смысле, что поначалу существование миллионов предстает чем-то бесспорным в рамках той же doxa, в которой вырождение Приваловых рассматривается как научный факт. Так, Хиония Заплатина, представительница, а в известной степени и воплощение узловского мира сплетен, восклицает в разговоре: «Ах, господи, господи!.. ‹…› И что вам за охота противоречить, когда всем, решительно всем известно, что Привалов получит три миллиона. Да-с, три, три, три!..»[541]
Показательно и описание безудержного распространения слухов о приваловском наследстве: «Наследство Привалова в эти несколько дней выросло до ста миллионов, и кроме того, ходили самые упорные слухи о каких-то зарытых сокровищах, которые остались после старика Гуляева»[542]. Гарантом существования миллионов выступает сам Привалов, что превращает его в метонимию собственного наследства. Это видно из сцены в гостиной Агриппины Филипьевны, тещи Половодова:
Когда дверь затворилась за Приваловым и Nicolas, в гостиной Агриппины Филипьевны несколько секунд стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том же – о приваловских миллионах, которые сейчас вот были здесь, сидели вот на этом самом кресле, пили кофе из этого стакана, и теперь ничего не осталось… Дядюшка, вытянув шею, внимательно осмотрел кресло, на котором сидел Привалов, и даже пощупал сиденье, точно на нем могли остаться следы приваловских миллионов[543].
Отношение сходства сменяется отношением смежности, т. е. самым радикальным тропом замещения, и означает «материализацию» денег в фигуре Привалова.
Вместе с тем, однако, роман с самого начала предлагает и альтернативную, скептическую интерпретацию онтологического статуса наследства, которая ставит под вопрос не только возможность его исчисления (так поступает и сам Привалов), но и его референциальность. В романе дважды, в начале и в конце, возникает фигура старого сумасшедшего Полуянова, с которым Привалов оба раза сталкивается неожиданно. Полуянов рассказывает о судебном процессе, с помощью которого надеется вернуть имущество, которого лишился. Он показывает Привалову бумаги и документы, собранные им в подтверждение своих имущественных прав: «В развязанной пачке оказался всякий хлам: театральные афиши, билеты от давно разыгранной лотереи, объявления разных магазинов, даже пестрые этикеты с ситцев и лекарств»[544].
Сцена эта, впоследствии повторяющаяся еще раз[545], воплощает принцип mise en abyme и символизирует безнадежность хлопот Привалова о наследстве, а пачка бесполезных бумаг Полуянова олицетворяет отсутствие у приваловского наследства, как и вообще у денег и капитала в мире Мамина-Сибиряка, реального референта[546]. При этом прослеживается общий метонимический ряд, который ведет от бумаг, подтверждающих имущественные права, к деньгам, исчисляющим имущество. Таким образом, деньги сводятся к чисто материальному аспекту, лишенному всякой ценности, и предстают абстрактным, произвольным знаком, который отсылает к самому себе и носит конвенциональный характер. Эпизоды с Полуяновым дополнительно подчеркивают несоответствие воображения и реальности, свойственное дискурсу о приваловском наследстве, т. е. о символической избыточности приваловского наследия.
Такую семантику денег в романе также иллюстрирует сцена, когда Ляховский объясняет растерянному Привалову выкладки из финансового отчета об управлении приваловскими заводами. Устроенный Ляховским «цифровой фейерверк» превращает приваловский капитал в числовую фантасмагорию, которая, «материализуясь» в пространстве, обнаруживает свою самореференциальность:
‹…› были тут целые столбцы цифр, средние выводы за трехлетия и пятилетия, сравнительные итоги приходов и расходов, цифровые аналогии, сметы, соображения, проекты; цифры так и сыпались, точно Ляховский задался специальной целью наполнить ими всю комнату. Привалов с напряженным вниманием следил за этим цифровым фейерверком, пока у него совсем не закружилась голова, и он готов был сознаться, что начинает теряться в этом лесе цифр[547].
В связи с этим важно то обстоятельство, что наследство Привалова, пусть и выраженное в таком недвижимом имуществе, как Шатровские заводы, посредством денежного исчисления приобретает абстрактный, «движимый» статус. Подобный подход к семантике денег, характерный для модерна в целом[548], отличает «Приваловские миллионы» от других романов о вырождении, в которых материальное (и духовное) наследие семьи связывается с такими местами, как замки или дома, чья конкретная сущность соответствует натуралистическому концепту наследственности[549]. У Мамина-Сибиряка, напротив, отсутствие у наследства реального референта рождает онтологическое смятение как на имущественном, так и на биологическом уровне.
Моделирование дегенерации как симулякра, как знака, симулирующего наличие глубинно-структурного, эпистемологического референта, за которым, однако, открывается пустота, является, если воспользоваться термином Юрия Лотмана[550], минус-приемом. Этот минус-прием обнаруживает иные основания действительности, не укладывающиеся в концепцию вырождения: мир неукротимого, первозданного хаоса, где властвуют силы, управляющие жизнью человека непостижимым и непредсказуемым для него образом[551]. Яркий пример изображения этой природной, стихийной глубинной структуры – описание ярмарки в городе Ирбите, куда Привалов сопровождает своего друга и адвоката Nicolas Веревкина. Ярмарка представляет собой своеобразный микрокосмос, в котором естественное и социальное насилие, в макрокосмосе действующее как бы «подспудно», выходит на поверхность и становится наблюдаемым. В размышлениях Привалова выражается бессилие человека, способного быть лишь безвольной частью пребывающего в постоянном движении целого, метафорически именуемого «морем» и «колесом»:
Это было настоящее ярмарочное море, в котором тонул всякий, кто попадал сюда. ‹…› При первом ошеломляющем впечатлении казалось, что катилось какое-то громадное колесо, вместе с которым катились и барахтались десятки тысяч людей, оглашая воздух безобразным стоном. ‹…› oн только чувствовал себя частью этого громадного целого, которое шевелилось в партере, как тысячеголовое чудовище. Ведь это целое было неизмеримо велико и влекло к себе с такой неудержимой силой… ‹…› Он сознавал себя именно той жалкой единицей, которая служит только материалом в какой-то сильной творческой руке[552].
В этом микрокосмосе азартная игра с ее стремительными выигрышами и проигрышами символизирует случайность обогащения. В «нормальной» жизни людям кажется, что они установили законы накопления капитала, однако на самом деле это иллюзия. Баснословные суммы, которые Иван Яковлевич Веревкин, отец Nicolas, выигрывает в карты за одну ночь и тут же проигрывает, подобны тем многочисленным – быстро приобретаемым и легко теряемым на Урале и в Сибири вследствие рискованных спекуляций – «приваловским миллионам», которые находятся в центре и других романов Мамина-Сибиряка, таких как «Золото» и «Хлеб».
В натуралистическом мире Мамина-Сибиряка персонажи предоставлены произволу неподвластных им природных и социальных сил. По этой причине они не способны к действиям, обладающим событийным статусом и ведущим к существенным переменам. Их поступки ничего не решают: не они не действует, что-то происходит с ними. С этой же точки зрения следует рассматривать и систему персонажей романа. Поначалу кажется, что в ее основе, как обыкновенно бывает в романе о вырождении, лежит обусловленная нарративом о борьбе за существование дихотомия персонажей: с одной стороны – больных и слабовольных, с другой – здоровых и деятельных (гл. II.2). В тексте моделируются оппозиции между Приваловым и «человеком действия» Костей Бахаревым, управляющим Шатровских заводов, который пытается освободить их от долгов, и между Приваловым и Половодовым. Рассказчик отмечает «особенно развитую» нижнюю челюсть последнего, при поглощении пищи работающую с большой «энергией»[553], в какой-то мере предвосхищая семантику здоровых и больных зубов в «Будденброках» Томаса Манна.
Однако развитие сюжета, в котором успех или неудача персонажей не зависят от их личной жизненной силы, ставит под сомнение и этот структурный элемент романа о вырождении. Костя Бахарев в какой-то момент оставляет заботы о судьбе Шатровских заводов. Половодов тоже не может вечно строить козни; в конце концов он накладывает на себя руки. Символом непостижимых, хаотичных сил, с которыми не способны совладать персонажи, не в последнюю очередь выступают петербургские власти (контрольные ведомства, горный департамент, дворянская опека, министерство и Сенат): за ними в вопросе о приваловском наследстве остается последнее слово, и на них пытаются повлиять и Привалов, и Половодов. Эти инстанции, о которых постоянно говорится, но которые никогда не изображаются напрямую, принимают решения, подобные приговору высших метафизических сил[554]. В таком мире, где горизонт человеческого восприятия ограничивается контингентностью, которую следует фаталистически принимать, нарратив о вырождении с его телеологической причинностью теряет всякие основания.
Роман «Приваловские миллионы», нанесший повествованию о дегенерации своеобразный «смертельный удар», знаменует собой лишь окончание первой, преимущественно внутрилитературной фазы российского дискурса о вырождении. С появлением российской психиатрии как научной дисциплины в середине 1880‐х годов начинается новая, теперь уже интердискурсивная волна русских повествовательных текстов о вырождении, основанных на тесном взаимодействии литературы и психиатрии и стремящихся дать нарративно-медицинскую интерпретацию модерна как «нервного века» (гл. IV.1–3).
IV. Нервный век. Вырождение, неврастения и эпоха модерна
Отпрыск угасающего рода Арсеньевых Антон, главный герой романа А. В. Амфитеатрова «Восьмидесятники» (1903) – этой энциклопедии русской жизни 1880‐х годов, – так рассуждает о распространении понятия «вырождение»: «Теперь вошел в моду и повсюду в ходу термин „вырождение“; повторяют его при каждом сомнительном психическом случае и суют кстати и некстати в объяснение каждой нравственной аномалии»[555].
Несмотря на явную иронию по поводу злоупотребления диагнозом «вырождение», более характерную для рубежа веков, нежели для времени действия романа[556], цикл Амфитеатрова, отмеченный влиянием Золя, изображает становление и распространение концепции вырождения в России эпохи Александра III[557]. Если в конце 1870‐х – начале 1880‐х годов ведущую роль в формировании дискурсивного поля вырождения, или дегенерации, играла русская литература (гл. II и III), к которой вскоре присоединилась публицистика[558], то с середины 1880‐х главным движителем быстрого распространения дискурса о вырождении в России становится, как и в Западной Европе, психиатрия[559]. Русская психиатрия, институциональное становление которой приходится на 1880‐е годы, активно использует разработанную Б. О. Морелем и В. Маньяном концепцию вырождения (гл. II.1) в качестве универсального метода диагностики нервных и душевных заболеваний, а также «социальных патологий», таких как преступность[560], алкоголизм, проституция, сексуальные[561] и религиозные[562] отклонения.
Часть IV настоящей книги посвящена одному из главных аспектов дискурса о вырождении – взаимосвязи модерна, неврастении и дегенерации[563]. В этой главе показано, как русская психиатрия и литература, теперь непосредственно взаимодействующие друг с другом, используют соответствующие нарративные структуры для изображения и интерпретации модерна как «нервного века» (Р. фон Крафт-Эбинг). В главе IV.1 рассматривается широкий контекст распространения биомедицинских дискурсов в России конца царской эпохи, а также современные научные дискуссии и поясняется роль теории вырождения в становлении русской психиатрии. При этом особый акцент делается на соединении понятий вырождения и «нервной слабости», под знаком которого в России воспринимают учение Джорджа Миллера Бирда о неврастении. Как и в немецкой и французской психиатрии конца XIX столетия, функциональное ослабление нервной системы нередко воспринимается русскими психиатрами как симптом усиливающегося, потенциально ведущего к дегенерации нервного истощения. В этом контексте неврастения оказывается уже не функциональным заболеванием развитой цивилизации, а одним из первых симптомов коллективного вырождения.
Часть российских психиатров, особенно представители возглавляемой П. И. Ковалевским харьковской школы, используют нарратив о неврастении и дегенерации с намерением вписать психиатрию в консервативный, антимодернистский политический дискурс эпохи Александра III и обосновать его с медицинской точки зрения. Повествовательная модель индивидуальных дегенеративных процессов переносится на российскую культуру в целом, причем отправная точка «эпидемического» распространения неврозов, психозов и социальных отклонений усматривается в «Великих реформах» 1860‐х годов. Интерпретационная сила психиатрии во многом проистекает из способности сводить всю сложность социальных феноменов модернизации и ее негативных последствий к простой медицинской объяснительной схеме, позволяющей «обуздать» и преодолеть подобные явления.
Интеграция учения о неврастении в теорию вырождения означает не только новое этиологическое объяснение нервных расстройств, но и – прежде всего – соединение Бирдовой концепции неврастении с повествовательной моделью дегенерации. Опираясь на уже рассмотренную (гл. II.1) функцию производства знания, которую в теории вырождения выполняют повествовательные структуры, я перейду (гл. IV.2) к анализу нарративного объединения неврастении и дегенерации на примере вымышленной истории болезни, написанной П. И. Ковалевским. Нарративное воплощение концепций вырождения и неврастении, осуществленное Ковалевским, рассматривается в контексте слияния литературы и психопатологической науки, характерного для российской психиатрии рубежа веков[564]. Будет показано взаимодействие литературы и психиатрии, благодаря которому возникают особые, литературные эквиваленты концепции нервного вырождения. Российские психиатры, в частности В. Ф. Чиж, читают и интерпретируют литературные произведения в качестве клинических случаев, иллюстрирующих теорию вырождения особенно наглядно. Одновременно с этим такие русские писатели-натуралисты, как И. И. Ясинский («Старый сад», 1883) и П. Д. Боборыкин («Из новых», 1887), продолжают развивать русскую традицию романа о вырождении, сознательно придавая ему дополнительное измерение очевидного психо– и невропатологического характера. Тем самым русская словесность выходит за рамки того внутри– и металитературного контекста, который был свойствен первым романам о вырождении, критически осмыслявшим повествовательную модель Золя.
Специфика текстов Ясинского и Боборыкина состоит в том, что оба автора реализуют нарратив о вырождении путем инсценировки безуспешных попыток персонажей преодолеть биологически-семантическую границу между нормальным и патологическим. У Ясинского (гл. IV.2) граница эта совпадает с социокультурным рубежом между неврастеничной интеллигенцией, представленной последним, смертельно больным отпрыском помещичьей семьи, и здоровым, целеустремленным народом. Протагонист надеется, что сможет вылечиться от своего дегенеративного состояния, преодолев эту границу посредством любовного союза, понятого как слияние с «крестьянским элементом». Выздоровление выступает символом того преодоления пропасти между высшими и низшими социальными слоями, к которому стремились русские народники. Герой стремится вырваться из нарратива о вырождении, пытаясь влиться в чужой нарратив о возрождении, получивший развитие в народнической литературе того времени. Крах этой попытки перечеркивает «нарративную дерзость» протагониста и подтверждает всю непреодолимость нарратива о вырождении, который в данном случае одерживает верх над народнической повествовательной моделью, антидетерминистской и событийно насыщенной, благодаря своей эпистемологической и нарративной убедительности.
В социальном романе Боборыкина «Из новых» (гл. IV.3) инсценирована попытка героини вырваться из заранее заданной повествовательной схемы. Попытку эту тоже можно назвать проявлением «нарративной дерзости», так как в вопросе о собственном вырождении героиня достигает высокого уровня сознательности, что позволяет ей предаваться непрерывной рефлексии о своих неврозах и об их наследственном происхождении. Патологические расстройства, которыми она страдает, можно определить как симптомы неврастении: от малокровия и мигреней до припадков «столбняка». Все это укладывается в картину начальной стадии нервного истощения, усугубляющегося со временем и эксплицитно объясняемого наследственностью. Таким образом, Боборыкин перенимает постулированное наукой единство неврастении и дегенерации и кладет его в основу своего романа. Отличительная черта нарратива о вырождении в изображении Боборыкина состоит в надежде героини полностью подчинить себе этот нарратив, в который она попала «от рождения», благодаря осознанию своей болезни. Рассказчик, однако, «карает» ее за это стремление обрести свободу действий, демонстрируя в решающей сцене семиотическую слепоту героини.
Позволяя своим вырождающимся героям сопротивляться нарративу и вместе с тем обрекая их на поражение, Ясинский и Боборыкин вводят событийные элементы в повествовательную схему, которая сама по себе, как объяснялось выше (гл. II), чужда подлинной событийности. В отличие от Головлевых у Салтыкова-Щедрина (гл. II.4), осведомленных о вырождении своей семьи, однако не способных ничего предпринять, герои Ясинского и Боборыкина притязают на свободу действий, которая, впрочем, точно так же не приводит к существенному изменению их состояния. Детерминистские границы нарратива о вырождении, таким образом, проводятся во всей своей трагической непреодолимости[565].
Произведения Ясинского и Боборыкина не только составляют дальнейшую историю русского романа о вырождении, но и служат первыми примерами литературного «искусства нервов», которое литературоведы, сосредоточенные на классическом модернизме, прежде всего декадентстве и символизме[566], и пренебрегающие натурализмом[567], до сих пор обходили вниманием[568]. Вопреки литературно-исторической мифологеме, согласно которой русский модернизм создает «письмо нервов» ex nihilo, настоящая глава показывает: именно натурализм составляет недостающее звено между «патологическими случаями» в реалистическом романе и эстетизацией декаданса и упадка в модернистской литературе.
IV.1. Вырождающийся модерн. Дегенерация и неврастения в ранней российской психиатрии
5 января 1887 года в Большой аудитории московского Политехнического музея торжественно открылся первый съезд отечественных психиатров[569]. В нем участвовали ведущие представители молодой, едва начавшей институционально складываться дисциплины[570]: П. И. Ковалевский, в 1877 году возглавивший кафедру психиатрии Харьковского университета, основатель (1883) и редактор первого в России психиатрического журнала «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», инициатор съезда; И. А. Сикорский, в 1885 году ставший профессором психиатрии Киевского университета Святого Владимира и главный идеолог русского «расового национализма»[571]; А. Я. Кожевников и С. С. Корсаков из Москвы – последнего в том же году пригласят преподавать на впервые учрежденной в Московском университете кафедре психиатрии; Н. Н. Баженов, ученик Корсакова, с 1886 года – директор рязанской земской психиатрической больницы; И. П. Мержеевский, преемник И. М. Балинского на посту ординарного профессора первой в России кафедры психиатрии и нервных болезней при Императорской военно-медицинской академии в Петербурге, с 1883 года – редактор профессионального журнала «Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии»[572].
Мержеевский, избранный председателем съезда, произнес вступительное слово «Об условиях, благоприятствующих развитию душевных и нервных болезней в России, и о мерах, направленных к их уменьшению»[573]. Выступление Мержеевского имело отчетливо программный характер, так как ему важно было сообщить о возросшем институциональном и общественном значении отечественной психиатрии. Поэтому показателен тот факт, что речь эта насквозь проникнута теорией вырождения: оратор наглядно демонстрирует всю важность этой теории для российской психиатрии на начальном этапе ее развития.
В своем докладе Мержеевский рисует картину больной, вырождающейся России. По мнению ученого, патологическое состояние общественного организма проявляется в эпидемическом распространении душевных и нервных расстройств, передающихся детям от больных родителей. Результат этого процесса – «происхождение вырождающегося поколения, неспособного к развитию силы и энергии, необходимых для общественной деятельности»[574]. В согласии с теорией вырождения, созданной Б. О. Морелем и В. Маньяном (гл. II.1), Мержеевский считает наследственность первопричиной распространения душевных и нервных болезней, тем более что «опасность браков между лицами» с наследственной предрасположенностью усиливается тем обстоятельством, что «между вырожденными различных полов существуют нередко взаимные симпатии и влечения». Кроме того, подобные браки «по большей части богаты потомством и доставляют, следовательно, большой контингент вырожденных»[575]. В этом вопросе Мержеевский отходит от «утешительного» Морелева нарратива о вымирании выродившихся семейств на протяжении нескольких поколений, воспринимая идею бесконтрольного распространения дегенерации, свойственную позднейшей теории вырождения и позволившую психиатрам перенести индивидуальные патологические явления на общество в целом[576].
Представление Мержеевского об усилительном эффекте наследования душевных и нервных болезней всецело соответствует базовой модели вырождения, постулированной Морелем. Патологии эти восходят к общему «корню» – иными словами, нервному диатезу – и носят изменчивый, многообразный, прогрессирующий характер, вследствие чего нервные болезни от поколения к поколению выливаются в новые, все более острые психозы:
‹…› [Д]ушевные болезни и многие нервные происходят из одного общего корня и, связанные между собой родственными узами, подлежат закону превращений. Таким образом, нервные заболевания в одном поколении превращаются при неблагоприятных условиях в следующих поколениях в психозы, которые, в свою очередь, из более слабых переходят в более опасные, пока путем постепенного превращения не вырождается род[577].
Говоря об этиологии дегенерации, на первое место Мержеевский ставит пьянство, которое в теории вырождения традиционно считалось значительным фактором отравляющего ослабления нервной системы[578]. Алкоголизм нередко запускает роковую цепь патологий, приводя не только к социальным бедствиям, таким как нищета и преступность, но также к безумию и вырождению. Нарушение «регуляторной деятельности психических центров»[579] вследствие злоупотребления спиртным вызывает всевозможные психозы и сообщает алкоголику «признаки физического и психического вырождения»[580]. Поэтому его потомки наследуют не только и не столько алкоголизм (который может и не развиться), сколько предрасположенность к различным патологиям, среди которых «психозы, падучая болезнь, гидроцефализм»[581].
Когда Мержеевский начинает рассуждать о роли «среды», поставленный им России диагноз всеобщего вырождения приобретает отчетливый социально-исторический аспект. По мнению оратора, среда – наряду с наследственностью – играет важную роль в возникновении и развитии дегенеративных патологий. С одной стороны, неблагоприятные условия способствуют развитию психозов у «лиц, наследовавших болезненное расположение к помешательству»; с другой стороны, среда может губительно сказываться даже на здоровой нервной системе, вызывая «нервную слабость или неврастению, которую следует считать исходною точкою» цепи все более серьезных нервных и душевных болезней, охватывающих несколько поколений[582]. Примечательно, что первопричину отрицательного воздействия среды на имперский социальный организм Мержеевский усматривает в тех быстрых и радикальных преобразованиях в русском обществе, начало которым положили «Великие реформы» 1860‐х годов. Вызванное ими общее ускорение и усложнение жизни, полагает Мержеевский, потребовало от русских чрезмерного напряжения душевных сил, к которому люди оказались не подготовлены[583]. Новый экономический уклад жизни со свойственными ему стремительными взлетами и падениями, а также систему школьного образования, предъявляющую к юношеству завышенные требования, докладчик считает порождениями новой эпохи и вместе с тем причинами всеобщей нервозности, приведшей среди прочего к постоянной погоне за чувственными удовольствиями и вытекающему отсюда извращению половых инстинктов. Наглядным следствием этого явилось распространение сифилиса, отравляющего организм и заметно способствующего психофизическому вырождению народа[584]. Все эти факторы окончательно расшатали нервную систему индивидов более слабых, лишив их способности к сосредоточению, выносливости и самообладанию[585]. Подорванное нервное здоровье приводит к деградации логического мышления, делая вырождающихся людей падкими на «пессимистические философии»: от нигилизма до скопчества[586].
Другие выступления на первом съезде отечественных психиатров, включая заключительное слово И. А. Сикорского[587], повторяют и дополняют медико-социальный диагноз российской современности, поставленный Мержеевским с позиций теории вырождения, которая, таким образом, утверждается в качестве действенного инструмента адекватной интерпретации общественных «патологий», – невзирая на тот факт, что диагноз этот зиждется на умозрительной экстраполяции немногочисленных и к тому же ненадежных данных[588]. Московский съезд 1887 года продемонстрировал всю важность теории вырождения для молодой российской психиатрии, причем в двойном отношении. Во-первых, из произнесенных на съезде речей явствует, что большинство русских психиатров считают дегенеративную наследственность главной причиной возникновения и распространения душевных и нервных болезней. В этом пункте они следуют за психиатрией европейской, в которой теория вырождения была тогда на пике влияния. До появления новой классификации психических болезней, предложенной Эмилем Крепелином на исходе 1890‐х годов и на время покончившей с биологической психиатрией[589], такие ведущие немецкие психиатры, как Генрих Шюле и Рихард фон Крафт-Эбинг[590], были теоретиками вырождения и придерживались традиции Мореля – Маньяна[591]. О раннем восприятии теории вырождения в России свидетельствуют и многочисленные научные работы 1880‐х годов, в частности первый русский учебник психиатрии (1880), в котором прогрессирующая, изменчивая, охватывающая несколько поколений модель дегенерации выступает центральным моментом этиологии психических болезней[592]. В год первого съезда отечественных психиатров ежемесячник «Русская мысль» публикует пространную научно-популярную статью В. В. Лесевича, в которой автор знакомит широкие круги образованных читателей с теорией вырождения, поясняя ее важнейшее значение для современной психиатрии при помощи многочисленных отсылок к европейской и отечественной специальной литературе[593].
Во-вторых, очевидно, что русские психиатры с самого начала рассматривают вырождение и социальные девиации в тесной взаимосвязи. Сквозь призму теории вырождения разные приметы социального неблагополучия предстают патологиями, вызванными роковым стечением социальных факторов: прежде всего «губительных» процессов модернизации, а также унаследованных и передаваемых по наследству психофизических аномалий[594].
В такой двойной адаптации теории вырождения нет ничего удивительного, если принять во внимание, что российские психиатры того времени поддерживали тесный научный контакт с ведущими французскими и немецкими коллегами и публиковали свои труды в заграничных печатных органах[595]. Действуя в рамках международного scientific community, они разделяли с иностранными коллегами общие теоретические и методологические основы, важнейшей составляющей которых в 1880–1890‐х годах была концепция вырождения. Гораздо удивительнее тот факт, что до недавнего времени не появлялось научно-, культурно– и социально-исторических исследований той ведущей роли, которую теория эта сыграла на начальном этапе становления российской психиатрии[596]. В контексте концептуализации особых путей («Sonderwege») российской и советской культуры применительно к биомедицинским теориям и практикам исследователи обходили вниманием распространенность теории вырождения в российской психиатрии. Виной тому теоретические предпосылки разного толка: с одной стороны, преобладание «социального конструктивизма» в советской истории медицины; с другой стороны, неприятие западноевропейской русистикой фуколдианских моделей.
Советская история медицины с самого начала отрицала почти любое влияние теории вырождения на российскую психиатрию. В этом отношении ярким примером служит советский фундаментальный труд Т. И. Юдина (1951) по истории российской психиатрии. Автор решительно опровергает распространенность «мистической» и «антиматериалистической» теории вырождения в царской России[597]. Причины такой позиции носят чисто идеологический характер и формулируются с советской точки зрения радикального социального конструктивизма. Это видно, в частности, из следующего пассажа об А. У. Фрезе, авторе одного из первых российских учебников психиатрии[598]:
‹…› Фрезе выступал против учения Мореля о вырождении. ‹…› Фрезе ‹…› признавал ‹…› человека не только существом биологическим ‹…› но и деятелем в социальной среде. Он особенно настойчиво указывал на необходимость изменений условий быта, на воспитание в широком смысле этого слова, на способность человека овладевать средой[599].
В данном случае автору важно было опровергнуть влияние теории, в которой преобладал биологический детерминизм и которая поэтому, как и любой другой биологический концепт конца XIX столетия (в частности, расовая теория), считалась «реакционной»[600]. Типичный для советской историографии ретроспективный перенос советских догматов на дореволюционные эпохи с самого начала наделяет российскую психиатрию «иммунитетом» к идеям биологизма[601].
В постсоветской российской истории медицины элементы обсуждаемой объяснительной модели присутствуют лишь постольку, поскольку особый путь (Sonderweg) российских психиатров теперь усматривается в том обстоятельстве, что, восприняв теорию вырождения, они якобы считают среду более важным в этиологии вырождения фактором, чем наследственность, расходясь в этом пункте с немецкими и французскими коллегами[602]. Как уже пояснялось (гл. II.1), для теории вырождения характерно объединение эндогенных и экзогенных факторов, причем наследственности отводится ведущая роль механизма накопления и передачи патологий. Без наследственности вырождение невозможно. Поэтому в вопросе о его проявлениях русские психиатрические труды того времени нисколько не отличаются от французских или немецких, называя наследственность основной причиной дегенеративных заболеваний. Даже С. C. Корсаков, далекий, в противоположность тому же Ковалевскому, от взгляда на теорию вырождения как на главное объяснение любых нервных и душевных болезней[603], на страницах своего влиятельного «Курса психиатрии» (1893) в главе «Этиология душевных болезней» тоже причисляет наследственность к причинам душевных болезней вообще[604]. Логично, что наследственность служит первопричиной дегенеративных патологий:
Условиями для дегенерации человека служат различные моменты. Из них на первом плане стоит неблагоприятная наследственность, благодаря которой регресс, начавшийся в организме предков, передается из поколения в поколение и усиливается в потомках[605].
Впрочем, концептуализация особого русского пути в аспекте биомедицинских концепций, главенствовавших в Западной Европе XIX века, не является исключительным наследием советской культуры. Такой подход встречается и в западноевропейских исторических исследованиях, пусть и основанных на иных теоретических предпосылках. До недавнего времени западные исследователи придерживались точки зрения, что в Российской империи не могло утвердиться представление об обществе как о биологическом организме, которому свойственны как «здоровые», так и «патологические» состояния и который, следовательно, поддается «излечению» учеными экспертами (медиками, психиатрами, криминологами и т. д.). Народнически-романтическая идея общества как целостного организма, преобладавшая в России вплоть до XX века, якобы препятствовала диверсификации и стигматизации с позиций биологизма, о чем свидетельствует, например, предпочтение понятия «народность» термину «раса»[606]. Даже Лора Энгельштейн, которой русистика обязана долгожданным возвращением в научный оборот биомедицинских дискурсов о девиации поздней царской эпохи, полагает, что силу они обрели не ранее 1905 года:
Биологическая маргинализация таких подчиненных групп, как рабочие и женщины, сопутствовавшая консолидации буржуазной общественной жизни в западных странах XIX века, была поставлена на службу культурным целям российской профессиональной элиты лишь после существенного преобразования общественной сферы вследствие революции 1905 года. Только после сплоченного политического выступления рабочих, крестьян и представителей профессиональных групп, после того, как привилегированные слои гарантировали меру своей политической ответственности, биологический детерминизм, на Западе уже широко распространенный, начал приобретать заметное влияние[607].
Энгельштейн видит в этом следствие особенностей русской культуры поздней царской эпохи, якобы отличающих российскую эпоху модерна от западной и, соответственно, не позволяющих применить к Российской империи биополитические идеи М. Фуко[608]. В России XIX столетия, по мнению Энгельштейн, не наблюдается диспозитивов власти, характерных, согласно Фуко, для обществ Западной Европы: практик дисциплины и контроля, осуществляющих власть на основании не законов, а механизмов нормирования, опирающихся на научное знание[609]. Энгельштейн ставит под вопрос универсальный характер фуколдианской модели, согласно которой полицейское государство просвещенного абсолютизма, где на первом плане находятся право, закон и наказание, сменяется «либеральным» модерным государством, где власть и контроль осуществляются с помощью практик самоуправления. С точки зрения Энгельштейн, в Российской империи подобного модерного государства не возникло:
В Российской империи Старый режим дожил в почти неизменном виде до той эпохи, когда уже появились восходящие к западным практикам механизмы социального контроля и социальной самодисциплины. ‹…› Хотя западная культура распространилась в среде правительственной и гражданской элиты России, а западная модель во многом определила форму ее государственных и общественных структур, в русском контексте режим «власти-знания» так и не получил самостоятельного существования[610].
Хотя критика, которой Энгельштейн подвергает использование фуколдианской концепции модерна в качестве объяснительной модели позднего царизма, безусловно, справедлива, сделанные ею выводы о малой распространенности биомедицинских концепций в России XIX века спорны. Если Энгельштейн занимается исключительно дискурсом о сексуальных отклонениях[611], то новейшие исследования создали более широкую и многогранную картину становления и развития биологических дискурсов, тем самым убедительно опровергнув тезис об особом русском пути, отрицающий наличие и действенность в России соответствующих концепций. Основополагающими в этом отношении являются работы Дэниела Бира и Марины Могильнер, которые, используя чрезвычайно различные теоретико-методологические подходы, с позиций «археологии знания» извлекли из забвения российские биомедицинские дискурсы и практики конца царской эпохи[612]. При этом отчетливо проступает важнейшее для разных дисциплин (психиатрии, антропологии, криминологии, учения о наследственности и др.) значение теории вырождения как проводника биомедицинских социальных идей.
Хотя наличие и действенность в России конца XIX века психиатрической теории вырождения, а также соответствующего социокультурного дискурса уже не ставятся под сомнение, современные интерпретации их научно– и социально-исторической функции в биомедицинском дискурсивном поле того времени существенно разнятся. Дэниел Бир, скрупулезно исследующий психиатрический дискурс о вырождении наряду с биологистскими криминологическими и криминально-антропологическими концепциями преступности, а также с теорией психических эпидемий в психологии масс, поясняет ту роль, которую при переходе от царской России к молодому Советскому Союзу сыграли в концептуализации «либерального модерна» науки о человеке и их активные представители[613]. Бир оспаривает тезис Энгельштейн о том, что в России опирающийся на гуманитарные науки «модерный либерализм» оказался невозможен, утверждая, что в конце царской эпохи такие биомедицинские концепции, как вырождение, активно использовались – в качестве движущей силы «либерально-дисциплинарного» проекта «оздоровления» России – для концептуализации общественного организма в категориях нормы и патологии:
Установление социальной дисциплины стали рассматривать как необходимое предварительное условие построения гражданского общества в поздней Российской империи – проекта неизбежно принудительного. ‹…› В условиях накопления социальных патологий конца имперской эпохи идея возврата к защите человеческого права на личное самоопределение вела к отказу от социальной ответственности. Соответственно, не только радикальный, но и либеральный проект «оздоровления» являлся по определению принудительным[614].
Подчеркивая совпадения между политическим и научным дискурсами, Бир разъясняет, каким образом биомедицинский дискурс (прежде всего теория вырождения) переосмысляет прежнюю идеалистически-позитивистскую парадигму в медицинском ключе, тем самым лишая ее метафорического измерения, и как этот дискурс превращается в диагностический, терапевтический и репрессивный инструмент борьбы с девиантными социальными явлениями, понятыми как патологии, благодаря введению бинарного различия между нормальным/здоровым и ненормальным/болезненным. Российскую специфику этого дискурса Бир усматривает в том, что феномен вырождения наделяется амбивалентным статусом. Оно осмысляется одновременно как внешний и как внутренний элемент российского социального организма, поскольку представляет собой проявление «атавистического» состояния отсталой, нецивилизованной России и вместе с тем следствие «пагубных» процессов модернизации, таких как капитализм, урбанизация и т. д.:
В результате в российском обществе нельзя было обнаружить какого-либо социального «средства», которое определялось бы моральным или социальным поведением большинства подданных империи и притом служило бы оплотом нормальности и здоровья. Такого здорового большинства, быть может, и не существовало. Здоровье и нормальность следовало искать в проектах будущего общественного строя, предполагающего существенное преобразование нынешнего при активном участии самих наук о человеке. ‹…› В отличие от итальянских, французских или английских коллег, российские представители гуманитарных наук не могли стремиться к простой консолидации представления об уже существующей нормальности и оборонять его от наступающих сил хаоса и девиации. Скорее верно утверждение, что сама артикуляция нормальности требовала интеллектуального сопротивления пережиткам феодальных привилегий и порокам позднего царистского капитализма, не намеренного сдавать позиций. Словом, поиск нормальности выступал орудием борьбы за народное просвещение[615].
Таким образом, Бир выдвигает концепцию особой российской формы биополитической модерности, в которой центральная роль – согласно фуколдианской модели – отводится дискурсивному авторитету экспертов в сфере наук о человеке (психиатров, криминологов, психологов), но которая, однако, отличается от западноевропейской модерности пониманием девиации как повсеместно распространенного явления, – а потому прежде чем защищать нормальность, ее нужно достигнуть.
Совершенно иную интерпретацию биомедицинских дискурсов в России конца XIX столетия предлагает Марина Могильнер в работе о российской традиции «физической антропологии»[616]. Могильнер упрекает Бира в упрощении и гомогенизации российского контекста, по сути своей гетерогенного, в недифференцированном рассмотрении совершенно разных научных и идеологических позиций как равноценных составляющих единого, однородного биомедицинского дискурса, а главное – в невнимании к российской имперской ситуации, которой Могильнер приписывает основополагающее значение для биосоциального воображения эпохи[617]. Опираясь на новейшие исследования имперских культур как таких, которым присущи разнообразие и гетерогенность[618], Могильнер отстаивает точку зрения, согласно которой существовавшие в Российской империи представления о «норме» и «отклонении» зависели от контекста и варьировались, поскольку империя объединяла в себе многочисленные и частично несовместимые друг с другом социокультурные пространства, а такие категории, как «население» или «этническая принадлежность», отнюдь не имели четких границ[619].
По мнению Могильнер, гибкость имперского подхода к вопросам социальной и этнической гетерогенности закладывает основы специфики российского биомедицинского дискурса, для которого этот свойственный империи «стратегический релятивизм»[620] представлял эпистемологическую проблему, так как противоречил современным научным приемам нормирования и проведению отчетливых границ между нормальным и дегенеративным. Могильнер демонстрирует имперские стратегии приспособления русской биомедицинской науки на примере адаптации криминальной антропологии Чезаре Ломброзо, которая в России осмыслялась в свете теории вырождения[621]. Если Ломброзо считал разницу между нормальным и преступно-патологическим антропологически универсальной, то русские ученые склонны были интерпретировать фигуру «прирожденного преступника» как коллективную категорию, позволяющую стигматизировать целые социальные и этнические группы и тем самым контролировать имперское человеческое разнообразие[622]. Так, психиатры – теоретики русского национализма, в частности И. А. Сикорский, В. Ф. Чиж и П. И. Ковалевский, в зависимости от контекста диагностируют дегенеративные отклонения от нормы у татар, сектантов, евреев или кавказцев и стремятся достичь «имперского единообразия» путем очерчивания границ «здоровой» России[623]. В целом, однако, среди представителей российской криминальной антропологии можно констатировать широкий набор концепций «прирожденного преступника», отражающий гетерогенность российской имперской ситуации:
Некоторые представители российской криминальной антропологии отказывались считать кавказских горцев, отбывающих наказание в русских тюрьмах, «вырожденцами» на том основании, что с точки зрения родной культуры они воплощали собой все мыслимые добродетели. Другие бились над более общим вопросом о том, кого правильнее считать выродившейся и атавистической социально-биологической группой: кавказских абреков, русских проституток или еврейских содержателей публичных домов? В рамках таких адаптаций криминальной антропологии социальные, классовые, гендерные, этнические и биологические различия смешивались друг с другом, обнаруживая всеобъемлющую сложность российской имперской ситуации, не поддающейся поверхностным попыткам концептуализации однородных социально-биологических сущностей[624].
Современные научные дискуссии о биомедицинских дискурсах в России поздней царской эпохи, преимущественно вращающиеся, как сказано выше, вокруг интерпретации их главного элемента – дискурса о дегенерации, по большей части игнорируют нарративный потенциал теории вырождения, рассматривая ее исключительно как «концепт», «теорему» или «мотив»[625]. Однако в результате от внимания исследователей ускользает важнейший аспект понятия дегенерации, во многом определяющий его историческое значение в науке и культуре раннего модерна. Как было подробно изложено в главе II.1, концепция вырождения – это не только научная теория, но и прежде всего научный нарратив, возникший во французской психиатрии и сыгравший во второй половине XIX века ведущую роль в европейской психиатрии в целом, которая опиралась на неврологию. Вследствие этого – и помимо этого – концепция вырождения также превратилась в универсальный культурный нарратив раннего европейского модерна, в плодотворную модель интерпретации мира, позволяющую увязывать разные аспекты модернизации, понятые как патологические и опасные, в стройное медицинское повествование[626].
Концепция вырождения – один из важнейших «больших рассказов» ранней модерности, предлагающих разные способы «дедифференциации дифференцированного»[627]. Как дискурсивная модель самоописания она ограничивает и преодолевает сложность и случайность культурно– и социально-исторических явлений при помощи базовой повествовательной схемы, которую можно воспроизводить в бесконечных вариациях. Как «базовый сюжет» (masterplot) концепция эта, с одной стороны, позволяет выделить из неупорядоченного массива разрозненных состояний и событий значимые сегменты и провести через них смысловую линию, а с другой – обладает большой семантической обтекаемостью и открытостью, что сообщает ей чрезвычайную гибкость при включении разнородных элементов в повествовательную схему[628]. В этом смысле понимание социальной жизни в бинарных категориях здоровья и патологии через призму теории вырождения можно интерпретировать не только как выражение общей неудовлетворенности современников модерной эпохой. Верно, скорее, что нарратив о вырождении функционирует в качестве «катализатора дискурсивации модерна»[629], принимающей разные формы. В зависимости от научной дисциплины, идеологической направленности и культурного контекста нарратив о вырождении по-разному моделирует норму и отклонение, сохраняя при этом неизменную базовую схему. Единую функцию нарратива о вырождении невозможно выделить даже внутри отдельной культуры: его семантическая растяжимость – при постоянстве нарративной структуры – предопределяет вариативность применения.
Русский контекст в этом отношении особенно показателен. Вкратце рассмотренные выше исследовательские позиции, чрезвычайно разнящиеся между собой, отражают скорее существовавшее в те годы разнообразие использования и осмысления нарратива о вырождении, нежели наличие конкурирующих друг с другом интерпретаций одного и того же материала. В России конца XIX века нарратив этот использовался не только для имперской этнической дифференциации при помощи фигуры «прирожденного преступника», как предлагает считать Могильнер, и не только для создания либерального модернистского проекта «оздоровления» России, как утверждает Бир. Обе интерпретации основаны на избирательном внимании к историческим источникам и, соответственно, освещают лишь по одной из свойственных русскому модерну многочисленных моделей самоописания, отмеченных влиянием нарратива о вырождении. Так, ни одна из этих схем интерпретации не позволяет исчерпывающе объяснить вышеупомянутое вступительное слово Мержеевского на первом съезде отечественных психиатров, потому что речь эта в первую очередь программным образом выражает консервативные политические идеи, которых придерживаются ведущие российские психиатры эпохи, прежде всего в реакционное царствование Александра III. Социально-биологический диагноз, который, помимо Мержеевского, в 1880‐х – начале 1890‐х годов ставили русскому обществу Ковалевский и Чиж, призван подкрепить современную им правительственную – реакционную и антимодернистскую – позицию путем экспертного научного суждения, более или менее открыто относящего состояние «здоровой нормальности» к дореформенному прошлому. В этой дискурсивации модерна, происходящей в ранней российской психиатрии и до сих пор не получившей должного научного внимания, нарратив о вырождении играет ведущую роль[630].
Как показано выше, нарратив о вырождении не только позволяет Мержеевскому объяснить возникновение и развитие душевных и нервных болезней единственной причиной, но и функционирует как описательная модель российского модерна постольку, поскольку повествовательная схема индивидуальных дегенеративных нарушений переносится на всю русскую культуру тех лет. Отправной точкой «эпидемического» распространения неврозов и психозов Мержеевский считает «Великие реформы» 1860‐х годов. Такое отождествление выполняет, по аналогии с «трещиной» в семейной наследственности, функцию нарративной завязки, позволяющей сегментировать прошлое и выстроить линейную последовательность дегенеративных изменений (отражающую все большее эпидемическое распространение патологий) в соответствии с заранее известной схемой дегенерации:
Освобождение миллионов народа от их рабского состояния и забитости, из их умственной летаргии и пассивного положения, призвание их к живой деятельности и более самостоятельной жизни, в силу многих реформ минувшего царствования, выработало более спроса на умственный труд, более требований умственного ценза, более конкуренции и, следовательно, вызвало более умственного труда и более реакций на внешние события, более волнений; вообще, большей работы психического механизма и большей его порчи. Так как все эти реформы наступали быстро, можно сказать, внезапно, без предварительной подготовки умов к восприятию благодеяний новых начал, то возбуждение умов и чувств, ими вызванное, должно было произвести реакции, несоразмерные с привычной деятельностью мозга, и в некоторых случаях нарушить правильность его регуляции[631].
Правда, Мержеевский не называет перечисляемые далее «общественные патологии»: уродливые крайности капитализма, сифилис, половые извращения, нигилизм, самоубийство, а также религиозные отклонения (сектантство)[632], – прямым результатом реформ, однако уже сам хронологический порядок повествования подразумевает логическую преемственность, ибо то, что в повествовании следует одно за другим, воспринимается как вытекающее одно из другого[633].
Такая двойная семантика нарратива о вырождении как объяснительной модели индивидуальных и социальных патологий, а также повествовательное соотнесение отправной точки коллективного вырождения с каким-либо общественным переворотом чрезвычайно распространены в европейских культурах того периода. Так, в сочинении Р. фон Крафт-Эбинга «О здоровых и больных нервах» («Über gesunde und kranke Nerven», 1885), в свое время очень популярном, начало «всеобщей нервности» цивилизованного мира, «нервной напряженности масс» отождествляется с Великой французской революцией:
Великая французская революция уничтожила правовые и социальные отношения, просуществовавшие целые столетия, а нововведения, заступившие их место, еще не созрели и не успели достаточно привиться. Вследствие этого нарушилось равновесие, и теперь еще нам приходится считаться с последствиями этого сильного взрыва в народной истории Европы. ‹…› Свободные учреждения возникли в государствах, граждане которых недостаточно еще для этого созрели ‹…›[634].
Хотя для социальной диагностики нарушения «равновесия» (Крафт-Эбинг) коллективной нервной системы или «правильности ее регуляции» (Мержеевский) вследствие общественных преобразований оба автора используют похожую базовую риторико-нарративную структуру, их модели современности и свойственной ей системы координат нормы и девиации оказываются разными. Если Крафт-Эбинг прежде всего диагностирует нервную «напряженность» «современного человечества», т. е. предлагает взгляд на всю «современную культуру» с позиций культурного пессимизма[635], то Мержеевский концептуализирует все более усугубляющееся нарушение функций социального организма, выдвигая тем самым медицинскую модель специфически российской «изнанки модерна» как «изнанки „Великих реформ“».
Этой точки зрения придерживается в те же годы харьковский психиатр П. И. Ковалевский, автор первого русского учебника психиатрии[636], о чьей многогранной деятельности, включая издательскую, уже говорилось выше. В книге «Общая психопатология» (1886) он, признавая историческую необходимость реформ Александра II, рассматривает их как отправную точку патологического процесса разложения, выразившегося в распространении пагубной культуры «материализма и индивидуализма»[637]. В научно-популярном сочинении «Нервные болезни нашего общества» (1894), написанном под влиянием Крафт-Эбинга, Ковалевский говорит, что следствием реформенных преобразований явилось новое поколение молодых людей, разночинцев, получивших высшее образование, однако нередко лишенных твердых нравственных принципов: «Не имея в себе Бога, они бросились в объятия мамоны. Продажа совести и нравственная несдержанность ‹…› – представляли обычную окраску жизни»[638]. Ковалевский соотносит нравственные изъяны молодежи с неустойчивой, ослабленной нервной системой, несоответствие которой требованиям современной ускоренной жизни ведет к появлению разных форм неврастении:
Погоня за наживой потребовала крайнего напряжения энергии и труда: масса бессонных ночей, чрезмерный умственный труд, недостаток средств, ложный стыд, ложное самолюбие, нередкие сделки с совестью, – все это не могло не подорвать нервной системы молодых борцов и дать в основе неустойчивую нервную систему и все виды нейрастении[639].
Проникнутый культурным пессимизмом портрет «нервнобольного» поколения, нарисованный Ковалевским[640], представляет собой медицинское соответствие правительственному – консервативному – политическому дискурсу 1880–1890‐х годов, в котором «Великие реформы» считаются причиной современного кризиса и упадка. Вот лишь два примера этого дискурса, главными носителями которого были публицисты и государственные деятели, чья карьера пришлась на годы царствования Александра III[641]: «Современное состояние России и сословный вопрос» (1885) – трактат А. Д. Пазухина, правителя канцелярии министерства внутренних дел, возглавляемого Д. А. Толстым; и статья «Болезни нашего времени» (1896) К. П. Победоносцева, обер-прокурора Святейшего синода и ближайшего советника Александра III. Не вдаваясь в подробное обсуждение историко-политического подтекста этих сочинений, отмечу лишь использованный в них нарратив о кризисе, обнаруживающий удивительное сходство с психиатрическим нарративом о вырождении.
В своем трактате, вызвавшем широкий общественный резонанс, Пазухин утверждает: современный общественный кризис восходит к реформам 1860‐х годов[642]. Современность – эпоху беспорядков и дестабилизации – автор описывает при помощи старой органической метафоры общественного «разложения», которое уже в 1870‐х годах, придавая ей разную идеологическую окраску, использовали как народники[643], так и панслависты[644]:
Современное состояние России признается смутным и неопределенным. ‹…› Быстрое распространение анархических учений, падение всякого авторитета власти, развитие в обществе корыстных инстинктов, упадок религии, нравственности и семейного начала, – все эти факты, являясь признаками социального разложения, заставляют здоровые элементы задуматься над будущностью нашего отечества[645].
Спустя десятилетие после Пазухина Победоносцев, развенчивая либеральную идеологию в своей книге «Московский сборник» (1896), пишет о «болезнях нашего времени», к которым причисляет веру в прогресс и реформы: «Девятнадцатый век справедливо гордится тем, что он век преобразований. Но преобразовательное движение, во многих отношениях благодетельное, составляет в других отношениях и язву нашего времени»[646]. Риторика упадка, вдохновленная медицинской критикой культуры М. Нордау[647], позволяет Победоносцеву сконструировать идеальную социальную норму под триединым знаком самодержавия, православия и народности. Именно утрата этого общественного идеала в результате «Великих реформ» привела, по мысли автора, к «нравственным эпидемиям» тлетворных либеральных идей[648].
Несомненно, некоторые пионеры российской психиатрии восприняли консервативный дискурс об упадке и отклонениях (чему не в последнюю очередь способствовала присущая ему органическая, патологическая образность) еще и из стратегических соображений, желая упрочить положение психиатрии как дисциплины, способной предоставить диагностические и терапевтические инструменты борьбы с социальными патологиями. Для этих целей нарратив о вырождении, с его чрезвычайной повествовательной стройностью и вместе с тем семантической открытостью, возможностью интеграции любых патологий, был идеальной объяснительной моделью. В 1880‐х годах этот путь избирают прежде всего на кафедре психиатрии Харьковского университета, которой с 1877 по 1892 год заведовал П. И. Ковалевский и которая с 1883 по 1896 год была местом издания «Архива психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии»[649]. В многочисленных научных трудах Ковалевского – консервативного мыслителя par excellence и теоретика русского национализма[650] – и его учеников концепция вырождения используется в качестве своего рода базовой теории для исследования нервных и душевных болезней[651]. Проявляется это и в теоретическом осмыслении неврастении. Как таковая она представляет собой функциональное нервное расстройство, однако психиатры харьковской школы рассматривают ее как начальную стадию дегенеративного процесса. Именно слияние обеих концепций, неврастении и вырождения, наглядно раскрывает отстаиваемую Ковалевским и его последователями концептуализацию современности, ибо связь растущей нервозности и современной жизни является, как известно, одной из важнейших формул самоописания европейского модерна рубежа XIX–XX столетий[652].
Интеграция учения о неврастении в теорию вырождения представляла собой общеевропейский феномен и в корне меняла изначальный смысл, который вложил в понятие «нервной слабости» американский врач Джордж Миллер Бирд[653]. Термином neurasthenia Бирд обозначил истощение нервной системы вследствие ускорения и дифференциации современной жизни[654]. Согласно Бирду, постоянно растущие требования, которые предъявляет к людям город, приводят к усиленному расходованию нервной энергии, вызывающему со временем различные болезненные состояния, например хроническую усталость и повышенную раздражительность[655]. Но если Бирд считал nervousness неизбежным, однако всецело положительным следствием высокоразвитой цивилизации, такой как американская (American Nervousness выступает у Бирда синонимом неврастении), то европейская рецепция учения о неврастении, объединившая его с готовой теорией вырождения, коренным образом меняет его семантику. Теперь в этиологии неврастении выделяют не только экзогенные факторы, но и эндогенный фактор – наследственность, а само явление неврастении разделяют на нервное переутомление, с одной стороны, и нервное вырождение – с другой[656].
Во французской и немецкой психиатрии этот процесс приходится на 1880–1890‐е годы[657]: период, когда выдвинутая Морелем концепция dégénérescence уже успела прочно войти в психиатрическую науку. Поэтому описанное Бирдом функциональное ослабление нервной системы приобретает аспект наследственности, которого изначально не предполагало, и классифицируется как одна из многообразных форм вырождения. С одной стороны, неврастению считают почвой, благоприятствующей развитию других душевных и нервных расстройств; так, П. Ю. Мёбиус называл неврастению «протоплазмой, откуда берут начало все общие нервные болезни»[658]. С другой стороны, неврастения может выступать следствием и вместе с тем симптомом уже наличествующей дегенеративной патологии и, соответственно, обнаруживать причинно-следственную связь с тяжелыми органическими поражениями[659].
Как проявление нервного расстройства, потенциально ведущее к вырождению, неврастения наглядно демонстрирует изменчивую природу последнего. Как и для дегенерации, для неврастении характерно почти неисчерпаемое многообразие симптомов[660], не позволяющее, однако, выявить четкую физиологическую основу[661]. Соединение концепций вырождения и неврастении заставило увидеть в дегенерации эндогенный фактор современной цивилизации, конечный результат нервного истощения, от которого особенно страдают те, кто «занят умственным трудом»[662]. Если у Мореля dégénérescence поражала преимущественно classes basses (сельское население и рабочий класс), то в «нервный век»[663] вырождение грозит всем без исключения.
Тенденция к слиянию теорий вырождения и неврастении, обрисованная мною в общих чертах, проявилась в трудах харьковской психиатрической школы с самого начала, т. е. значительно раньше, чем, например, в психиатрии немецкой. Если Крафт-Эбинг и Мёбиус лишь на рубеже веков превращают наследственность в основную объяснительную модель неврастении, которая, таким образом, опять-таки осмысляется как «сильная предрасположенность к возникновению психозов, эпизодических или переходящих в терминальную стадию»[664], то Ковалевский и его ученики уже в 1880‐х годах рассматривают неврастению как начальный этап вырождения[665]. Ярким примером первых русских научных работ о неврастении служит статья Н. И. Мухина «Нейрастения и дегенерация» (1888)[666]. По мнению автора, «вырождение семьи или рода главнее всего выражается в области нервной системы». При этом неврастения представляет собой самую легкую – и потому наиболее распространенную – форму поражений нервной системы, «носящих на себе характер вырождения»: «‹…› нейрастения есть патологический фон, на котором развиваются очень различные цветы дегенерации»[667].
Описывая детерминированный процесс вырождения и роль в нем неврастении, Мухин использует метафору ступеней: эпидемическое распространение неврастении делает нервную систему многих людей предрасположенной к вырождению, так как из‐за неврастении «жизнь их идет иным путем, чем остальных, здоровых людей, путем дегенерации, – коротким и оканчивающимся ступенями, в большинстве случаев ведущими к преждевременной погибели»[668]. На примере двух конкретных случаев Мухин показывает, как неврастения, возникнув на фоне наследственной предрасположенности, становится первой ступенью рокового дегенеративного процесса, в ходе которого нервное расстройство принимает форму различных фобий.
С одной стороны, Ковалевский и его ученики стремились выявить физиологические основы неврастении, так как ее связь с вырождением и его главным механизмом, наследственностью, предполагает наличие таких органических изменений, которых не может вызвать чисто функциональная болезнь (именно так понимал неврастению Бирд)[669]. Это стремление следует рассматривать в контексте ярко выраженной невропатологической направленности российской психиатрии, восходящей к новаторским работам И. М. Сеченова по нейрофизиологии 1860‐х годов[670]. С другой стороны, харьковские психиатры постоянно указывают – подобно приверженцам вышеупомянутого нарратива о «дегенеративном» кризисе – на общественную опасность эпидемического распространения неврастении, понятой как начальная стадия постепенного вырождения русского народа. Так, А. А. Яковлев считает «нервность» «концентрированным ядом», который, передаваясь по наследству, накладывает на будущие поколения «роковую печать» и стремится к объединению с самыми серьезными душевными болезнями, «ведущими к вырождению человечества»[671]. Ковалевский даже сетует на первенство России в распространении неврастении, которую называет «русскою болезнью»[672]. Ученый концептуализирует ее как своеобразный «сигнал тревоги», предупреждающий не только о психофизическом, но и о нравственном расстройстве русского общественного организма, что проявляется в различных социальных отклонениях.
В этом отношении показательно научно-популярное сочинение П. И. Ковалевского «Нервные болезни нашего общества» (1894). Как уже пояснялось, предложенная Ковалевским концептуализация современности как эпохи, вызывающей нервные расстройства, опирается на аналогичные современные концепции, например на идею «нервного века» Крафт-Эбинга, причем специфика русской модели заключается в функциональной адаптации соответствующего дискурса к принятому в тогдашнем русском консерватизме «кризисному» нарративу. Если Крафт-Эбинг говорит о «нервной болезни» и «современной цивилизации», или «культурной жизни» вообще[673], то Ковалевский усматривает причину современного «эпидемического» распространения в России нервных заболеваний в «ненормальном» состоянии этого конкретного общества[674] и, соответственно, подчеркивает роль «Великих реформ» как «протособытия», с которого началось ослабление здоровой нервной системы российского населения (см. выше). Если Крафт-Эбинг говорит о «не соответствующей законам природы» жизни «столичных жителей, нервы которых постоянно находятся в возбужденном и лихорадочном состоянии»[675], то Ковалевский ведет речь о конкретном городе – Петербурге, центре русского либерализма и радикализма, называя столицу «Содомом и Гоморрой»[676] империи. Ученый рисует апокалиптические картины петербургской жизни, которая «презирает природу» и «идет совершенно вопреки законам божеским и человеческим»; она до того расшатала нервную систему горожан, что «там на 10 человек обязательно 9 нервных людей»[677].
Последовательно включая любые нервные заболевания в нарратив вырождения, основанный на принципах детерминизма, поступательного развития, замкнутого единства и потому сообщающий различным патологиям пугающую (повествовательную) стройность, автор усиливает культурный пессимизм своей книги и вместе с тем (непреднамеренно) выявляет парадоксальный статус теории вырождения, к которой, как показано в главе II.1, можно применить предложенное М. Фуко понятие «объективных трансценденталий»[678]: принцип, предшествующий феноменологическим фактам как условие их возможности, однако недоступный позитивному познанию. С одной стороны, Ковалевский подчеркивает: наследственность как движитель вырождения, лишенная ясной физиологической основы, для науки (пока) остается «тайной апокалиптической, семью печатями запечатанной»[679]; с другой стороны, свою твердую убежденность в действии закона наследственности ученый основывает на неоспоримом свидетельстве фактов:
Итак, наследственность в деле развития в обществе душевных и нервных болезней имеет то серьезное значение, что она обязательно, в силу закона воспроизведения себе подобного потомства, в последующих поколениях дает нервные и душевные заболевания. Это факт, не подлежащий сомнению, факт, совершающийся у нас на глазах[680].
За этим (почти наивным) признанием неразрешимой дихотомии метафизической тайны и объективных фактов, заключенной в законе наследования, следует пространный анализ конкретного случая, на примере которого Ковалевский объясняет читателю-неспециалисту суть теории вырождения. Под заголовком «История болезней»[681] ученый рассказывает вымышленную историю семейства Демидовых, которая – как раз в силу вымышленного характера – оказывается «идеальным» воплощением нарративной схемы: «Вместо того чтобы представлять сухое перечисление клинических картин болезней, о которых я намерен говорить, я позволю себе представить историю болезней одного семейства, разумеется, семейства воображаемого»[682]. В своем просветительском энтузиазме Ковалевский вновь невольно обнажает «слепое пятно» научной теории, которая позволяет представить доказательства лишь постольку, поскольку частные клинические наблюдения удается связать в повествовательное целое.
Как будет показано в следующей главе, повествовательный эксперимент Ковалевского являет собой не только наглядный пример медицинско-антимодернистского нарратива кризиса, отстаиваемого первыми психиатрами харьковской школы, но и – прежде всего – показательное воплощение этого нарратива в виде истории, обнаруживающей ряд интердискурсивных повествовательных приемов, при помощи которых психиатрия и литература совместно моделируют слияние концепций вырождения и неврастении в русской культуре эпохи Александра III, рассмотренное выше.
IV.2. Неврастения, вырождение и модерн: Между психиатрией и натурализмом (Чиж, Ковалевский, Ясинский)
Начиная с середины 1880‐х годов, т. е. в период институционального складывания российской психиатрии и утверждения в ней теории дегенерации (гл. IV.1), в России наблюдается непосредственное взаимодействие соответствующих психиатрических и литературных повествовательных моделей. Теперь, по завершении начального этапа развития русского дискурса о вырождении на рубеже 1870–1880‐х годов, носившего преимущественно литературный характер (гл. II и III), русская психиатрия и русская литература совместно формируют интердискурсивное поле, охватывающее разные жанры: реальной и вымышленной истории болезни, интерпретации литературных произведений и героев с точки зрения психопатологии, художественного (натуралистического) романа о вырождении и о «нервах». Теперь рассказ о вырождении ведется в условиях сложной дискурсивной сети, в которой переплетаются разные смыслы. Хотя металитературные вопросы касательно натуралистической повествовательной модели по-прежнему играют важную роль, психиатрия предлагает собственные способы моделирования и функциональной адаптации нарратива о вырождении, которые воспринимает и русская литература. Психиатрия же неоднократно обращается к «психопатологическому» литературному письму.
Ирина Сироткина убедительно показала, что художественная словесность сыграла огромную роль в развитии русской психиатрии поздней царской эпохи и раннего советского времени[683]. Однако, воссоздавая культурную историю русской психиатрии и сосредоточиваясь главным образом на жанре патографии, исследовательница упускает из виду нарративный аспект этого интердискурсивного феномена, не в последнюю очередь проявившийся в психиатрических анализах частных случаев. Такие анализы особенно важны в теории вырождения: именно они позволяют ее сторонникам добиваться научной доказательности (гл. II.1). В этом контексте такие русские теоретики вырождения, как В. Ф. Чиж, Д. А. Дриль и П. И. Ковалевский, склонны игнорировать онтологическую границу между историей болезни и литературным произведением и трактовать художественные тексты как эмпирические описания частных случаев – иными словами, интерпретировать литературных персонажей и их истории в качестве клинических случаев вырождения[684]. Неудивительно поэтому, что в научно-популярном сочинении Ковалевского «Нервные болезни нашего общества» (1894) приводится «воображаемый» клинический случай, озаглавленный «История болезней»[685] и призванный показать опасное для русского общественного организма распространение душевных и нервных расстройств, которое постулирует автор (гл. VI.1). Именно в силу своего вымышленного характера история эта служит «идеальной» иллюстрацией нарратива о вырождении, при этом явно обладая в глазах Ковалевского такой же доказательной ценностью, что и реальный клинический случай. Для пояснения интердискурсивного контекста, к которому принадлежит это произведение, необходимо сначала рассмотреть психиатрически-филологическую практику того времени на примере интерпретации В. Ф. Чижом творчества Достоевского, которое ученый оценивал как «психопатологию»[686].
Очерк В. Ф. Чижа «Достоевский как психопатолог» (1885) служит ранним русским образцом взаимодействия психиатрии и литературы, характерного для европейского долгого XIX века[687]. Чиж, до 1885 года работавший в Лейпциге у основоположника экспериментальной психологии Вильгельма Вундта, а в 1891 году сменивший Эмиля Крепелина на кафедре психиатрии в университете Дерпта, публикует свою работу о Достоевском с очевидной целью: использовать творчество и авторитет русского писателя для легитимации новых для России психиатрических концепций, сторонником которых выступает сам, – в частности, теории вырождения. Текст Чижа принадлежит к широкому европейскому контексту, на который автор открыто ссылается, упоминая «обширную литературу о Шекспире как психопатологе»[688]. Вместе с тем очерк этот кладет начало традиции психиатрического подхода к творчеству Достоевского, подчеркивающего его диагностический «гений»[689] и в положительном ключе перетолковывающего отрицательную оценку его «жестокого таланта» (Михайловский) к изображению психопатологических характеров, которую высказывала русская «левая» литературная критика 1870–1880‐х годов[690].
Чиж считает Достоевского «гениальным» психиатром ante litteram, который, не обладая психиатрическими познаниями, точно изобразил в своем творчестве психические болезни и дал им правильное толкование:
‹…› многое, очень многое, если не все известное в психиатрии можно изучить в произведениях Достоевского ‹…›. Благодаря своему гению Достоевский далеко опередил науку ‹…›. Не может быть сомнения в том, что Достоевский даже поверхностно не был знаком с теоретической, научной психиатрией[691].
Чиж неоднократно подчеркивает, что «‹…› и психиатры, и Достоевский дают на этот вопрос одинаковый ответ»[692], тем самым превращая персонажей писателя в пациентов, чье болезненное душевное состояние «доказывает» упомянутые теории:
Такое согласие между психиатром и художником встречается нечасто. Уже из моего изложения видно, как согласны наблюдения Достоевского с положениями психопатологов, так как я просто эти положения иллюстрирую, так сказать, примерами, взятыми из Достоевского; характеристика и жизнеописания действующих лиц – просто истории болезней ‹…›[693].
Наибольший интерес в работе Чижа представляют не встречающиеся время от времени ошибочные суждения по вопросам эстетики, а структурная близость к клиническим историям вырождения и размывание границы между вымышленными и эмпирическими фактами[694]. На это же указывает и приведенное выше отождествление жизнеописаний персонажей с «историями болезней»: недаром Ковалевский именно так озаглавил свой психиатрический анализ вымышленной семьи, приведенный в книге «Нервные болезни нашего общества». Поскольку протекание болезни во времени становится значимым в психиатрическом дискурсе – ведь «лишь истории болезней могут обеспечить некоторую закономерность, преодолевающую запутанный, разрозненный характер отдельных клинических картин»[695], – то вымышленные истории служат «образцовыми» анализами такого рода, пластично и без «потерь на трение» моделируя заранее заданную повествовательную схему. Это в первую очередь касается теории вырождения, приобретающей научную убедительность лишь благодаря эпистемологическим преимуществам генеалогического повествования и, следовательно, сильно зависящей от повествовательного мастерства рассказчика-психиатра (гл. II.1).
Если Достоевский, по мнению Чижа, рассказывает истории как психиатр, то сам Чиж выступает в своем очерке не только критиком, который их интерпретирует, но и «вторичным» рассказчиком, использующим романы Достоевского в качестве своеобразного «сырья» для составления историй болезней, воспроизводящих структуру соответствующего психиатрического жанра. Такая двоякая – герменевтическая и вместе с тем нарративная – роль позволяет Чижу очистить психопатологическую сторону романов Достоевского от всего того, что тревожит и поражает, и, соответственно, «нормализовать» ее с позиции психиатра-диагноста. С одной стороны, речь идет о диагностике отдельных душевных болезней конкретных персонажей (например, врожденного слабоумия Алеши в «Униженных и оскорбленных», нравственного помешательства Свидригайлова в «Преступлении и наказании» и т. д.). С другой стороны, именно повествовательная модель вырождения позволяет упорядочить бушующий хаос патологического. Таким образом, Чиж сочетает повествовательное мастерство с герменевтическим подходом.
Как и в психиатрических анализах В. Маньяна (гл. II.1), в работе Чижа нарратив о вырождении функционирует как схема, выстраивающая разрозненные явления в стройное повествование и тем самым наделяющая их смыслом. Именно эту повествовательную схему убедительно воспроизводит Чиж, сегментируя художественный мир романов Достоевского и по-новому организуя выделенные фрагменты. По мнению автора, дегенеративные процессы проявляются не только у троих братьев Карамазовых[696], но и у Раскольникова («Преступление и наказание») и Сокольского («Подросток»): «В глазах психиатра так много общего между тремя братьями Карамазовыми, Раскольниковым, молодым Сокольским („Подросток“), что эти пять лиц составляют одну группу»[697]. Благодаря такой перегруппировке персонажи отдельных романов становятся протагонистами единой истории вырождения, повествовательный стиль которой ориентирован на клинические истории болезни. Так, указание на дурную наследственность персонажей – непременное «доказательство» наличия дегенеративных процессов – принимает форму лаконичного перечисления родительских патологий: «‹…› мать Раскольникова умерла помешанною, отец Карамазовых – пьяница и развратник, мать Дмитрия – эксентричная женщина, мать Ивана и Алеши страдала истерикой, Сокольский происходил из вымирающей, выродившейся семьи»[698].
Тем самым Раскольников, в частности, превращается в героя истории дегенерации, в которую попадает от рождения из‐за материнского «помешательства», но прежде всего – по причине установленного синтагматического родства со своими «братьями», Карамазовыми и Сокольским. Вместе с тем эта повествовательная операция носит герменевтический характер, означая попытку объяснить загадочный характер персонажа:
Познакомившись с психиатрией, я еще раз перечел «Преступление и наказание» с новым интересом. Я, как врач, собирающий сведения об интересном в медицинском отношении больном, искал в романе указаний о здоровье родителей Раскольникова, так как только у лиц с наследственным расположением к душевным болезням могут быть такие явления, и когда я прочел ‹…› что мать Раскольникова умерла душевнобольною, я понял Раскольникова и еще раз убедился в гениальности Достоевского[699].
О неустойчивости, неуравновешенности душевной жизни, которую Маньян назвал «ненормальным цоколем» дегенеративных психических расстройств, Чиж пишет так, как это принято в клинической истории болезни, указывая на легкие «странности», выказываемые персонажами с детских лет: «Уже с детства некоторые особенности их характера обращали на себя внимание окружающих»[700]. Вкупе с дурной наследственностью это должно намекать на врожденный характер дегенерации, усиливая нарративный детерминизм. Как и Ковалевский, Чиж придерживается классической теории вырождения в понимании Мореля и Маньяна, в которой особо подчеркивается прогрессирующий характер наследственной передачи дегенеративных явлений. Следовательно, устанавливая врожденную психическую неустойчивость некоторых героев Достоевского и связывая ее, как и Маньян, с патологическим слабоволием и отсутствием психических сдерживающих механизмов[701], Чиж постулирует радикальную безвыходность нарратива о вырождении, выбраться из которого персонажам не (должно быть) суждено. Чиж особенно ясно выражает эту мысль, говоря о Дмитрии Карамазове:
Естественно, что при таком патологическом характере Дмитрий не был способен к какой-либо полезной деятельности, не мог быть терпим в обществе; скандалы, драки, преступления – вот сфера таких людей. И если он и мог быть великодушен, то для этого нужно было много условий, редко встречающихся в повседневной жизни. Рано или поздно такие люди попадают в тюрьму, где они составляют несчастие для администрации и товарищей: только заведение для душевнобольных было бы для них полезным убежищем[702].
То обстоятельство, что дегенератом, можно даже сказать – прирожденным преступником Чиж считает именно Дмитрия, хотя образ последнего, как и персонаж Раскольникова, задумывался Достоевским как яркий пример морального «возрождения» в христианском смысле, свидетельствует не только о филологической «некомпетентности» Чижа. Скорее, этот факт показывает: повествовательная связность может придавать нарративу о вырождении бóльшую убедительность, – что особенно ярко выступает на фоне контраста между романом-источником и «вторичным» психиатрическим повествованием.
Эти повествовательные свойства нарратива о вырождении нередко использует П. И. Ковалевский – настоящий виртуоз рассказа о дегенерации[703]. Ярким примером его повествовательного искусства служит «История болезней», вошедшая в книгу «Нервные болезни нашего общества» (1894)[704]. В «Истории» наглядно показана опасная для русского общественного организма связь неврастении и вырождения, составляющая предмет этого антимодернистского памфлета (гл. IV.1). Детерминированная замкнутость нарратива позволяет автору разъяснить всю опасность эпидемического распространения в России психопатологий.
Уже само изображение процесса наследования дегенеративных черт в первом учебнике психиатрии, написанном Ковалевским (1880), показывает, что ученый расценивает повествовательность как неотъемлемую составляющую теории вырождения. В конце учебника помещена таблица, в пяти столбцах которой перечислены поколения одной семьи, причем для каждого ее представителя Ковалевский указывает индивидуальные патологии, тем самым достигая большой наглядности в изображении прогрессирующего развития и распространения дегенеративного процесса[705]. Этот прием широко использовался в тогдашней психиатрии, нередко в форме генеалогического древа[706].
Однако раскрытие нарративного потенциала теории вырождения в «Истории болезней» весьма необычно для принятого в тогдашней психиатрии стиля письма. Вместо того чтобы привести ряд предельно кратких рассказов, сжатость которых отвечала бы идеалу нарративной объективности медицины XIX столетия[707], а нанизывание все новых аналогичных случаев обеспечивало бы доказательность, Ковалевский пишет историю вымышленного семейства Демидовых, воплощая повествовательную модель вырождения литературными средствами. В данном случае научная доказательность зависит от связности повествования, обнажая тем самым (помимо авторской воли) нарративный аспект теории.
Это проявляется уже в установлении отправной точки дегенеративного процесса – этого исконного «слепого пятна» всей теории (гл. II.1), – составляющей четкую завязку повествования: лишь благодаря ей становится очевидным начало вырождения – переломное событие, изменившее здоровую демидовскую наследственность. Поскольку речь идет о вымышленной семье, Ковалевский может поведать историю вырождения с самого начала. «Протособытием» выступает заражение сифилисом Михаила Александровича, отпрыска «богатого и совершенно здорового физически и психически семейства»[708] украинских помещиков, во время учебы в Париже. Так Михаил Демидов превращается в «родоначальника»[709] нового, больного рода, в arché истории, представляющей собой механическое причинно-следственное развитие рокового «греха».
Начало истории не только служит медицинской иллюстрацией, но и выполняет символическую функцию. С одной стороны, оно наглядно раскрывает суть сифилиса как губительного для человеческого тела «яда»[710], который может вызвать особенно сильные, наследственные повреждения в нервной системе, о чем Ковалевский подробно рассказывает с позиций теории вырождения, настойчиво прибегая к эсхатологической риторике[711]. Вместе с тем у парижского эпизода есть и явный символический подтекст: указать на опасность заражения «болезнетворными» западными идеями, которые могут испортить «здоровый» организм российского общества. Недаром пораженная семья – украинский помещичий род, еще не затронутый веяниями современности и, таким образом, воплощающий «здоровую нормальность». Неслучаен и момент заражения сифилисом: родившийся в 1830 году Михаил Демидов находится в Париже для завершения образования, т. е. можно предположить, что дело происходит в 1848‐м – революционном – году или близко к нему[712].
Ковалевский раскрывает возможности нарратива вырождения с максимальной полнотой, показывая – нарочито отталкивающе – разрушительное влияние патологии уже в первом поколении. Глава семьи заражает «французской болезнью» свою «вполне здоровую»[713] жену Надежду Ильинишну, после чего у обоих проявляются признаки нервного истощения. Символично, опять-таки, что оно начинает быстро прогрессировать после крестьянской реформы 1861 года, когда расшатанная нервная система Демидова окончательно лишается остатков «здоровой нормальности»:
Это время было самое горячее в России. Крепостное право было отменено. Пришлось позаботиться и о рабочих, и о хозяйстве, и о деньгах, и о многом кое-чем другом. К ужасу своему, Надежда Ильинишна заметила, что Михаил Александрович очень резко изменился в характере. Как-то его ничто не трогало. Ко всему он сделался равнодушен и хладнокровен. Дела, хозяйство, семья – все это потеряло для него интерес[714].
Нарратив о вырождении со свойственной ему сверхсемантизацией, исключающей все случайное и придающей (вымышленному) миру патологии мифопоэтическую форму, позволяет создать наглядную модель консервативного, антимодернистского мышления в категориях кризиса; именно таким мышлением проникнут социально-медицинский трактат Ковалевского (гл. IV.1). Поэтому неизбежен ранний конец первого – «согрешившего» – поколения. Отец семейства умирает в пятьдесят лет от «паралитического слабоумия»[715], а его страдающая «малокровием, приступами тоски, истерикой» жена – в тридцать восемь от воспаления легких[716].
Теперь героями истории становятся их пятеро детей, являющих собой яркий коллективный пример прогрессирующего развития и многообразия форм вырождения. Каждый из них воплощает собой какую-либо определенную болезнь, которая проявляется уже в раннем детстве и превращает жизнь в заведомо проигранное противоборство с биологической неизбежностью. Единственное – частичное – исключение составляет судьба третьего сына Михаила Демидова, Константина, которому удается преодолеть свою предрасположенность к патологии благодаря полученному в Германии строгому воспитанию и здоровому деревенскому образу жизни[717]. Однако полностью искоренить болезнь он не может, и она тем безжалостней проявляется у его собственного сына, который, словно расплачиваясь за отцовскую самонадеянность, несет на себе печать вырождения: «Но семя болезненной наследственности в нем тлело и вылилось в его сыне, создав в нем человека ограниченного и тупоумного»[718].
Чтобы «укротить» изменчивую природу вырождения, Ковалевский выстраивает анализ так, что все многообразие патологических проявлений – неврастения, истерия, склонность к запоям, агорафобия, эпилепсия – проступает лишь в совокупной картине судеб всех пяти братьев и сестер. Различные болезненные симптомы, проявляющиеся у каждого персонажа, сначала озадачивают, и только взгляд рассказчика-психиатра распознает в них проявления единой нервной болезни, подошедшей у представителей этого поколения к самой грани психоза. Пересечение границы происходит в последнем описанном поколении, представители которого преимущественно страдают врожденными органическими и психическими нарушениями.
Если минималистическое, построенное по принципу серийного повтора изложение в психиатрических анализах Маньяна объяснялось отсутствием генеалогической перспективы и, соответственно, невозможностью показать прогрессирующий характер вырождения, а изменчивое многообразие патологий уравновешивалось парадигматической и синтагматической однородностью повествования (гл. II.1), то Ковалевский строит свой анализ вымышленного случая, охватывающего череду поколений, таким образом, чтобы добиться минимального уровня событийности. Это удается ему прежде всего благодаря искусному использованию повествовательной точки зрения, напоминающей похожие нарративные приемы в историях-примерах Э. Крепелина[719].
Разнообразие неврозов во втором поколении Демидовых раз за разом приводит к странным происшествиям, мнимую необъяснимость которых Ковалевский искусно подчеркивает при помощи повествовательного приема внутренней фокализации. Так, многообразные симптомы неврастении у первого сына Михаила Александровича, Миши, Ковалевский изображает посредством несобственно-прямой речи, передающей внутреннюю неуверенность персонажа, не понимающего истинной природы патологических проявлений. Колебания Миши между предельной собранностью и полной неспособностью сосредоточиться, по видимости беспричинные, автор сначала показывает глазами самого персонажа: «Ну, скажите, разве не с ума сходит человек!.. Разве можно покойно существовать при таких условиях… Что же это – болезнь? Слава Богу, у него нет ни лихорадки, ни кашля, ни болей нигде… К доктору… совсем излишне»[720]. Лишь в конце сцены авторский голос рассказчика-психиатра объясняет, что непонятные явления – это симптомы неврастении, которая составляет одну из граней истории вырождения Демидовых и главной причиной которой, соответственно, служит дурная наследственность.
Очерк Ковалевского наглядно показывает: детерминистский нарратив влечет за собой принципиальную редукцию событийности. Несмотря на разнообразие патологических проявлений, судьбы всех братьев и сестер Демидовых похожи, так как все это варианты одной и той же парадигмы вырождения. Усиление патологии проявляется в том, что дегенеративный процесс повторяется во всех более серьезных формах, в конце концов полностью поглощая отдельно взятые истории и оставляя все меньше простора для рассказа. Так, повторение одного и того же приводит к тому, что если изображение неврастенической неспособности Миши сосредоточиться на учении занимает много места и изобилует подробными описаниями его причудливых болезненных фантазий[721], то аналогичной особенности его сестры Нади – повторению того же самого изъяна – уделен единственный лаконичный абзац: «Надя не могла долго останавливаться на одном каком-нибудь предмете и непрестанно перескакивала от книги к книге и от занятия к занятию»[722].
В третьем поколении Демидовых мы и вовсе сталкиваемся с полной утратой «способности [истории] быть рассказанной» (Erzählbarkeit): на его представителях лежит печать психофизического вырождения – вот и все, что Ковалевский может о них поведать. О шестерых детях Нади, например, говорится лишь следующее: «У нее было шесть детей, и все они вышли какие-то неудачные и в смысле их способностей, [и в] смысле здоровья»[723]. Затухание нарратива соответствует биологическому угасанию рода, которое наметилось уже в третьем поколении. О детях Ольги Михайловны Ковалевский пишет с заметным уклоном в евгенику: «К счастью, все их дети умирали в детстве от воспаления мозга и они не оставили после себя потомства»[724]. Здесь окончательно раскрывается суть жизни Демидовых: неудержимый дегенеративный процесс вымирания.
Свой вариант вышеописанного взаимодействия психиатрии и литературы, выразившегося в жанрах патографии и психиатрической истории болезни, существует и в русской натуралистической литературе того времени. По завершении этапа первичного восприятия золаистской повествовательной модели (гл. II и III) писатели-натуралисты начали изображать вырождение и неврастению уже в непосредственном диалоге с отечественной психиатрией. Примером натуралистического изображения душевной жизни неврастеников, всего хаоса их впечатлений и ощущений в соответствии с психиатрическими повествовательными моделями служит среди прочего книга А. В. Амфитеатрова «Психопаты» (1893)[725], оказавшая очевидное, однако до сих пор не исследованное влияние на похожие формы нарративного изображения прогрессирующего психического распада в русском символизме (в частности, на роман Федора Сологуба «Мелкий бес» [1907]).
Что касается собственно нарратива о вырождении, то в 1880‐х годах к нему обращаются такие писатели-натуралисты, как Иероним Иеронимович Ясинский и Петр Дмитриевич Боборыкин (гл. IV.3). Оба воспринимают свойственную ему детерминистскую безысходность и создают произведения о современной «нервной слабости». Хотя Ясинский и Боборыкин, в отличие от Мамина-Сибиряка (гл. III.3), подтверждают эпистемологическую действенность нарратива о вырождении, они постоянно испытывают границы этого нарратива, изображая неудачные попытки героев освободиться от его власти. В повести «Старый сад» (1883) Ясинский, подобно Ковалевскому и Мержеевскому, сочетает нарратив о вырождении с социальной проблематикой модернизации, однако, в отличие от обоих психиатров, делает это не столько с целью обозначить свою консервативную политическую позицию, сколько в качестве пародийного опровержения народнических повествовательных моделей. Именно их крах инсценируется при помощи нарративной схемы вырождения.
Повесть «Старый сад», которую Ясинский, ныне почти забытый, выпустил под псевдонимом Максим Белинский, вышла в 1883 году в мартовском номере журнала «Отечественные записки»[726]. Ее автор активно участвовал в литературной жизни России 1880‐х годов. В конце 1870‐х он начал печатать натуралистические произведения, а в 1884 году занял видное место в киевском литературном кружке «Новые романтики», одной из первых пресимволистских групп, где ценили творчество Г. Флобера и Ш. Бодлера, С. Я. Надсона и В. М. Гаршина[727]. Требование новой эстетики, а также освобождения искусства от общественных задач и обязанностей сочетается у Ясинского с ранним восприятием Ницше, оказавшего значительное влияние на творчество русского автора[728]. Его язвительные романы с ключом вызвали возмущение в литературной среде того времени и положили начало затяжной полемике, создавшей Ясинскому репутацию тщеславного кверулянта[729]. В 1926 году он выпустил любопытные мемуары, озаглавленные «Роман моей жизни», занимательность которых не в последнюю очередь определяется едкой иронией, с какой он описывает своих тогдашних соратников[730].
В повести «Старый сад» отразились обе тенденции, присущие творчеству Ясинского: натуралистическая и преддекадентская. Эстетизация нарратива о вырождении предвосхищает здесь окраску, которую соответствующая повествовательная схема получит в эпоху fin de siècle. Герой повести, Александр Уствольский, – последний потомок старинного помещичьего рода. Разочаровавшись в жизни и страдая смертельной болезнью (как и полагается персонажу его эпохи, он болен чахоткой)[731], он возвращается в родную деревню Козловку. Старинная семейная усадьба, где он поселяется, давно стоит необитаемой и так обветшала, что напоминает Уствольскому «кладбище»[732], причем впечатление усиливают воспоминания о трагической гибели родителей и сестер. Бродя по ветхому дому и старому саду, Уствольский вспоминает счастливое детство, составляющее разительный контраст с его нынешним положением умирающего, утратившего все иллюзии человека[733]. Разрушающийся дом и буйно заросший сад символизируют психофизический и материальный упадок Уствольского. Сам протагонист, однако, находит в этом некий (преддекадентский) смысл:
Нет, уж пусть лучше так все останется, подумал он, тоскливо взглянув на дом: в этом разрушении есть что-то поэтическое, есть стиль. Уствольские умирают, Возжальниковы выступают на сцену. Их дело украшать свои палаты, жить «в свое удовольствие», а мы… время наше прошло…[734]
Закат своей семьи Уствольский рассматривает как проявление закономерности, результат циклического детерминированного процесса, в ходе которого один род приходит на смену другому. Возжальниковы, чья «очередь» пришла теперь, представляют набирающий силу класс купцов, утвердившийся на селе после освобождения крестьян. Купеческий образ жизни предстает в повести гротескной пародией на прежнюю помещичью жизнь. Эффект усилен тем, что рассказывается об этом в безыскусной прямой речи бывшего крепостного Уствольского, Алексея Иваныча:
Купец тут, Егор Иваныч Возжальников ‹…› живет в свое удовольствие… Озера у него не было – на ваше позавидовал и себе вырыл. Остров теперь среди озера. Каждый день туда ездит на кораблике, и шампанское с супругой пьют. Обстоятельный человек![735]
Социально-экономический взлет бывших крестьян вроде Возжальникова – лишь одна из перемен, произошедших в Козловке за годы отсутствия Уствольского. Железная дорога связала деревню с внешним миром, однако вместе с тем изменила ее социальную структуру. Крестьяне больше не возделывают землю, предпочитая предоставлять свои услуги извозчиков посетителям близлежащего монастыря, сходящим с поезда на станции Козловка[736]. С одной стороны, «цивилизация» облегчила крестьянам жизнь и избавила от материальной нужды, а с другой – внушила «недовольство», даже «отравила»: «Но недовольства уже много. Цивилизация манит к себе. Хотелось бы „торговлишкой“ заняться, либо так „чем-нибудь“ поприбыльнее. ‹…› [Ц]ивилизаци[я] ‹…› уж отравила их»[737].
Здесь Ясинский отсылает к тому направлению народнической литературы 1880‐х годов, которое обращалось к теме нравственного и социально-экономического разложения русского мужика. Особенно показательны в этом отношении очерки Г. И. Успенского, раскрывающие топос отрицательного влияния таких элементов модернизации, как железная дорога и деньги, которые ведут к распаду «естественной» связи мужика с почвой и к развращению его натуры, изначально нравственно чистой. Разрушительное вторжение этих элементов в замкнутый, гармоничный микрокосмос общины показано, в частности, в очерке «Злые новости», вошедшем в сборник «Из деревенского дневника» (1877–1880): насаждаемая цивилизация дает мужику свободу, которая вырывает его из «естественного» контекста общины и развращает морально. Истинная свобода русского крестьянина заключается, по мнению Успенского, в органической связи с почвой; утрата этой связи приводит к катастрофическим последствиям, которые, в частности, выразительно описаны в его очерках «Власть земли» (1882) и «Безвременье» (1885). Конфликт между старым и новым общественным строем, между коллективизмом и индивидуализмом, а также разложение крестьянской общины составляют основную тематику деревенской прозы Н. Н. Златовратского. Однако в противоположность Успенскому Златовратский отстаивает народнический идеал регенеративной силы, заключенной в крестьянской общине и в мужике как «совершенной личности» (термин Михайловского)[738].
У Ясинского все наоборот: прежний крестьянский мир, каким его в стилизованном виде изображали народники, безвозвратно исчез. Вместо естественной общинной сплоченности в Козловке царят денежный расчет и прагматичные мотивы, превратившие крестьян в индивидуалистов, продающих свои услуги, и жадных потребителей. Впрочем, бывшие крепостные Козловки далеки от утративших человеческий облик, одичавших мужиков, которые в изображении Успенского выступают жертвами нового социально-экономического строя[739]. Крестьяне Ясинского, скорее, лучше умеют приспосабливаться. Сильная воля, хитрость и целеустремленность, проявляемые ими в деловых вопросах, составляют противоположность нерешительности и слабоволию Уствольского[740], вскоре по приезде попавшегося в паутину финансовых интриг, которые плетут против него его бывшие крепостные. Хотя Уствольский и видит корыстный расчет, прикрытый подобострастной риторикой («Мы ваши холопы!»[741]), но из‐за своей апатии оказывается не с силах поставить на место приказчиков, которые его обманывают[742]. Ясинский создает типичную для произведений о вырождении дихотомическую систему персонажей, основывая ее на оппозиции смертельно больного «барина» и алчного «народа», который в условиях современной борьбы за существование оказывается более жизнеспособным, нежели представитель старого режима[743].
И все же источник психофизического исцеления, который мог бы остановить дегенерацию, Уствольский надеется обрести именно в народе. Любовь к Саше, молодой дочери бывшего крепостного, воплощающей в глазах героя здоровье и жизненную силу, кажется ему спасением:
Ему нравилось, что [Саша] такая красивая и рослая, с грудью, которой тесно в платье, с мускулистыми белыми руками, с спокойным, свежим дыханием; его, больного и разбитого жизнью, невольно влекло смотреть на нее; она была воплощением здоровья и силы[744].
Для Уствольского Саша воплощает собой народ («народ – это Саша»[745]), а любовь к ней он рассматривает как правильную «гигиеническую меру», необходимую для собственного возрождения: «Как только он встретит ее, прижмет к груди, вся эта нервность пройдет, и он станет так же здоров нравственно, как уже здоров физически»[746].
Здесь Ясинский вновь обращается к топосу народнической литературы 1880‐х годов. Я имею в виду сюжет об измученном столичной цивилизацией образованном неврастенике, который бежит в деревню, чтобы переродиться душой и телом среди здоровых физически и нравственно, во всем превосходящих его мужиков. Ярким примером этого направления народнической литературы служит рассказ С. Каронина (псевдоним Н. Е. Петропавловского) «Мой мир» (1888)[747]. Бегство героя из Петербурга объясняется его прогрессирующей неврастенией, не позволяющей ему быть «целым существом»[748]. Его психофизическое состояние так плачевно, что по дороге он заболевает тифом. На его счастье, крестьянин Петр Митрофаныч берет его к себе в дом. Сам Петр Митрофаныч и его семья изображаются как квинтэссенция народа в идеалистически-народническом понимании. От них исходит целительная сила:
Молодая хозяйка с первого же взгляда казалась одною из тех умных женщин, с которыми так легко говорить и к которым чувствуешь невольное уважение. Ловкая в движениях, тихо, но с необычайной быстротой работающая, Василиса все делала с величайшим тактом. На лице ее блуждала чуть заметная улыбка, глаза светились лаской, и в то же время каждое движение ее было твердое, как результат заранее обдуманного плана, а каждое слово, по-видимому незначительное, вытекало логически из целого ряда разумных мыслей. ‹…› Лицо [Петра Митрофаныча] открытое, само по себе возбуждающее веселье. Экспансивная натура его способна была оживить, кажется, мертвого. ‹…› Все у него было широко: спина, ноги, нос, пятерни, разговор, мысли, волнения, и все это ползло врозь, ширилось. ‹…› Кажется, скрыть в себе он ничего не мог; всякое чувство сейчас же вырывалось из него наружу, как пар и пузыри из клокотавшего в печке чугуна. ‹…› Он никогда не врал, только всему придавал необъятные размеры[749].
В условиях этой полной идиллии герой быстро выздоравливает и за короткий срок осваивает настоящий крестьянский труд. Это исцеляет его еще и от хронической неврастении: «Неделя занятия сделала меня образцовым работником, нетребовательным, выносливым и ни о чем не думающим. Я чувствовал себя сильным, то есть деревянным и нервно-крепким, то есть вовсе не ощущал в себе нервы»[750].
Таким образом, попытка Уствольского вырваться из нарратива о вырождении представляет собой стремление приобщиться к чужому нарративу о возрождении, восходящему к народникам. В этом проявляется его «нарративная дерзость», которую автор, однако, сначала высмеивает, а затем обрекает на жалкое поражение. С одной стороны, соединение Уствольского с народом оборачивается пошлой, опять-таки типично литературной любовной историей о барине и его молодой крестьянке. С другой стороны, любовь эта оказывается не чем иным, как новой ловушкой, в которую Уствольского заманил управляющий, так как Саша перед этим уже была «продана» богатому владельцу деревенской лавки. Первоначальное улучшение здоровья героя[751] сменяется все более серьезными кризисами, свидетельствующими о необратимом умирании: «Лихорадка усилилась. Уствольский сердито кутался в плед. И вдруг кашель потряс его, и он почувствовал кровь на губах. ‹…› Барин медленно умирал. Чахотка развивалась»[752].
При этом Уствольский воспринимает себя как воплощение «покаяния», которого народ – согласно народнической идеологии – требует от интеллигенции за ее историческую вину. Во время гротескного венчания с Сашей, для которого невеста «переодевается» барыней, Уствольский вынужден признать, что его попытка вырваться из нарратива о вырождении сделала его самой настоящей «жертвой», приносимой народу, и что церемония бракосочетания есть не что иное, как ритуал жертвоприношения: «Стоя пред налоем, он мысленно повторял: „Народ… жертв ‹…› искупительны[х] [требует]… Вот я и жертва!!“»[753].
Бесславное поражение, постигающее попытку Уствольского вырваться из нарратива о вырождении, – это не только своеобразное нарративное возмездие, показывающее внутрификциональную непреодолимость нарратива. Такая развязка составляет еще и элемент пародии на антидетерминистскую народническую идею возрождения, которую побеждает именно противоположный ей детерминистский нарратив[754].
IV.3. «Нарративная дерзость» и семиотическая слепота. Нервное вырождение в романе Боборыкина «из новых»
Особое место среди европейских «рассказов о неврастении» XIX века, изображающих нервные расстройства при помощи повествовательной схемы дегенерации[755], принадлежит натуралистическому роману П. Д. Боборыкина «Из новых» (1887), рисующему портрет высшего общества эпохи Александра III – «новых людей» с консервативными политическими взглядами и честолюбивыми карьерными устремлениями[756]. Роман отличает модернистская стилизация идеи нервного вырождения, дополняющая изображение неудачных попыток освободиться от неврастенического нарратива, пример которых мы видели в повести Ясинского (гл. IV.2), моментом особой – почти металептической – «нарративной дерзости». Нервнобольная героиня Боборыкина, отягощенная дурной наследственностью, оставляет предписываемую нарративом пассивную роль и поднимается на метауровень, надеясь тем самым обрести контроль над нарративом. За эту попытку эмансипации рассказчик «наказывает» героиню, раскрывая в решающей сцене все (семиотическое) бессилие протагонистки и в полной мере демонстрируя детерминированную неизменность нарратива о вырождении.
В истории литературы П. Д. Боборыкин считается основным представителем русского натурализма в его золаистском изводе[757]. Ряд советских исследователей противопоставляли такому письму «высокий» натурализм В. Г. Короленко, Н. Г. Гарина-Михайловского и даже А. П. Чехова[758]. При этом нередко указывают на посредническую и популяризаторскую деятельность Боборыкина, сделавшую его «выразителем теоретических положений натурализма в России»[759]. Таким однозначным причислением писателя к «золаистам» определяется восприятие его творчества советскими литературоведами, которые не рассматривали произведения Боборыкина – в отличие, например, от социальных романов Мамина-Сибиряка – даже в качестве периферийного явления «критического реализма»[760]. Боборыкинская фотографическая, «безличная» манера описания действительности получила ярлык «либерально-буржуазной»: считалось, что под маской научного позитивизма скрываются консервативные взгляды, мешающие писателю увидеть революционную сторону социальных процессов[761].
Кроме того, отрицательная оценка Боборыкина советским литературоведением обусловлена суждением так называемой «демократической литературной критики» XIX столетия. Ярким примером может послужить статья П. Н. Ткачева о романе «Дельцы» (1872–1873). По мнению Ткачева, Боборыкин, несмотря на умение живо и в мельчайших подробностях описывать действительность, неспособен ни к психологизации персонажей, ни к обобщающему синтезу изображаемых явлений[762]. И до, и после революции критика видела в Боборыкине своего рода образцового плохого писателя, на чьем примере можно наглядно продемонстрировать все «предосудительные» черты натурализма: бесформенную структуру и отсутствие целостности, непропорциональное соотношение описания и повествования[763], отсутствие отбора, иерархического упорядочения и типизации элементов действительности[764], недостаточный психологизм, а также нечеткое разделение персонажей на главных и второстепенных[765]. В этом контексте писателя нередко называли графоманом и цитировали Н. С. Лескова, сравнившего произведения Боборыкина с кроликами: «Произведения его [Боборыкина] размножаются, как кролики, и, как кролики, все похожи одно на другое»[766].
Лишь в более новых работах наблюдается литературно-критический подход к творчеству Боборыкина, свободный от большинства предубеждений против натурализма, свойственных старому литературоведению. «Экстенсивный» характер боборыкинских романов рассматривается теперь не как следствие бездарности или ложной идеологической позиции, а как программная черта[767]. Например, С. И. Чупринин оценивает весь корпус текстов писателя как «многотомный беллетризированный энциклопедический словарь»[768], столь же неисчерпаемый и принципиально «бесконечный» в широте своего размаха, сколь и изображенная в нем жизнь, претерпевающая постоянные превращения. Чупринин подчеркивает в связи с этим «монтажную», фрагментарную структуру боборыкинских романов, истинным героем которых выступает среда, а не «затерянный» в ней человек[769]. К этому можно прибавить, что в романах Боборыкина наблюдается присущий европейской натуралистической литературе полиперспективизм, целенаправленно придающий изображаемым фрагментам действительности характер случайности. При этом развитие сюжета, в противоположность таковому в классическом реализме, выполняет второстепенную функцию.
Однако такое (частичное) признание творчества Боборыкина не распространяется на роман «Из новых», занимающий особое место в творчестве русского натуралиста. Роман этот, увидевший свет в 1887 году в ежемесячнике «Вестник Европы», обладает линейным сюжетом в сочетании с простой системой персонажей и заметным уменьшением описательности. Структура этого романа противоположна устройству других романов Боборыкина – как правило, центробежному, – где наличие нескольких сюжетных линий и множества персонажей, главных и второстепенных, приводит к расшатыванию твердых повествовательных структур и распылению смысла. Такой необычной структурной прямолинейностью роман «Из новых» обязан нарративу о вырождении, положенному в основу сюжета[770]. В центре художественного мира находится не столько среда, сколько единственная героиня со своей наследственностью[771]. Кроме того, именно использованием нарратива о дегенерации объясняется тот факт, что типичный для романов Боборыкина недостаток действия превращается в недостаток напряжения. В этом романе писатель почти отказывается от драматических сцен, которые в других произведениях обычно чередуются с пространными описательными пассажами, и сводит сюжет к процессу деградации героини[772]. Поскольку основным содержанием романа является рассказ о ее неоднократных неудачных попытках вырваться из нарратива о вырождении, уровень событийности романного действия при этом тоже снижается.
Героиня романа «Из новых» – Зинаида Мартыновна Ногайцева, внебрачная дочь душевнобольного Мартына Лукича Ногайцева и танцовщицы Людмилы Мироновны Расшивиной. На момент начала действия двадцатитрехлетняя Зинаида, детство и юность проведшая за границей вместе с двоюродной сестрой Софьей, живет в Петербурге. Главной составляющей характеристики героини выступает картина ее болезни. Биография Зинаиды во многом напоминает медицинскую карту – факт, который девушка целенаправленно пытается скрыть:
С шестнадцати лет у нее стали появляться признаки малокровия, мигрени, сердцебиение ‹…›. Она боролась с этими «sales infirmités» (она их сама так называла), скрывала их, не лечилась, чтобы никто из тех, кто мог выбрать ее себе в жены, ни от кого не услыхал, что она болезненная. Только цвет лица выдавал ее; но он многим нравился[773].
Ключевую роль в этом анамнезе, приводимом в экспозиции романа, играет наследственность Зинаиды, вобравшая негативные факторы со стороны обоих родителей:
На нее здесь напала небывалая вялость ‹…› и недовольство всем ‹…› а еще больше – сознанием того, что она – дочь Мартына Ногайцева, беспутного и полусумасшедшего ‹…›. Еще сильнее давило ее и то, что ее мать – ‹…› состарившаяся, разбитая, смешная, в ее глазах, отставная танцовщица. ‹…› Откуда у нее ее болезненность? ‹…› Отец ‹…› близок к полному сумасшествию. ‹…› Да, она – его кровь, она ему обязана своим душевным складом. ‹…› От матери идет нервность, малокровие, физическая сторона немощей[774].
Благодаря преобладанию в романе персональной повествовательной ситуации, такое осознание момента наследственности подается преимущественно в виде внутреннего монолога героини. Осознание действующими лицами собственной дегенерации, характерное для русского романа о вырождении с самого начала, переходит здесь в новое качество, так как Зинаида надеется, что понимание сути дегенеративного нервного расстройства позволит контролировать болезнь. Этот бунт против нарратива проходит, как будет показано, два этапа, причем используются две разные стратегии. Повторный крах попыток героини подчинить себе нарратив и управлять им показывает всю трагическую непреодолимость семантической границы, явившейся отправной точкой дегенерации. Таким образом, в романе «Из новых» инсценируется не столько прогрессирующий процесс вырождения[775], сколько парадигматическое нанизывание эпизодов, вновь и вновь подтверждающих границу между нормальным и патологическим, на которую раз за разом, словно на непреодолимую стену, наталкивается Зинаида[776].
Как видно из сказанного выше, первая Зинаидина «стратегия обретения контроля» состоит в сокрытии видимых проявлений своей болезни. Начитавшись специальной литературы, героиня полагает, что познала собственную «натуру»[777]. Поэтому ей кажется, что она сумеет подавить симптомы своего нервного расстройства. Наряду с попытками скрыть болезнь Зинаида, питающая неприязнь ко всему русскому, включая свое русское имя, отрицает также свое социально-биологическое происхождение и культурные корни[778].
Демонстративно открещиваясь от собственной русскости и пытаясь создать себе радикально иную идентичность, Зинаида стремится выглядеть иностранкой, что выражается в постоянном использовании французского языка и в «нерусской» осанке[779]. Поддержание искусственной дистанции, вместе с тем позволяющей героине отстраниться и от собственной психофизической деградации, изображается как волевой акт, требующий абсолютного самообладания. В первой части романа Зинаида предстает отрешенной, немногословной, статичной.
Разоблачение ее истинного состояния, равносильное краху попытки как можно дальше дистанцироваться от «своего» нарратива, в данном случае происходит на внутрификциональном уровне: маску срывает офицер Пармений Никитич Рынин. В первой части романа, показывающей развитие отношений между Рыниным и Зинаидой до свадьбы, Рынин разгадывает Зинаидино притворство, тем самым приобретая над ней власть. Кроме того, в этой части Рынин выступает единственной инстанцией, через посредничество которой читатель узнает о нервном расстройстве Зинаиды, о ее алкогольной зависимости и происхождении[780]. Такая исключительная позиция наблюдателя дополнительно подчеркивает его превосходство. Впервые Рынин начинает что-то замечать за ужином, во время которого Зинаида тщетно пытается скрыть приступ мигрени. Рынин верно истолковывает ее ухищрения и даже догадывается о ее незнатности:
С первых глотков Рынин уже следил за ней. Его занимало, как она будет есть и не откроет ли он в типе ее лица, в чем-нибудь неуловимом, того, что для него будет не бесполезно принять к сведению? В висок ей уже сильно кололо и грозило перейти и во всю правую половину черепа, но она ела старательно и при этом чуть заметно посапывала – от привычки дышать ноздрями. Это не ускользнуло от Рынина: он не сдержал даже мимолетной усмешки. Ему казалось, что в том, как Зина ест – молча, сосредоточенно, точно выполняет обряд, – было что-то простонародное, мещанское. И ее профиль с городками из волос на лбу отдавал для него русским кордебалетом. В ней он решительно находил родовое сходство с разными Марфушами, Онечками, Липочками ‹…› Вассиановнами, каких знавал, когда поступил в полк вольноопределяющимся[781].
Спустя несколько дней офицер, умело пользуясь своим знанием, намеками на простое происхождение Зинаиды целенаправленно доводит ее до сильнейшего нервного срыва. На скачках между ними происходит разговор: сделав замечание о неподобающем костюме спутницы, Рынин сравнивает ее с двумя стоящими неподалеку танцовщицами, тем самым косвенно намекая на ее происхождение[782]. После этого с Зинаидой случается припадок «столбняка», на несколько дней приковывающий ее к постели. Прежде чем потерять сознание, она успевает прочесть насмешку в глазах Рынина, разоблачившего ее притворство:
И глаза его [Рынина] говорили так ясно то, что она уже видела в них и прежде: «Как ты ни рядись, кaкого стиля ни держись, и все же ты похожа на танцовщицу ‹…› а не на барышню родовитого семейства, настоящего высокопоставленного общества, и все кругом, наверное, этак и смотрят на тебя». ‹…› Урок был ею получен, и лучше, чем он сам мог мечтать[783].
Это бессилие перед Рыниным, телесное и душевное, вновь охватывает Зинаиду при встрече с ним в Остенде: ей приходится собрать все свои силы, чтобы побороть новый приступ слабости, пока Рынин пытается повторно подчинить ее себе, саркастически намекая на ее пристрастие к алкоголю. В непосредственно следующей за этим сцене читатель встречает Зинаиду и Рынина спустя полгода, уже в Москве, и узнает, что они поженились. Отсутствие ясных мотивов такого решения в сочетании с текстуальной близостью эпизодов, показывающих силу Рынина и бессилие Зинаиды, к сделанному постфактум сообщению о свадьбе заставляет предположить, что между этим событием и разоблачением Зинаидиного притворства существует причинно-следственная связь.
Выйдя за Рынина, Зинаида вынуждена жить уединенной затворнической жизнью в имении Ширяево, что заставляет ее соприкоснуться с чуждой ей русской стихией (крестьянской, помещичьей и т. д.). В отличие от Ясинского (гл. IV.2) Боборыкин, в этой части тоже вкладывающий в уста персонажей рассуждения о вопросах народничества, не использует народнический нарратив в целях сюжетосложения. Как и в «Господах Головлевых» Салтыкова-Щедрина (гл. II.4), деградация героини сочетается с изоляцией в ограниченном пространстве, обрекающем на принудительную близость и клаустрофобически тесном[784]. Подобно головлевскому имению, усадьба именуется «могилой»[785]. Прежде чем надолго уехать в Ширяево, Зинаида навещает в Москве мать; во время встречи дочь остро ощущает непреодолимый характер биологического родства. Сначала героиня отмечает свое разительное внешнее сходство с матерью:
‹…› худое, совсем желтое лицо с правильными чертами, совершенно такими, как у дочери: тот же овал, та же сохранившаяся красивость ноздрей, тот же подбородок и даже такие же городки еще не седых волос на лбу. Разительное сходство с матерью, в первое же посещение, кольнуло Зину ‹…›. Голос она также, вместе со всею наружностью, передала Зине ‹…›[786].
Приступ невралгии, случившийся с матерью во время беседы, показывает Зинаиде источник ее собственной патологии, вызывая негодование и желание убежать:
Зина увидала это. Она не перепугалась; скорее, озлилась. С ней бывали такие же припадки. И как ни внезапен был ее испуг, она успела еще раз вознегодовать на мать за то, что та ей передала такие нервы и все эти «sales infirmités», которые с замужеством вовсе не проходят. ‹…› Она не растерялась, но ей овладело стремительное чувство: бежать отсюда и никогда не возвращаться. Что из того, что эта отставная танцовщица – ее родная мать? Она чужда ей, смешна, бестактна, возмущает ее![787]
Встреча с матерью убеждает Зинаиду в трагической непреложности нарратива наследственности, из которого сама она не может вырваться, и в вытекающем отсюда собственном бессилии, которое привязывает героиню к Рынину вопреки ее воле:
‹…› она [Зинаида] видит теперь, до какой степени она – вылитая мать по лицу, фигуре, голосу… От нее унаследовала она свою кажущуюся только рослую и бодрую осанку; но, в сущности, неизлечимые и тайные болезни, все эти мигрени, обмороки, мертвенную слабость, столбняки. Немощь сделала ее, точно каким-то обманом, женой Рынина, и всегда она будет у него в руках, и все потому же![788]
Тем не менее во второй части романа, основное действие которой происходит в Ширяеве, Зинаида не оставляет попыток волевого сопротивления своей «натуре». Периоды силы и бессилия чередуются в зависимости от ее отношений с мужчинами. Во время лечения кумысом на Волге Зинаида, вырвавшаяся из удушающих объятий Рынина, заводит роман с одним из пациентов, девятнадцатилетним Андреем Казанцевым. Этот «флирт» нужен Зинаиде для испытания своей привлекательности, которая, как она надеется, принесет ей и телесное исцеление[789]. Однако «Андрюша», разгадав Зинаидину игру, высмеивает героиню перед другими больными, намекая на ее сомнительное происхождение. Зинаида уезжает. Новую неудачу она переживает как позорный «провал»[790]. Безнадежность ее положения передана в начале следующей главы, где скупо сообщается, что Рынины не покидают осеннего Ширяева: «Зачастили осенние дожди. В Ширяеве – в рынинской усадьбе – господа сидели безвыездно»[791].
Здесь Зинаида снова пытается порвать со своим социально-биологическим положением. Она влюбляется в князя Ряжского, чье имение находится в том же уезде. Князь, которого интересуют только вопросы религии и собственный «толстовский» проект воспитания крестьянских детей, не замечает охватившей Зинаиду страсти. В отчаянии та решает убить князя, и лишь случайность мешает ей осуществить это намерение[792]. Происходит новый нервный срыв. Оставшись в одиночестве, Зинаида предается отчаянным мыслям о безысходности своего положения, снова виня во всем свое патологическое расстройство и его неисцелимую наследственную природу:
Одиночество засосало ее с новой силой. Беспомощность, холодная, леденящая безвыходность из того, что она есть и чем должна быть, – стали резать ее точно по живому телу. ‹…› В горле начались спазмы. Она не могла уже ни плакать, ни расплываться душой в чувство жалости к себе, к своей несчастной натуре. Страх и ужас заново торжествовали над нею. Исхода нет. ‹…› Откуда у нее ее болезненность?.. Все то, что она называла «le détraqué», и что только в эту ночь встало перед нею в яркой картине неизлечимого безумия, отчаянной, жалкой немочи? Откуда?[793]
Затем следуют уже процитированные размышления о собственной болезненной наследственности, складывающейся из отцовской душевной болезни и материнского нервного расстройства (см. выше), и в дочери впервые пробуждается сочувствие к родителям[794]. Полученное той же ночью известие о смерти матери заставляет Зинаиду спешно выехать в Москву, где ее эмоциональное отношение к матери меняется окончательно. Она впервые называет ее «матушкой»[795], впервые ощущает, опять отметив их удивительное сходство, «новую связь» с матерью, позволяющую героине понять свою собственную истинную «судьбу»:
У нее было такое чувство, точно будто она нашла с той женщиной, одного с нею лица, что лежит на столе, новую связь. Она – не Зина Рынина, рожденная Ногайцева, а дочь танцовщицы Расшивиной, Людмилы Мироновны, и сама швея или кордебалетная фигурантка. Это разительное сходство матери с нею делало ей сразу понятной всю судьбу той, всю ее обстановку[796].
Смерть кажется Зинаиде единственным спасением от неизбежной участи. Подобно щедринскому Порфирию Головлеву, Зинаида хочет насмерть замерзнуть на могиле матери, однако в последний момент отказывается от задуманного самоубийства[797]. Из-за этой попытки она тяжело заболевает тифом и несколько недель проводит в беспамятстве[798].
В третьей, заключительной части романа, действие которой разворачивается в Петербурге, перед читателем предстает «новая» Зинаида, оправившаяся после тифа, обретшая «новый вкус к жизни»[799] и принявшая факт кровного родства с матерью. Прежняя уверенность в неизлечимости своей болезни сменилась твердой убежденностью в полном выздоровлении, которое воспринимается еще и как избавление от чувства собственной культурной инородности:
Она ни за что не поверила бы в ту минуту, что с нею могут случиться припадки… Какие?.. С ней?.. Какой вздор! ‹…› – Я теперь здорова, и все с меня слетело. И даже я выучилась говорить по-русски. ‹…› И, в самом деле, она точно преобразилась. Тиф освободил ее от припадков, от болезненной нервности[800].
Эта перемена сопровождается ощущением свободы и независимости от мужа, которое выражается, в частности, в непринужденном участии героини в столичной светской жизни. Теперь правила супружеской жизни диктует уже Зинаида, тем самым переворачивая отношения власти, некогда установленные Рыниным в Ширяеве[801]. Так как переставшая лгать и притворяться жена обретает согласие с собой, Рынин теряет над ней контроль[802]. Смирившись со своим биологическим и социальным происхождением, Зинаида ощущает себя хозяйкой своей судьбы, а значит, и нарратива. Тем самым она совершает акт «нарративной дерзости», полагая, будто обладает свободой действий, принципиально недоступной героям романов о вырождении. Действовать они могут лишь постольку, поскольку подтверждают неизменность нарратива.
Высокая сознательность и способность к рефлексии подводят Зинаиду, заставляя ее ошибочно полагать, что она в силах взять собственную судьбу в свои руки. Рассказчик карает героиню за дерзость, разоблачая ее семиотическую слепоту. Однажды на балу Зинаиде наконец удается пробудить страсть в князе Ряжском, и теперь она твердо убеждена: влюбленный князь на ней женится и они вместе начнут новую жизнь[803]. Однако эта уверенность в возможности начать новую жизнь зиждется на совершенно ошибочной интерпретации окружающих знаков: князь вскоре раскаивается в греховных помыслах и просит прощения у Рынина. Когда он приходит к Зинаиде, желая извиниться за свое поведение на балу и перед ней, она принимает его, не сомневаясь в «победе». Их объяснение, очень важное для нашей аргументации и потому обширно цитируемое ниже, изображается при помощи частой смены внутренней и нулевой фокализации. Это помещает всю сцену в двойную перспективу: с одной стороны, происходящее передается с точки зрения всеведущего рассказчика, а с другой – глазами ни о чем не подозревающей Зинаиды. Это особо подчеркивает ее семиотическую неосведомленность:
Что она говорила ему? Неужели то, что она ясно видит теперь свою «судьбу», что она готова сбросить с себя «узы», что она сумеет сделаться подругой, достойной такого человека?.. Неужели все эти слова произносила она вслух, наклонившись к нему?.. ‹…› Неужели она, когда говорила, не разглядела на его лице чего-нибудь, что должно бы было удержать ее мгновенно? Да, говорила… и так сладко, так пространно и местами торжественно, как никогда не умела, с тех пор, как себя помнит. Длилось это с четверть часа. Он не прерывал ее; но глаза были опущены, мелькнуло перед ней нечто, напоминавшее ей сцену во флигеле его усадьбы… но только мелькнуло. Все, до самого конца, выговорила она. И опять ‹…› охватило ее чувство близости своей победы. Невольно опустила она глаза. И что же? Он сидел, как прикованный к стулу. Вышла пауза в несколько секунд, показавшаяся ей ужасно долгой. Она должна была и его дослушать до конца. Сначала ей послышался знакомый тон, каким он говаривал и в Ширяеве, и у себя. «Зачем все это, если он – мой, если я довела его до страсти?!» – спросила она себя. Но слова были другие. Не сразу схватывала она их: что-то ей мешало принимать их в себя, вновь уяснять себе их смысл. «Он отказывается от меня?» – был второй ее вопрос. Не отказывается, а кается ей в чем-то, называет себя разными «душеспасительными», суровыми словами, повторяет несколько раз, что он один, только он, а никак не она, во всем виноват[804].
Колебания повествовательной перспективы между внутренней и нулевой фокализацией позволяют рассказчику – перед тем воспроизведшему беседу князя с Рыниным, о которой Зинаиде ничего не известно, – в буквальном смысле разоблачить героиню перед читателем. Такая мерцающая нулевая фокализация является значимым текстуальным признаком, поскольку это первый и единственный раз, когда рассказчик обнаруживает свое обусловленное знанием превосходство над персонажами; во всех остальных случаях он занимает их точку зрения. Зинаида воспринимает это последнее опровержение как «наказание за свою колоссальную глупость»[805]. Непосредственно вслед за этим у нее случается новый, тяжелый нервный срыв. «Истинная натура» снова выходит на первый план, а надежды на полное выздоровление разбиваются[806]. Кроме того, восстанавливаются прежние отношения власти между Зинаидой и ее супругом. Показательно, что последний выступает теперь в роли «психиатра»: «Пармений Никитич находил в себе, во время „припадка“ Зины, чувства доктора, специалиста по психиатрии, наблюдающего явления какой-нибудь „большой истерии“…»[807].
Диагноз, поставленный героине медицинским светилом: подагра, обусловленная наследственной предрасположенностью[808], – заново подтверждает необоримую прогрессирующую природу ее патологии. Зинаиде не остается ничего иного, как покориться судьбе. После долгого разговора с Рыниным она изъявляет готовность достичь соглашения и отныне заботиться, как супруга, о карьере мужа. Ее последние размышления – о собственном безнадежном будущем, которое теперь ясно встает перед глазами:
Но лицо Зины что-то не просияло, губы не раскрылись, глаза потускнели: она приговаривала себя к долгой жизни без личных радостей, и перед ней поплыли картины как во сне: вот она тридцати лет, сорока, пятидесяти, вот изящной седой старухой строгого лица. Так же прилегла она на кушетке своего салона, и два адъютанта в белых галстуках хлопочут около чайного столика… – Messieurs! – произнесла она громче, – vous pouvez vous retirer! – И собственный голос показался ей постаревшим на тридцать лет…[809]
В этой заключительной пролептической вставке будущее предстает унылым повторением одного и того же, растянутым процессом умирания. Нарратив о вырождении вновь оказывается могилой, поглощающей любое действие, наделенное событийным статусом.
V. Изменение повествовательных моделей вырождения на рубеже 1880–1890‐х годов (интермеццо)
В июльском номере ежемесячника «Русское богатство» за 1893 год напечатан любопытный рассказ Д. Н. Мамина-Сибиряка «Тот самый, который…»[810]. Герой этой истории, уважаемый петербургский чиновник Виктор Васильич, во время посещения театра случайно узнает, что его называют обманутым супругом: говорят, будто его беременная жена, Евгения Павловна, изменяет ему с Эрнестом Карлычем, домашним доктором. Хотя Виктор Васильич решает воздержаться от объяснения с женой, вскоре становится ясно, что слухи правдивы. Он получает все больше доказательств ее неверности – и своей слепоты: «Для Виктора Васильича выступил совершенно ясно такой ряд доказательств, пред которыми замолкла последняя тень сомнения. И каждый новый день приносил все новые доказательства»[811].
Впрочем, неотступные размышления протагониста о лживости собственной жизни и о власти условностей не приводят к духовному перевороту, как в произведениях Толстого. Несмотря на прогрессирующий разлад супружеских отношений и невозможность героя удостовериться в своем отцовстве, муж с женой продолжают вести прежнюю жизнь и после рождения ребенка. Но регулярные визиты домашнего врача напоминают Виктору Васильичу о горькой правде, которую протагонист среди прочего пытается установить, выискивая физиогномическое сходство – или несходство – «своего» сына с собой. Внезапная тяжелая болезнь ребенка, однако, вновь эмоционально сближает Виктора Васильича и его жену у постели больного. Вызванный Эрнест Карлыч, явно не способный справиться с трудным случаем, вынужден согласиться на врачебный консилиум, хотя и считает его излишним, объясняя это Евгении Павловне так:
– Будь это другой ребенок, то есть обыкновенный нормальный ребенок, тогда другое дело. Никакая наука не может предвидеть тех сюрпризов, какие преподносят господа родители своими нервами… Вы только посмотрите на себя и на вашего супруга…[812]
Теория наследственности выступает в рассказе общественной конвенцией, которая лишь симулирует научные истины сообразно контексту. Даже медицинский консилиум подтверждает поставленный Эрнестом Карлычем диагноз дегенеративного заболевания, хотя каждый из собравшихся врачей знает, что Виктор Васильич – это «тот самый, который…»:
– Прежде всего, я считаю своим долгом указать на господ родителей – в них основная причина, базис, так сказать, и объяснение всего остального. Почтенный Виктор Васильич и уважаемая Евгения Павловна представители нервного века… fin de siècle…
Ученый ареопаг наклонил головы над столом, стараясь не смотреть друг на друга, и только самый младший из коллег не мог удержаться от улыбки. Действительно, fin de siècle… Он наклонился к уху своего соседа и шепотом спросил:
– Виктор Васильич, ведь это тот самый, который…?
‹…› Конечно, тот самый – кто же этого не знает. ‹…›
– Именно в господах родителях коренится разгадка разыгравшегося кризиса, – продолжал Эрнест Карлыч, делая своей выхоленной рукой плавный жест. – Да… Нам приходится считаться с ярко выразившейся наследственностью… К сожалению, это – факт. ‹…›
Совещание продолжалось целый час, хотя смертный приговор был произнесен гораздо раньше. В заключение приглашен был Виктор Васильич, и ему торжественно было сообщено то, что он уже знал сам[813].
Несомненно, такая сатирическая стилизация, представляющая теорию вырождения в виде лживого симулякра, весьма удобного для небрежной маскировки тривиального адюльтера, принадлежит к контексту уже рассмотренной нами «демистификации» натуралистического научного нарратива в творчестве Мамина-Сибиряка. Создавая «Приваловские миллионы» (1883; гл. III.3) как «классический» роман о вырождении, писатель, однако, лишает смысла специфическую для жанра нарративную ось. В социальных же романах «Горное гнездо» (1884) и «Хлеб» (1895), как мы увидим в дальнейшем (гл. VII.2), контраст, создаваемый побочными сюжетными линиями, используется для того, чтобы развенчать ту функцию интерпретации и предвосхищения действительности, которая приписывалась научным нарративам, в данном случае – концепции борьбы за существование.
Однако «Тот самый, который…» еще и красноречиво свидетельствует о коренных изменениях, произошедших с нарративными моделями вырождения в русской литературе конца 1880‐х – начала 1890‐х годов. К началу 1890‐х годов, после уходящего десятилетия, когда главным жанром литературы соответствующей направленности был роман о вырождении натуралистического толка (гл. II, III и IV), такие романы (временно) перестают появляться в русской литературе[814]. Вместе с тем вырождение превращается в важный литературный топос, не предполагающий, впрочем, структурных особенностей романа о вырождении. Вспомним, например, повесть Л. Н. Толстого «Крейцерова соната» (1889), которую допустимо назвать «текстом о вырождении» лишь с точки зрения мотивной (а не повествовательной) структуры[815]. Нечто подобное можно утверждать и о поэтическом изображении наследственного помешательства в стихотворении А. Н. Апухтина «Сумасшедший» (1890)[816], а также о проникнутом мотивами упадка и болезни творчестве С. Я. Надсона и о сложившемся вокруг автора культе «чахоточного поэта»[817].
Примечательно, что в литературном контексте 1890‐х годов, изобилующем, по мнению критика А. М. Скабичевского[818], персонажами – неврастениками и психопатами, единственный (известный мне) роман, эксплицитно названный «Вырождение» (1897), принадлежит перу В. П. Желиховской и романом о вырождении не является[819]. Прогрессирующее падение нравов в России второй половины XIX столетия, описанное на нескольких сотнях страниц этого социального романа, увидено глазами главной героини, которая являет собой воплощенное мужество и до преклонных лет остается оплотом нравственности, со сверхчеловеческой энергией (которая вопреки авторскому замыслу выглядит комично) борясь против распространяющегося, подобно эпидемии, разложения ценностей и идеалов. Вырождение, в данном случае означающее исключительно упадок нравов, утрачивает связь с золаистским нарративом о дегенерации, хотя роман Желиховской, безусловно, рассказывает историю одной семьи. Падение нравов усугубляется по мере смены поколений, однако не обнаруживает каких-либо медицинских коннотаций, а для его инсценировки не используются структурные особенности психиатрически-натуралистического нарратива о вырождении.
Тот факт, что художественный потенциал золаистского романа о вырождении постепенно исчерпывает себя в русской литературе конца 1880‐х – начала 1890‐х годов, хотя именно в этот период упрочиваются позиции русского натурализма[820], объясняется прежде всего ситуацией внутри самого литературного дискурса. Как было показано в предшествующих главах (II–IV), в процессе ранней и интенсивной рецепции Золя русская литература всего за несколько лет осваивает нарративные возможности романа о вырождении, всячески их варьируя и, соответственно, препятствуя механическому повторению повествовательной схемы. Если сравнить тексты, уже рассмотренные в этой книге, с первыми немецкими «декадентскими романами»: «Болезнью века» («Die Krankheit des Jahrhunderts», 1887) Макса Нордау и «Декадентами» («Die Dekadenten», 1898) Герхарда Оукамы Кноопа, – то все разнообразие художественных подходов к элементарному по сути своей нарративу, присущее русской литературе с самого начала, выступает еще отчетливее. Немецким романам свойственна «работа по схеме»[821], ограничивающая свободу варьирования и ставящая во главу угла неизменность нарратива, тогда как русские тексты демонстрируют определенный вкус к игре с возможностями модификации соответствующей повествовательной модели. Вместе с тем все эти возможности, испробованные всего за несколько лет, быстро себя исчерпывают, а литература о вырождении выходит из тесных рамок натуралистического романа.
Впрочем, (временное) исчезновение романа о вырождении из русского литературного ландшафта на рубеже 1880–1890‐х годов объясняется не только и не столько внутрилитературными причинами, сколько общим расширением концепции вырождения в период ее становления в российском научном и публицистическом дискурсе (гл. IV.1–2). При этом на смену Морелеву нарративу дегенеративной наследственности, охватывающему череду поколений, приходит расширенная трактовка понятия «вырождение», которое превращается в своеобразную «модель интерпретации мира» через призму девиации. Первоначальный нарративный аспект дегенерации, восходящий к Золя, сменяется другими биомедицинскими повествовательными моделями: криминально-антропологической (гл. VI) и дарвинистской (гл. VII), – и смешивается с ними. В результате возникают новые нарративные формы, альтернативные способы рассказа о вырождении.
Изменение повествовательных моделей дегенерации хорошо прослеживается на примере восприятия русской публикой книги М. Нордау «Вырождение» («Entartung», 1892–1893)[822]. Критикуя представленные в патологическом свете цивилизацию и культуру, Нордау, как известно, выносит приговор европейскому модернизму в целом: от прерафаэлитов до символистов, от Вагнера до Ницше, от Ибсена до Золя, – применяя почерпнутый из теории вырождения диагностический метод при анализе произведений модернистского искусства и обнаруживая у авторов симптомы психических отклонений[823]. Отличительной особенностью ранней и широкой рецепции «Вырождения» в России[824] является не только тот факт, что рецепция эта хронологически совпадает с зарождением русского символизма и в определенной степени ему способствует; так, книга Нордау повлияла на известный манифест Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893)[825]. Вместе с тем такая рецепция свидетельствует о распространении понятия «вырождение» в качестве всеобъемлющей, «медицинской» объяснительной модели любых проявлений упадка в культуре. Приведу лишь две выдержки из публицистических статей, в которых обсуждается сочинение Нордау:
На том самом ‹…› месте, где еще недавно раздавались единодушные клики торжества и надежды в связи с теорией Дарвина, мы столь же однообразно слышим и повторяем мрачное слово – «вырождение». Не удивительно, что его твердят невропатологи и психиатры ‹…› но дело в том, что их голос отдается бесчисленными перекатами эхо над всем житейским морем. Криминалисты, антропологи, публицисты, романисты, поэты, критики на все лады говорят нам о разнообразных явлениях как о результатах вырождения[826].
Прошлое столетие приближалось к своему окончанию с твердою уверенностью в наступлении новой светлой эры Разума. Ее осуществление оно завещало XIX веку. Но вот наш век подходит к концу в состоянии какого-то нравственного банкротства. Со всех сторон слышишь выражения «fin de siècle», «fin d’un monde», «декаденство», «вырождение». ‹…› Об этих fin de siècle, декаденстве, вырождении толкуют и у нас. ‹…› Европа вырождается, нельзя же нам отставать от века? ‹…› В иных отношениях мы, пожалуй, перещеголяем саму старушку Европу по части этого «вырождения». Недаром в книге Макса Нордау такое видное место занимает «толстоизм»[827].
Метод Нордау и выводы, к которым он приходит, в России оцениваются по-разному. В «Северном вестнике», первом русском модернистском журнале, появляются рецензии Зинаиды Венгеровой (1892) и Акима Волынского (1894). Оба рецензента резко критикуют медицинский подход Нордау и оценку им модернизма через призму патологии[828]. Рецензенты-народники, в частности Николай Михайловский и Ростислав Сементковский, соглашаются с критикой немецким автором модернистского антиутилитаризма, однако отвергают обобщающий патологизирующий подход[829]. Сочувственный прием книга Нордау находит у консервативных критиков, таких как Лев Тихомиров и Дмитрий Цертелев[830], а также у Льва Толстого, чье эссе «Что такое искусство?» (1898) обнаруживает явную интертекстуальную связь с «Вырождением»[831]. Кроме того, высказанная Нордау медицинская литературная критика обретает подражателей среди русских психиатров, которые, подобно западным коллегам, нередко подчеркивают «патологический упадок»[832] русской литературы рубежа веков, сравнивая ее с творчеством душевнобольных и настоятельно указывая на опасную заразительность современного искусства, способного привести к эпидемии нервных расстройств[833].
Одни эти публицистические отзывы на «Вырождение» свидетельствуют о том, что соответствующее понятие стало ключевым для целой культурной эпохи. Уже Сементковский отмечает в предисловии к своему переводу «Вырождения» (1894), что Нордау использует это понятие в чрезвычайно широком смысле, причем момент наследственности не играет более никакой роли:
В науке ‹…› под словом «вырождение» разумеют вообще уклонение от нормального типа вследствие наследственных причин. Но наш автор еще более обобщает это понятие и употребляет слово «вырождение» весьма часто в смысле уклонения от нормального типа вообще, даже помимо наследственности. Он, например, называет выродившимися субъектами и таких людей, относительно которых трудно доказать, что их уклонение от нормального типа вызывается наследственностью[834].
Отсутствие генеалогической диахронии в выдвинутой Нордау концепции превращает вырождение в синоним девиации вообще, в причину и вместе с тем следствие культурно-медицинского декаданса, в универсальный научно-герменевтический инструмент, позволяющий интерпретировать культурную семантику fin de siècle. Прогрессирующий характер дегенерации смещается при этом с генеалогического уровня на цивилизационный.
Если во Франции и в Германии растяжение понятия вырождения, предпринятое Нордау, маркирует кульминацию процесса, уходящего корнями в соответствующую медицинскую концепцию, то русская рецепция «Вырождения» хронологически совпадает с почти непосредственным переносом медицинского понятия в культурный дискурс. Вместе с тем Нордау утверждает слияние вырождения и литературы (понимая его в отрицательном ключе), играющее важнейшую роль и в русском символизме, который зарождается в те же годы[835], однако знаменующее собой разрыв с натуралистической традицией романа о вырождении[836]. Как убедительно показала Ольга Матич, русская специфика литературного соединения дегенерации с декадансом состоит в «оксюморонном» и «утопическом» искусстве жизни, которое предполагает эротическую воздержанность, призванную преодолеть биологический момент упадка[837]. Превращаясь в составляющую искусства жизни, практикуемого русскими символистами, концепция вырождения утрачивает свой нарративный потенциал, возможность переноса изначальной повествовательной схемы на литературные структуры[838]. Ярким примером служит неудавшаяся попытка А. А. Блока создать собственных «Ругон-Маккаров» в незавершенной поэме «Возмездие» (1910–1921)[839]. Похожая участь постигла и неосуществленный план Ф. К. Сологуба написать семейную эпопею под названием «Ночные росы» (1880) по образцу экспериментального романа Золя[840].
Символистской линии развития российского дискурса о вырождении в дальнейшем не уделяется внимания, поскольку это не та область, где в 1890‐х годах происходит слияние обеих концепций дегенерации, научной и литературной. Объясняется это не только и не столько вышеописанной утратой повествовательной модели Мореля – Золя, характерной для натурализма, сколько тем обстоятельством, что символизм, с его эстетизацией упадка, девиации и психических отклонений, отдаляется от современного ему биомедицинского дискурса о вырождении, который объединяется с другими биологическими концепциями: с криминально-антропологической теорий атавизма и с дарвинистской «борьбой за существование». Так возникают новые повествовательные модели вырождения, общие для научного дискурса, с одной стороны, и произведений натурализма и позднего реализма – с другой, как будет подробно показано в частях VI и VII этой книги.
VI. Атавизм и преступность. Криминально-антропологические нарративы о вырождении
В 1899 году Чезаре Ломброзо, основоположник снискавшей международное признание итальянской школы криминальной антропологии, рассуждает в письме к Эмилю Золя об определенном сходстве своей «судьбы» с творческой биографией адресата: оба сначала прославились в России, тогда как на родине их долгое время «презирали»[841]. Действительно, в России спорная теория Ломброзо об атавистической природе преступности и о существовании «прирожденных преступников» (criminali nati) приобрела популярность гораздо раньше, чем в Европе. Первые русские журнальные статьи и монографии, посвященные подробному и, как правило, одобрительному изложению и обсуждению идей Ломброзо, появляются уже в конце 1870‐х годов, т. е. спустя всего несколько лет после выхода первого итальянского издания «Преступного человека» («L’uomo delinquente», 1876) – opus magnum итальянского психиатра[842]. Это не ускользнуло от внимания представителей итальянской «позитивной школы криминологии» (scuola criminale positiva). Так, в статье Рафаэле Гарофало, напечатанной в 1884 году на страницах издаваемого Ломброзо журнала «Архив психиатрии, уголовного права и криминальной антропологии» («Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale»), возникновение русской позитивной школы криминологии объясняется влиянием итальянской криминальной антропологии[843]. При этом автор, невзирая на явную осведомленность в вопросе, обходит молчанием громкие критические голоса, в частности авторитетного криминолога Н. С. Таганцева[844].
В августе 1897 года Ломброзо смог лично удостовериться в своей популярности среди российских коллег, приняв участие в московском Международном съезде врачей: многочисленные последователи оказали итальянскому психиатру восторженный прием. Находясь в Москве, Ломброзо принял спонтанное решение посетить Л. Н. Толстого и не без труда добился полицейского разрешения на поездку в Ясную Поляну[845]. Ученый хотел не только познакомиться с великим русским писателем, но и – прежде всего – проверить свою идею взаимосвязи гениальности и вырождения на «живом объекте»[846]. Ломброзо с самого начала отводил Толстому важную роль в своем труде «Гениальность и помешательство» («Genio e follia»), или «Гениальный человек» («L’uomo di genio»), с 1864 по 1894 год выдержавшему шесть изданий и получившему широкий отклик в России[847]. Недаром портрет Толстого был помещен на обложках шестого итальянского издания «Гениального человека» (1894) и сборника статей «Вырождение и гений» («Entartung und Genie», 1894) под редакцией Ганса Куреллы: русский писатель воплощал собой парадоксальную связь между «двумя на первый взгляд несовместимыми понятиями»[848]. Ломброзо рассчитывал de visu подтвердить, а также расширить новыми наблюдениями перечень стигматов вырождения, которые находил у Толстого: в частности, «общее телосложение, характерное при кретинизме», «глубокие скорбные морщины», «навязчивое мудрствование и нерешительность»[849].
На протяжении этого визита, не обошедшегося без комических инцидентов[850], Ломброзо и Толстой беседовали о природе преступления и о законности наказания, отстаивая диаметрально противоположные точки зрения. Ломброзо объяснял, что преступник имеет биологические отклонения от нормы и, ввиду наследственности и влияния среды, не может в полной мере отвечать за свои поступки, а цивилизованное общество вправе защищать себя от прирожденного преступника. Однако Толстой «оставался глухим ко всем этим доводам, насупливал свои страшные брови, метал ‹…› грозные молнии из своих глубоко сидящих глаз и наконец произнес: „Все это бред! Всякое наказание преступно!“»[851] Спустя некоторое время Ломброзо переживет жестокое разочарование, читая роман Толстого «Воскресение» (1899), в котором открыто оспариваются любые научные теории, включая эксплицитно упомянутую криминальную антропологию Ломброзо (гл. VI.2). Последнему оставалось с сожалением констатировать, что он «напрасно надрывал свои легкие» в беседе с Толстым[852]. Писатель же удостоил визит итальянского психиатра лишь краткой иронической записью в дневнике: «Был Ломброзо, ограниченный наивный старичок»[853].
Поездку Ломброзо в Россию можно интерпретировать как символ тех противоречий, которые, на первый взгляд, наблюдаются между рецепцией его идей в русской литературе, с одной стороны, и в русской науке – с другой. Теплый прием, оказанный иностранному гостю на московском съезде врачей, свидетельствует о раннем и глубоком восприятии криминальной антропологии российскими учеными, особенно судебными психиатрами. Как и во Франции и в немецкоязычном пространстве, в России концепцию атавизма и врожденных преступных наклонностей объединили с теорией вырождения. Такие психиатры, как П. И. Ковалевский и В. Ф. Чиж, или криминологи, как Д. А. Дриль и Р. Р. Минцлов, рассматривали фигуру преступника с медицинской точки зрения, объясняя его ненормальное социальное поведение дегенеративными нарушениями развития[854].
Напротив, в неудачной встрече Толстого с Ломброзо, в их неспособности понять друг друга можно усмотреть подтверждение нередко постулируемой несовместимости представлений о преступности и преступнике, преобладавших в русской литературе конца XIX века, с криминально-антропологическими и биологическими концепциями. В литературе преступник чаще воспринимается как человек скорее нравственно «падший», нежели биологически «неполноценный»[855], скорее «несчастный», нежели психопат[856]. Так, в статье «Среда» (1873) Ф. М. Достоевский подчеркивает: русский народ потому называет преступника «несчастным», что видит в нем проявления собственной несовершенной человеческой природы и испытывает к нему сострадание[857]. Эту концепцию писатель воплощает, в частности, в романе «Преступление и наказание» (1866), где Раскольников являет собой своеобразную «квинтэссенцию несчастного человека»[858]. Как правило, в мелодраматических нарративах ранней русской криминальной литературы, с ее сочувственным отношением к нарушителям закона, отсутствует та ясная концептуализация преступника как воплощения атавистического зла, которая выступает художественным структурным элементом таких произведений, как «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890) Э. Золя, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» («The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde», 1886) Р. Л. Стивенсона и «Дракула» («Dracula», 1897) Б. Стокера[859]. По утверждению Луизы Макрейнольдс, смена парадигмы в русских повествовательных моделях преступности происходит лишь с наступлением нового столетия, когда на смену нравоучительной криминальной литературе конца XIX века приходит детективный роман американского типа, где основное внимание уделяется напряженности действия, а изображение преступлений и преступников перекликается с образами зла в литературе ужасов, нередко отсылая к ломброзианской концепции прирожденного преступника[860].
В части VI этой книги оспаривается такой схематичный взгляд на несоответствие двух российских дискурсов 1880–1890‐х годов, научного и литературного, в вопросе о криминально-антропологических концептах и предлагается другой угол зрения, позволяющий выявить тесное взаимодействие науки и литературы в исследуемой области. Основная задача заключается в том, чтобы рассмотреть концепции атавизма и врожденных преступных наклонностей в сложной взаимосвязи с теорией вырождения, а также представить повествовательность как эпистемологический мост между научным и литературным дискурсами в соответствии с главной идеей книги.
Сначала, в главе VI.1, поясняется соотношение понятий атавизма и дегенерации в рамках теории Ломброзо и в общем психиатрическом контексте того времени. С одной стороны, в основе двух этих концепций лежат разные формы мышления: концепция атавизма зиждется на аналогии, концепция вырождения – на причинности; с другой стороны, однако, и в ломброзианской криминальной антропологии, и в психиатрии они нередко сочетаются друг с другом. Это особенно верно в отношении российской судебной психиатрии 1880–1890‐х годов, в рамках которой ломброзианская идея атавистической звериной сущности преступника, опирающаяся на аналогию, включается в причинно-следственную логическую модель дегенерации. В результате из-под пера таких психиатров, как П. И. Ковалевский и В. Ф. Чиж, выходят медицинские анализы частных случаев – первые в русской культуре рассказы о «биологически неполноценных» преступниках, чья беззаконная натура возводится к мифическому «первобытному злу». Таким образом, в данном случае опрокидывается то соотношение науки и литературы, о котором шла речь в начале книги. Если начальный этап развития русского дискурса о вырождении носит литературный характер, поскольку именно художественная словесность, обращаясь к натуралистическому роману о вырождении, реализует повествовательную схему дегенерации задолго до русской психиатрии (гл. II и III), то медицинский дискурс, разрабатывая жанр судебно-психиатрического анализа, предвосхищает литературные повествовательные модели атавистической преступности, проникающие в литературу лишь после 1900 года.
В следующей главе, VI.2, предпринята попытка проанализировать существующие в русской литературе конца XIX века формы повествования о преступности, взаимодействующие с научными нарративными моделями атавизма и дегенерации. С этой точки зрения особый интерес представляют три типа текстов. Во-первых, это литературно-критические очерки судебных психиатров В. Ф. Чижа и П. И. Ковалевского, воспринимающих и (превратно) интерпретирующих русскую литературу – от Ф. М. Достоевского до А. П. Чехова – о преступниках и каторжниках как медицинские описания частых случаев, иными словами, как совокупность научных анализов, посвященных прирожденным преступникам. Во-вторых, речь пойдет о фикциональных и фактуальных текстах на тему преступности, авторы которых – от Ф. М. Достоевского до Л. Н. Толстого, от А. И. Свирского до В. М. Дорошевича – освобождаются от герменевтического «господства» судебной психиатрии, заставляя последнюю «предстать перед судом» и оспаривая ее путем иронии, карнавализации и аргументированного опровержения. Наконец, я обращусь к очерковой литературе о жизни трущоб и покажу, каким образом такие авторы, как В. В. Крестовский, В. А. Гиляровский и А. И. Свирский, используют заимствованные из криминальной антропологии мотивы, тропы и образы для изображения преступности в рамках этих «пространств вырождения», этих гетеротопий девиации.
VI.1. Аналогия, причинность, повествовательность. Атавизм и вырождение в криминальной антропологии и психиатрии
Победоносно утверждаясь по всей Европе конца XIX века в качестве универсальной объяснительной схемы «социальных патологий», концепция вырождения сближается с другими биомедицинскими повествовательными моделями, включая криминальную антропологию Чезаре Ломброзо[861]. В результате этого сложного, противоречивого сближения теория дегенерации обретает статус мощного инструмента, который помогает «защищать общество»[862] от преступности, воспринимаемой отныне как отклонение от медицинско-биологической нормы. Эпистемологическую ценность теория эта опять-таки черпает из собственной нарративной фактуры, позволяющей уменьшать и преодолевать сложность и случайность разобщенных криминальных явлений путем включения их в стройное медицинское повествование. При этом научная значимость нарратива о вырождении в рамках дискурса о преступности зиждется прежде всего на напряжении, возникающем между двумя разными формами мышления: аналогией и причинностью. Несмотря на общий для криминальной антропологии и теории вырождения постулат биологической основы преступности, в них используются разные концепты, которые, обнаруживая множество точек соприкосновения, опираются на принципиально различные формы мышления. Если теория атавизма, ядро ломброзианской криминальной антропологии, покоится на аналогии, проводимой между «прирожденным преступником» (criminale nato) и «примитивным», «первобытным» человеком, то психиатрия предлагает объяснительную модель преступности как результата вырождения, устанавливая тем самым причинно-следственную связь между патологией и девиацией. Как будет показано в дальнейшем, именно объединение обеих моделей и соответствующих форм мышления играет решающую роль в реализации повествовательного потенциала, который особенно ярко раскрывается в написанных русскими психиатрами судебно-медицинских анализах.
Криминальная антропология тесно связана с именем Чезаре Ломброзо, создателя так называемой «позитивной школы» итальянской криминологии. На рубеже веков эта школа предложила новые подходы к исследованию преступности, завоевавшие международное признание и ставшие предметом бурных споров[863]. В отличие от классической криминологической школы, основы которой заложил Чезаре Беккариа, представители позитивной школы сосредоточиваются не на преступлении как «юридической абстракции», а на фигуре самого преступника с его психофизическими характеристиками, поддающимися количественному определению[864]. В своем главном труде «Преступный человек» («L’uomo delinquente», 1876–1897)[865] Ломброзо постулирует радикальное отличие от антропологической нормы, свойственное определенным типам преступников и расцениваемое ученым как проявление атавистического регресса. Концепция «прирожденного преступника» (criminale nato) подразумевает радикальную биологизацию преступности, рассматриваемой отныне не только как социальная аномалия, но и как медицинская проблема[866].
Выше уже было сказано, что ломброзианская теория атавизма не тождественна теории вырождения, так как эти концепции основаны на разных формах мышления. Ненормальность прирожденного преступника, не связанная с охватывающими несколько поколений процессами наследования, изначально мыслится Ломброзо чисто аналогически и не предполагает причинности[867]: доказательствами существования «антропологической разновидности» homo delinquens, чья склонность к нарушению закона носит врожденный характер, служат многочисленные морфологические, психологические и социокультурные признаки, позволяющие выявлять значимые аналогии между преступниками, «естественными народностями» (Naturvölker), первобытными людьми и отдельными видами обезьян[868]. Таким образом, прирожденный преступник воплощает собой атавистический регресс к пройденному этапу развития человечества или же пережиток первобытного состояния, которое считалось преодоленным[869].
Возвращение первобытного начала в лице преступника рассматривается итальянским психиатром как своеобразное биологическое возрождение, поддающееся анатомическому и физиогномическому описанию, однако в конечном счете необъяснимое с точки зрения медицины. Ломброзо обнаруживает у преступника такие анатомические черты, как знаменитая средняя затылочная ямка (fossa occipitale mediana) – особенность строения черепа, найденная ученым при исследовании тела разбойника с юга Италии по фамилии Вилелла[870]. Однако Ломброзо не удается отыскать эволюционных причин появления этой атавистической аномалии. Иногда он вообще отказывается от проведения каких-либо различий и превращает аналогию в отождествление: «[Преступники] говорят по-другому, потому что чувствуют по-другому; они говорят как дикари, потому что они и есть дикари, живущие посреди цветущей европейской цивилизации»[871]. При этом аналогии становятся возможными на любом уровне, а каждый признак наделяется равно всеобъемлющей значимостью, будь то средняя затылочная ямка, татуировки или неспособность к раскаянию[872].
Этот неустанный поиск атавистических признаков позволяет взглянуть на «Преступного человека», объем которого увеличивается с каждым изданием, как на своего рода «энциклопедию преступлений»[873], а на автора – как на универсального ученого[874]. Каждый «открытый» факт встраивается в синтагматический ряд девиации на основании подобия, которое можно описать термином Людвига Витгенштейна «семейное сходство»[875]. Ломброзо интерпретирует любые девиантные явления с естественной точки зрения, приравнивая их к инстинктам и утверждая тем самым регрессивную сущность отклонений[876]. Влияние девиации на цивилизованное общество может быть как негативным, разлагающим, так и позитивным, преобразующим: первый вариант представлен преступниками и проститутками, второй – гениями и революционерами[877].
Впрочем, неустанная измерительная деятельность Ломброзо[878] не позволяла ему даже отчасти подкрепить свои гипотезы эмпирическими доказательствами, в чем его не раз упрекали критики[879]. Поэтому числа, таблицы и статистические данные, которым в работах ученого отводится значительное место, функционируют скорее как «наглядные свидетельства»: «Черепные аномалии важны были не по причине непременного наличия их у преступников, а из‐за предоставляемой ими возможности установить связь между преступностью, с одной стороны, и дикой природой хищников и плотоядных растений – с другой»[880]. Визуальное соответствие эмпирическим данным как «самоочевидным доказательствам» составили знаменитые портреты преступников, помещенные в книге Ломброзо и призванные обеспечить видимость зла в лучших традициях физиогномики[881].
Необходимость опытной проверки своих идей, резко критикуемых международным профессиональным сообществом, заставила Ломброзо ввести в теорию атавизма категории дифференциации и не только представить преступника в качестве самодостаточной монады, но и поместить его в контекст причинно-следственных связей[882]. В третьем издании своей работы (1884) Ломброзо ограничивает проявления атавизма фигурой прирожденного преступника и вводит другие классы, в частности случайных и привычных преступников, чтобы принять во внимание и внешние факторы преступности, подчеркиваемые его учеником Энрико Ферри[883]. Вместе с тем Ломброзо обращается к патологическому началу с целью дать атавистическому регрессу убедительное медицинское объяснение, а также говорит о «задержках развития» (arresti di sviluppo) на основании теории рекапитуляции, которую, в отличие от Эрнста Геккеля, интерпретирует не с морфологической, а с социокультурной точки зрения[884]. Задержки развития Ломброзо считает наследственно обусловленными проявлениями дегенерации[885]. В ломброзианском истолковании, отличном от психиатрических взглядов того времени, вырождение рассматривается как регресс, обнажающий первоначальную, «первобытную» человеческую природу. Преступники – это «ущербные цивилизованные люди», неспособные преодолеть более раннюю стадию филогенеза, на которой преступность была явлением естественным[886].
Такая этиология преступности обнаруживает типичное для Ломброзо редукционистское качество. Постулат о задержках развития позволяет отождествить преступные наклонности с «нравственным помешательством» (moral insanity), так как отсутствие способности к моральному суждению якобы типично для ранних этапов фило– и онтогенеза[887]. Редукционистская мысль Ломброзо, которая уничтожает любые различия, сводя их к одному и тому же феномену, особенно ярко проявляется начиная с четвертого издания «Преступного человека», где новым столпом концепции становится эпилепсия, или «эпилептоидное состояние»:
Подобно тому как нравственное помешательство сливается со своей высшей ступенью – врожденной преступностью, так и в хронических припадках преступника-эпилептика, острых или приглушенных, выражается высшая степень нравственного помешательства; в относительно спокойные периоды обе формы проявляются одинаково. А так как две вещи, которые тождественны третьей, тождественны между собой, то прирожденная преступность и моральное помешательство – это, бесспорно, не что иное, как разновидности эпилепсии[888].
Этот псевдосиллогизм, призванный установить логическую связь между преступностью, нравственным помешательством и эпилепсией, не маскирует, а лишь сильнее подчеркивает редукционистскую суть ломброзианства. Центростремительный характер отождествления по аналогии противостоит центробежным силам, рождающимся вследствие введения дифференцирующих категорий в изначальную концепцию атавизма[889]. «Бесструктурная структура» криминальной антропологии Ломброзо – результат постоянных (и неизменно провальных) попыток логически обосновать умозаключения по аналогии, от которых ученый не может и не хочет отказаться.
Такая динамика «Преступного человека», с научной точки зрения шизофреническая, обнажает истинную суть учения Ломброзо, которую Петер Штрассер относит к области мифологического мышления[890]. Редукционистское проведение аналогий, подрывающее любые критерии дифференциации, проистекает из «диктата тотальности», стремящегося утвердить мифологизированное представление о всецело «звериной» природе преступника[891]. Рассматривая прирожденного преступника как «дикаря, попавшего в наш цивилизованный мир»[892], Ломброзо моделирует мифологическую «тотальность», сохраняющую «символические отношения со всеми аспектами царства смятения, хаоса, зла, ночи»[893]. Вышеупомянутый подход к преступности как к естественному явлению подразумевает мифологизированную «этизацию» атавистического дикаря как воплощенного звериного начала, как проявления «природного демонизма, с самого начала пронизывающего, по мнению Ломброзо, любые проявления жизни»[894]. Таким образом, в глазах итальянского ученого преступность – это не только атавистический регресс к более ранней эволюционной стадии, но и «вторжение демонической природной стихии» в цивилизационный порядок[895].
Представление о чудовищной сущности прирожденного преступника отчетливо отразилось в ретроспективном описании «открытия» ученым атавизма при исследовании тела разбойника из Калабрии по фамилии Вилелла. Этот рассказ приводится во введении, написанном Ломброзо для английского издания книги его дочери Джины Ломброзо Ферреро «Criminal Man According to the Classification of Cesare Lombroso» (1911):
После его [Вилеллы] смерти, наступившей одним серым, холодным ноябрьским утром, мне было поручено провести аутопсию. Вскрыв череп, я обнаружил в затылочной части, точно на том месте, где у нормального черепа имеется выступ, отчетливое углубление; я назвал его средней затылочной ямкой из‐за расположения точно посередине затылка, как у низших зверей, прежде всего грызунов. Как и в случае с животными, наличие этого углубления сопровождалось гипертрофией червя мозжечка, известного у птиц как средний мозжечок. Меня посетила не просто идея, но откровение. При виде того черепа мне, будто на просторной равнине, предстала, озаренная светом пламенеющих небес, природа преступника – атавистического существа, в котором воспроизведены свирепые инстинкты первобытного человечества и низших зверей. С анатомической точки зрения этим объяснялись громадные челюсти, высокие скулы, выступающие надбровные дуги, малочисленные линии на ладонях, огромный размер глазных орбит, оттопыренные или плотно прижатые уши, встречающиеся у преступников, дикарей и обезьян, нечувствительность к боли, чрезвычайная острота зрения, татуировки, чрезмерная леность, пристрастие к оргиям и непреодолимая жажда творить зло ради него самого, желание не только умертвить жертву, но и изуродовать труп, терзать его плоть и пить из него кровь[896].
Этот пассаж указывает (с почти избыточной отчетливостью) на мифопоэтическое измерение книги Ломброзо, черпающей тропы, риторические фигуры и повествовательные шаблоны из готической литературы и литературы ужасов[897]. Хрестоматийным примером такого «обмена образами и художественными приемами между криминологией и литературой»[898] выступает роман Б. Стокера «Дракула»: если Ломброзо описывает прирожденного преступника как вампира, то неудивительно, что граф Дракула изображается как прирожденный преступник, уничтожить которого удается лишь благодаря обращению к ломброзианской криминальной антропологии, позволяющей героям понять и спрогнозировать поведение графа[899].
Слияние концепций атавизма и вырождения – иными словами, аналогической и каузальной форм мышления – решающим образом повлияло на рассказ о преступности, ведущийся на стыке психиатрии и криминальной антропологии, о чем пойдет речь в дальнейшем. Особенно ярко мифопоэтическое измерение криминальной антропологии проявилось в жанре судебно-психиатрического анализа, в рамках которого идея преступности как атавистического зла внедряется в повествовательную схему вырождения.
Формирование концепций атавизма и врожденной преступности в российском криминологическом дискурсе 1880–1890‐х годов проходит под знаком общеевропейской бурной полемики между (французской) психиатрией и (итальянской) криминальной антропологией, развернувшейся, в частности, на международных криминально-антропологических конгрессах в Париже (1889), Брюсселе (1893) и Женеве (1896)[900]. В контексте общей «медикализации» социальных отклонений психиатрия и криминальная антропология соревнуются, начиная с 1870‐х годов, за преимущественное право интерпретации биомедицинской природы преступника[901]. Вопреки ломброзианскому представлению об особой, антропологически иной природе «преступника от рождения», которую Ломброзо строго отделял от безумия[902] и преимущественно связывал с антропометрическими признаками, большинство психиатров утверждали: определенные формы преступности суть не что иное, как проявление наследственного вырождения[903].
Таким образом, представление о несовместимости дегенерации и атавизма отдаляет психиатрию от теории Ломброзо. Так, французский теоретик вырождения В. Маньян подчеркивает: ретроградное движение к менее совершенной эволюционной стадии, в котором проявляется вырождение, нельзя расценивать как атавистический регресс. Атавизм подразумевает «возврат к состоянию, считающемуся нормальным»[904], тогда как вырождение, по мнению Маньяна, приводит к появлению новой патологической формы[905]. Поскольку теория вырождения позволяет в равной степени учитывать эндогенные и социальные факторы этиологии преступности (гл. II.1), в то время как ломброзианская концептуализация патологической сущности прирожденного преступника не уделяет социальным факторам явного внимания, то вырождение оказывается более эффективной объяснительной моделью преступности, нежели атавизм.
Попытки европейской судебной психиатрии дистанцироваться от криминальной антропологии предпринимались не в последнюю очередь по причинам институционального и стратегического толка: концептуальные совпадения между теориями дегенерации и атавизма определенно существовали. Подобно Ломброзо с его стремлением к интеграции обеих концепций, которая позволила бы объяснить феномен прирожденной преступности с медицинской точки зрения как следствие задержки развития (см. выше), некоторые теоретики вырождения тоже воспринимают определенные идеи криминальной антропологии, связанные с атавизмом, при этом решительно отвергая, однако, само существование преступного типа homo delinquens. С точки зрения психиатрии преступник как выродившийся индивид воплощает собой возвращение к примитивной стадии развития человечества, являя собой «дикаря», попавшего в условия цивилизации. Р. фон Крафт-Эбинг пишет в связи с этим, что «необузданность чувственных инстинктов и эгоистических желаний» ставит преступников «почти на одну ступень с дикарями»[906].
В психиатрии описанная концептуализация преступности как примитивного начала, вторгающегося в цивилизацию, тоже расценивается как опасный нравственный регресс, проявляющийся у «преступных натур» в бесчувственности и почти полной неспособности к моральному суждению. Атавистической звериной природе, которую приписывает прирожденному преступнику криминальная антропология, в психиатрии соответствуют «врожденные моральные отклонения»[907]. При этом связующим научно-теоретическим звеном выступает концепция «нравственного помешательства» (moral insanity), при помощи которой обе дисциплины объясняют нравственную чудовищность биологически детерминированных преступников[908].
Таков контекст концептуализации преступности между атавизмом и вырождением в России конца XIX века. Российский дискурс о преступности обнаруживает сходство с соответствующими дискурсами во Франции и в Германии. Таким образом, распространенный в исторической науке тезис о преобладании теории вырождения над концепцией атавизма как о характерной черте русского дискурса о преступности поздней царской эпохи объясняется не только поверхностным знанием соответствующего общеевропейского контекста, в котором господствовала теория вырождения, а ломброзианская концепция атавизма в ее радикальной форме почти единодушно отвергалась[909]. До сих пор наука еще и обходила вниманием всю сложность объяснительных моделей преступности, в рамках которых психиатрические и криминально-антропологические концепты дополняли друг друга. В этом отношении Россия не составляла исключения.
Русский дискурс о биологически детерминированной преступности формируется на фоне полемики о функции и юридическом статусе медицинских экспертиз в уголовном судопроизводстве, развернувшейся в российской криминологии вследствие судебной реформы 1864 года. Возрастает значение судебной психиатрии, способной оценивать душевное здоровье и вменяемость обвиняемых[910]. Один из первых институциональных центров русской судебной психиатрии создается в 1870‐х годах в Харьковском университете совместными усилиями юридического и медицинского факультетов, особенно криминолога Л. Е. Владимирова и психиатра П. И. Ковалевского. Владимиров пишет первую в России научную работу о значении медицинских экспертиз в уголовном судопроизводстве[911] и исследует органическую, психофизическую конституцию преступников[912]. Уже не раз упомянутый в этой книге Ковалевский (гл. IV.1 и IV.2), ведущий представитель биологической психиатрии в России и теоретик вырождения, в 1883 году начинает издавать первый русский психиатрический журнал, открытая преемственность которого по отношению к печатному органу итальянской криминальной антропологии («Архив психиатрии, уголовного права и криминальной антропологии» [ «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale»]) выражается не только в названии («Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии»), но и в научном подходе. На страницах журнала Ковалевского одновременно осваиваются и обсуждаются как теория вырождения, так и криминальная антропология[913].
Недаром ведущий российский криминальный антрополог рубежа веков Д. А. Дриль[914] в 1883 году успешно защищает в Харькове диссертацию о малолетних преступниках, которую юридический факультет Московского университета перед тем отклонил как исследование не столько криминологическое, сколько медицинское[915]. В Харькове же судебная психиатрия уже утвердилась стараниями Владимирова и Ковалевского, поэтому идеи Дриля, испытавшего влияние позитивной школы, здесь были восприняты с пониманием[916].
Именно харьковская школа судебной психиатрии рассматривает теории вырождения и атавизма как взаимодополняющие, тем самым расширяя (как и на Западе) возможности повествования о преступности в рамках судебно-медицинских анализов. Так, Ковалевский постулирует биологическое родство между «помешанными от природы» и «преступниками от рождения», рассматривая оба феномена как «явления человеческого вырождения»[917]. При этом русский психиатр ссылается не только на «Преступного человека» Ломброзо, но и на краниометрические работы Морица Бенедикта[918]. Концепция вырождения выступает монокаузальным объяснением двух разных отклонений, которые объединяет общее несоответствие биологически-антропологической норме:
Помешанные же и преступники от рождения несомненно находятся между собой в родстве. Несомненно то, что психопаты от рождения, как идиоты и пр., составляют класс людей sui generis, особенный, отличающийся от обыкновенных людей в физическом, умственном и нравственном отношениях. ‹…› Особый преступный класс людей ‹…› представляет вырождение человеческого рода. Порода этих людей не улучшается, а именно ухудшается и ведет к ухудшению [sic!] и вымиранию. ‹…› [П]реступление и помешательство – явления человеческого вырождения ‹…›. В мозгу преступников и в мозгу помешанных от природы существуют такие количественные или качественные – химические или молекулярные изменения, которые, при тех или других условиях воспитания, обязательно дадут уклонения в ощущениях, мышлении и действиях, выражаемые в одних случаях в виде преступления, а в других в виде помешательства[919].
В 1884 году на страницах харьковского психиатрического журнала появляется криминально-антропологическое исследование московского военного врача С. А. Белякова. Опираясь на краниометрические данные, автор устанавливает аналогичное патологическое сходство между преступниками, атавизм которых считает бесспорным, и душевнобольными[920]. Криминолог Р. Р. Минцлов тоже подчеркивает атавистическую природу преступника, считая его «дикарем в цивилизованном обществе»[921] ввиду «интеллектуальной и нравственной неразвитости»[922]. Русская судебная психиатрия 1880–1890‐х годов постоянно подчеркивает атавистическую сущность «прирожденных преступников», отличающую их от нормальных людей[923], главным образом в контексте такой этиологии преступления, которая связывает дегенеративную природу тяжких преступников с их «моральным помешательством», представляющим собой следствие задержки развития[924]. В рамках судебно-психиатрических анализов, прежде всего у Ковалевского, это сочетание концепции атавизма, основанной на методе аналогии, и причинно-следственной теории вырождения способствует развитию новых повествовательных моделей преступности, позволяющих усилить эпистемологические возможности нарратива о вырождении мифопоэтическим изображением прирожденного преступника как воплощенного зла.
В контексте возросшего после проведения судебной реформы 1864 года интереса к уголовным процессам, которые российская общественность, по словам знаменитого юриста А. Ф. Кони, воспринимала как своего рода увлекательные «театральные представления»[925], растет и популярность судебной психиатрии. Российские залы судебных заседаний становятся ее подмостками, а психиатрические экспертные заключения подробно обсуждаются в печати[926]. Возникающая в эти годы казуистическая судебно-медицинская литература стремится не только познакомить юристов и медиков с новой областью знаний на материале конкретных случаев и завоевать научный авторитет[927], но и утолить ту жажду сенсационных, зрелищных уголовных процессов, которая начиная с 1860‐х годов притягивает русскую публику в суды. Таким образом, подобная литература повторяет успех «интересных» криминальных случаев, история которого в западноевропейских культурах начинается не позднее выхода «Собрания знаменитых и интересных процессов» («Causes célèbres et intéressantes», 1734–1743) Франсуа Гайо де Питаваля и достигает высшей точки к концу XIX века[928].
Важную роль в развитии судебно-медицинской казуистики с самого начала играет судебная психиатрия, в частности П. И. Ковалевский, который в 1880 году выпускает первый русский сборник подобного рода под названием «Судебно-психиатрические анализы»; уже в 1881 году выходит второе, расширенное издание[929]. Опираясь на вышеупомянутое представление об органическом «родстве» прирожденных преступников и дегенератов, Ковалевский вводит криминально-антропологический образ преступника в повествование о вырождении – жанр, которым ученый, как мы могли уже убедиться, владеет мастерски (гл. IV.2). Прирожденный преступник, изображаемый как дегенерат от рождения, становится протагонистом истории, демонстрирующей его завораживающую и вместе с тем пугающую антропологическую «инаковость», впоследствии «укрощаемую» аналитическим взглядом рассказчика-психиатра. Основным повествовательным принципом анализов Ковалевского выступает удивление. Читателя изумляют чудовищная жестокость злодея и полная неожиданность содеянного; однако не менее поразителен и семиотический результат, которого добивается психиатр, сначала предъявляющий читателям якобы необъяснимые судебно-медицинские признаки, а затем, словно Шерлок Холмс от науки, толкующий их как «очевидные» приметы вырождения.
Эффектная повествовательная манера Ковалевского типологически сближает его анализы с восходящей к Питавалю научно-популярной литературной традицией конца XIX столетия, где научная криминология и художественная словесность встречаются в своеобразной «зеркальной комнате взаимных отсылок»[930]. Так, криминальные истории Пауля Линдау[931] вращаются, как правило, вокруг «„загадки“ о том, как страсть к убийству может „внезапно“ охватывать более или менее нормальных людей, заставляя их совершать преступления, достойные „маньяка-убийцы“», причем разгадка этой тайны лежит на «уровне звериной образности»[932]. Ковалевский успешно сочетает сенсационный эффект криминалистического повествования с медицинской диагностикой и превращает противозаконное поведение преступника, которое сначала кажется загадочным, в составляющую рассказа о вырождении.
Ярким примером служит описание случая П. М. Погорелова, в 1879 году жестоко убившего свою жену[933]. В 1880 году Ковалевский выступил экспертом на уголовном процессе, став, таким образом, вторым протагонистом этой истории. Сначала психиатр придерживается «нейтрального» изложения фактов. Вкратце изображается ничем не примечательная жизнь «служащего по межевой части» Погорелова, его женитьба по любви на генеральской дочери, их вполне мирная, невзирая на разницу в общественном положении, совместная жизнь. Затем перечисляются первые признаки ненормального поведения обвиняемого в дни, предшествовавшие убийству: логически необъяснимые слова и поступки Погорелова внушали окружающим тревогу. Внезапно этот объективный отчет прерывается «ужасной картиной» места преступления, представшей глазам очевидцев:
Погорелов, у дверей на полу спальни, сидит на груди своей жены, распростертой в одной рубахе, с страшно изуродованной правой стороной лица и глазом, лужей крови около головы, и тянет жену за язык, приговаривая: «вот тебе и мужик, – теперь не будешь больше говорить». ‹…› Погорелова едва стащили веревкой и связали. Он бранился, кричал, чтобы всех резали, потом замолчал и лежал неподвижно с закрытыми глазами[934].
После этой первой, тщательно подготовленной кульминации начинается аналитическая работа психиатра. Сначала Ковалевский дает убийству на первый взгляд исчерпывающее объяснение как содеянному человеком, который находился в состоянии аффекта, однако не страдает никакими патологиями и лишь притворяется сумасшедшим в надежде на смягчение приговора. Затем, предваряемое риторическим вопросом («но действительно ли это так?»[935]), следует «правильное», поразительное с точки зрения неспециалистов объяснение убийства как поступка человека дегенеративной конституции, убившего во время эпилептического припадка. Ковалевский помещает Погорелова в нарративную схему дегенерации, подчеркивая патологическую семейную наследственность и интерпретируя эпилепсию как один из бесчисленных синдромов, в которых могло проявиться вырождение. Факт дурной наследственности подсудимого устанавливается путем типичной для того времени псевдодедукции:
Родители П. обнаруживали нервное расстройство: отец страдал ударами, от которых и умер, – мать головными болями. Следовательно, г. Погорелов унаследовал не здоровый мозг, а инвалидный, расположенный ко всевозможного рода уклонениям от известного здорового состояния, в зависимости от жизненных условий[936].
Эта нарративная установка заключает Погорелова в замкнутый мир вырождения, откуда невозможно вырваться.
Описывая убийцу-эпилептика в ломброзианских категориях, Ковалевский превращает патологическое отличие Погорелова от остальных людей в отличие антропологическое в том смысле, в каком его понимает теория атавизма. Речь идет не только о восприятии позднейшего тезиса Ломброзо, что врожденная преступность – это лишь разновидность эпилепсии (см. выше). Помимо того, Ковалевский перечисляет многочисленные стигматы, которые, по мнению Ломброзо, отличают преступника, в частности пониженную кожную чувствительность. Впрочем, в данном случае красноречивее всего сама жестокость, чудовищность преступления:
[Э]пилептики совершают самые страшные, зверские и поражающие преступления. ‹…› И действительно, свидетели этих преступлений невольно поражаются, до оцепенения, проявлением зверства преступника-эпилептика. Обыкновенно, совершая убийство, эпилептики не ограничиваются одним ударом, напротив, они как бы упиваются своим зверством и с каким-то увлечением довершают его уже над мертвой жертвой. Еще более ужасными представляются эти преступления потому, что они являются или совершенно без всякого повода, мотива, или же при таком ничтожном поводе, что уже с первого взгляда выясняются вся нелепость и бессмысленность его, а также и болезненное состояние умственных способностей преступника[937].
Ковалевский мастерски использует в повествовании завороженность мифологическим злом, присущую ломброзианской концепции прирожденного преступника. Однако в то же время сам автор выступает тем, кто благодаря своим познаниям способен «укротить» первобытные инстинкты. Будучи истолкованы как симптомы наследственно обусловленного вырождения, описываемые явления теряют свою пугающую непонятность.
В заключительной сцене процесса, когда Ковалевский выступает с экспертным заключением, правильность проделанной им медицинско-семиотической работы получает перформативное подтверждение. Здесь его экспертиза, выйдя за рамки обыкновенного, снова оборачивается своего рода повествовательным coup de théâtre, ведущим к новой кульминации. Ковалевский не только повторяет перед судом уже известный читателю диагноз эпилепсии, но и предсказывает, что в ближайшем будущем подсудимого ожидает еще один приступ. И действительно:
[В]друг в суде раздался неистовый крик. Буйство началось. Четыре человека едва удерживали Погорелова. ‹…› [Л]ицо выражает ужас. Больной сильно галлюцинирует. «Режут, людей режут! Ай! Караул! Спасите, спасите! Караул»… ‹…› Припадок буйства, под влиянием которого совершено было преступление, повторился в том самом суде при освидетельствовании и послужил самым лучшим подтверждением мнения экспертов и убеждения судей[938].
Семиотический талант судебного психиатра Ковалевского так велик, что простирается не только в прошлое, но и в будущее.
Похожие повествовательные стратегии обнаруживаются и в других историях из «Судебно-психиатрических анализов», например в описании случая солдата С. Вовка, который в 1878 году совершенно неожиданно и без видимой причины зверски убил больничного санитара[939]. Сначала на первом плане опять-таки находятся внезапность, жестокость и необъяснимость злодеяния, т. е. его сенсационный, удивительный аспект. Затем, после искусно инсценированного детективного расследования, Ковалевский объясняет поначалу пугающе бессмысленные знаки, такие как отсутствие разумного мотива убийства, проявлением epilepsia psychica[940]. Вновь подчеркивается звериная сущность преступника, который, вероятно, не случайно носит фамилию Вовк («волк» по-украински); как и в случае Погорелова, «бесчеловечность преступления»[941] интерпретируется как симптом эпилептического припадка дегенеративной личности. У Вовка Ковалевский тоже констатирует «патологическую наследственность», которая, ограничиваясь хроническим пьянством отца и сифилисом матери[942], позволяет представить психотическую эпилепсию как дегенеративное проявление, а преступление – как его «случайное» последствие.
В позднейшем издании «Судебно-психиатрических анализов»[943] Ковалевский изменяет свою повествовательную манеру, ориентируясь на клинические наблюдения Маньяна над преступниками-дегенератами[944] и на работы Крафт-Эбинга[945]. Таким образом, русский психиатр умеряет свое повествовательное остроумие, отказываясь, в частности, от захватывающего расследования, цель которого – поставить преступнику правильный психиатрический диагноз. Впрочем, подобный тип повествования, напоминающий о детективном жанре, все-таки приживается в российской судебной психиатрии конца XIX века. Об этом свидетельствуют судебно-медицинские описания В. Ф. Чижа, который, как и Ковалевский, придерживался теории вырождения (гл. IV.1 и IV.2) и работал судебным психиатром[946]. Ярким примером является случай двадцатидвухлетней Х., который опубликовал Чиж в 1893 году на страницах издаваемого Ковалевским журнала «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии» под названием «К учению об органической преступности»[947].
События излагаются в хронологическом порядке, начиная с поступления пациентки в психиатрическую клинику Дерптского (ныне Тартуского) университета, где Чиж в 1891 году сменил Э. Крепелина на кафедре психиатрии[948]. Страдающая частыми и острыми «истерическими припадками»[949] больная обращается за помощью к Чижу, который предлагает ей лечь в психиатрическую больницу на обследование. Повествование ведется с гомодиегетической точки зрения, сначала близкой к «я» рассказчика, на момент начала истории пребывающего в неведении. Таким образом, читатель день за днем следит за развитием истории, содержащей двойную тайну: медицинскую загадку причины истерических припадков и судебную тайну подлинной личности пациентки, которая с самого начала выступает «загадочной личностью»[950]. Таким образом, сам Чиж играет двойную детективную роль, объединяя в себе диагноста и следователя.
Двойная таинственность истории удваивает и ее структуру напряжения, поскольку поступки и высказывания пациентки сначала кажутся таинственными как в медицинском, так и в «полицейском» смысле. Чиж пересказывает не только клинические наблюдения истерических припадков, которые иногда случаются с Х. по нескольку раз в день, но и наблюдения за странным, загадочным поведением больной, которая выдает себя за богатую помещицу, чей отец недавно скончался, и высказывает «категорическое желание быть пенсионеркой первого класса»[951] в больнице. Когда Х. ни на первый, ни на второй месяц не возмещает расходов на лечение, ее просят выплатить долг. Она обещает написать своему дяде, который, по ее словам, заботится о ее делах, и попросить его выслать денег. Однако вместо денег дядя шлет письма, рассказывающие о многочисленных бедствиях на ее земле: крестьянских выступлениях, убийстве управляющего, опустошительном пожаре. За это время Х. проявляет себя человеком жестким, склонным к манипуляции. Она устраивает брак больничного садовника с сиделкой, обещая обоим работу в одном из своих имений и чрезвычайно щедрое жалованье, и организует чересчур пышную для небогатых молодоженов свадьбу, на которую сама приезжает в роскошном экипаже[952].
Здание лжи, возведенное Х. вокруг своей подлинной личности, начинает крошиться по мере того, как она все больше запутывается в противоречиях относительно своего происхождения и состояния, и окончательно обрушивается, когда новобрачные, отосланные Х. в «ее» поместье, возвращаются с известием, что на самом деле «Х. бедная бонна и никаких имений у нее нет и быть не может»[953]. Чижу не без труда удается достать паспорт Х., в котором она записана как дочь мелкого чиновника. Дальнейшее «расследование», в ходе которого Чиж оказывается вынужден прочесть письма Х., рисует образ человека, живущего в мире лжи и обмана, однако не дает ясного ответа на вопрос о целях, которые преследовала Х. своей постоянной ложью, все время опровергающей себя самое[954]. Кроме того, больная демонстрирует явные признаки «безнравственного поведения», прося денег у молодого ассистента клиники и недвусмысленно давая понять, каким образом намеревается вернуть долг[955]. Между Чижом и Х. происходит долгий разговор, в ходе которого врач уличает пациентку во лжи и притворстве, однако та не проявляет ни капли благоразумия:
Нет возможности передать всю ту ложь, которую она высказала в продолжение этого длинного разговора ‹…›. Крайне тяжело было видеть такое удивительное отсутствие стыда у особы, ума которой достаточно для того, чтобы обмануть всех нас[956].
Клиническую картину патологической личности дополняет беседа Чижа с купцом В., в доме которого Х. служила бонной и проживала. С одной стороны, раскрытие тайны прошлого пациентки выполняет диагностическую функцию – собрать достоверный (поскольку предоставленный «добропорядочным» свидетелем) анамнез истерии. С другой стороны, в повествовательном отношении это разоблачение позволяет гиперболизировать патологическое состояние Х., представив историю нервнобольной пациентки как пугающий случай морального помешательства.
По словам В., Х. поступила в семью в возрасте девятнадцати лет бонной к его семилетнему сыну. Спустя год она объявила домочадцам, что должна ехать к отцу, который находится при смерти. Через три недели она вернулась, одетая в траур: якобы отец ее скончался, оставив ей состояние в 6000 рублей, которым она, однако, пока не могла распоряжаться из‐за несовершеннолетия. Потом характер Х. начал меняться: «Мало-помалу Х. из скромной, трудолюбивой девушки обратилась в лентяйку, кокетку ‹…›»[957]; тогда же начались конвульсивные истерические припадки. Так как они усиливались, супруги В. обратились к врачу, который принял Х. наедине. После визита девушка поведала, будто врач обнаружил у нее редкую сердечную болезнь, требующую сложной и чрезвычайно дорогой операции, которую «выдерживают двое из ста»[958]. Другие дерптские врачи, якобы включая самого Чижа, рекомендовали эту дорогостоящую операцию. Госпожа В., сопровождавшая Х. в Дерпт, одолжила ей нужную сумму. В свою очередь, Х. заверила у нотариуса завещание, в котором отписывала, в случае своей смерти, свое предполагаемое состояние госпоже В. Когда Х. письмом известила семейство В., что первая операция прошла успешно, однако нужна еще одна, что подтверждалось телеграммой от «врача», и навестила супругов на Рождество, имея при этом слишком цветущий для «выздоравливающей» вид, те постепенно начали понимать, что Х. их, должно быть, обманула. Они выяснили, что отец девушки, мелкий чиновник, неимущий пьяница, жив, что никакой операции не было, а «часть занятых денег Х. истратила на фальшивые зубы, покупку платья и мелких золотых вещей»[959].
Изложив эти обстоятельства, проливающие свет на первую загадку – истинную личность больной, Чиж рассказывает о назначенном Х. гинекологическом осмотре: в согласии с тогдашним учением об истерии психиатр предполагает патологию половых органов, которая, впрочем, не подтверждается. Повествовательное время заканчивается с прибытием в больницу отца Х., который забирает дочь и сообщает последние, важные для истерического анамнеза сведения о ее детстве. После последнего судорожного припадка, вызванного неожиданным для пациентки появлением отца, Х. «простилась холодно» с Чижом[960] и покинула клинику.
Теперь наступает момент, когда Чиж, детектив и рассказчик, должен сложить все части головоломки в общую диагностическую картину и разгадать вторую – медицинскую – тайну, состоящую во взаимосвязи истерии с аморальным лживым поведением. В этом психиатру помогает метод аналогии, используемый для обоснования атавистической природы преступности. Чиж устанавливает, что пациентка уже в раннем возрасте проявила «преступный характер», главные черты которого – «леность, лживость, половая распущенность»[961]. Единственной целью ее обманных действий было получение денег, которые позволяли ей хотя бы «на время казаться богатой барыней»[962], поскольку «богатство в глазах Х. есть все»[963]. Этим объясняются непостоянство и противоречивость поступков больной, умеющей строить лишь краткосрочные планы ради удовлетворения «низменных желаний», однако не способной серьезно задумываться о будущем[964]. Но каковы причины этого «нравственного слабоумия»? С одной стороны, Чиж видит в Х. продукт «ужасного воспитания» и падения нравов в современной российской цивилизации[965]; с другой стороны, однако, «у нее болезнь обусловила преступление», т. е. ее ненормальное поведение вызвано еще и истерией[966].
Мы знаем, что у истеричек, так же как и у эпилептиков, нередко бывает поражена нравственная сфера; у этих больных глубокое нравственное слабоумие бывает при полном сохранении умственной деятельности, почему такое патологическое состояние у Х. не представляет собой чего-либо исключительного[967].
Таким образом, «патологическое состояние» нервной системы, истощенной истерическими припадками, ослабило моральные качества Х. до такой степени, что она не испытывала стыда, удовлетворяя низменные потребности и нарушая закон. С точки зрения Чижа, проявившаяся в личности Х. органическая природа преступления составляет очевидную форму цивилизационного регресса, выражающегося среди прочего в неспособности предвидеть отдаленные последствия своих аморальных действий:
Сравнивая людей, различных по духовному развитию, мы находим, что чем выше психическая организация, тем больший промежуток времени существует для сознания: дикарь живет изо дня в день – завтра, а тем более будущий год для него что-то неясное; мыслящий человек живет не только своей личной жизнью, но и в будущем своего отечества и всего человечества, трудится и даже приносит себя в жертву для счастья будущих поколений[968].
Итак, нравственное помешательство отбрасывает Х. на одну ступень развития с «дикарем»: оба неспособны к рационально-перспективному мышлению. Как и Ковалевский, Чиж тоже обращается к основанной на аналогии концепции атавизма, желая убедительно объяснить взаимосвязь нервной болезни и преступления, тем более что в случае Х. нельзя с уверенностью говорить о дурной наследственности как об этиологической причине истерии. Пугающая связь между медицинско-социальной патологией и первобытной человеческой природой выступает заключительным пуантом криминальной истории, в которой Чиж сполна раскрывает повествовательный потенциал психиатрии криминально-антропологического толка.
VI.2. О преступниках «по натуре» и «по приобретенной привычке». Криминальная антропология и русская литература
Если русская судебная психиатрия, испытавшая влияние криминальной антропологии, использует для анализа конкретных уголовных дел нарративную модель преступника как биологически «неполноценного» психопата-вырожденца (гл. VI.1), то вдохновленные учением Ломброзо литературные нарративы о вырождении 1880–1890‐х годов представляют собой менее однозначный и, соответственно, более сложный феномен. Вплоть до рубежа веков русская литература предпочитает изображать преступника как человека нравственно «падшего»[969], которого, как уже сказано, часто называют «несчастным» и ярким примером которого служит Раскольников Достоевского[970]. Так, русский уголовный роман, сложившийся как жанр после реформы 1864 года и использующий предоставленные новой судебной системой повествовательно-театральные возможности[971], до самого конца столетия разрабатывает, как правило, сентиментальные нарративы, сюжет которых определяется скорее состраданием к преступнику. Криминальные произведения таких авторов, как Д. А. Линев, А. А. Шкляревский и С. А. Панов, сосредоточиваются на социальных и личных обстоятельствах преступников, предлагая преимущественно интроспективную, сочувственную точку зрения и нередко принимая повествовательную форму «исповеди», характерную для «Крейцеровой сонаты» (1890) Л. Н. Толстого[972].
Вследствие этой базовой нарративной позиции ранний русский уголовный роман, в отличие от традиции романа готического (gothic novel), к которой принадлежат «Олалла» («Olalla», 1885) и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» («The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde», 1886) Р. Л. Стивенсона, а также «Дракула» («Dracula», (1897) Б. Стокера, не концептуализирует преступника как существо атавистическое[973]. Лишь после 1900 года, когда ориентированный на напряженное действие детективный роман утверждается и в России, приводя к смене парадигмы в уголовной литературе, изображение преступников и преступлений начинает все больше сближаться с образом зла, почерпнутым из литературы ужасов[974]. Взаимодействие с позднеромантическим, «готическим» аспектом ломброзианской криминальной антропологии[975] позволяет русской словесности обратиться к фигуре прирожденного преступника, что происходит, в частности, в популярных романах М. В. Шевлякова и Романа Доброго, протагонистом которых выступает «русский Шерлок Холмс» Иван Путилин[976].
Взаимосвязь нарративов о вырождении и о прирожденном преступнике, которая наблюдается у Э. Золя в цикле о Ругон-Маккарах, прежде всего в романах «Жерминаль» («Germinal», 1885) и «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890)[977], тоже находит лишь спорадический отклик в русском натурализме 1880–1890‐х годов, в большей степени тяготеющем к «мелодраматической» повествовательной модели русского уголовного романа. Например, сборник Д. Н. Мамина-Сибиряка «Преступники» (1901), который включает рассказы, опубликованные в 1880–1890‐х годах, рассказывает о (мелких) преступниках как о «несчастниках», ставших, как явствует из этого понятия, «несчастными» жертвами обстоятельств[978]. Ближе всего к пугающей фигуре мифологизированного, атавистического зверя подходит в своих художественных экспериментах с метафизической природой зла, как ни парадоксально, Ф. М. Достоевский. Как было подробно рассмотрено в главе III.2, в контексте сложного критического освоения «Ругон-Маккаров» русский писатель возлагает на своего «последнего убийцу» Смердякова структурную функцию воплощенного зла, обнаруживающего притом явные криминально-антропологические стигматы вырождения. Поскольку метафизика зла, как известно, натурализму в целом чужда, то этот «обходной путь», ведущий через мифопоэтику атавистического преступника, русским натуралистам остался недоступным.
Литература о сибирской каторге, вносящая существенный вклад в концептуализацию преступности в позднюю царскую эпоху, тоже не часто обращается к теме антропологической или медицинской ненормальности преступника, которую пропагандирует судебная психиатрия того времени[979]. Правда, русские тексты о каторге второй половины XIX столетия, от «Записок из Мертвого дома» (1860–1861) Ф. М. Достоевского до цикла очерков В. М. Дорошевича «Сахалин (каторга)» (1903), моделируют пространство ссылки как гетеротопию[980], где, по словам Александра Горянчикова, фиктивного рассказчика из повести Достоевского, «был свой особый мир, ни на что более не похожий ‹…›»[981]. Однако пространственная и антропологическая ненормальность, как правило, не соотносятся друг с другом, так как заключенные преступники не противопоставлены законопослушным людям на основании медицинской или антропологической оппозиции «нормы» и «отклонения». В этом отношении ярким примером служит повествовательный прием двойной кодировки, при помощи которого в «Записках из Мертвого дома» изображается арестант, осужденный за отцеубийство. Сначала рассказчик констатирует «зверскую бесчувственность» заключенного, наводящую на мысль о «каком-нибудь недостатке сложения», «каком-нибудь телесном и нравственном уродстве, еще не известном науке, а не просто преступлении»[982]. Во второй части книги эта криминально-антропологическая характеристика, данная ante litteram, опровергается рассказом вымышленного издателя, который сообщает, что предполагаемый отцеубийца «был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно»[983] и, следовательно, в буквальном смысле является человеком «несчастным». Таким образом, первоначально постулированная антропологическая разница между определенными типами каторжников и «нормальным» русским народом снимается, что чрезвычайно характерно для Достоевского, изображающего Мертвый дом как место, где русский человек парадоксальным образом может вступить на путь нравственного возрождения.
В книге Н. М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке» (1872) сибирская каторга даже превращается в утопическое пространство, где заключенные составляют общину, стремящуюся к коллективному благу: своеобразный социальный авангард, выступающий моделью русского общества, не тронутого западной цивилизацией; заимствованные из криминальной антропологии образы и тропы, следовательно, исключаются как таковые. Даже А. П. Чехов в книге «Остров Сахалин» (1893–1894), именуя сообщество арестантов не «общиной», а «шайкой»[984] и характеризуя каторгу как хаотическое «ничейное пространство русской культуры»[985], описывает тяжких преступников как внешне «самых обыкновенных людей с добродушными и глуповатыми физиономиями»[986], чьи жизненные истории отличаются «бесцветностью и бедностью содержания»[987]. Ввиду своей «нормальной» заурядности чеховский преступник – это преступник «по приобретенной привычке». Хотя писатель рассуждает о вырождении сахалинских ссыльных в совершенно дарвинистских категориях (гл. VII.3), его оценка не обусловлена проведением антропологического или биомедицинского различия между «нормальным» законопослушным человеком и «ненормальным» преступником.
Впрочем, отсутствие в русской литературе 1880–1890‐х годов непосредственно очевидных нарративов о вырождении, отмеченных влиянием криминальной антропологии, не означает, что нарративы эти составляют исключительную «привилегию» научного дискурса эпохи. Однако в русской литературе они в первую очередь тесно связаны с судебной психиатрией; при этом формируется двойная герменевтическая рамка. Такие врачи, как П. И. Ковалевский и В. Ф. Чиж, в своих судебно-медицинских анализах рассказывающие о связи атавизма и вырождения (гл. VI.1), истолковывают художественные произведения как «судебно-психиатрические случаи», иными словами, клинические описания, служащие подтверждению научных взглядов самих интерпретаторов. Изданные на рубеже веков «литературно-аналитические» работы Чижа и Ковалевского опрокидывают герменевтическое соотношение русской литературы и психиатрии. В конце XIX столетия первая, «усадив» последнюю на «скамью подсудимых», путем иронии, карнавализации и «нормализации» показывала практическую и научную несостоятельность воспринятых судебными психиатрами криминально-антропологических идей; ниже это показано на материале «Братьев Карамазовых» (1879–1880) Ф. М. Достоевского, «Воскресения» (1899) Л. Н. Толстого, а также криминальных произведений А. И. Свирского и В. М. Дорошевича. Вместе с тем русская литература активно моделирует атавистическую ненормальность преступников, изображая московские и петербургские трущобы как девиационные гетеротопии преступности, что будет видно из анализа трущобных очерков В. В. Крестовского, В. А. Гиляровского и А. И. Свирского.
Нет ничего удивительного в том, что наиболее пылкими поборниками криминально-антропологического прочтения русской литературы выступили в конце XIX века судебные психиатры. Как уже неоднократно говорилось (гл. IV.1, IV.2 и VI.1), в своем стремлении добиться научной убедительности русская психиатрия нередко обращается к нарративным возможностям теорий вырождения и атавизма. Анализ частных случаев выступает жанром, позволяющим в полной мере раскрыть повествовательный потенциал указанных концепций. Вместе с тем русские психиатры используют авторитет литературных произведений и писателей для легитимации своих исследований, формально и эпистемологически сближая художественную словесность с (судебно-)психиатрическими анализами или исходя из функциональной равносильности обоих типов текстов. В России связь между (уголовной) литературой и судебной психиатрией опять-таки устанавливают Чиж и Ковалевский, излагая, с одной стороны, криминально-антропологические варианты нарратива о вырождении в рамках психиатрических анализов (гл. VI.1) и, с другой стороны, интерпретируя канонические тексты русской литературы как «фикциональные версии» таких анализов. В деятельности обоих психиатров повествование тесно взаимодействует с интерпретацией.
В контексте распространенной практики рассматривать судебно-психиатрические теории на примере художественных текстов и вымышленных персонажей, характерной как для российской, так и для западноевропейской психиатрии[988], особое место принадлежит пространному исследованию Чижа о Достоевском как о «криминологе»[989]. За почти двадцать лет, прошедшие после выхода работы Чижа о Достоевском как о «психопатологе»[990], русский писатель успел стать общеевропейским авторитетом в вопросах криминологии и криминальной антропологии. Так, сам Ломброзо подчеркивает, что «описания» преступников у Достоевского, особенно преступников политических, до того «точны», что могут служить «контрольной проверкой» для «подтверждения» криминально-антропологических «открытий», поскольку происходят из «другого источника», отличного от материала криминальной антропологии[991]. Чиж указывает на интерес итальянских криминологов к Достоевскому в самом начале своей работы, повторяя их мнение, что писатель художественно предвосхитил открытия криминальной антропологии:
Ни один художник не описал так правдиво, так полно преступников, как Достоевский. Он дал удивительно проникновенное изображение преступников по натуре, случайного преступника, преступников по страсти, душевнобольных преступников, следовательно, на несколько десятилетий ранее, чем это сделали криминологи. Заслуги Достоевского в этом отношении были не оценены по достоинству, и только Ломброзо и его последователи обратили должное внимание на эту сторону творчества нашего гениального романиста. Представители этой школы усердно изучают Достоевского и охотно в своих суждениях о преступниках ссылаются на авторитет Достоевского[992].
Двойная апелляция к Достоевскому и Ломброзо в самом начале исследования призвана легитимировать последующие герменевтические наблюдения Чижа путем создания двойной рамки, функционирующей по круговому принципу. Авторитет отца криминальной антропологии, обнаружившего в произведениях Достоевского подтверждение своей теории, обеспечивает правомочность похожих выводов самого Чижа, который – в полном соответствии с теорией Ломброзо – находит в творчестве Достоевского явное предвосхищение идей криминальной антропологии. При этом Чиж противопоставляет «научное достижение» Достоевского «неправильному» изображению убийства в состоянии аффекта в «Крейцеровой сонате» (1890) Л. Н. Толстого[993], тем самым делая полемический выпад в сторону последнего, который двумя годами ранее резко раскритиковал криминальную антропологию в своем последнем романе «Воскресение» (см. выше).
Как и в первой работе о Достоевском, Чиж рассматривает образы литературных героев в качестве эмпирико-документальных портретов патологических преступников, игнорируя онтологические, эстетические и семантические различия между «подлинными» фактами и художественным вымыслом. Герменевтический подход Чижа заключается главным образом в изъятии цитат Достоевского из контекста и придании им нового смысла, так что они подкрепляют поразительные выводы, диаметрально противоположные поэтологическим принципам и эстетико-философским убеждениям самого писателя.
Так, в «Записках из Мертвого дома» Чиж обнаруживает многократное и очевидное изображение фундаментальной антропологической разницы между «преступным человеком» и нормальными, «честными людьми»[994]. В его интерпретации все каторжане оказываются «преступниками по натуре» или «врожденными преступниками»[995], причем термины эти Чиж употребляет как простые синонимы «преступников» и «арестантов». Схематичное стремление интерпретатора находить в разных произведениях Достоевского один и тот же конкретный преступный тип превращает «Мертвый дом» в гетеротопию антропологической девиации, призванную опровергать любые теории о социальных истоках преступности[996].
Почти фантасмагорический характер «подкрепленных» цитатами доводов Чижа в пользу наличия в «Записках из Мертвого дома» прямо-таки образцовых портретов прирожденных преступников становится очевидным, если рассматривать эти аргументы на фоне известного отношения Достоевского к преступности и преступникам. Чиж придерживается противоположных взглядов, соответствующих скорее ломброзианской мифопоэтической семантике criminale nato (гл. VI.1). Так, «преступные люди никогда не раскаиваются в совершенных преступлениях, не имеют угрызений совести»[997], а также испытывают атавистическую «ненависть к работе», сближающую их с «дикарями»[998]. При этом интересна та роль, которую Чиж отводит в своей аргументации самому Достоевскому. Писатель выступает воплощением «нравственного прекрасного»[999] и, следовательно, исключением из тезиса о преступной натуре всех арестантов, не получающим, однако, юридического обоснования. Это «нравственное прекрасное» служит мерилом нравственной испорченности преступников, так как если бы каторжане были в состоянии разглядеть моральную красоту Достоевского, то он, по мнению Чижа, непременно оказал бы на них «громадное благодетельное влияние»[1000]. Однако тот факт, что даже Достоевский не сумел повлиять на прирожденных преступников, ясно доказывает всю сомнительность «возможности нравственного воздействия и, следовательно, исправления преступника по натуре»[1001]. Как видно из этого примера, рассуждения Чижа о Достоевском как о криминологе подчас выходят за рамки герменевтически допустимого, переходя в своеобразную криминально-антропологическую самопародию: несоответствие эстетического содержания произведений писателя ломброзианской идеологии, навязываемой им Чижом, рождает интерпретационную какофонию, которая помимо авторской воли подчеркивает абсурдные с научной точки зрения моменты криминальной антропологии.
Похожий характер носит работа Ковалевского «Психология преступника по русской литературе о каторге»[1002], где анализируются многочисленные литературные произведения, среди которых «Сибирь и каторга» (1871) С. В. Максимова, «Русская община в тюрьме и ссылке» Н. М. Ядринцева и «Остров Сахалин» А. П. Чехова, однако особое внимание уделяется «Запискам из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского и книге П. Ф. Якубовича (Л. Мельшина) «В мире отверженных» (1895–1898). Криминологический дискурс конца XIX века использует русскую литературу в качестве своеобразного кладезя примеров разных преступных типов и поведения преступников. Так, криминологу Д. А. Дрилю фигура каторжника Катаева из ядринцевской «Русской общины в тюрьме и ссылке» служит яркой иллюстрацией «нравственно помешанного» преступника[1003]. Значение русской литературы о каторге для изучения преступности Ковалевский обосновывает тем, что рассмотренные им тексты содержат «клинические наблюдения», невозможные в научной практике. Такие «гениальные» авторы, как Достоевский и Якубович, долгое время жившие среди каторжников и описавшие их жизнь «изнутри», оставили психологически сложные описания преступников, якобы сопоставимые с долгосрочным клиническим наблюдением душевнобольных[1004]. Ковалевский рассматривает литературу как «клинику душевной жизни преступника»[1005], чаще всего являющегося таковым от рождения. Прибегая к типичному для своей аргументации приему «короткого замыкания», ученый утверждает, что, во-первых, «преступники от рождения» «составляют главный контингент каторги ‹…› в качестве важнейших закоренелых злодеев», а во-вторых, «таковыми и представляются почти все герои Достоевского и Мельшина»[1006]. Таким образом, единственное «доказательство» существования на русской каторге целой армии преступных натур почерпнуто Ковалевским из художественной литературы, получившей однобокое тенденциозное толкование.
Сочинение Ковалевского состоит почти исключительно – в еще большей степени, чем работа Чижа, – из произвольного нагромождения цитат, преимущественно из «Записок из Мертвого дома» и «В мире отверженных». Используя композиционный принцип обширного цитатного коллажа, Ковалевский стремится придать своим криминально-антропологическим взглядам (гл. VI.1) научную убедительность, подкрепленную авторитетом литературы. Однако расхождение между цитируемыми пассажами и их «научным» истолкованием настолько разительно, что и эта работа, подобно сочинению Чижа, скорее походит на компрометирующую самопародию криминальной антропологии. Особенно сильный комический эффект производит, сталкиваясь с полисемией литературных цитат, редукционистская аргументация в духе Ломброзо (гл. VI.1), постоянно препятствующая введению дифференцирующих категорий. Ковалевский интерпретирует художественное изображение каторги как некий «антимир», в котором отчетливо проявляется непреодолимая антропологическая разница между преступниками и «всем остальным родом человеческим, не преступным»,[1007] и который, «при всем разнообразии черт характера этих людей», населяет «один класс ‹…› один вид людей, объединенных своеобразными органическими свойствами их нервной организации»[1008] и воплощающих в моральном отношении атавистический регресс человечества к «низшим животным чувствам» при недостатке «высших нравственных чувств»[1009].
Ковалевский явно не сознает ошибки petitio principii, лежащей в основе его аргументации и делающей ее научно несостоятельной, когда, подводя итог, утверждает, что психология преступника в русской литературе о каторге «совершенно совпадает» с соответствующими описаниями в «современных криминальных психологиях», и ссылается при этом на свою же «Судебную психопатологию»[1010]. В пространной разгромной рецензии на работу Ковалевского Петр Якубович хлестко описал его «метод»:
Он [Ковалевский] усвоил от школы Ломброзо несколько идеек общего характера, в которые верит свято и слепо, и ограничивается тем, что иллюстрирует эти идейки то Достоевским, то Мельшиным, смотря по тому, который из них в данном случае нужен, и совершенно игнорируя те мнения и факты, которые противоречат теории[1011].
Выполненные Ковалевским и Чижом «фантастичные» анализы русской уголовной литературы выходят в 1900 и 1901 годах соответственно. Возникает впечатление, что в известной степени оба автора стремятся опрокинуть то отношение между художественной словесностью и судебной психиатрией, которое сложилось в литературе конца XIX века, нередко помещавшей биомедицинские теории преступности на «скамью подсудимых».
В контексте художественного освоения судебной темы, происходящего в русской литературе после реформы 1864 года[1012], медицинские эксперты тоже становятся действующими лицами произведений, причем роль им обычно отводится отрицательная. Диагностический авторитет, приобретенный в судебной практике медициной, особенно психиатрией[1013], в литературе, как правило, становится объектом иронии и дискредитации. С этой точки зрения литература составляет негативный «пандан» судебно-психиатрической казуистике того времени, в рамках которой, как было показано на примере анализов Ковалевского (гл. VI.1), решающую роль для «правильного» истолкования признаков играет экспертное заключение психиатра.
Знаменитый ранний пример такой литературной практики – медицинская экспертиза в романе «Братья Карамазовы». На уголовном процессе Дмитрия Карамазова Достоевский предоставляет слово трем экспертам: «светилу», выписанному Катериной Ивановной из Москвы, доктору Герценштубе и молодому врачу Варвинскому, – которые выносят заключение о душевном состоянии обвиняемого. Хотя в «Дневнике писателя» (1873–1881) обсуждение медицинского вопроса о «временном аффекте» у преступников имеет чрезвычайно противоречивый характер и – в зависимости от конкретного случая – Достоевский приводит подчас прямо противоположные аргументы[1014], в своем последнем романе он создает проникнутое гоголевским абсурдом комическое интермеццо, где пародийно изображает семиотическую «слепоту» ученых экспертов, чьи заключения к тому же обречены на заведомый провал уже самой метафизической смысловой структурой «Братьев Карамазовых». Речь «знаменитого доктора» из Москвы особенно изобилует стереотипными суждениями о случаях патологического аффекта, распространенными среди судебных экспертов того времени:
Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и настойчиво подтвердил, что считает умственное состояние подсудимого за ненормальное, «даже в высшей степени». Он много и умно говорил про «аффект» и «манию» и выводил, что, по всем собранным данным, подсудимый пред своим арестом за несколько еще дней находился в несомненном болезненном аффекте и если совершил преступление, то хотя и сознавая его, но почти невольно, совсем не имея сил бороться с болезненным нравственным влечением, им овладевшим. Но кроме аффекта доктор усматривал и манию, что уже пророчило впереди, по его словам, прямую дорогу к совершенному уже помешательству[1015].
Читателю, которому уже известно о «нравственном возрождении» Мити и, соответственно, о его совершенно здоровом с христианской точки зрения душевном состоянии, эти слова кажутся гротескными. Кроме того, дискредитации медицинских экспертов служит ироническое подчеркивание их неспособности верно истолковать те или иные признаки: их интерпретация человеческого поведения принципиально ошибочна или избыточна. По мнению доктора Герценштубе, «ненормальность умственных способностей подсудимого» видна уже по тому, как он вел себя при входе в зал суда, держа «глаза впереди себя, упираясь, тогда как вернее было ему смотреть налево, где в публике сидят дамы, ибо он был большой любитель прекрасного пола и должен был очень много думать о том, что теперь о нем скажут дамы»[1016]. «Московская знаменитость», в чьих глазах Герценштубе – ограниченный провинциальный лекарь, иронически возражает «ученому собрату»: Дмитрий «должен был смотреть не налево на дам, а, напротив, именно направо, ища глазами своего защитника, в помощи которого вся его надежда ‹…›»[1017]. Наконец, молодой врач Варвинский, считающий подсудимого вменяемым, в подтверждение своей позиции оценивает его поведение при входе в зал как признак «совершенно нормального состояния», поскольку Дмитрий смотрел в сторону председателя и членов суда, «от которых зависит теперь вся его участь»[1018]. Таким образом, поставленный Варвинским правильный диагноз нормального психического состояния Дмитрия предстает не следствием глубокого знания человеческой природы, а скорее случайным результатом судебно-медицинской алеаторики, допускающей какое угодно толкование признаков.
Объектом похожей перформативной иронии и дискредитации судебная психиатрия становится в романе Толстого «Воскресение», в котором можно, помимо прочего, усмотреть попытку развенчания всех распространенных тогда научных теорий преступления ввиду их причастности к системе яростно отвергаемых Толстым общественных институтов. Пространная театрализованная сцена судебных слушаний, в ходе которых главный герой, присяжный заседатель князь Нехлюдов, узнает в одной из обвиняемых, Катюше Масловой, свою юношескую любовь, некогда им соблазненную и брошенную, содержит заключительную речь самодовольного товарища прокурора, который, желая доказать вину подсудимых, прибегает для их характеристики к терминам криминальной антропологии. «Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство»[1019], – резюмирует рассказчик составленное обвинителем научное «попурри». Товарищ прокурора приходит к выводу о необходимости вынести подсудимым обвинительный приговор, чтобы оградить общество от опасности заражения, исходящей от преступника как элемента патологического:
«Господа присяжные заседатели, – продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурора, – в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения, оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели». И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно до последней степени восхищенный своею речью, опустился на свой стул[1020].
Однако цели представить криминальную антропологию явлением пошлым служит не только иронический портрет товарища прокурора с его модной псевдонаучной риторикой. Прикрываемая ею аргументация тоже разоблачается как основанная на ложных выводах: утверждение обвинителя, назвавшего одну из подсудимых «жертвой наследственности», опровергает адвокат, подчеркивая, что родители его подзащитной неизвестны[1021]. На это товарищ прокурора отвечает, что теория наследственности позволяет не только объяснить преступление наследственностью, но и наоборот:
После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления[1022].
Ироническое изобличение Толстым биомедицинских теорий преступности, допускающих произвольную интерпретацию, напоминает об их карнавализованном изображении в «Братьях Карамазовых». Толстовская сатира наносит еще более мощный, нежели «гоголевская» сцена Достоевского, удар по самой сути сомнительного научного статуса этих концепций – их принципиальной нефальсифицируемости.
По сравнению с судебными сценами Толстого и Достоевского изображение научной несостоятельности криминальной антропологии в произведениях других русских писателей 1880–1890‐х годов, например в мелодраматических уголовных историях А. И. Свирского[1023], отличается гораздо большей простотой. Так, в коротком «Рассказе ночного вора» (1900) об уголовном процессе по делу о воровстве сообщается от первого лица. Вот как рассказчик-вор обобщает характеристики, данные ему в речах прокурора и адвоката:
Прокурор вылепил из меня классический тип мрачного злодея, жестокого, бездушного и весьма опасного для общества. ‹…› Мой защитник говорил пышно и речь свою пересыпал календарными афоризмами, стихами Надсона и без конца цитировал Достоевского. Он старался доказать, что я дегенерат, полуидиот и что мне нужна не тюрьма, а лечебница для душевнобольных[1024].
Пытаясь высвободиться из этих двойных убийственных тисков концепции грубого атавизма, с одной стороны, и «олитературенной» теории вырождения – с другой, вор сначала подчеркивает их противоречивость, а затем рассказывает историю своей жизни. При этом вырисовывается образ не преступного дегенеративного типа, но индивидуальной личности:
Я встал.
– Прокурор, – начал я, – одна из свидетельниц и защитник дали обо мне три различных характеристики. Если им всем верить, то получится, что я в одно и то же время и злодей, и добрый человек, и полуидиот. Это, конечно, абсурд. И я прошу позволить мне, не ради оправдания моего, а исключительно ради одной лишь истины, сказать о себе несколько слов[1025].
В творчестве Свирского наблюдаются и другие приемы контрастного сопоставления и опровержения биомедицинских концептов преступности, прежде всего в цикле документальных очерков «Мир тюремный» (1898). Хотя писатель концептуализирует место заключения как «особый, крайне своеобразный мир»[1026], он вместе с тем оспаривает атавистический характер этой параллельной реальности, тем самым открыто отмежевываясь от криминально-антропологических представлений того времени. Гетеротопия «тюрьма» обладает у Свирского собственными законами, обычаями, моральными устоями, особым языком и даже порождает собственную «арестантскую литературу»[1027]; однако заключенные не воплощают собой ни атавистический регресс к преодоленному цивилизацией первобытному состоянию, ни патологическое, дегенеративное явление, вопреки утверждениям таких криминологов конца XIX века, как Дмитрий Дриль[1028] и Кристиан Раковский[1029], или их современников-врачей, как Исаак Оршанский[1030], подчеркивающих различные аспекты преступности в рамках очерченного дискурса. В частности, Свирский не соглашается с тем, что наколки заключенных, расцениваемые Ломброзо[1031] и другими представителями криминальной антропологии как явный признак атавизма преступника, сопоставимы с татуировками примитивных народов:
Ошибаются, по моему мнению, те тюрьмоведы, которые полагают, что арестанты, подобно дикарям, татуируют себя только ради украшения. ‹…› Дикари татуируют себя поголовно, без различия пола, возраста и общественного положения. Но совершенно иное мы видим в наших тюрьмах. ‹…› для арестантов татуировка является чем-то вроде чина, но отнюдь не простым украшением[1032].
Еще одна широко распространенная в литературе 1890‐х годов стратегия опровержения биомедицинских криминальных нарративов состоит в возвращении преступнику человеческих черт путем инсценировки индивидуальных судеб. Такие авторы, как Толстой, Свирский или Дорошевич, противопоставляют антропологической ненормальности преступников, утверждаемой в науке, индивидуальные судьбы, свидетельствующие о человеческой «нормальности» преступника как личности, а не «вида». Так, герой «Воскресения» князь Нехлюдов, выступающий выразителем авторских идей, утверждает: «Эти так называемые испорченные, преступные, ненормальные типы были, по мнению Нехлюдова, не что иное, как такие же люди, как и те, перед которыми общество виновато более, чем они перед обществом»[1033].
Сентиментальные уголовные рассказы Свирского нередко служат цели заново придать чудовищному на первый взгляд преступнику индивидуальные и человеческие черты. Занимаемая рассказчиками этих небольших историй интроспективная позиция позволяет превратить мнимую преступную натуру в «несчастника». В рассказе «Зверь» (1901), повествующем о каторжном палаче по прозвищу Кандыба, это преображение увидено глазами другого арестанта. По прибытии в место заключения до рассказчика доходят слухи о зверской жестокости Кандыбы, передающиеся из уст в уста в тюрьмах и острогах:
Кандыба был человек сильный, смелый и жестокий. О нем в острогах рассказывали чудовищные легенды. Рассказывали, что Кандыба многих засекал до смерти. ‹…› И еще рассказывали о нем, что однажды, находясь в бегах и заблудившись в тайге, он убил своего товарища и семь дней питался трупом убитого спутника. Такова была слава знаменитого сахалинского палача Кандыбы[1034].
По мере развития событий перед рассказчиком приоткрывается внутренний мир Кандыбы, постепенно обретающего человечные, личностные черты. Этот процесс регуманизации достигает высшей точки в заключительной сцене рассказа: закованный в кандалы палач бегает по острожному двору, держа на плечах Ваньку, маленького сына другого арестанта. Кандыба пыхтит, ребенок в восторге, а рассказчик, оглядываясь в прошлое, подводит итог: «До сих пор я отчетливо вижу эту сцену и, вспоминая о ней сейчас, начинаю понимать, сколько чудесного спрятано на дне человеческой души»[1035].
Похожей сентиментальностью отмечена концовка рассказа «Кровь» (1898); в нем жестокий убийца-рецидивист Хмара, который «нигде себя так хорошо не чувствовал, как в тюрьме», и «своими многочисленными и дерзкими преступлениями ‹…› создал себе в тюремном мире громкое имя»[1036], становится свидетелем жестоких пыток, которым его сокамерники подвергают стукача Сережу Цыгана, а после оставляют его медленно умирать в страшных мучениях. Сначала Хмара не вмешивается в происходящее, однако затем внезапно ощущает «чувство жалости» к Цыгану (с повествовательной точки зрения ничем не обоснованное):
«Сейчас умрет», – подумал Хмара, и сердце его болезненно сжалось. Он сам не понимал, что с ним делается, но готов был пойти на все, чтобы только помочь Сереже. Чувство жалости в сердце Хмары проснулось впервые в тот момент, когда Цыгана придавили к наре. Он уже тогда увидал смерть на его лице[1037].
На глазах изумленных сокамерников он пытается помочь Сереже, не в силах выдержать его мучительной агонии. «Слишком человеческая» жалость Хмары переходит в отчаяние и наконец в «истерику», пока Сережа Цыган умирает «на каменном полу возле нары, захлебываясь в собственной крови»[1038].
Фельетонист Влас Дорошевич, один из популярнейших авторов уголовной литературы в России рубежа веков[1039], пародирует этот прием гуманизации «преступника-зверя» в рассказе «Старый палач (Сахалинский тип)» (1900). «В кандальном отделении „Нового Времени“, в подвальном этаже, живет старый, похожий на затравленного волка, противный человек ‹…› Это старый палач Буренин. Сахалинская знаменитость. Всеми презираемый ‹…› раз в неделю он полон злобного торжества – в день „экзекуции“»[1040]. Преисполненный «злобы и подлого торжества», Буренин подробно рассказывает, как истязает жертв «своей старой, грязной, пропитанной человеческой кровью плетью»[1041]. В конце этого карикатурно кровожадного описания выясняется, что буренинские зверства – это метафора деятельности злонамеренного литературного критика:
По Тургеневу, Ивану Сергеевичу, моя грязная плеть ходила. Чистый был человек, хрустальной чистоты, как святого его считали. Нарочно грязью плеть измазал, да по чистому-то, по чистому! Самые места такие выбирал, чтобы больней было. Попоганее бить старался, попоганее! Со внедрением в частную жизнь, можно сказать! Чтобы гаже человеку было. Гаже-с. ‹…› И кого только я вот этак… погано-то… Все, что только лучшим считалось. Чем только люди гордились. Из художников Репин, Антокольский, Ге покойник, из писателей Короленко, Мамин, Михайловский-критик, строптивый человек…[1042]
Перу Дорошевича принадлежит обстоятельное описание каторжной жизни на острове Сахалин, призванное – вслед за чеховским «Островом Сахалином» – познакомить русскую публику с царящими там бесчеловечными условиями содержания заключенных[1043]. Несмотря на явное тяготение к сенсационности, настойчиво располагающее к использованию «готической» криминально-антропологической образности, Дорошевич тоже описывает особо жестоких преступников при помощи стратегий «нормализации» монструозной преступной натуры, только сначала предстающей как форма антропологической ненормальности. Яркий пример – глава о «людоедах», где Дорошевич рассказывает о своем расследовании случаев каннибализма в каторжной среде, произошедших на Сахалине в 1890‐х годах[1044].
Особенно вопиющей стала так называемая «онорская история» 1892 года, попавшая в печать разных стран. Нечеловеческие условия строительства дороги, ведущей к расположенному в центральной части острова селу Онор, привели к массовым смертям каторжан. Повесткой дня стали попытки бегства, при расследовании которых были обнаружены свидетельства каннибализма среди беглых арестантов[1045]. В 1897 году Дорошевич опрашивает еще живых «людоедов» Колоскова и Васильева, снискавших себе репутацию отъявленных чудовищ и «демонстрируемых» посетителям острова в качестве отвратительных диковинок. Нарисованный Дорошевичем портрет Павла Колоскова сначала соответствует физиогномическим топосам криминальной антропологии:
Молодой еще парень, низкорослый, широкоплечий, истинно «могутный». С тупым угрюмым лицом, исподлобья глядящими глазами. Каторга, даже кандальная, «головка» каторги, его не любит и чуждается. Он ходит обыкновенно один вдоль палей, огораживающих кандальное отделение, взад и вперед, понурый, мрачный, словно волк, что неустанно бегает вдоль решетки клетки[1046].
Однако из исследований Дорошевича, посвященных событиям того времени, предстает скорее картина чудовищных условий заключения и садистской, бесчеловечной системы надзора, превращающих заключенных в самых настоящих «несчастников»; в отчаянии они даже готовы отрубать себе ноги и руки, лишь бы их освободили от строительных работ. Сам Колосков утверждает, что только притворился, будто ел человечину, и тем самым сознательно пошел на продление срока и наказание розгами, лишь бы избежать дальнейшего участия в строительстве Онорской дороги. Васильев тоже предстает не звероподобным людоедом, а сломленным, травмированным человеком, страдающим бредом преследования[1047]. Как и Чехов в «Острове Сахалине», Дорошевич изображает каторгу не как антропологически чудовищное пространство, а как чудовищное место, символизирующее произвол и бесчеловечность царистской пенитенциарной системы.
Все вышесказанное не означает, что русская литература конца XIX века разрабатывает исключительно «анти-криминально-антропологические» нарративы, противостоящие судебно-психиатрическим повествовательным моделям атавизма и вырождения. Концептуализация городских трущоб как гетеротопий вырождения и атавистической преступности характерна для русской словесности в той же мере, что и для европейских культур того времени. В западной литературе ярким примером выступают лондонские трущобы (slums), не позднее середины XIX века ставшие символом «выродившегося» социального дна как изнанки модерна[1048]. Они воплощают теневую сторону прогресса и его «темный» имагинативный потенциал. Трущобы представляют собой «девиационные гетеротопии» в том смысле, который вкладывает в этот термин Мишель Фуко: места, удерживаемые на периферии общества и предназначенные для «индивидов, чье поведение является девиантным по отношению к среднему или к требуемой норме»[1049]. Как пространства девиации slums функционально сопоставимы с тюрьмами и психиатрическими больницами (Фуко упоминает их в качестве примеров девиационных гетеротопий). В многочисленных текстах, как художественных, так и научно-документальных, трущобы предстают дискретными пространствами, обитатели которых воплощают собой медицинскую или антропологическую ненормальность, служащую проекцией свойственного концу XIX столетия «исконного страха перед денормализацией»[1050].
Так, на цветном плане Лондона, опубликованном в качестве приложения к «этносоциологической» работе Чарльза Бута «Жизнь и труд населения Лондона» («Life and Labour of the People in London», 1889–1897), эти гетеротопии неслучайно выделены черным цветом, тогда как желтый и золотой используются для обозначения кварталов, занимаемых upper classes[1051]. В демографической таксономии Бута жители «черных» лондонских трущоб составляют низший «класс А», состоящий из «лиц, не имеющих постоянной работы, уличных продавцов, бродяг, преступников и полупреступников»[1052]. Бут концептуализирует «класс А» как аморфную, не поддающуюся точному исчислению человеческую массу («outside of any census»), чья жизнь подобна жизни «дикарей»: «Их жизнь – это жизнь дикарей со свойственным ей чередованием крайней нужды и редких периодов изобилия. Они питаются самой грубой пищей, а спиртное – единственная доступная им роскошь. Трудно сказать, как им удается выжить»[1053]. В социально-экономическом и биологическом смысле обитатели трущоб являют собой unfits и воплощают опасную для цивилизации взаимосвязь бедности, вырождения и преступности:
Они не занимаются никаким полезным трудом, не создают никаких благ; чаще они таковые уничтожают. Они разрушают все, к чему прикасаются, и, пожалуй, не способны к личному совершенствованию ‹…›. Остается лишь надеяться и уповать, что наследственная природа этого класса может ослабнуть. В настоящее время нет никаких сомнений, что принадлежность к этому классу носит ярко выраженный наследственный характер[1054].
В 1880–1890‐х годах в англоязычном мире наблюдается всплеск популярности сенсационных текстов о феномене outcast London, авторы которых «этнографически исследуют» трущобную terra incognita, концептуализируя ее обитателей как «человеческие отбросы», связанные «метонимико-метафорическим отношением» с теми «клоаками» и «грудами мусора», среди которых они живут[1055]. При этом преступность, рассматриваемая как «органически присущий» этим девиационным гетеротопиям феномен, как никакой другой элемент символизирует исходящую от них опасность и вместе с тем притягательность.
Русская трущобная литература того времени тоже отводит преступности видное место[1056]. В контексте сенсационалистского интереса к проблеме «язв» больших городов, вспыхнувшего в 1880–1890‐х годах, московские и петербургские трущобы изображаются в многочисленных произведениях, жанровый спектр которых простирается от статистико-социологического исследования до литературного очерка, причем нередко встречаются и смешанные формы[1057]. Например, научно-популярная работа Владимира Михневича «Язвы Петербурга» (1886) сочетает статистические данные с художественными «картинами», рисуя тревожный портрет «падения нравов» в столице империи[1058]. Биомедицинский взгляд Михневича на «патологии организма» большого города[1059] сосредоточен прежде всего на «преступном мире»[1060] как наиболее заметной «аномалии», которая «разлагает» общественный организм, обнаруживая проявления атавистического регресса[1061].
Впрочем, (популярно-)научное качество такого рода «социологических» исследований, посвященных социальному дну обеих столиц Российской империи, не следует переоценивать, поскольку в этих работах инсценируется такое же «вуайеристское», охочее до сенсаций и глубоко литературное наблюдение за жизнью трущоб, что и в художественно-документальной очерковой литературе того времени, например в «Трущобных людях» (1887) В. А. Гиляровского и «Мире трущобном» (1898) А. И. Свирского. Как известно, литературное освоение городского дна восходит к натуральной школе 1840‐х годов, особенно к изданному Н. А. Некрасовым сборнику «Физиология Петербурга» (1845), в котором читателю предлагается типизирующее описание городской повседневной жизни в стиле «сентиментального натурализма», отсылающее к французской école physiologique[1062]. Другие физиологические тексты эпохи, такие как «Петербург днем и ночью» (1845–1846) Е. П. Ковалевского, принадлежат к традиции приключенческой литературы и экзотики социального дна, которую заложил Эжен Сю своим романом «Парижские тайны» («Mystères de Paris», 1843). В 1860‐х годах эту линию продолжил В. В. Крестовский, чей роман «Петербургские трущобы (книга о сытых и голодных)» (1867), в свое время чрезвычайно популярный, стал связующим звеном между городской физиологической литературой 1840‐х и трущобной литературой 1880–1890‐х годов[1063].
Жанрообразующую для позднейшей трущобной литературы роль сыграло изображение Крестовским петербургского дна как девиационной гетеротопии, отмеченного атавистическими признаками пространства ненормальности, чей замкнутый характер обозначен автором уже в предисловии при помощи хронотопа порога[1064]. Крестовский описывает инцидент, невольным свидетелем которого стал: вблизи Сенного рынка проститутки спасли товарку, которую прямо на улице избивал мужчина. Движимый любопытством автор следует за ними в притон, таким образом переступая порог чужого, отвратительного и вместе с тем завораживающего мира:
Все это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия[1065].
Как и у Сю в «Парижских тайнах», действие «Петербургских трущоб» представляет собой плотное переплетение сюжетных линий, полное многочисленных персонажей, главных и второстепенных, и неожиданных поворотов, которые связывают высший класс петербургского общества («сытых») с нижним, трущобным («голодными»). Основным местом романного действия, состоящего из интриг, преступлений и любовных историй, служат трущобы близ Сенной площади, прежде всего так называемая Вяземская лавра, трущобный комплекс из тринадцати сообщающихся между собой зданий и ряда внутренних дворов, население которого подчас доходило до 10 000 человек[1066]. Переодевшись нищим, Крестовский в сопровождении известного писателя Николая Лескова и квартального надзирателя Ивана Путилина – впоследствии легендарного начальника петербургской сыскной полиции, который на рубеже веков станет героем многочисленных уголовных романов и прославится как «русский Шерлок Холмс» (см. выше), – предпринимал «экспедиции» в притоны и ночлежки этого деклассированного мира, а также изучал его арго и обычаи на основе полицейских протоколов[1067].
В главах 38 и 39 пятой части Крестовский прерывает захватывающее приключенческое повествование пространным описательным пассажем о Вяземской лавре, функционирующим как своего рода экскурсия по лабиринтам трущоб и снова начинающимся с хронотопа порога, отделяющего нормальную жизнь от другого, зловещего мира[1068]. Вяземская лавра служит пристанищем попрошаек, бродяг, мошенников, проституток, подделывателей документов, а также складом и жильем тряпичников; тут ютятся пекарни, притоны и «гусачные заведения», где вываривают туши животных. Опираясь на творчество Сю с его «страшной» экзотикой городского «одичания», Крестовский изображает петербургские трущобы как континуум пришедших в упадок пространств, полных грязи и нестерпимого смрада, и извилистых внутренних дворов, где громоздятся груды мусора, ветхого тряпья и мясных отбросов. Обитатели лавры тоже принадлежат к этому континууму отвратительного, воплощая собой моральное и физическое вырождение города и, таким образом, выступая метонимией этого грязного и зловонного пространства. Преступность составляет органичную часть этого мира девиации, таящего в себе опасный для цивилизации потенциал насилия, который раскрывается в шокирующих сценах, свидетельствующих о нравственной деградации. Так, новорожденному младенцу наносят тяжелые увечья, в конечном счете ведущие к смерти, руководствуясь извращенным стремлением сделать из него более удачливого попрошайку.
Сенсационное изображение петербургских трущоб как пространств атавистического регресса и морального вырождения[1069] смягчается у Крестовского типичными для большей части русской интеллигенции конца XIX века рассуждениями о том, что в действительности обитатели трущоб – это жертвы общества или несправедливых социальных условий. Вместе с тем, однако, Крестовский допускает, что ненормальность некоторых трущобных жителей стала результатом врожденных отклонений, социальной патологии:
‹…› большая часть воров, мошенников, бродяг – не что иное, как невольные жертвы социальных условий. ‹…› Люди, прежде чем быть скверными, бывают голодными. Те же, которых скверность является сама по себе, прежде голода и не побуждаемая особенными, тяжелыми условиями жизни, составляют ненормальную сторону человечества, явление печальное и как бы болезненное[1070].
Это колебание между сентиментальностью и жаждой сенсаций, гуманизмом и биомедицинским подходом усиливается в трущобной литературе 1880–1890‐х годов. В творчестве Владимира Гиляровского, журналиста и автора сборника «Трущобные люди», тираж которого был уничтожен цензурой в 1887 году[1071], гетеротопией вырождения и атавизма выступает бедняцкий квартал в районе Хитрова рынка в Москве. Во многих документальных очерках Гиляровского трущобы изображаются как замкнутые пространства преступности, девиации и социально-биологического регресса. Кроме того, Гиляровский тоже устанавливает синтагматическое и парадигматическое отношение между трущобами и городскими клоаками. Так, очерк «Полчаса в катакомбах» рассказывает об «экспедиции» в подземный канал, где течет загрязненная река Неглинка; этот спуск обнаруживает явную аналогию с «экспедициями» в трущобный мир социального дна, описанными в других очерках[1072]. «Арестованная в подземной темнице»[1073] и превращенная в клоаку Неглинка символизирует человеческие «отбросы» трущоб, которые недаром больше всех страдают от разливов реки.
Радикализируя начатую Крестовским традицию трущобной литературы, Гиляровский рисует картину примитивного «антимира», в котором преступность – явление нормальное. Регрессивное вырождение пространства и людей подчеркивается отождествлением трущобной жизни с одичанием. Тем отчетливее проступает притягательность этой антропологической ненормальности для «цивилизованного» читателя. Так, в рассказе «В глухую»[1074] говорится:
Страшное время – полночь в дебрях леса. Несравненно ужаснее и отвратительнее полночь в трущобах большого города, в трущобах блестящей, многолюдной столицы. И чем богаче, обширнее столица, тем ужаснее трущобы… ‹…› Притон трущобного люда, потерявшего обличье человеческое, – в заброшенных подвалах, в развалинах, подземельях. Здесь крайняя степень падения, падения безвозвратного. Люди эти, как и лесные хищники, боятся света, не показываются днем, а выползают ночью из нор своих. Полночь – их время. В полночь они заботятся о будущей ночи, в полночь они устраивают свои ужасные оргии ‹…›[1075].
Большинство очерков Гиляровского устроены согласно сенсационному принципу авантюрного нарратива. Наблюдатель из цивилизованного мира – нередко нарратор от первого лица, призванный гарантировать «достоверность» описываемого, зачастую журналист – отправляется в опасный мир трущоб, пересекая семиотическую запретительную границу между нормальным и патологическим, за что подчас расплачивается жизнью[1076]. Сюжет, требующий маркирования радикально иной природы запретного пространства, располагает к заимствованию элементов криминальной антропологии. Обитатели трущоб нередко предстают дегуманизированной и обезличенной опасной массой, чья «естественная» склонность к преступлению обусловлена причинами не только и не столько биологическими или социальными, сколько пространственными. Жизнь этих людей проходит в трактирах Хитрова рынка, носящих названия «Каторга» и «Сибирь». В рассказе «Каторга» эти притоны выступают более мелкими девиационными гетеротопиями преступности в рамках большой гетеротопии трущоб[1077]. Вместе с сибирской каторгой они опять-таки образуют пространственный континуум, откуда для преступников нет выхода. Тот, кому удалось бежать из Сибири, рано или поздно оказывается на Хитровом рынке, где его арестовывает полиция[1078]. И отправка в Сибирь, и побег оттуда означают лишь перемещение преступника в пределах дискретного пространства, везде носящего одно и то же название.
С другой стороны, Гиляровский тоже примыкает к традиции сентиментального натурализма, характерного для русской трущобной литературы с самого начала (см. выше). Некоторые из его очерков посвящены «падшим», вызывающим жалость людям, невинным жертвам социальных условий, нашедшим последнее пристанище в трущобных ночлежках и трактирах Хитрова рынка. Это бывшие солдаты, мелкие чиновники или неимущие крестьяне, которые, подавшись в Москву на заработки, нередко попадают в руки воровских банд и лишаются всего, подчас даже жизни[1079]; это и женщины, чье положение типично для жанра: обманутые и брошенные любовниками, они вынуждены заняться проституцией[1080]. В рассказе «Один из многих» оба этих антропологических взгляда на трущобный люд даже сталкиваются друг с другом. Наивный, добродушный неудачник, «жертва обстоятельств», которого несколько раз обобрали до нитки на Хитровом рынке, от отчаяния пытается украсть ломоть хлеба, однако его ловят с поличным и арестовывают. Сентиментальную историю венчает газетная заметка, описывающая преступника языком криминальной антропологии: «Разбойник гигантского роста и атлетического телосложения, физиономия зверская»[1081]. В данном случае расхождение между «аутентичным» и «объективным» описанием вора как жертвы общества, с одной стороны, и «стереотипным», а значит, «ложным» газетным портретом преступника – с другой, призвано разоблачить научную несостоятельность грубого криминально-антропологического дискурса, бывшего тогда в моде[1082].
В конце XIX века, когда трущобная литература успела превратиться в популярный жанр[1083], которому недалеко оставалось до международной славы – она придет благодаря пьесе Максима Горького «На дне» (1903), – А. И. Свирский пишет «Мир трущобный», первый том своего цикла очерков «Погибшие люди» (1898), посвященный Петербургу и родному городу писателя Ростову-на-Дону[1084]. Сентиментальное отношение Свирского к любым типам «погибших людей», от преступников (см. выше) до «нищих и пропойц»[1085], вновь оборачивается попыткой придать бесформенной массе трущобных людей человеческие и индивидуальные черты. При этом сами трущобы превращаются в гетеротопию преступности, в чудовище, пожирающее «несчастных» жертв:
Нет того города, который не имел бы своих трущоб; и чем город многолюднее, тем трущоб в нем больше. Эти притоны, словно сказочные чудовища, своими цепкими лапами выхватывают из толпы несчастных, обездоленных людей, без различия класса, возраста и пола, с страшною силою втягивают их в свои грязные внутренности, убивают в своих жертвах всякое человеческое достоинство, заставляют забыть их обо всем, что только есть хорошего, честного, святого в жизни нашей и наконец, превратив их в нравственных и физических уродов, навсегда преграждают им путь к тому обществу, к которому и они, горемычные, когда-то принадлежали…[1086]
Широкое использование цитат превращает очерки Свирского в скопление топосов трущобной литературы, ставших общими местами. В результате герои очерков, которым автор стремится вернуть человеческий облик, оказываются заложниками вдвойне: с одной стороны, их не выпускает из своих когтей «чудовище» трущоб, с другой – преувеличенная, избитая «страшная» экзотика, характерная для литературного жанра «джунглей большого города», держит трущобных людей еще крепче. Они проигрывают в «борьбе за существование»[1087], которую можно интерпретировать как с социально-биологической, так и с металитературной точки зрения. В этом смысле люди трущоб становятся частью еще и русской культурной традиции литературного дарвинизма, сложное переплетение которой с современным ей дискурсом о вырождении анализируется в следующей части книги (гл. VII.1–3).
VII. Дарвинизация вырождения
В европейском дискурсе о вырождении 1890‐х годов все чаще встречается дарвиновское понятие «борьба за существование»[1088], маркирующее произошедший дискурсивный сдвиг. Отныне дискурс о вырождении не только сосредоточивается на характерном для «нервного века» распространении отдельных дегенеративных патологий (гл. IV), но и «обобщает» проявления дегенерации[1089], концептуализируя их потенциальную опасность для «здоровья народного тела»[1090] и превращаясь, таким образом, в мощный оплот дарвинизма, расовой теории и, наконец, евгеники[1091]. Сдвиг этот сопровождается умножением семантических слоев внутри дискурса, значительно расширившим сферу его социально-диагностического применения. Впрочем, в рассматриваемой ниже многозначности, возникающей вследствие слияния концепций вырождения и борьбы за существование, нет ничего удивительного, если принять во внимание, что речь идет о соединении двух социально-биологических и социально-медицинских понятий, своей дискурсивной эффективностью на исходе XIX столетия не в последнюю очередь обязанных собственной семантической гибкости. Сохраняя неразрывную связь со своими функциями в сфере науки (психиатрии и биологической теории эволюции), две эти концепции, вырождение и борьба за существование, также выступают биомедицинскими моделями интерпретации мира, позволяющими сводить сложные социальные явления модерной эпохи к метафорам и повествовательным схемам. Понятийной расплывчатости обеих концепций сопутствует полисемия, обеспечивающая чрезвычайно широкие возможности дискурсивной интеграции.
Однако ни в случае теории вырождения, ни в случае концепции борьбы за существование не приходится говорить о языковых – метафорических и нарративных – атрибуциях, которые риторизировали бы «изначально» наличествующий логический, научный стержень задним числом. Если первая, как я старался показать в этой книге, черпает научную доказательность преимущественно из собственной нарративной структуры, то вторая представляет собой прежде всего метафору уже в рамках теории эволюции, о чем открыто говорит сам Чарльз Дарвин в «Происхождении видов» («The Origin of Species», 1859): «Я ‹…› применяю этот термин [борьба за существование] в широком и метафорическом смысле»[1092]. Как метафора, это понятие per se обнаруживает семантическую неоднозначность, принципиально допускающую разные толкования. Так, агональный, социоморфный аспект борьбы за существование составляет одну из семантических граней, предусмотренных автором, и потому не может считаться исключительной заслугой позднейших теорий так называемого социал-дарвинизма, созданных Томасом Генри Гексли, Гербертом Спенсером или Эрнстом Геккелем[1093]. Как и теория вырождения, дарвинизм конца XIX столетия – это прежде всего продукт дискурсивных практик, в центре которых находятся риторика и повествовательность. В этом контексте литература выступает важным средством дискурсивного производства: она воспринимает риторическое, прежде всего метафорическое, измерение дарвинистских понятий и концептов и претворяет их в нарративные структуры, при этом актуализируя одни семантические слои, нивелируя другие, привнося третьи и заново вводя все эти художественные преобразования в дарвинистский дискурс[1094].
Чтобы проследить дискурсивные процессы объединения концепций вырождения и борьбы за существование в русской литературе 1890‐х годов, необходимо сначала проанализировать метафорическую сторону понятия struggle for existence и эпистемологическую функцию его семантической неоднозначности в контексте дарвиновской научной риторики (гл. VII.1). Для русской рецепции учения Дарвина, подробно рассматриваемой ниже, характерно как раз отвержение агонального аспекта борьбы за существование, восходящего к теории народонаселения Томаса Р. Мальтуса. После этого экскурса в историю и риторику науки будет показано, как европейская психиатрия, включая российскую, интерпретирует понятие борьбы за существование и интегрирует его в теорию вырождения. Такая «дарвинизация» теории вырождения позволяет интерпретировать взаимодействие последней с концепцией борьбы за существование в двояком ключе. С одной стороны, struggle for existence мыслится воплощением современной жизни, ведущей к истощению нервной системы, т. е. одним из важнейших факторов «нервного века». С другой стороны, вырождение рассматривается как причина биологической неприспособленности (unfitness) и, следовательно, явление, невыгодное в эволюционной борьбе за существование, понимаемой как закон природы, каузальную механику которого грозит нарушить современная цивилизация, занятая «неправильной» с точки зрения эволюционной теории заботой о биологически слабейших. Два этих разных семантических поля, которые возникают вследствие слияния обеих концепций, не всегда строго разделяемых в психиатрическом дискурсе, соответствуют двум повествовательным моделям литературного дарвинизма, сложившимся в русской литературе 1890‐х годов (как и в современных ей европейских литературах). Эти модели анализируются в главах VII.2 и VII.3 на материале романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб» (1895) и повести А. П. Чехова «Дуэль» (1891).
VII.1. Концепция борьбы за существование и ее риторический аспект: Между теорией эволюции и психиатрией
«Я ‹…› применяю этот термин [борьба за существование] в широком и метафорическом смысле»[1095]. Метафорический характер борьбы за существование, на который указывает сам Дарвин, следует рассматривать в контексте выраженного риторического аспекта «Происхождения видов» («The Origin of Species», 1859), превращающего этот трактат в шедевр научной риторики[1096]. Функция риторики в формировании дарвиновской теории заключается не только в передаче, но и в производстве знания. «Происхождение видов» наглядно показывает, что источником естественно-научного знания могут выступать не только когнитивные, логические теории и репрезентации действительности, сообразуемые с «объективно» наблюдаемыми фактами, но и консенсус, достигнутый внутри scientific community средствами убеждения[1097]. При этом сфера действия риторики в трудах Дарвина простирается за пределы языковой подачи: дело не ограничивается достижением убедительности на уровне dispositio и elocutio, т. е. представления гипотезы, эксперимента, приведения доказательств и вывода[1098]. Риторика эта охватывает еще и уровень inventio, что позволяет концептуализировать научные открытия как результат риторического «нахождения» или «изобретения»: «‹…› мысль Дарвина так эффективно соединяет в себе научное открытие и риторическую инвенцию, мышление специальное и социальное, что можно говорить о единой логике исследования и представления, в которую укладывается все перечисленное»[1099].
Благодаря целому арсеналу риторических средств – помимо тропов, стилистических фигур и заключений по аналогии важны такие риторические приемы, как reductio ad ridiculum, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad hominem и др.[1100], – Дарвину удается сформулировать внутренне непротиворечивую теорию эволюции, не располагая готовыми достаточными объяснениями ее промежуточных этапов. Даже центральный постулат теории о естественном отборе как причине биологического разнообразия и происхождения видов остается в труде Дарвина гипотезой, не получающей ни надежных эмпирических доказательств, ни логического обоснования. Так, рассуждения ученого о теории наследственности ни в коей мере не объясняют генетической изменчивости, предполагаемой механизмом отбора[1101]. Не предоставляет ученый и удовлетворительной эмпирической основы, которая объясняла бы выведение естественного отбора из концепции борьбы за существование между представителями одного или нескольких видов либо между организмами и физическими условиями жизни (см. ниже). Таким образом, речь идет не о дедукции, а об умозрении[1102].
Как известно, видную роль в дарвиновской риторико-диалектической аргументации играют метафорические выражения, к которым, наряду с «борьбой за существование» (struggle for existence), принадлежат «естественный отбор» (natural selection; по аналогии с искусственным отбором в животноводстве), «экономия природы» (economy of nature), «ветвящееся дерево жизни» (the branching tree of life) и др. Метафоры эти не столько служат объяснению и передаче надежных научных сведений, сколько выполняют эпистемологическую функцию, обеспечивая дискурсивную убедительность там, где (пока еще) не может быть логической и эмпирической ясности[1103]. Поэтому, если воспользоваться терминологией Ганса Блюменберга, они представляют собой «абсолютные метафоры», т. е. «переносы, не опирающиеся ни на реальное положение дел, ни на логичность»[1104]. Дарвиновские метафоры соединяют в себе логическое и аналогическое мышление, поскольку одновременно функционируют как приемы открытия и обоснования, пересекая тем самым границу, установленную теорией аргументации[1105]. При этом Дарвин сознательно использует полисемию и понятийную расплывчатость метафоры – качества, которые обеспечивают гибкость аргументации, позволяющие английскому ученому вписать свою теорию в научный дискурс эпохи и сформулировать связующие звенья с существующими концепциями[1106].
Семантическая избыточность метафорического дискурса Дарвина хорошо видна на примере концепции борьбы за существование и ее восприятия в России. Как известно, метафора struggle for existence восходит к Томасу Р. Мальтусу, одному из главных теоретиков классической английской политической экономии, автору трактата «Опыт о законе народонаселения» («An Essay on the Principle of Population», 1798). Антиутопический трактат Мальтуса явным образом направлен против ранних социалистических общественных утопий того времени, прежде всего против «Исследования о политической справедливости» («An Enquiry Concerning Political Justice», 1793) Уильяма Годвина. Мальтус стремится опровергнуть идеи Годвина об осуществимости социального прогресса путем перераспределения благосостояния и в силу зависящей от благосостояния органической и нравственной способности человечества к совершенствованию, приводя широко распространенный в политической экономии того времени аргумент: быстро растущему обществу, организованному на принципах равноправия, грозит крах вследствие перенаселения[1107].
Тезису Годвина о возможности совершенствования Мальтус противопоставляет свою «отрицательную физикотеологию»[1108], в которой сформулированный Адамом Смитом принцип laissez-faire превращается в политику laissez-mourir[1109]. Мальтус убежден в существовании божественного закона природы, поддерживающего равновесие между величинами «народонаселение» и «производство продовольствия», растущими с разной скоростью. Если общее количество продовольствия, имеющееся в распоряжении у человечества, растет лишь «в арифметической» прогрессии (т. е. линейно), то население – в «геометрической» (т. е. экспоненциально) в силу непреодолимости полового инстинкта человека[1110]. Из этой предпосылки Мальтус выводит свой lex naturae, согласно которому неизбежно постоянное возникновение «препятствий» (checks) демографическому росту[1111]. Так, «нищета и пороки» (misery and vice), по мнению Мальтуса, наиболее эффективно регулируют уровень народонаселения, «естественным образом» поражая именно бедных[1112]. В сочетании с другими бедствиями, такими как эпидемии и голод, они уравновешивают численность мирового народонаселения с общим количеством продовольствия[1113]. С точки зрения Мальтуса, человеческая жизнь представляет собой вечную «борьбу за существование» (struggle for existence)[1114], полную эгоизма, конкуренции и сословной вражды, непрерывный круговорот сменяющих друг друга фаз: демографического роста, вызванных регулирующими «препятствиями» кризисов и сокращения народонаселения. Таким образом, общественное неравенство регулирует численность населения и удерживает человечество на «минимальном уровне необходимых средств к существованию ‹…› служащем постоянным стимулом к добродетельной и умеренной жизни»[1115]. Согласно отрицательной антропологии Мальтуса, человек «косен, ленив и склонен к праздности, пока нужда не заставит трудиться»[1116]. Лишь необходимость постоянно удовлетворять половой инстинкт и потребность в пище, наряду с необходимостью противостоять нужде и нищете, заставила человечество подняться до уровня цивилизации.
Есть некая (непреднамеренная) ирония в том, что главным источником вдохновения для эволюционной теории Дарвина стала именно мальтузианская теория народонаселения, утверждающая неизменность социально-экономических и антропологических данностей. Из трактата Мальтуса Дарвин почерпнул идею несоответствия между экспоненциальным размножением организмов и ограниченностью природных ресурсов, делающего борьбу за существование «неизбежной»:
Борьба за существование неизбежно вытекает из быстрой прогрессии, с которой все органические существа стремятся размножиться. Каждое существо, в течение своей жизни производящее несколько яиц или семян, должно быть уничтожено в каком-нибудь возрасте своей жизни, в какое-нибудь время года или, наконец, в какие-нибудь случайные годы, иначе в силу принципа размножения в геометрической прогрессии численность его быстро достигла бы таких огромных размеров, что ни одна страна не могла бы прокормить его потомства. Поэтому, так как производится более особей, чем может выжить, в каждом случае должна возникать борьба за существование либо между особями того же вида, либо между особями различных видов, либо с физическими условиями жизни. Это – учение Мальтуса, с еще большей силой приложенное ко всему растительному и животному миру ‹…›[1117].
Итак, при помощи метафоры борьбы за существование Дарвин обозначает сложные отношения между организмами одного или разных видов, а также между организмами и окружающей средой, результатом которых становится естественный отбор. Смысловые оттенки понятия struggle for existence в рамках своей теории – иными словами, подразумеваемые под ним эволюционные процессы – Дарвин поясняет так:
Я должен предупредить, что применяю этот термин в широком и метафорическом смысле, включая сюда зависимость одного существа от другого, а также включая (что еще важнее) не только жизнь одной особи, но и успех ее в оставлении после себя потомства. Про двух животных из рода Canis, в период голода, можно совершенно верно сказать, что они борются друг с другом за пищу и жизнь. Но и про растение на окраине пустыни также говорят, что оно ведет борьбу за жизнь против засухи, хотя правильнее было бы сказать, что оно зависит от влажности. Про растение, ежегодно производящее тысячу семян, из которых в среднем вызревает лишь одно, еще вернее можно сказать, что оно борется с растениями того же рода и других, уже покрывающими почву. Омела зависит от яблони и еще нескольких деревьев, но было бы натяжкой говорить о ее борьбе с ними потому только, что если слишком много этих паразитов вырастет на одном дереве, оно захиреет и погибнет. Но про несколько сеянок омелы, растущих на одной и той же ветви, можно совершенно верно сказать, что они ведут борьбу друг с другом. Так как омела рассевается птицами, ее существование зависит от них, и, выражаясь метафорически, можно сказать, что она борется с другими растениями, приносящими плоды, тем, что привлекает птиц пожирать ее плоды и, таким образом, разносить ее семена. Во всех этих значениях, нечувствительно переходящих одно в другое, я ради удобства прибегаю к общему термину Борьба за существование[1118].
Итак, метафора struggle for existence колеблется между прямым (борьба организмов за выживание) и косвенным (зависимость живых существ друг от друга или от окружающей среды) значениями. В «Происхождении видов» Дарвин с вариациями «разыгрывает» оба этих семантических уровня, причем агональный момент struggle приобретает частичную воинственную коннотацию («война, которую ведет природа», war of nature)[1119], а «взаимные отношения между всеми органическими существами» (mutual relations of all organic beings)[1120] обнаруживают противоположный борьбе смысл (кооперация живых существ).
Как известно, эта многозначность метафоры, предусмотренная автором и выполняющая разные задачи аргументации, привела к разнообразию интерпретаций его теории[1121]. Особенно интересна в этом отношении русская рецепция дарвинизма в XIX веке, для которой в целом характерно отвержение мальтузианских идей. Как убедительно показал Дэниел П. Тодес, отличительной особенностью русского дарвинизма явилась критика тех составляющих теории эволюции, которые сильнее всего отождествляются с теорией Мальтуса, т. е. утверждений о чрезмерной численности как причине конфликтов и внутривидовой конкуренции как ее результате[1122]. Русская интеллигенция отнеслась скептически уже к политической экономии Мальтуса. С одной стороны, теория Мальтуса совершенно не вязалась с географическим положением России: сама мысль, что в стране с низкой плотностью населения разразится беспощадная борьба за ограниченные ресурсы, продовольственные и пространственные, «предполагала чересчур широкий полет фантазии»[1123]. С другой стороны, русская интеллигенция критиковала Мальтуса с идеологических – политических и философских – позиций, превращая его в своеобразный образ врага. Так, шелленгианец В. Ф. Одоевский считал учение Мальтуса и английскую политическую экономию в целом проявлениями логико-аналитического мышления, преграждающего идеалистический путь к Абсолюту[1124]; поэтому в произведении «Русские ночи» (1844) Мальтус назван «последней нелепостью в человечестве»[1125], как «‹…› человек ‹…› который сосредоточил все преступления, все заблуждения своей эпохи и выжал из них законы для общества, строгие, одетые в математическую форму»[1126]. И консервативные, и радикальные русские мыслители видели в мальтузианстве воплощение «бесчеловечного» индивидуализма и либерально-экономического принципа конкуренции британского образца, противопоставляя всему этому социально-экономическую концепцию крестьянской общины и общинной собственности. Так, западник Александр Герцен, на чьи идеи ориентировались народники, утверждал, что сельская община – это «полная противоположность знаменитому положению Мальтуса: она предоставляет каждому без исключения место за своим столом»[1127].
Познакомившись с дарвиновской теорией эволюции (первый перевод «Происхождения видов» вышел в 1864 году), русская интеллигенция почти единодушно отвергла содержащиеся в ней мальтузианские идеи. Особенно отрицательно был воспринят агональный момент метафоры борьбы за существование, не получивший отклика ни в политическом, ни в естественно-научном российском дискурсе[1128]. Так, в 1876 году сторонник Годвина Н. Г. Чернышевский писал: «Гадость мальтусианизма ‹…› перешла в учение Дарвина»[1129]. Панславист Н. Я. Данилевский, в труде «Дарвинизм. Критическое исследование» (1885–1889) выразивший влиятельную антидарвинистскую точку зрения, тоже считал перенос утилитаристской соревновательной мысли, характерной для экономической теории Мальтуса, на органический мир наиболее серьезным недостатком эволюционной теории Дарвина[1130].
Примечательно, что большинство российских биологов тоже отвергли идею соревновательной борьбы между организмами как движущей силы эволюции. Дарвиновский образ природы, в которой царят перенаселение и внутривидовая конкуренция, они сочли ошибочным. На этой почве возникают различные альтернативные теории, общим знаменателем которых выступает ослабление роли борьбы за существование как фактора эволюции. Так, ботаник А. Н. Бекетов придерживался неоламаркистской позиции, подчеркивая непосредственное воздействие среды на организмы. Представитель ботанической географии С. И. Коржинский в своей теории гетерогенезиса отстаивал идею скачкообразных мутаций в природе, несовместимых с механизмами борьбы за существование и естественного отбора. Зоолог К. Ф. Кесслер создал теорию «взаимной помощи», согласно которой в центре эволюционной борьбы за существование находится борьба живых организмов с абиотическими факторами, требующая не конкурентной, а кооперативной способности – качества, составляющего истинную «приспособленность» и благоприятствуемого естественным отбором[1131].
Именно теория взаимной помощи, получившая всемирную известность благодаря памфлету П. А. Кропоткина «Взаимная помощь как фактор эволюции» («Mutual Aid. A Factor of Evolution», 1902), ясно показывает герменевтические последствия, вытекающие из метафорической неоднозначности понятия борьбы за существование. Работа Кропоткина стала ответом на статью Т. Г. Гексли «The Struggle for Existence: a Programme» (1888), в котором «бульдог Дарвина» (прозвище Гексли) постулировал неизбежность борьбы за существование в жизни всех живых существ, включая человека: «‹…› до тех пор пока естественный человек беспрепятственно умножает свои силы и численность, поддержание мира и существование промышленности будут не только допускать борьбу за существование, но и требовать, чтобы борьба эта была не менее ожесточенной, нежели в военное время»[1132]. Этой мальтузианской картине мира Кропоткин противопоставляет естественную историю взаимной помощи, осмысляемой как естественный инстинкт, в равной степени свойственный животным и человеку. Не отрицая эволюционного значения борьбы за существование, Кропоткин, однако, понимает ее как борьбу организмов с абиотическими факторами, нередко ведущую к возникновению взаимопомощи:
В животном мире мы убедились, что огромнейшее большинство видов живет сообществами и что в общительности они находят лучшее оружие для борьбы за существование, – понимая, конечно, этот термин в его широком, Дарвиновском смысле: не как борьбу за прямые средства к существованию, но как борьбу против всех естественных условий, неблагоприятных для вида. Виды животных, у которых борьба между особями доведена до самых узких пределов, а практика взаимной помощи достигла наивысшего развития, оказываются неизменно наиболее многочисленными, наиболее процветающими и наиболее приспособленными к дальнейшему прогрессу[1133].
С точки зрения Кропоткина, теория взаимной помощи вносит коррективы в ложную интерпретацию дарвинизма, трактуя борьбу за существование – как и сам Дарвин, которого цитирует Кропоткин, – «в ее широком и переносном (метафорическом) смысле» (large and metaphorical sense[1134]), а не в буквальном. Однако в действительности речь идет об актуализации и радикализации определенного семантического аспекта дарвиновской метафоры, подчеркивающего взаимную зависимость организмов и их кооперацию. Налицо явное распространение дарвиновского метафорического дискурса, так как понятие «взаимная помощь» представляет собой не что иное, как новую метафору, устанавливающую отношения сходства между социальной и биологической сферами и демонстрирующую неоднозначность, напоминающую о полисемии дарвиновской метафоры: взаимная помощь одновременно означает «взаимную защиту» и «общительность» со всеми присущими им коннотациями[1135]. Подобно Дарвину, такой риторической многозначностью Кропоткин компенсирует недостаточную логическую и эмпирическую строгость своей теории, в конечном счете несовместимой с механизмом естественного отбора, поскольку концепция взаимной помощи, в отличие от идеи внутривидовой конкуренции, бессильна объяснить эволюцию телесных признаков организмов[1136].
Предпринятый нами краткий обзор концепции борьбы за существование с точки зрения истории и риторики науки показал, какие разные семантические слои демонстрирует эта метафора у самого Дарвина и в контексте ее восприятия в России. Проникновение дарвинизма в дискурс о вырождении открывает новые возможности интерпретации этого эволюционистского понятия. В психиатрии, сохраняющей первостепенный научный авторитет в вопросах вырождения, концепция борьбы за существование обнаруживает два разных смысла, не поддающихся четкому разграничению и поразному соотносящихся с эволюционной теорией Дарвина.
В рамках первого семантического поля – его можно назвать дарвинистским лишь в самом широком смысле – борьба за существование предстает негативным воплощением современной цивилизации, которое символизирует усиление конкуренции во всех социальных сферах, ведущее к пагубному перевозбуждению и истощению нервной системы и в конце концов к вырождению. Немецкий психиатр и сторонник теории вырождения Р. фон Крафт-Эбинг отмечает такое положение дел в своем научно-популярном сочинении «О здоровых и больных нервах» («Über gesunde und kranke Nerven», 1898), прибегнув к своей обычной риторике культурного пессимизма:
Расовая и сословная вражда, бедствия, лишения и тщеславная погоня за наживой, истощающая лучшие душевные и физические силы ‹…› разорят и погубят огромную часть населения. Борьба за существование – вот смысл современной жизни. Причины этой борьбы кроются в ненормальной жизни, не соответствующей законам природы[1137].
В его же «Учебнике психиатрии» («Lehrbuch der Psychiatrie», 1897) связи между «цивилизацией» и борьбой за существование как источнику вырождения тоже отводится прочное место в ряду «причин, располагающих к помешательству»:
Создавая более утонченные, сложные жизненные условия и потребности, развивающаяся цивилизация обостряет борьбу за существование. В ходе этой борьбы организация мозга становится более изощренной, что делает его более изобретательным, но вместе с тем и более уязвимым. В то же время мозг подвергается действию раздражителей, слишком легко вызывающих перевозбуждение и, следовательно, переутомление, болезнь, вырождение[1138].
Можно привести множество примеров обращения российских психиатров к этой семантической грани понятия «борьба за существование». Так, П. И. Ковалевский в своем научно-популярном памфлете «Вырождение и возрождение» (1899) подчеркивает, что в «наш век», который «по справедливости считается „нервным веком“», «борьба за существование достигла крайнего напряжения» и «нервная система у всех работает до переутомления»[1139], приводя к началу и распространению вырождения. С. С. Корсаков в своем «Курсе психиатрии» (1893) указывает, подобно Крафт-Эбингу, на неспособность «слабого мозга» вести современную борьбу за существование, разворачивающуюся в сфере «интеллектуальной работы» и заметно способствующую возникновению многочисленных «болезней головного мозга»[1140].
О широком распространении в психиатрии конца XIX века указанного смыслового аспекта борьбы за существование не в последнюю очередь свидетельствует книга Э. Крепелина «Психиатрия. Учебник» («Psychiatrie. Ein Lehrbuch»). Хотя этот труд коренным образом изменил психиатрическую науку, в шестом (1899) его издании видное место среди «причин помешательства» занимают «перевороты, которые наша эпоха привнесла в общий уклад жизни»:
Полная перестройка условий труда благодаря пару и электричеству, уничтожение ремесел, развитие фабрично-заводского производства, поднявшееся до невообразимых высот экономическое и духовное сообщение – все это предъявляет к современной личности требования, значительно превышающие привычные. Преобразования эти совершились со столь неслыханной скоростью, что соответствовать им могут, пожалуй, лишь наиболее приспосабливаемые натуры. Мы живем в переходную эпоху, когда борьба за существование принимает, в согласии с законом природы, особенно сильный и напряженный оборот. В этом, полагаю, и состоит главная причина пугающего роста численности тех, кто не справляется с требованиями современной жизни, возросшими слишком быстро, и утрачивает способность к борьбе в условиях мирного состязания. Новое же, подрастающее поколение, которое с самого начала вступает в эту борьбу со свежими силами и в лучшем вооружении, сумеет, соответственно, приноровиться к изменившимся условиям жизни[1141].
В приведенном отрывке, однако, обращает на себя внимание отчетливо дарвинистский стиль, пришедший на смену дискурсу критики цивилизации в духе Крафт-Эбинга и свидетельствующий о втором смысловом слое, свойственном концепции борьбы за существование в психиатрии конца XIX века. Перечисляя все известные аспекты современности, обостряющие борьбу за существование и вызывающие патологии, Крепелин вместе с тем подчеркивает, что «утратившие способность к борьбе» душевнобольные суть наименее «приспосабливаемые натуры», бессильные адаптироваться к современным «изменившимся условиям жизни». Таким образом, «биологическая ненормальность» выродившихся индивидов помещается в контекст дарвинистского естественного отбора. Так, в глазах французских теоретиков вырождения В. Маньяна и П. М. Легрэна психофизические аномалии дегенерата составляют существенную слабость организма и, следовательно, недостаток с точки зрения эволюционной struggle for life[1142].
По мнению Генри Модсли, ведущего представителя теории вырождения в Англии, по этой причине выродившихся людей следует рассматривать как побежденных в борьбе за существование: «Они суть отходы, выброшенные неслышным, однако мощным течением прогресса; они – слабые, сокрушенные сильными в смертельной борьбе за развитие»[1143]. В русской психиатрии тоже происходит смешение этих сменяющих друг друга смыслов, причем и здесь проявляется скептическое отношение к идее борьбы за существование, характерное, как показано выше, для российской рецепции дарвинизма. Так, Ковалевский может и утверждать, что дефективная психофизическая конституция делает дегенерата «побежденным» в борьбе за существование[1144], и ставить под сомнение последствия этой борьбы применительно к естественному отбору, подчеркивая, что в борьбе за существование не бывает «победителей» и «побежденных», а бывают лишь «потерпевшие»:
Борьба за существование усиливается и ожесточается. От этой борьбы страдают как одержавшие победу, так и побежденные. Победители становятся хилыми, неустойчивыми, не могущими существовать без возбудителей – как алкоголь, табак, морфий и проч., – в высокой степени возбудимыми, неуравновешенными и склонными к падению при малейшем напряжении. Их победа стоит им очень дорого и далась за счет их организма. Побежденные являются уже органически дефективными, носящими разные, быть может, физические болезни, как сифилис, алкоголизм, подагру, ревматизм, неврозы – эпилепсию, психозы и проч., – приобретенные в жизненной борьбе за существование. Таким образом, и победители и побежденные являются потерпевшими[1145].
В культурно-пессимистическом прочтении Ковалевского дегенерация и борьба за существование, соединяющиеся и усиливающие друг друга, предстают изнанкой прогресса и эволюции. При этом психиатр предлагает довод, к которому нередко прибегает и современная ему русская эволюционная биология: struggle for existence, если понимать ее исключительно как борьбу организмов за выживание, ведет не к эволюции, а к регрессу. Кропоткин пишет:
‹…› если бы эволюция животного мира была основана исключительно, или даже преимущественно, на переживании наиболее приспособленных в периоды бедствий; если бы естественный подбор был ограничен в своем воздействии периодами исключительной засухи, или внезапных перемен температуры, или наводнений, – то регресс был бы общим правилом в животном мире. Те, которые переживают голод, или суровую эпидемию холеры ‹…› вовсе не являются ни наиболее сильными, ни наиболее здоровыми, ни наиболее разумными. Никакой прогресс не мог бы основаться на подобных переживаниях ‹…›[1146].
У этой второй формы дарвинизации вырождения в европейской психиатрии, однако, есть еще один аспект, который связан с распространением дегенеративных патологий, усиленно постулируемым в 1890‐х годах европейскими учеными, и противоречит отождествлению выродившихся индивидов с биологически неприспособленными, поскольку предполагаемые unfits не просто не гибнут, а буквально завоевывают целые (городские) пространства[1147]. Объяснение этому опять-таки черпается из дарвиновского учения об эволюции. Согласно этой точке зрения, современная цивилизация посредством гигиенических мер и социальной заботы противодействует отбору, снижая эффективность борьбы за существование и способствуя не развитию человечества, а его вырождению. Эта объяснительная модель, сформулированная уже Геккелем в ответ на учение Дарвина и играющая важную роль в теории наследственности Фрэнсиса Гальтона[1148], приводит (прежде всего в странах немецкого языка) к возникновению протоевгенической мысли в рамках так называемой расовой гигиены, воспринятой и в психиатрии[1149] и осмысляемой, по словам Альфреда Плетца, как реакция на «опасности, которыми усиливающаяся защита слабых грозит достоинствам нашей расы»[1150]. Таким образом, в этом понимании современная цивилизация выступает уже не первопричиной обострения борьбы за существование, а «тормозящим механизмом», причем вырождение человека рассматривается как результат ослабления естественного отбора[1151].
В этой полемике участвует и сам Дарвин, в «Происхождении человека» («The Descent of Man», 1871) высказавший взгляды, колеблющиеся между прото– и антиевгеникой[1152]. В главе VII.3 этой книги подробно рассмотрены тезисы Дарвина и показано, как А. П. Чехов в буквальном смысле инсценирует указанную двойственность дарвиновского дискурса в повести «Дуэль» (1891). Психиатрия того времени склонна диагностировать враждебное естественному отбору влияние цивилизации и вытекающее отсюда распространение дегенеративных патологий. Эволюцию европейские психиатры рассматривают как процесс совершенствования, а вырождение – как следствие ослабления естественного отбора; Дарвин же, как известно, считал, что естественный отбор не обязательно является движением вперед, поскольку fitness в первую очередь означает случайное, даже «оппортунистское» приспособление организмов к условиям среды[1153]. С. С. Корсаков формулирует это мнение об ослаблении естественного отбора, широко распространенное в европейской психиатрии, следующим образом:
[В]следствие цивилизации и связанного с ней развития гуманных принципов, значительное количество людей мало приспособленных, неудачников, слабых – не погибают и не сходят с жизненной арены, а остаются жить и могут давать потомство, которое в большинстве случаев носит признаки дегенерации и, следовательно, особенно расположено к душевным заболеваниям[1154].
В контексте психиатрической науки, которая вплоть до начала XX века, т. е. до того момента, когда были заново открыты сформулированные Г. Менделем законы наследственности и заложены основы генетики, оставалась под влиянием ламаркизма (гл. II.1), предлагаемые для борьбы с этим «нарушением эволюционного развития» меры носят лишь протоевгенический характер. С одной стороны, еще не установленные законы наследования не допускают возможности «искусственного отбора» человека; с другой стороны, ввиду отводимой экзогенным факторам важной роли в процессах наследования более осуществимой мерой представлялось воздействие на среду – например, посредством воспитания или социальных реформ. В текстах 1880–1890‐х годов, предшествующих утверждению идей евгеники в российской психиатрии, которое началось, как и в Европе в целом, около 1910 года[1155], обнаруживаются лишь спорадические протоевгенические представления, при определенных обстоятельствах предусматривающие возможность регуляции брачных союзов между душевнобольными посредством некоторых законодательных запретов[1156]. Так, Ковалевский пишет, что «можно требовать», чтобы «лица, расположенные к заболеванию психозами», не вступали в брак с «лицами, подверженными подобным же или нервным страданиям»[1157]. Вместе с тем он уточняет, что наследственность не является единственной причиной вырождения, так как в противном случае можно было бы «почти с математической точностью» предсказать, «что Ивановы должны вымереть, а Петровы забрать верх в обществе, Сидоровы – колебаться между жизнью и смертью». «Вопрос естественного подбора» должен был бы тогда встать так остро, что единственной заботой родителей было бы выбрать дочерям «крепких и сильных мужей», однако подобное положение дел напоминало бы «конюшню или конский завод». К счастью, продолжает Ковалевский, существуют и другие факторы, такие как «воспитание», а также «питание организма», играющие не меньшую роль, чем наследственность[1158].
Как будет показано в двух последующих главах, художественная литература 1890‐х годов тоже не остается в стороне от этого современного ей многогранного дискурса о вырождении дарвинистского толка. При этом можно выделить две разные повествовательные модели, grosso modo соответствующие двум вышеописанным смысловым граням, которые возникают в результате соединения теории вырождения с концепцией борьбы за существование в психиатрическом дискурсе эпохи. Как и в Европе в целом, в России первая модель развивается в рамках литературы натурализма. Роман о вырождении золаистского направления теперь нередко сосредоточивается на социально-экономической борьбе за существование как явлении современности, используя дарвинистские объяснительные модели[1159]. Особое место в этом контексте, к которому принадлежат произведения таких писателей-натуралистов, как П. Д. Боборыкин и И. Н. Потапенко, занимает роман Д. Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб» (1895). Прибегнув к типичному для себя художественному воплощению принципа reductio ad absurdum (гл. III.3), Мамин-Сибиряк отказывает биомедицинскому нарративу борьбы за существование в возможности адекватного постижения капиталистических процессов, хаотичных и управляемых случаем, в хлебородных районах Западной Сибири (гл. VII.2). Протоевгеническая грань дарвинизации вырождения, связанная c идеей ослабления естественного отбора, находит отражение в творчестве А. П. Чехова, который, основываясь на пристальном прочтении «Происхождения человека», инсценирует в повествовании дарвиновскую двойственность и парадоксальность, но вместе с тем и заложенные в книге английского ученого имагинативные возможности (гл. VII.3).
VII.2. Антидегенеративные эксперименты и капиталистическая борьба за существование. Сведение натуралистических нарративов к абсурду в романе Мамина-Сибиряка «Хлеб»
Социальный роман «Золя русской литературы»[1160] Д. Н. Мамина-Сибиряка (гл. III.3 и V) «Хлеб» (1895) явился важнейшим вкладом в натуралистическую трактовку слияния теории вырождения с концепцией борьбы за существование. При этом писатель опирается на антимодернистскую интерпретацию этого соединения, согласно которой, как было показано в главе VII.1, борьба за существование выступает воплощением мощных процессов модернизации, а вырождение – их непосредственным следствием. Тем самым Мамин-Сибиряк вновь вписывает себя в европейскую натуралистическую традицию того времени, в которой борьба за существование играет роль masterplot, лежащего в основе художественного мира in toto.
Особенно широко нарратив о борьбе за существование используется в немецком социальном романе 1880–1890‐х годов для создания «сентиментального» рассказа о социальной модернизации. Если прибегнуть к терминам ранней немецкой социологии (Фердинанд Тённис, Георг Зиммель и др.), соответствующие процессы изображаются как утрата «общности», исконной и органичной, и как дифференциация абстрактно-механических социальных отношений («общества»). Действительность, моделируемая в рамках эпистемологической повествовательной системы натурализма (гл. II.2 и III.1) такими авторами, как Конрад Альберти, Макс Кретцер, Феликс Холлендер, Курт Гроттевиц и Вильгельм фон Поленц, выступает уровнем манифестации фундаментального субстрата, ведущим принципом которого является борьба за существование. С одной стороны, перевод этой глубинной структуры в нарративные категории приводит к формированию антагонистической системы персонажей, включающей два противоположных человеческих типа: людей сильных, наделенных способностью приспосабливаться и выживать, и слабых, обреченных на гибель. С другой стороны, художественное действие следует логике борьбы за существование, принимающей в повествовании форму двух взаимодополняющих, строго заданных с самого начала процессов: победного шествия нового и отмирания старого. Нарратив о борьбе за существование, по сути своей элементарный, сводит общественную модернизацию к единственному главному процессу, механически обусловливающему любые формы развития, прежде всего социально-экономического[1161].
Как и в случае с теориями наследственности и вырождения, художественное освоение писателями-натуралистами концепции борьбы за существование тоже обнаруживает лингвистически-языковую сторону этой «биологической универсалии», конститутивная аналогическая структура которой усиленно подчеркивается путем инверсии двух семантических полей метафоры. Проведенная Дарвином аналогия между законами природной жизни («эволюция») с законами жизни социальной («борьба») в литературе натурализма принимает обратное направление. Предполагаемый естественный закон эволюции теперь проявляется на уровне социальных процессов. Осуществляемая здесь «натурализация» метафоры распространяется и на то семантическое поле, которое первоначально служило ей в качестве improprium.
Русская литература натурализма 1880–1890‐х годов тоже использует эту нарративную форму борьбы за существование для изображения социальных процессов модернизации. Развитие в России капитализма, осмысляемое как дарвинистская struggle for existence, и возникшие в результате этого психопатологии служат предметом ряда натуралистических романов П. Д. Боборыкина, таких как «Китай-город» (1882), «Василий Теркин» (1892), «Перевал» (1894) и «Тяга» (1898)[1162], а также И. Н. Потапенко, например романа «Смертный бой» (1897)[1163]. Специфика подхода Мамина-Сибиряка к указанной тематике в романе «Хлеб», как и в его раннем романе «Приваловские миллионы» (1883; гл. III.3), заключается в «деконструктивистском» обращении с европейской традицией натурализма. С одной стороны, Мамин-Сибиряк придерживается заложенной П. И. Ковалевским традиции психиатрической диагностики (гл. VI.1), изображая вырождение и борьбу за существование как патологические следствия социально-экономических процессов модернизации, в которых не бывает ни победителей, ни побежденных, а лишь «потерпевшие». С другой стороны, писатель идет дальше, чем психиатр, воспринимая свойственный русской культуре критический взгляд на борьбу за существование: прибегнув к своему излюбленному романному приему контрфактуального сведения к абсурду, Мамин-Сибиряк отказывает концепциям вырождения и борьбы за существование в какой бы то ни было эпистемологической действенности и разоблачает их как фиктивные псевдонаучные модели. Чтобы опровергнуть научную ценность обоих представлений, писатель инсценирует особые «экспериментальные условия», в рамках которых истинность натуралистической картины мира с ее биологическими основаниями сначала контрфактически принимается, а затем опровергается как противоречащая дальнейшему развитию действия. Ее «абсурдность», продемонстрированная таким образом, распространяется не только на концепции вырождения и борьбы за существование как нормативные модели интерпретации действительности, но и на саму возможность их художественного воплощения в литературе натурализма.
«Хлеб» – последний из уральских романов Мамина-Сибиряка, к которым также принадлежат «Приваловские миллионы», «Горное гнездо» (1884) и «Золото» (1892)[1164]. В отличие от ранних произведений писателя, повествующих о жизни горнопромышленников, «Хлеб» рассказывает о развитии капитализма в хлебородных районах по реке Исети, носящей в романе название Ключевая. Основная часть действия разворачивается в городе Заполье, прототипом которого, по-видимому, послужил Шадринск[1165]. В центре романа, включающего многочисленные сюжетные линии, из‐за которых повествование приобретает «бесформенность» и «хаотичность»[1166], находится семейство Колобовых: старый Михей Зотыч с тремя сыновьями – чей приезд в Заполье кладет начало экономическим и социальным изменениям. Построенная Колобовыми новая крупчатая мельница на реке Ключевой запускает неудержимый процесс перехода от аграрной, патриархальной культуры к дикому капитализму[1167]. Старшего сына, Галактиона, отец женит на одной из дочерей купца Харитона Артемича Малыгина, чьи остальные зятья тоже принимают активное участие в экономическом преобразовании Заполья. Вскоре Галактион, освободившись из-под отцовской власти, становится правой рукой польского магната Стабровского, помогая тому в осуществлении бесчестных капиталистических замыслов. Кроме того, Стабровский – первый, кто постиг правила нового, незнакомого мелким русским купцам-староверам делового мира, – делает Галактиона членом правления нового «Коммерческого Зауральского банка», который быстро превращается в главную движущую силу новой экономики. Всего за несколько лет уездный городок Заполье претерпевает разительную перемену. На смену неторопливому, надежному ведению дел и хранению хлебных запасов приходит ожесточенная конкуренция, которая приводит к финансируемому в кредит строительству все более крупных (вальцовых) мельниц и винокуренных заводов.
Сначала Галактион выходит (одним из немногих) победителем в этой безжалостной борьбе за существование, разорившей русских купцов старой закалки. На деньги, заработанные на службе у Стабровского, он осуществляет свою мечту – открыть на Ключевой пароходное дело. Даже глубокий спад, который последовал за вызванным спекуляциями внезапным подъемом и – в сочетании с неурожаем – привел к голоду, не омрачает успехов Галактиона. Напротив, ему такое положение вещей приносит выгоду, позволяя ввозить дешевое зерно из Сибири пароходами. Однако в «Хлебе», как и в других социальных романах Мамина-Сибиряка, нет истинных победителей в капиталистической борьбе за существование, а есть лишь побежденные в экономическом процессе, законы которого в конечном счете остаются непостижимыми. Как и другие протагонисты романа, Галактион бессилен против непредсказуемых природных условий, раз за разом препятствующих судоходству, и неуправляемых цепных реакций, ведущих к неудачам. В его делах наступает застой, а надвигающееся банкротство сопровождается усугубляющимся моральным разложением. Хотя самоубийство Галактиона, которым завершается роман, может показаться недостаточно мотивированным в повествовательном отношении (Мамину-Сибиряку в целом недостает умения рассказывать истории до конца), оно согласуется с общей логикой текста, главной темой которого выступает крах человеческих попыток управлять капиталистическими процессами.
Как и в других уральских романах Мамина-Сибиряка, наследственность и вырождение играют в «Хлебе» важную роль, однако уже не в качестве главных структурных составляющих сюжета, как в «Приваловских миллионах» (гл. III.3) и «Горном гнезде», герой которого, последний потомок «выродившейся» семьи владельцев Кукарских заводов Евгений Константинович Лаптев, становится игрушкой в руках людей, плетущих интриги вокруг его капитала[1168]. В связи с (временным) упадком классического романа о вырождении в русской литературе после 1890 года (гл. V) нарратив о вырождении определяет структуру побочной линии романа, главные герои которой – польский магнат Стабровский и его дочь Дидя. Врачи обнаруживают у Диди признаки дурной наследственности уже в детстве:
Один знаменитый психиатр предсказал ему, что в период формирования с девочкой может быть плохо. У нее были задатки к острым нервным страданиям и даже к психической ненормальности. Это было тяжелое наследство от пьянствовавших и распутничавших предков по женской линии[1169].
Тогда обеспокоенный отец, начитанный в вопросах медицины и психиатрии[1170], решается на эксперимент. Он берет к себе Устеньку, дочь богатого купца Луковникова, чтобы та «передала» своей сверстнице Диде «русское» здоровье:
Может быть, присутствие и совместная жизнь с настоящей здоровою девочкой произведут такое действие, какого не в состоянии сейчас предвидеть никакая наука. Ведь передается же зараза, чахотка и другие болезни, – отчего же не может точно так же передаться и здоровье? Стабровский давно хотел взять подругу для дочери, но только не из польской семьи, а именно из русской. Ему показалось, что Устенька – именно та здоровая русская девочка, которая принесет в дом с собой целую атмосферу здоровья[1171].
Как это часто бывает в его романах, Мамин-Сибиряк вновь сводит к абсурду медицинскую концепцию своего времени – теорию психической (ментальной) «заразительности» – в целях разоблачения ее иллюзорного характера. Начиная с 1870‐х годов в России распространяются социально-психологические теории умственной и моральной «заразительности», пришедшие из Франции: folie à deux и contagion morale превращаются в «нравственную заразу» и «психическую заразительность»[1172]. На основе чрезвычайно смутной теории внушения утверждается, будто чувства и мысли, подобно вирусам и бактериям, могут передаваться от человека к человеку и распространяться, принимая форму эпидемии[1173]. Мамин-Сибиряк словно бы доводит концепцию заразительности до абсурда: Стабровский надеется, что передаваться может и здоровье, однако его эксперимент терпит неудачу. Близость к Устеньке не оказывает никакого благотворного воздействия на здоровье Диди, чье развитие обнаруживает типичную для клинической картины вырождения дисгармонию между способностями и психофизическими качествами:
Девочке было уже пятнадцать лет, но она плохо формировалась и рядом с краснощекою и здоровою Устенькой походила на какую-то дальнюю бедную родственницу, которую недокармливают и держат в черном теле вообще. Но зато ум Диди работал гораздо быстрее, чем было желательно, и она была развита не по годам[1174].
Однако все это отнюдь не подтверждает теорию вырождения[1175], с которой в мире Заполья, в отличие от узловского общества в «Приваловских миллионах», знакомы лишь образованные представители высшего общества[1176]. С одной стороны, Стабровский и сам сомневается в онтологическом статусе вырождения, видя в нем лишь результат определенного умонастроения. Обнаружив признаки предполагаемого вырождения и у польского жениха Диди, Стабровский вынужден признать, что виной такой оценке, должно быть, его собственная точка зрения, обусловленная возрастом:
Стабровскому казалось, что в молодом пане те же черты вырождения, какие он со страхом замечал в Диде. Впрочем, в данном случае старик уже не доверял самому себе, – в известном возрасте начинает казаться, что прежде было все лучше, а особенно лучше были прежние люди. Это – дань возрасту, результат собственного истощения[1177].
С другой стороны, несмотря на отсутствие явного выздоровления или улучшения состояния Диди, ее беременность соотносится с кончиной отца таким образом, что становится очевидным преобладание вечного элементарного круговорота жизни и смерти над нарративом о вырождении, означающим нездоровое нарушение этой цикличности. В момент смерти Стабровского читатель узнает о беременности его дочери. Рассказчик комментирует это совпадение «элементарных» событий, напоминающее о романе Льва Толстого «Анна Каренина» (часть 5, гл. XX): «‹…› смерть сменялась новою жизнью»[1178].
Перенос нарратива о наследственности и вырождении в побочную линию «Хлеба» подчеркивает утрату его прежней повествовательно-технической функции и контрастирует с тем структурным потенциалом, который обнаруживает в романе концепция борьбы за существование. Используя стратегию, напоминающую о «Приваловских миллионах» (гл. III.3), в «Хлебе» Мамин-Сибиряк сначала прибегает к вышеописанной натуралистической инсценировке борьбы за существование, а затем сводит ее к абсурду, демонстрируя тем самым противоречивость подобной картины мира. Ложная посылка этого художественного воплощения приема reductio ad absurdum заключается в том, что текст сначала кажется построенным на основе элементарного нарратива о социальных взлетах и падениях, управляемых незыблемым законом природы. Подобно теории вырождения в «Приваловских миллионах», концепция борьбы за существование выступает научной моделью интерпретации мира, выполняющей в художественном мире «Хлеба» (иллюзорную) функцию предвосхищения и моделирования действительности. Нарратив этот позволяет рассказчику и персонажам не только толковать происходящее, но и предсказывать дальнейший ход событий. Внезапное вторжение капитализма в Заполье и прилегающие районы интерпретируется как борьба между сильнейшими (новыми капиталистами) и слабейшими (старыми купцами), причем победа первых, воспринимаемая как логическое следствие закона природы, не подлежит никакому сомнению. Один из носителей биологического знания в художественном мире романа, доктор Кочетов, выступает популяризатором теории борьбы за существование, объясняя невежественным Галактиону и Устеньке, что изменения в деловой жизни Заполья следует объяснять в соответствии с этой схемой:
– Слопаете все отечество, а благодарных потомков пустите по миру… И на это есть закон, и, может быть, самый страшный: борьба за существование. Оберете вы все Зауралье, ваше степенство. ‹…› С одной стороны, хозяйничает шайка купцов, наживших капиталы всякими неправдами, а с другой стороны, будет зорить этих толстосумов шайка хищных дельцов. Все это в порядке вещей и по-ученому называется борьбой за существование…[1179]
Немаловажной чертой нарративного оформления, которое получает в «Хлебе» ложная посылка аргумента reductio ad absurdum, является наличие явных параллелей между романом Мамина-Сибиряка и похожими изображениями борьбы за существование в литературе натурализма. Невзирая на все культурно-исторические различия, «Хлеб» чрезвычайно близок к социальным романам 1890‐х годов, например к творчеству Вильгельма фон Поленца (в частности, к роману «Крестьянин» [ «Der Büttnerbauer»], 1895), изображающему упадок патриархально-общинного помещичьего хозяйства в Заэльбье как борьбу за существование с крупными промышленными предприятиями[1180]. Инсценировка уже знакомого художественного мира усиливает первоначальное впечатление, что в «Хлебе» концепция борьбы за существование тоже обладает функцией моделирования действительности.
Возникновение в контрфактуальной аргументации текста следствий, противоречащих исходной посылке, объясняется отсутствием механической причинности, обычно характерной для понятия борьбы за существование в литературе натурализма и позволяющей перейти от уровня обоснования к уровню проявления без «потерь на трение». По мере развития действия все чаще встречаются события, противоречащие известной логике борьбы за существование. Эпистемологические основы действительности обнаруживают свою хаотичность и неукротимость, не укладываясь в каузально-механическую структуру. Поэтому такие социальные процессы, как наступление капитализма, предстают процессами естественными. Персонажи «Хлеба» воспринимают борьбу за существование в качестве модели, позволяющей интерпретировать стремительно меняющуюся жизнь, и модель эта разоблачается как ошибочная семиотизация мира, который сам по себе лишен смысла.
Мамин-Сибиряк подрывает царящую в художественном мире веру в эпистемологическую действенность борьбы за существование, сталкивая такую точку зрения с необоримостью социально-экономических процессов, не поддающихся интерпретации при помощи какой бы то ни было научной модели. Неуправляемость капиталистических процессов наглядно показывается путем аналогического отождествления социальных и природных сил. Текст изобилует метафорами экономических процессов, которые касаются влияния капитализма и выступающего его «синекдохой» нового запольского банка, излучающего «магическую силу» и «гнетущую власть»:
Открытый в Заполье банк действительно сразу оживил все, точно хлынула какая-то магическая сила. Запольское купечество заволновалось, придумывая новые «способа» и «средствия». ‹…› И везде почувствовалась гнетущая власть навалившейся новой силы[1181].
Новый капиталистический строй предстает действием неукротимой природной силы: «Надвигалась какая-то страшная сила, которая ломала на своем пути все, как прорвавшая плотину вода»[1182]. В этой новой социально-экономической системе человеку отводится лишь роль «цифры», а деньги и капитал начинают жить своей жизнью, разворачивая собственную динамику, жертвой которой рано или поздно становится каждый:
Это была целая система, безжалостная и последовательная. Люди являлись только в роли каких-то живых цифр. ‹…› В общем банк походил на громадную паутину, в которой безвозвратно запутывались торговые мухи. Конечно, первыми жертвами делались самые маленькие мушки, погибавшие без сопротивления. Охватившая весь край хлебная горячка сказывалась в целом ряде таких жертв, другие стояли уже на очереди, а третьи готовились к неизбежному концу. ‹…› Нарастающий капитализм является своего рода громадным маховым колесом, приводящим в движение миллионы валов, шестерен и приводов. Да, деньги давали власть, в чем Заполье начало убеждаться все больше и больше, именно деньги в организованном виде, как своего рода армия. Прежде были просто толстосумы, влияние которых не переходило границ тесного кружка своих однокашников, приказчиков и покупателей, а теперь капитал, пройдя через банковское горнило, складывался уже в какую-то стихийную силу, давившую все на своем пути[1183].
В конечном счете человека порабощают капитал и природа – иными словами, силы, которыми, как ему казалось, управляет он сам[1184]. Сначала кажется, что иностранные спекулянты: поляк Стабровский, немец Штофф и еврей Ечкин, – составляют часть этой стихийной экономической силы. Все они внезапно, откуда ни возьмись появляются в Заполье в самом начале процессов преобразования и вводят новую деловую философию: «Если запольские купцы не знали, что им нужно, то отлично это знали люди посторонние, которые всё набивались в город. Кто они такие, откуда, чего домогаются – никто не знал»[1185].
Именно на эти «иностранные новшества» ориентируется Галактион, первым из русских предпринимателей осуществляя переход от русского купца старого типа к крупному капиталисту. Однако сюжет романа показывает, что в капиталистической борьбе за существование не может быть настоящих победителей, а бывают лишь проигравшие в экономическом процессе, законы которого, в сущности, непостижимы. Крупные капиталисты – натуры якобы сильные – обречены на гибель точно так же, как и «мухи» – мелкие торговцы. Галактион, Луковников и Стабровский теряют контроль над ходом собственных дел, которые зависят исключительно от удачи или невезения. Достаточно одного неверного решения или несчастного случая, чтобы запустить цепную реакцию, способную в кратчайшие сроки разрушить дело целой жизни:
Одним словом, шла самая отчаянная игра, и крупные мельники резались не на живот, а на смерть. Две-три неудачных операции разоряли в лоск, и миллионные состояния лопались, как мыльные пузыри. ‹…› Результатом этой сцены был второй, уже настоящий удар, уложивший Стабровского на три месяца в постель. У него отнялась вся правая половина, скосило лицо и долго не действовал язык. Именно в таком беспомощном состоянии его и застала голодная зима. И было достаточно трех месяцев, чтобы все, что подготовлялось целою жизнью, разом нарушилось[1186].
Как и в «Приваловских миллионах», для подтверждения этого семантического сюжетного пласта в «Хлебе» Мамин-Сибиряк тоже использует прием сценического mise en abyme. На борту принадлежащего Галактиону парохода немец Карл Штофф произносит своего рода похвальное слово банку и тем, кто, подобно Галактиону, способен управлять его силами. Оратор сравнивает банк с пароходом, использующим силу пара (метафора денег) в своих интересах. Однако панегирик прерывается пожарной тревогой:
– Я сравнил бы наш банк с громадною паровою машиной, причем роль пара заменяет капитал, а вот этот пароход, на котором мы сейчас плывем, – это только один из приводов, который подчиняется главному двигателю… Гений заключается только в том, чтобы воспользоваться уже готовою силой, а поэтому я предлагаю тост за…
Штоффу сегодня было суждено не кончить. В самый интересный момент, когда уже стаканы были подняты, с капитанского мостика раздался голос штурмана:
– Галактион Михеич, пожар![1187]
Речь Штоффа заново разворачивает главную метафору текста – аналогию между общественными и естественными силами с точки зрения их управляемости. Однако в момент риторической кульминации заявляет о себе «реальная» власть природы, принимая форму пожара, который выжжет Заполье дотла. Словно вырвавшись из «дискурсивного корсета», неукротимая сила природы во всей своей материальности сметает возведенные человеком риторические построения.
В конце концов персонажи «Хлеба» остаются перед лицом чисто случайного характера событий, не поддающихся ни интерпретации, ни контролю. Единственное действующее лицо романа, не затронутое крахом (нарративных) моделей, – еврей Ечкин. Хотя Ечкин выступает одним из важнейших деятелей капиталистического процесса, сам он капитала не скапливает. Никогда не имея средств, зато всегда пребывая в превосходном расположении духа, он мчится с места на место в постоянных поисках новых дел, занимаясь ими исключительно ради них самих.
– Вот все вы так: помаленьку да помаленьку, а я этого терпеть не могу. У меня, батенька, целая куча новых проектов. ‹…› Стеариновый завод будем строить. ‹…› Потом вальцовую мельницу… да. Потом стеклянный завод, кожевенный, бумагу будем делать. По пути я откупил два соляных озера. – Ечкин не утерпел и выскочил из своего щегольского зимнего экипажа. Он так и сиял здоровьем. ‹…›
Для него [Галактиона] Ечкин являлся неразрешимою загадкой. Чем человек живет, а всегда весел, доволен и полон новых замыслов[1188].
Неугомонный, подвижный Ечкин, легко приспосабливающийся к новым условиям и воспринимающий деловые проекты как взаимозаменяемые, воплощает собой новую капиталистическую систему, в которой постоянный денежный круговорот, оторванный от конкретного товарного производства, становится самоцелью. Недаром именно Ечкин формулирует истинный «закон» нового мира, далекий от детерминизма борьбы за существование и свидетельствующий о власти случая: «Сто неудач – одна удача, и в этом заключается вся высшая математика»[1189].
Устанавливая, что преобладающим фактором современных социально-экономических процессов выступает простая случайность, Мамин-Сибиряк обнажает фундаментальное противоречие между подобным положением дел и детерминизмом натуралистической концепции борьбы за существование. Таким образом, контрфактически принятый исходный тезис о борьбе за существование как руководящем принципе жизни оказывается несостоятельным. Художественное сведение к абсурду затрагивает не только биологическую концепцию как таковую, но и ее классическую натуралистическую инсценировку, которая в «Хлебе», как показано, буквально расползается по швам. От всей натуралистической доказательности у Мамина-Сибиряка остается лишь ее истинная суть: чистый вымысел.
VII.3. Поединок аргументов. Инсценировка дарвиновской двойственности в «Дуэли» Чехова
В контексте литературного дарвинизма конца XIX века дарвинизация дискурса о вырождении в своем протоевгеническом изводе, подразумевающем ослабление естественного отбора (гл. VII.1), играет меньшую роль, нежели характерная для натурализма повествовательная модель социально-экономической борьбы за существование, рассмотренная в предшествующей главе (VII.2). Так, осмысление дарвиновских положений о половом отборе в заметно повлиявшей на британский дарвинистский дискурс английской литературе (в частности, у Джордж Элиот и Томаса Харди) поначалу затрагивает вопросы евгеники лишь поверхностно[1190]; в полную силу «евгенические видения» развернутся в английской литературе уже после 1900 года[1191].
Похожая ситуация наблюдается и в русской литературе того периода[1192], однако есть одно яркое исключение – повесть А. П. Чехова «Дуэль» (1891), в которой, как будет показано в дальнейшем, осуществляется необычная художественная инсценировка протоевгенического варианта рассматриваемого дискурса. Вырождение, борьба за существование и евгеника составляют здесь структурные элементы повествования, которые обнаруживают тесную интертекстуальную связь с «Происхождением человека» («The Descent of Man», 1871) Ч. Дарвина. Аргументация английского ученого со всеми присущими ей двойственными и парадоксальными моментами, рассматриваемыми ниже, но также и со всеми своими имагинативно-изобразительными возможностями инсценируется в «Дуэли» таким образом, что художественный мир повести предстает сложным палимпсестом, соединяющим в себе дарвинистскую основу с другими литературными контекстами.
«Читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю»[1193], – пишет Чехов в письме к В. В. Билибину в 1886 году. Эти слова свидетельствуют о рано проявившемся живом интересе к британскому биологу, который русский писатель сохранит на всю жизнь. Учение Дарвина о происхождении человека играло для Чехова важную роль уже в годы изучения медицины, не в последнюю очередь в характерном для того времени сочетании с теорией вырождения – главной составляющей невропатологии и психиатрии, которые Чехову преподавали А. Я. Кожевников и С. С. Корсаков[1194]. В студенческие годы писатель даже задумывался о диссертации на тему «История полового авторитета»[1195], собираясь рассмотреть в ней вопросы межполовых отношений в природе с точки зрения теории эволюции. Рабочая гипотеза заключалась в том, что природа склонна преодолевать неравенство, существующее между мужскими и женскими организмами[1196].
Как пишет Майкл Финк, в 1880‐х годах чеховские представления об эволюции испытывают все более сильное влияние идеи вырождения вообще и соответствующей психиатрической теории в частности, через призму которых писатель также рассматривает и интерпретирует собственную семейную наследственность[1197]. В 1890 году Чехов совершил путешествие на сахалинскую каторгу, к дальневосточным рубежам Российской империи. В книге «Остров Сахалин» (1893–1894), явившейся «социально-медицинским» отчетом об этой экспедиции, содержатся мысли о росте народонаселения, которые свидетельствуют о влиянии мальтузианских и дарвинистских взглядов на отношения между человеком и природой. Так, в высоком уровне рождаемости на Сахалине Чехов усматривает «‹…› средство, какое природа дает населению для борьбы с вредными, разрушительными влияниями и прежде всего с такими врагами естественного порядка, как малочисленность населения и недостаток женщин». Писатель отмечает, что в некоторых сахалинских семьях «‹…› вместе с психическим вырождением наблюдается также усиленная рождаемость», подчеркивая случайный характер непрекращающейся борьбы за существование и ее связь с психическим вырождением[1198].
Работа над книгой «Остров Сахалин» началась в 1891 году, непосредственно по возвращении Чехова из путешествия, и завершилась в 1894‐м. В те же годы написаны повести и рассказы, в наибольшей степени проникнутые идеями эволюции и вырождения. Наряду с «Дуэлью» (1891) к этой группе произведений принадлежат «Палата № 6» (1892), «Черный монах» (1893), «Три года» (1895) и «Ариадна» (1895)[1199]. Работу над «Дуэлью» Чехов закончил в августе 1891 года, отдыхая в имении Богимово. Его соседом был зоолог В. А. Вагнер, основоположник российской зоопсихологии[1200], с которым писатель вел оживленные споры о Дарвине, эволюции и вырождении. Младший брат Чехова Михаил, лето 1891 года тоже проведший в Богимове, вспоминает о долгих вечерних дебатах «‹…› на темы о модном тогда вырождении, о праве сильного, о подборе и так далее ‹…›», отмечая при этом, что Вагнер придерживался детерминистской точки зрения о необратимости вырождения, а брат подчеркивал важность «воли и воспитания» для преодоления дегенеративных патологий[1201]. Некритически восприняв утверждение Михаила Чехова, что «социал-дарвинистские» воззрения Вагнера легли в «основу философии»[1202] зоолога фон Корена в «Дуэли», часть исследователей интерпретировали повесть как дискредитацию или опровержение вульгарного социал-дарвинизма[1203]. Однако чеховское отношение к дарвинизму отнюдь не отличается однозначностью и не может быть сведено к вопросу детерминизма/индетерминизма. Так, эволюционистские рассуждения о «целесообразности» survival of the fittest в природе, высказанные писателем в 1892 году в письме к А. С. Суворину, носят детерминистско-телеологический характер:
В средней России у лошадей инфлуэнца. Дохнут. Если верить в целесообразность всего происходящего в природе, то, очевидно, природа напрягла силы, чтобы избавиться от худосочных и ненужных ей организмов. Голодовки, холера, инфлуэнца… Останутся одни только здоровые и крепкие. А не верить в целесообразность нельзя[1204].
Таким образом, вышеуказанную интерпретацию повести «Дуэль», основанную на отдельных внелитературных суждениях Чехова о дарвинизме, можно легко опровергнуть при помощи других его высказываний. «Дуэль» – это не просто художественный пересказ частного вечернего диспута о детерминизме и вырождении. Повесть не является ни тезисной иллюстрацией определенных идей, ни их опровержением – что, впрочем, вообще было бы нетипично для чеховского творчества. «Дуэль» скорее представляет собой многослойный текст с высокой долей цитат. Наряду с многочисленными отсылками к литературной традиции, в частности к творчеству Лермонтова, Пушкина, Тургенева, Лескова и Толстого[1205], повесть содержит отчетливые, однако до сих пор не получившие должного внимания интертекстуальные сигналы, отсылающие не просто к теории вырождения и дарвинизму вообще, а к конкретному произведению – «Происхождению человека» («The Descent of Man», 1871) Ч. Дарвина, точнее, к двойственной дарвиновской аргументации, касающейся протоевгенических идей того времени и отрицательного влияния цивилизации на естественный отбор[1206].
Сначала я рассмотрю неоднозначную дарвиновскую аргументацию по поводу взаимосвязи эволюции и цивилизации, а затем поясню, каким образом Чехов инсценирует эту аргументацию в «Дуэли» при помощи интертекстуальных отсылок к Дарвину, переплетающихся с русской литературной традицией XIX века, особенно с романтической литературой о дуэлях и «Крейцеровой сонатой» Л. Н. Толстого. Как будет показано, Чехов инсценирует аргументацию Дарвина на разных текстуальных уровнях, добиваясь тотальной дарвинизации художественного мира. Апории дарвиновской неоднозначной риторики, искусно сталкиваемые друг с другом на протяжении действия (высшим выражением этого становится поединок протагонистов), писатель развеивает в конце повести.
Дарвин подробно высказался на указанные темы в главе «Влияние естественного отбора на цивилизованные народы» книги «Происхождение человека», ссылаясь на работы своего двоюродного брата Ф. Гальтона[1207], а также А. Р. Уоллеса и У. Г. Грега[1208]. Поводом для написания этой главы Дарвину послужила прежде всего статья последнего «О нарушении „естественного отбора“ применительно к человеку» («On the Failure of „Natural Selection“ in the Case of Man», 1868), вызвавшая в Англии оживленную дискуссию[1209]. Статья Грега явилась ответом на утверждение Уоллеса, что в случае человеческого вида естественный отбор, претерпев изменения, распространяется уже не на физические, а лишь на умственные и моральные качества, а также не на отдельных индивидов, а на целые группы. Поэтому стоящий на более высокой ступени интеллектуального и нравственного развития европеец, продолжает Уоллес, имеет преимущество в эволюционной борьбе за существование, тогда как «дикарь» (savage man) обречен на «неизбежное» вымирание[1210]. На это Грег возражает, что в условиях цивилизации естественный отбор не просто видоизменился, а вообще утратил силу и даже стал действовать в обратном направлении. Конечно, защита жизни явилась важным достижением цивилизованного человечества, однако сделала возможным выживание индивидов, которые в «естественных» жизненных условиях погибли бы[1211]. Эта тенденция к «нейтрализации» естественного отбора, приведшая к появлению «цивилизованного человека» (civilised man), «сдерживает и подвергает опасности» саму цивилизацию[1212].
В вышеупомянутой главе «Происхождения человека» Дарвин высказывает свое мнение об этой потенциальной цивилизационной изнанке эволюции, внушающей тревогу его ученым собратьям. При этом типичная для него амбивалентная аргументация[1213], из которой, кроме того, не всегда бывает понятно, пересказывает ли автор чужие идеи или же разделяет их[1214], породила различные толкования. Конечно, Дарвин не сомневается, что борьба за существование и естественный отбор как фундаментальные эволюционные механизмы слишком сильны для того, чтобы цивилизация могла полностью отменить их действие. Так, в главе «Общий обзор и заключение» в мальтузианском ключе говорится:
Человек, подобно всякому другому животному, несомненно поднялся до своего настоящего высокого уровня путем борьбы за существование, проистекающей из его быстрого размножения, и если ему суждено подвигаться, то можно опасаться, что ему придется оставаться под влиянием жестокой борьбы. Иначе он быстро впадет в бездействие, и наиболее одаренные люди не получат большего успеха в битве жизни, чем менее одаренные. Отсюда естественная быстрота, с которой человек размножается, несмотря на то, что она ведет к большому и очевидному злу, не должна быть значительно уменьшаема какими бы то ни было способами. Должно существовать свободное соревнование для всех людей, и закон и обычаи не должны мешать наиболее способным иметь решительный успех и выращивать наибольшее число потомков[1215].
Однако естественный отбор и борьба за существование у «цивилизованных людей» проявляются иначе, нежели у «дикарей»:
У дикарей слабые телом или умом скоро погибают и переживающие обыкновенно одарены крепким здоровьем. Мы, цивилизованные люди, стараемся по возможности задержать этот процесс вымирания; мы строим приюты для слабоумных, калек и больных; мы издаем законы для бедных, и наши врачи употребляют все усилия, чтобы продлить жизнь каждого до последней возможности. ‹…› Таким образом, слабые члены цивилизованного общества распространяют свой род. Ни один человек, знакомый с законами разведения домашних животных, не будет иметь ни малейшего сомнения в том, что это обстоятельство крайне неблагоприятно для человеческой расы. Нас поражает, до какой степени быстро недостаток ухода или неправильный уход ведет к вырождению домашней породы, и за исключением случаев, касающихся самого человека, едва ли найдется кто-либо настолько невежественный, чтобы позволить размножаться принадлежащим ему худшим животным[1216].
На первый взгляд может показаться, что проведение аналогии между естественным и искусственным отбором – носящее скорее риторический характер, чем логический, и выступающее ядром дарвиновской аргументации уже в «Происхождении видов»[1217] – говорит в пользу поставленного Грегом и Гальтоном протоевгенического диагноза, тем более что использование понятия «вырождение» (degeneration; примечательно, что в «Происхождении человека» оно употребляется лишь однажды) вызывает ассоциации с психиатрическим дискурсом эпохи. Однако в дальнейших параграфах – т. е. без подготовки, непосредственно, но вместе с тем в продолжение основной мысли главы 4 («Нравственное чувство»), – Дарвин называет поддержку, оказываемую слабым, инстинктивной моральной заповедью «цивилизованного человека», «случайным» образом (incidental, в соответствии с той важной ролью, которую Дарвин отводит случайности) сформировавшейся в процессе эволюции из первобытного инстинкта «участия» или «сочувствия» (sympathy):
Помощь, которую мы склонны оказывать слабым, представляется главным образом привходящим результатом инстинкта участия, приобретенного первоначально как составная часть общественных инстинктов и сделавшегося впоследствии описанным выше образом более нежным и широким. Отказывать в сочувствии, даже по голосу рассудка, нельзя без унижения благороднейших свойств нашей природы. Хирург может заглушать в себе сострадание во время операции, сознавая, что действует для пользы больного, но если бы мы намеренно оставляли без внимания слабых и беспомощных, то делали бы это лишь в виду могущего произойти отсюда добра в будущем, купленного ценой большого и верного зла в настоящем. Стало быть, мы должны переносить безропотно несомненно вредные последствия переживания и размножения слабых[1218].
С одной стороны, Дарвин определяет нравственное чувство и идею гуманности как эволюционный императив, ради которого следует «переносить» (bear) отрицательные последствия выживания слабых[1219]. С другой стороны, однако, несколькими абзацами ниже сказано, что «важное препятствие» (important obstacle) совершенствованию цивилизованных стран заключается в том обстоятельстве, что «бедные и беспечные» (poor and reckless), обыкновенно «зараженные пороками» (degraded by vice), рано вступают в брак и потому оставляют больше потомков, нежели «расчетливые и умеренные» (careful and frugal) – как правило, «добродетельные» (virtuous). По мнению ученого, подобное положение дел ведет к опасным последствиям: «‹…› беспечные, безнравственные и часто порочные члены общества размножаются быстрее, чем осмотрительные и вообще добродетельные члены его»[1220]. Здесь Дарвин вновь ссылается на Грега, перенимая его «протоевгеническую»[1221] аргументацию, неявным образом выражающую идеи расовой гигиены, и дословно цитирует пассаж, дискриминирующий ирландцев как этническую общность:
Или, по выражению м-ра Грега: «Беззаботные, ленивые, не предприимчивые, не стремящиеся ни к чему ирландцы размножаются, как кролики, тогда как воздержанные, осмотрительные, уважающие себя, честолюбивые шотландцы, которые строго нравственны, религиозны и обладают здоровым и дисциплинированным умом, проводят лучшие годы в борьбе и безбрачии, женятся поздно и оставляют после себя мало детей. ‹…› В вечной борьбе за существование численный перевес будет на стороне низшей и менее одаренной расы, и преобладание это будет обусловлено не добродетелями и хорошими качествами, а, напротив, недостатками»[1222].
Впрочем, Дарвин сразу же показывает относительность этих доводов, отмечая присущий цивилизации «самоочистительный потенциал», не позволяющий unfits одержать победу в борьбе за существование, в частности в силу того факта, что «невоздержанные» (intemperate) «подвержены огромной смертности» (suffer from a high rate of mortality)[1223]. При этом ученый опирается на уже сформулированный в той же главе тезис, что цивилизованные народы располагают механизмами регуляции для устранения моральных, социальных и психических отклонений[1224]. Однако посредством нового, типичного для аргументации всей главы поворота автор вместе с тем выражает опасение, что эти механизмы саморегуляции могут дать сбой:
Если разнообразные влияния, перечисленные в двух предыдущих параграфах, и, может быть, еще другие, неизвестные до сих пор, не в силах будут удержать численного перевеса беспечных, порочных и вообще худших членов общества над лучшим классом людей, то нация, очевидно, начнет регрессировать, как и случалось столько раз в истории мира. Мы должны помнить, что прогресс не представляет неизменного закона[1225].
В контексте эволюционной теории Дарвина, в основе которой лежит случайность, эти опасения относительно возможного регресса цивилизаций, вызванного господством «худших» (inferior), однако более приспособленных и, следовательно, быстрее размножающихся «членов общества», выглядят оправданными. По-видимому, эта тревожная мысль сопровождала Дарвина до конца жизни, заставляя сомневаться в действенности естественного отбора применительно к человеку; А. Р. Уоллес пишет:
В одной из наших недавних бесед Дарвин чрезвычайно мрачно высказывался о будущем человечества, так как в условиях современной цивилизации естественный отбор не действует и наиболее приспособленные не выживают. Те, кто преуспевает в погоне за благосостоянием, вовсе не являются ни лучшими, ни умнейшими; всем известен прискорбный факт, что с каждым новым поколением численность народонаселения обильнее всего пополняется из рядов низших, а не средних и высших классов[1226].
Неудивительно поэтому, что в конце «Происхождения человека» Дарвин высказывается за меры негативной евгеники, предусматривающие запрет на вступление в брак для физически, умственно и морально «неполноценных» лиц и явно идущие дальше, чем позитивная евгеника его кузена Гальтона. Впрочем, применение этих мер Дарвин считает делом будущего, когда законы наследственности будут досконально изучены:
Человек изучает с величайшей заботливостью свойства и родословные своих лошадей, рогатого скота и собак, прежде чем соединить их в пары; но когда дело касается его собственного брака, он редко или никогда не выказывает подобной осмотрительности. ‹…› Оба пола должны были бы воздерживаться от брака, если они в какой-либо резкой степени страдают физическими или умственными недостатками. Но подобные желания относятся к области утопий и никогда не будут даже отчасти осуществлены в действительности до тех пор, пока законы наследственности не сделаются вполне известными. Всякий, кто способствует достижению этой цели, оказывает большую пользу [человечеству]. Когда законы размножения и наследственности будут лучше поняты, мы не услышим более, как невежественные члены наших законодательных органов будут отвергать с негодованием план, предложенный для исследования, вредны или нет для человеческого рода близкородственные браки[1227].
Впрочем, повторная аналогия с искусственным отбором в животноводстве, которая красной нитью проходит через аргументацию учения Дарвина, подготовила почву для более радикальных решений в русле негативной евгеники, стремившейся воспрепятствовать направленным против естественного отбора тенденциям современной цивилизации. Подобные начинания нередко освящались авторитетом «Происхождения человека», на которое, в частности, ссылаются в своих книгах сыновья Дарвина, ставшие деятельными участниками английского евгенического движения. Джордж Говард Дарвин уже в 1873 году пропагандировал отрицательную евгенику[1228], а Леонард Дарвин, в 1910–1920‐х годах занимавший пост председателя британского Eugenics Society, был влиятельным выразителем соответствующих идей[1229].
Указанная двойственность дарвиновской аргументации, колебания ученого между нравственным законом, который повелевает поддерживать слабых, с одной стороны, и предвосхитившими евгенику идеями – с другой, между подчеркиванием власти естественного и полового отбора во всем животном мире и опасениями относительно вырождения человека из‐за враждебной отбору цивилизации лежат – таков мой тезис – в основе художественного мира «Дуэли»[1230]. Всю повесть можно описать как инсценировку рассмотренной нами амбивалентной аргументации, как художественное воплощение дарвиновских приемов во всей их противоречивости. На первом уровне инсценировка эта состоит в обмене аргументами между персонажами, играющем в повести важнейшую роль[1231]. Дарвинистский аспект такого постоянного столкновения противоположных мнений, которое, в отличие от ситуации, характерной для классического русского реализма, не направляется рассказчиком и носит в высшей степени ситуативный характер[1232], проявляется не только в словесных поединках фон Корена и Лаевского, ставших в конце концов настоящими дуэлянтами. В этом контексте не менее важную роль играет персонаж, до сих пор не получивший должного внимания литературоведов, – врач Самойленко. Чехов словно бы разбивает противоречивую аргументацию Дарвина на части, отрывая ее составляющие друг от друга и распределяя отдельные линии аргументации между разными персонажами: Лаевский, который носит маску вырождающегося декадента[1233], служит предметом жарких споров фон Корена и Самойленко, выступающих с позиций евгеники и «участия» соответственно. Таким образом, разноголосица дарвиновской аргументации воплощается на уровне персонажей и актуализируется через их взаимодействие. Чеховское увлечение Дарвином касалось прежде всего используемых ученым приемов, под которыми подразумеваются как научные «методы», так и риторические приемы[1234].
Действие повести, демонстрирующей романную структуру in nuce[1235], разворачивается в безымянном северокавказском городке на берегу Черного моря. В этом вымышленном мире, изображенном как пародийный отголосок кавказского мифа в русском романтизме в сочетании с чертами сахалинской безвыходности и безысходности[1236], действуют два враждующих между собой молодых человека. Оба они – чиновник Иван Андреевич Лаевский и зоолог Николай Васильевич фон Корен – рассматривают и оценивают самих себя и окружающих в категориях медицины и теории эволюции. Их ожесточенная вражда движет действие повести, кульминацией которого – в соответствии с литературным кавказским ландшафтом, прежде всего с романом М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1838–1840)[1237], – становится гротескно-драматическая сцена дуэли.
На момент начала повествования Лаевский, бежавший на Кавказ из Петербурга вместе с замужней любовницей Надеждой Федоровной, строит планы побега на север. Погрязнув в долгах, устав от жизни и службы в маленьком городке, пресытившись любовницей, в своем положении он видит только «ложь» и «обман». Многочисленные, чрезвычайно прозрачные отсылки к типичной для персонажей Льва Толстого «внутренней работе» проявляются как на уровне гетеродиегетического рассказчика, так и персонажа[1238]. Структурные параллели с «Анной Карениной» (1878) и прежде всего с «Крейцеровой сонатой» (1890)[1239] подкрепляются высказываниями Лаевского, проявляющего себя внимательным читателем Толстого[1240].
В рассматриваемом контексте решающую роль играет то обстоятельство, что самохарактеристика Лаевского во многом основана на литературном дискурсе о вырождении. В открывающем повесть разговоре с приятелем, военным врачом Самойленко, в павильоне после утреннего купания Лаевский называет себя «лишним человеком», который «‹…› должен обобщать каждый свой поступок ‹…› должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся» и что «‹…› мы искалечены цивилизацией»[1241]. На Кавказе, где «‹…› нужна борьба не на жизнь, а на смерть», ему, «жалкому неврастенику»[1242], не место. Свой истерический припадок, поставивший его в неловкое положение на празднике по случаю дня рождения, собравшем dramatis personae повести в полном составе, Лаевский оправдывает так: «В наш нервный век мы рабы своих нервов; они наши хозяева и делают с нами что хотят. Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежью услугу…»[1243]
Противник Лаевского, зоолог фон Корен, с удовлетворением цитирует эту явно ироническую автохарактеристику, которую, однако, считает проявлением «необыкновенной лживости»:
– Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства, – продолжал он, обращаясь к дьякону. – Мы в одно время приехали сюда. ‹…› На первых же порах он поразил меня своею необыкновенною лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так мало культурен и мало знает, – и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек!», или: «Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества?», или: «Мы вырождаемся…» Или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека! Причина крайней распущенности и безобразия, видите-ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. И притом – ловкая штука! – распутен, лжив и гадок не он один, а мы… «мы люди восьмидесятых годов», «мы вялое, нервное отродье крепостного права», «нас искалечила цивилизация»… Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он – роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее[1244].
Не ограничиваясь саркастической «деконструкцией» самоописания своего врага, фон Корен предлагает альтернативную интерпретацию его личности, превращающую «лишнего человека», литературного декадента в дегенерата в научно-медицинском смысле. В глазах фон Корена Лаевский – «развращенный и извращенный субъект», который «телом ‹…› вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи ‹…›»[1245].
«Дегенеративная личность» Лаевского становится предметом диспута между зоологом фон Кореном и военным врачом Александром Давидычем Самойленко. Их спор определяет сюжетную структуру повести и выступает первой инсценировкой указанной двойственности дарвиновской аргументации. Введя двух персонажей, Лаевского и Самойленко, в сценах утреннего купания и последующей беседы за завтраком из первой главы, а во второй изобразив домашний быт Лаевского и его безрадостные будни в обществе Надежды Федоровны, в третьей и четвертой главах рассказчик вновь меняет место действия и вводит новых персонажей, зоолога фон Корена и дьякона Победова, обедающих за табльдотом у Самойленко. Фон Корен, внешне напоминающий А. С. Пушкина[1246] и, подобно пушкинскому Сильвио из повести «Выстрел» (1830), в ожидании блюд берущий в руки пистолет[1247], самодовольно любуется в зеркале «‹…› своим лицом ‹…› и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения»[1248]. С физической точки зрения фон Корен составляет противоположность Лаевскому, чье «‹…› согнутое тело ‹…› бледное, вспотевшее лицо и впалые виски ‹…› изгрызенные ногти» накануне отмечал про себя Самойленко. Доктор делится с гостями тем чувством «жалости» к Лаевскому[1249], которое охватило его с утра[1250], на что фон Корен возражает:
– Вот уж кого мне не жаль! – сказал фон Корен. – Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони… ‹…› Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба, – продолжал фон Корен. – Утопить его – заслуга[1251].
Между фон Кореном и Самойленко разгорается продолжительный спор, в ходе которого фон Корен дает Лаевскому уже цитированную патологизирующую оценку. Зоолог произносит длинную речь об извращенной природе Лаевского и о праве цивилизованного общества оградить себя от столь опасного человека, представляющего собой не что иное, как «‹…› очень самолюбивое, низкое и гнусное животное»[1252], причем в случае необходимости можно применить силу[1253]. Самойленко, «‹…› человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный»[1254], то и дело перебивает фон Корена возгласами ужаса[1255], ссылаясь на любовь к ближнему[1256] и не соглашаясь с утверждением о ненормальности Лаевского[1257].
Евгенические фантазии фон Корена об уничтожении врага и ответные реплики Самойленко не просто указывают на расово-гигиенические, «социал-дарвинистские» последствия, вытекающие из дискурса о вырождении того времени, и на их необходимость, подразумеваемую в трудах Г. Спенсера или М. Нордау: обстоятельства, нередко подчеркиваемые в литературоведении с целью доказать, что в лице фон Корена Чехов дискредитирует ложную научную позицию[1258]. Скорее можно утверждать, что здесь инсценируется противостояние двух вышеописанных линий аргументации, развиваемых Дарвином в «Происхождении человека» применительно к обращению со слабыми, «негодными» и «неполноценными» в условиях цивилизации. Противоречивые взгляды английского ученого Чехов распределяет между двумя персонажами, фон Кореном и Самойленко, подчас цитирующими Дарвина почти дословно. Эта цитатность особенно заметна в конце первого спора в четвертой главе повести, в уже упомянутой сцене за обедом. По мнению фон Корена, Лаевский «вреден и опасен», так как «‹…› имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам»[1259]. Таким образом, фон Корен воспроизводит дарвиновский довод, согласно которому «‹…› беспечные, безнравственные и часто порочные члены общества размножаются быстрее, чем осмотрительные и вообще добродетельные члены его»[1260]. Вывод фон Корена гласит:
Помни только одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно[1261].
Вся аргументация фон Корена вплоть до радикального евгенического вывода о необходимости «уничтожения хилых и негодных» почерпнута у Дарвина из уже цитированной пятой главы «Происхождения человека»:
У дикарей слабые телом или умом скоро погибают ‹…›. Мы, цивилизованные люди, стараемся по возможности задержать этот процесс вымирания ‹…›. Таким образом, слабые члены цивилизованного общества распространяют свой род. ‹…› Если разнообразные влияния ‹…› не в силах будут удержать численного перевеса беспечных, порочных и вообще худших членов общества над лучшим классом людей, то нация, очевидно, начнет регрессировать ‹…›[1262].
Ответ Самойленко продолжает «гуманистическую» линию дарвиновской аргументации: «Если людей топить и вешать, – сказал Самойленко, – то к черту твою цивилизацию, к черту человечество!»[1263] При этом «жалость», испытываемую врачом к Лаевскому (см. выше), следует понимать как проявление дарвиновского благородного инстинкта sympathy, утрата которого по отношению к «слабым и беспомощным» (the weak and helpless), по мнению ученого, означала бы конец цивилизации: «Отказывать в сочувствии, даже по голосу рассудка, нельзя без унижения благороднейших свойств нашей природы»[1264].
Этот спор между двумя диссонирующими дарвиновскими голосами воспроизводится в главе XI «Дуэли», когда Самойленко приходит к фон Корену занять денег, которые обещал Лаевскому, чтобы тот мог уехать в Петербург. Сначала Самойленко втягивает фон Корена в разговор о жестокости природы на примере «какого-нибудь из насекомоядных». Зоолог повторяет аргументы о возможности усовершенствования из «Происхождения видов» («The Origin of Species», 1859) в связи с борьбой за существование и естественным отбором, согласно которым в природе выживают «‹…› только более ловкие, осторожные, сильные и развитые» (Дарвин пишет: «‹…› сильные, здоровые и счастливые выживают и размножаются»[1265]), что «служит великим целям усовершенствования»[1266] (у Дарвина: «‹…› так как естественный отбор действует только в силу и ради блага каждого существа, то все качества, телесные и умственные, будут прогрессировать, стремясь к совершенству»[1267]). Узнав, что деньги, которые хочет одолжить Самойленко, предназначаются Лаевскому, фон Корен вновь подчеркивает паразитизм последнего, делающий сочувствие неуместным: «Благодетельствовать г. Лаевскому так же неумно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу»[1268].
Самойленко и в этом случае реагирует импульсивно. Не приводя никаких аргументов в защиту своей готовности помочь, он лишь восклицает: «А по-моему, мы обязаны помогать нашим ближним! ‹…› – Он так страдает!»[1269] Доктор «олицетворяет» здесь дарвиновское положение о человеке как о «животном, наделенном моралью»[1270], чей социальный инстинкт участия (sympathy) развит до такой степени, что простирается на «‹…› людей всех рас, на слабоумных (imbecile), убогих (maimed) и других бесполезных (useless) членов общества ‹…›»[1271]. При этом импульсивная позиция Самойленко воплощает скорее инстинктивный аспект сочувствия, который с точки зрения дарвиновской эволюционной теории выступает в качестве первичного нравственного чувства, у человека проявляющегося осознанно[1272]. Инстинктивная суть этого сострадания выражается еще и в том, что оно вызвано тем впечатлением «слабого, беззащитного ребенка», которое Лаевский не раз производил на доктора[1273].
В повести есть момент примечательного смешения двух этих дарвиновских голосов. В главе XVI, заново объясняя свои евгенические взгляды в разговоре с дьяконом, фон Корен «цитирует» мысленный эксперимент Дарвина, основанный на известной аналогии между людьми и пчелами. Однако смысл, вложенный в указанный пример английским ученым, меняется при этом на противоположный, так что дарвиновский аргумент в пользу «участия» как основы нравственного чувства приобретает в трактовке фон Корена антигуманистическую, протоевгеническую окраску. В начале четвертой главы «Происхождения человека» Дарвин пишет, что «нравственное чувство» (moral sense) может по-разному проявляться у разных социальных животных, поскольку если бы какое-нибудь из них достигло таких же интеллектуальных способностей, что и человек, то сформировавшееся у этого животного нравственное чувство отличалось бы от человеческого. Для большей наглядности Дарвин приводит обратный пример, представляя, каким было бы нравственное чувство человека, если бы он развивался в таких же условиях, как пчелы:
Если бы, например, я намеренно беру крайний случай, мы были воспитаны в совершенно тех же условиях, как домашние пчелы, то нет ни малейшего сомнения, что наши незамужние женщины подобно пчелам-работницам считали бы священным долгом убивать своих братьев, матери стремились бы убивать своих плодовитых дочерей, – и никто не подумал бы протестовать против этого[1274].
Фон Корен, напротив, использует похожий мысленный эксперимент, чтобы доказать уже знакомый нам тезис об ослаблении естественного отбора, согласно которому человеческая культура «стремится свести к нулю борьбу за существование и подбор»:
Вообразите, что вам удалось внушить пчелам гуманные идеи в их неразработанной, рудиментарной форме. Что происходит от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых, будут съедать мед, развращать и душить пчел – в результате преобладание слабых над сильными и вырождение последних[1275].
Если у Дарвина человек, отождествляемый с пчелой, ведет себя подобно пчеле, то очеловеченная пчела фон Корена действует столь же «саморазрушительно», как и, по мнению автора примера, цивилизованный человек. Дарвиновский гуманизм и его же протоевгенические воззрения переплетаются здесь таким образом, что за мысленным экспериментом фон Корена проглядывает целый научно-литературный «пчелиный» палимпсест. Так, наряду с трудами Дарвина важную роль в этом эпизоде, как и во многих других местах повести, играет толстовская «Крейцерова соната», герой которой, Позднышев, объясняет свою бескомпромиссную идеологию воздержания при помощи аналогии между людьми и пчелами:
Высшая порода животных – людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел ‹…› должна так же, как пчелы, воспитывать бесполых, то есть опять должна стремиться к воздержанию ‹…›[1276].
Разногласия фон Корена и Самойленко в вопросе об отношении к Лаевскому усиливаются по мере развития действия, кульминацию которого – поединок фон Корена с Лаевским – можно интерпретировать и как своеобразный пик спора. Прозвучавший в главе XV вызов на дуэль предвосхищается следующим диалогом между доктором и зоологом в главе X, тоже содержащим (моральный) вызов: «Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо… Скажи мне, если бы того… положим, государство или общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы… решился? – Рука бы не дрогнула»[1277]. То, что Самойленко воспринимает как гипотетическую возможность, позволяющую продемонстрировать собеседнику вытекающие из его дарвинистского мировоззрения конечные следствия, тот рассматривает как вызов, требующий подкрепления слóва делом, т. е. осуществления права «сильнейшего с точки зрения эволюции» на «уничтожение» слабого и «вредоносного».
Можно было бы возразить, что отсылки к дарвиновской аргументации из «Происхождения человека» играют в чеховской «Дуэли» второстепенную роль, поскольку сам Дарвин в своей двойственной, колеблющейся позиции между сочувствием и протоевгеникой намекает на широко распространенный в ту эпоху спор, во многом повторяя, как уже пояснялось, чужие доводы и положения. Так, обеспокоенность фон Корена отрицательным влиянием цивилизации на отбор и биологическим вырождением человечества можно – вплоть до буквальных совпадений – найти у Грега[1278], которого Дарвин подчас цитирует дословно (см. выше). Можно установить источники и других евгенических фантазий чеховского персонажа, касающихся уничтожения слабых и преимущественно восходящих к немецкому «социал-дарвинистскому» дискурсу, к таким авторам, как Вильгельм Шальмайер, Людвиг Гумплович и Альберт Шеффле, – известных в России, однако не нашедших себе пылких приверженцев[1279]. «Немецкую» фамилию фон Корена, позиционирующего себя как «‹…› зоолог[а], или социолог[а], что одно и то же ‹…›»[1280], а также предположение Самойленко, дважды высказанное после евгенических тирад собеседника, что последнего «‹…› немцы испортили»[1281], можно истолковать как намек скорее на этот «чуждый» России социал-дарвинистский дискурс, чем на аргументацию самого Дарвина.
Однако помимо того обстоятельства, что четкое разделение взглядов Дарвина, дарвинизма и социал-дарвинизма возможно лишь до определенной степени ввиду тесной связи теории эволюции с дискурсивными практиками, которые допускают широкий спектр интерпретаций (гл. VII.1), указанный гипотетический упрек можно опровергнуть прежде всего наличием в чеховской «Дуэли» других интертекстуальных сигналов, свидетельствующих о прямых отсылках к «Происхождению человека» и, следовательно, подкрепляющих и дополняющих высказанный нами тезис. В заостренном виде можно утверждать, что весь художественный мир повести – а не только воззрения фон Корена и Самойленко – основан на линиях аргументации, почерпнутых из «Происхождения человека». При этом решающую роль играют рассуждения Дарвина о половом отборе (sexual selection), которые содержатся во втором томе его труда[1282] и переплетаются у Чехова с отсылками к толстовской воинствующей риторике целомудрия из «Крейцеровой сонаты», образуя своеобразный палимпсест. Если в дискуссии о цивилизации, о борьбе за существование и о вырождении, в которой голос Дарвина был важным, но не единственным, роль рассуждений о взаимосвязи естественного и полового отбора не была решающей, то в созданной ученым теории эволюции они стала важнейшей. Еще одним весомым доводом в пользу наличия прямой интертекстуальной связи между «Происхождением человека» и «Дуэлью» служит тот факт, что в диссертации, которую, как упоминалось выше, намеревался написать Чехов, ключевая роль отводилась дарвиновским положениям о половом отборе, почти не получившим внимания в России поздней царской эпохи[1283].
Толстой неотступно присутствует в «Дуэли» благодаря высокому уровню цитатности, из‐за чего художественный мир повести подчас предстает ироническим отражением «Анны Карениной» и особенно «Крейцеровой сонаты». Лаевский явно повторяет мысли и слова Позднышева, обращенные к жене[1284]; крайним их выражением становится фраза: «Ты ведешь себя как… кокотка»[1285]. Но здесь примечателен не столько тот факт, что в сравнении со своим «литературным прототипом» Позднышевым Лаевский в итоге поступает прямо противоположным образом: открывшаяся неверность Надежды Федоровны, которую Лаевский застает in flagranti с приставом Кирилиным, приводит не к убийству, а к примирению и сближению[1286]. Гораздо более показательно, что элементы позднышевской моральной философии половых отношений исповедует фон Корен, опять-таки соединяя их с дарвиновскими взглядами на половой отбор. Полемизируя с Толстым и его радикальными идеями, направленными против половой любви, Чехов инсценирует художественный мир, который, как и мир «Крейцеровой сонаты», буквально пропитан сексуальностью. Однако если у Толстого сексуализированный характер художественного мира и действующих лиц показан исключительно глазами «одержимого» Позднышева, то чеховская дарвинизация сексуальности представляет собой сложный феномен, распределяемый между несколькими персонажами и влияющий на семантику текста на разных уровнях.
Будучи единственной молодой женщиной в городке, Надежда Федоровна с особой силой ощущает инстинктивную природу своей сексуальности, делающей героиню (что мы видим прежде всего ее же глазами) объектом более или менее явного вожделения со стороны персонажей-мужчин[1287]. К началу времени действия она уже успела изменить Лаевскому с полицейским приставом Кирилиным; Надежда Федоровна чувствует себя «самой молодой и красивой женщиной в городе», ею постепенно овладевают «желания», и «‹…› она, как сумасшедшая, день и ночь думала об одном и том же»[1288]. Она неоднократно заигрывает с молодым Ачмиановым, сыном одолжившего ей денег местного купца, сама стыдясь своего поведения: «Ее волновали желания, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают ей уступить нечистой страсти, не сегодня, так завтра, – и что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться»[1289].
Лаевский тоже склонен многое сводить к половому, животному началу. В отличие от Позднышева он убежден, что «женщине прежде всего нужна спальная»[1290] и что «красивая, поэтическая святая любовь – это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео – такое же животное, как и все»[1291]. Принимая позднышевский отказ от идеи поэтической любви, Лаевский сводит ее к физиологии в духе Базарова. Это позволяет фон Корену, пристально наблюдающему за Лаевским как за подопытным объектом, сделать вывод, что его идейный противник – «сладострастник», которого можно заинтересовать лишь разговорами «‹…› о самках и самцах, о том, например, что у пауков самка после оплодотворения съедает самца ‹…›»[1292]. Показательно, что в последнем примере использована скрытая цитата из Дарвина: в главе IX «Происхождения человека», рассказывающей о вторичных половых признаках у низших животных, ученый описывает вид пауков, у которых самка при спаривании опутывает самца паутиной и пожирает[1293].
Фон Корен пересказывает странные фантазии Лаевского, который задается вопросом о скрещивании разных видов[1294], рассматривая их как еще одно доказательство безудержного потакания инстинктам и нравственной развращенности своего врага. По мнению зоолога, это роднит Лаевского с любовницей: «У этих сладострастников, должно быть, в мозгу есть особый нарост вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всею психикой»[1295]. В глазах фон Корена Надежда Федоровна – «обыкновенная содержанка, развратная и пошлая», наносящая своей жизнью «страшный вред ‹…› будущим поколениям»; ее следует «manu militari ‹…› отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение»[1296].
Чтобы объяснить свою ненависть и отвращение, даже омерзение к Лаевскому и Надежде Федоровне, которых фон Корен неоднократно называет «макаками»[1297], а также обосновать собственную моральную «деспотию»[1298], зоолог опять-таки обращается к Дарвину. Рассматривая вопрос «общественных добродетелей» (social virtues) в четвертой главе «Происхождения человека», посвященной развитию нравственного чувства, английский ученый описывает разницу между дикарем и цивилизованным человеком с точки зрения половой распущенности или воздержанности:
Величайшая неумеренность не считается пороком у дикарей. Крайний разврат, не говоря о противоестественных преступлениях, распространен у них в удивительной степени. Но как только брак, в форме одноженства или многоженства, начинает распространяться и ревность начинает охранять женское целомудрие, это качество начинает цениться и мало-помалу усваивается и незамужними женщинами. ‹…› Отвращение к неблагопристойностям, которое для нас так естественно, как будто бы оно было врождено, представляет новую добродетель, свойственную исключительно ‹…› цивилизованной жизни[1299].
Согласно этому суждению Дарвина, типичному для викторианской морали[1300], человеческое нравственное чувство является эволюционным достижением цивилизации, а любые от него отклонения – «симптомами начинающегося психического расстройства»[1301]. Фон Корен – строгий, фанатичный приверженец такого биологизированного мировоззрения. «Нравственный закон», говорит он дьякону, «следует признать органически связанным с человеком. Он не выдуман, а есть и будет». Поэтому, продолжает чеховский персонаж, «цитируя» Дарвина, «‹…› и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно»[1302]. «Внебрачная любовь» и «порочность» Лаевского и Надежды Федоровны являются именно таким «извращением нравственного закона», говорит фон Корен Самойленко. По словам зоолога, «‹…› то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви ‹…› это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора, и, не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года»[1303].
Лаевский и особенно Надежда Федоровна подрывают основы строго упорядоченного мира фон Корена, так как согласно дарвиновской модели полового отбора их сексуальное поведение соответствует более раннему этапу развития человечества. Конечно, практикуемые ими «свободное смешение полов» (promiscuous intercourse) и «распущенность» (licentiousness) встречались и у «дикарей»[1304], однако, по мнению Дарвина, никогда не являлись нормой[1305], поскольку оба явления «препятствуют» (prevent) половому отбору или даже «останавливают» (check) его, не позволяя ни одному из полов делать выбор[1306]. Кроме того, половая «извращенность» Лаевского и его любовницы выражается в отсутствии у обоих явного «чувства ревности» (feeling of jealousy), которое, по мысли Дарвина, господствует в животном мире, служа мощной преградой для эволюционно невыгодного «свободного смешения полов»[1307]. И наконец, инстинктивное влечение Надежды Федоровны к нескольким мужчинам выступает некоей разновидностью полиандрии, которая, по Дарвину, почти не встречается у животных[1308] и тоже препятствует половому отбору[1309].
По мнению фон Корена, все это доказывает «неполноценность» Лаевского и Надежды Федоровны, грозящую эволюции человечества вырождением и, следовательно, подлежащую «нейтрализации». Ненависть зоолога к «макакам» не случайно усиливается по мере усугубления такого поведения. Фон Корен вызывает Лаевского на дуэль после того, как тот решает оставить кавказский городок, а вместе с ним и Надежду Федоровну, вместо того чтобы, женившись на ней, исполнить «нравственный закон». Решение фон Корена убить противника, несмотря на первоначально заявленное намерение отказаться от выстрела[1310], созревает в тот момент, когда он узнает от секундантов, что накануне вечером Лаевский застал Надежду Федоровну с Кирилиным:
– Какая гадость! – пробормотал зоолог; он побледнел, поморщился и громко сплюнул: – Тьфу!
Нижняя губа у него задрожала; он отошел от Шешковского, не желая дальше слушать, и, как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за все утро взглянул на Лаевского[1311].
Можно утверждать, что это брезгливое чувство вызвано не только распутством Надежды Федоровны, но и «извращенным» с эволюционной точки зрения отсутствием ревности со стороны Лаевского. В дарвинистской картине мира фон Корена их ненормальность предстает вопиющим явлением, так как «развращенность» обоих противоречит закономерностям не только естественного, но и полового отбора, а также связанному с ними нравственному чувству, и, следовательно, в определенном смысле вообще ставит любовников вне какого бы то ни было эволюционного порядка.
Таким образом, однако, в повести инсценируются не только дарвиновские колебания между протоевгеникой и гуманизмом, составляющие главную движущую силу сюжета и достигающие высшей точки в сцене поединка, но и более глубокое противоречие, заключенное в аргументации ученого. «Нравственное чувство» (moral sense), возникшее из первобытного социального инстинкта «участия» (sympathy), обосновывает как необходимость гуманного отношения к «слабым», так и половую мораль цивилизованного человека. Но если кто-либо нарушает эту викторианскую половую мораль, преступая тем самым эволюционные границы нравственного чувства, то возникает вопрос, достоин ли такой человек «участия» и поддержки, которые, по Дарвину, должны оказываться «слабым» на основании человеческой моральной способности. Фон Корен убежден в том, что Лаевский и Надежда Федоровна такого сочувствия недостойны: не столько ввиду противоречия между их образом жизни и механизмами естественного отбора, сколько по причине их непринадлежности к эволюционному порядку, вытекающей из нарушения любовниками закономерностей полового отбора и делающей их обоих «живыми свидетельствами» научной необоснованности дарвиновского «нравственного закона». Таким образом, фон Корен, как человек логически мыслящий, делает «правильные» выводы из непоследовательности, заключенной в аргументации Дарвина.
Хотя фон Корен, судящий о Лаевском и Надежде Федоровне с позиций евгеники, стремится преодолеть неоднозначный характер дарвиновских аргументов, структуро– и смыслообразующая функция этой амбивалентности не ослабевает, обретая еще более важное значение, чем мы видели до сих пор. Чеховские отсылки к аргументации Дарвина со свойственными ей апориями, не ограничиваясь характеристиками персонажей, которые даются ими самими или другими действующими лицами, превращаются в важный генератор всего художественного мира.
В основе смятения, вносимого дарвинизмом в художественный мир повести и возникающего в результате простора для конфликта, лежит еще одна особенность дарвиновской аргументации, развернутой в «Происхождении человека». Чтобы наглядно представить главный тезис о происхождении людей от «менее высоко организованной формы» (less highly organised form)[1312], Дарвин для каждого исследуемого аспекта нередко рассматривает несколько ступеней эволюции одновременно, один за другим нанизывая примеры из социальной и половой жизни животных, «первобытных», «диких» и «цивилизованных» людей. Это контрастное сопоставление разных фаз эволюции, призванное продемонстрировать непрерывность и вместе с тем развитие, превращает «Происхождение человека» в восхитительный theatrum naturae с почти бесчисленными действующими лицами и микроисториями.
В «Дуэли» Чехов словно бы воплощает указанный аргументационный принцип, не только заставляя персонажей размышлять о дарвинистских концептах и поступать в соответствии с ними, но и делая героев (невольными) объектами «насквозь дарвинизированного» мира, в котором разные эволюционные фазы не всегда поддаются четкому разграничению, а жизнь и ее движущие силы предстают неупорядоченным, таинственным целым. В этом отношении красноречива ярко выраженная дарвинистская животная метафорика, неоднократно используемая применительно к Лаевскому и фон Корену. Так, Самойленко замечает, что они смотрят друг на друга «как волки»[1313], тем самым (бессознательно) намекая на образ животного, в «Происхождении видов» воплощающего агональный аспект борьбы за существование[1314]. Когда Лаевский и фон Корен стоят друг против друга на поединке, наблюдающему за ними из укрытия дьякону приходят на ум «кроты»[1315], о чьей жестокости фон Корен несколькими днями ранее рассказывал так:
Интересно, когда два крота встречаются под землей, то они оба, точно сговорившись, начинают рыть площадку; эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав ее, они вступают в жестокий бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший[1316].
В «Происхождении человека» Дарвин приводит схватку кротов в качестве примера действия «закона боя» (law of battle) за обладание самкой, управляющего половым отбором у животных[1317]. Этот закон ученый считает фундаментальным и для развития человека как вида:
Едва ли можно сомневаться, что больший рост и сила мужчины сравнительно с женщиной, вместе с его более широкими плечами и более развитыми мышцами, резкими очертаниями тела, большей храбростью и воинственностью, обязаны своим происхождением главным образом унаследованию их от самцов его получеловеческих предков. Особенности эти должны были сохраниться или даже развиться в течение долгих веков, когда человек оставался еще в диком состоянии, вследствие того, что самые смелые и сильные мужчины имели постоянно наибольший успех в общей борьбе за жизнь и в их соперничестве из‐за женщин. Успех этот давал им возможность оставить более многочисленное потомство, чем их менее благоприятствуемым собратьям[1318].
В художественном мире «Дуэли» «закон боя» предстает темной, таинственной силой, вновь и вновь «измеряющей» соотношение сил между «сильнейшими» и «слабейшими»; неизбежной закономерностью, которая, составляя неотъемлемую часть изображаемого мира, вместе с тем оторвана от своей эволюционной функции. Ведь фон Корен и Лаевский дерутся не за «обладание самкой», а скорее по той причине, что должны бороться в условиях этого дарвинизированного мира. Их поединок, на первый взгляд ничем не мотивированный, даже «неуместный» с повествовательной точки зрения, воплощает эту пугающую дарвинистскую силу и обнаруживает интертекстуальную связь не только и не столько с романтической литературой о дуэлях, сколько с «Происхождением человека». В трактате Дарвина дуэль дважды выступает примером действия человеческого нравственного чувства и совести. Когда человек поступает наперекор социальным инстинктам или добродетелям, потакая низменным побуждениям, его одолевают «сожаление» (regret), «стыд» (shame), «раскаяние» (repentance) или «укоры совести» (remorse)[1319]. Причина заключается в том, что в таких случаях человек воспринимает свое поведение как «нарушение» устойчивых общественных инстинктов и, будучи «социальным животным», соотносит содеянное с отрицательной оценкой, которую дают его поступку другие люди. Пример с дуэлью позволяет Дарвину подчеркнуть всю важность общественного мнения:
Если даже какой-нибудь поступок не идет вразрез с каким-либо определенным инстинктом, то достаточно одного сознания, что наши друзья и люди одного круга презирают нас за этот поступок, чтобы испытать весьма сильные страдания. Кто станет отрицать, что отказ от дуэли из‐за трусости причинил многим людям сильнейшие мучения стыда? ‹…› Повелительное слово должен выражает, по-видимому, только сознание того, что существует известное правило для поведения, все равно каково бы ни было его происхождение. В прежние времена настоятельно говорилось, что оскорбленный джентльмен должен выйти на поединок[1320].
Именно это не объяснимое логически, действующее подобно рефлексу слово «должен» (ought) как будто и «цитирует» фон Корен, говоря дьякону накануне дуэли: «Мы с вами будем говорить, ‹…› что дуэль уже отжила свой век ‹…› а все-таки мы не остановимся, поедем и будем драться. Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений»[1321]. В сцене дуэли, когда после сделанного Лаевским неловкого выстрела в воздух наступает черед фон Корена, рассказчик прибегает к приему внешней фокализации, которая – единственный раз за всю повесть – позволяет увидеть происходящее вне связи с персональной повествовательной ситуацией. В результате «таинственное», «непонятное» и «страшное» начало предстает «аукториальной истиной», т. е. силой, имманентно присущей художественному миру:
Дуло пистолета, направленное прямо в лицо, выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корена, и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и эта тишина, и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать, – как все это таинственно, и непонятно, и страшно![1322]
В кульминационный момент действия, во время дуэли, эта «страшная» дарвинистская сила тоже достигает высшей точки, все больше захватывая художественный мир повести. Дарвиновский theatrum naturae из «Происхождения человека» с его двойственной, подчас противоречивой аргументацией, с постоянным смешением разных фаз эволюции, с частичной логической непоследовательностью позволяет представить историю происхождения человека, с трудом поддающуюся воображению и пересказу, как процесс развертывания силы, в конечном счете «непостижимой» и приводимой в движение «законом боя». Несмотря на дифференцированность аргументации, дарвиновский мир тяготеет к элементарному нарративу о непрекращающейся соревновательной борьбе[1323].
Топливом этого двигателя выступает «слепая», инстинктивная ненависть между фон Кореном и Лаевским, неоднократно подчеркнутая рассказчиком. Во время пикника Лаевский ощущает бьющую ему «в грудь и в лицо ‹…› ненависть фон Корена; эта ненависть порядочного, умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла ‹…›»[1324]. Свой вызов на дуэль, брошенный в приступе ярости и не адресованный никому определенному, однако сразу же принятый фон Кореном, Лаевский комментирует так: «Вызов? – проговорил тихо Лаевский, подходя к зоологу и глядя с ненавистью на его смуглый лоб и курчавые волосы. – Вызов? Извольте!! ненавижу вас! Ненавижу! ‹…› – Ненавижу! – говорил Лаевский тихо, тяжело дыша. – Давно ненавижу! Дуэль! Да!»[1325] Здесь снова виден созданный Чеховым интертекстуальный палимпсест, в котором искусно переплетены два слоя – дарвинизма и русской литературной традиции, в данном случае дуэльной. Обращаясь к представлению о дуэли как об опыте ритуального, архаического насилия, многократно выраженному в русской литературе XIX века, и особенно к мотиву «ненависти», во многом определившей поединок Печорина с Грушницким в «Герое нашего времени» Лермонтова, Чехов соединяет эту традицию с дарвиновским «законом боя»[1326]. Когда Грушницкий на дуэли открыто называет ненависть к Печорину истинной причиной поединка: «Стреляйте! – отвечал он: – я себя презираю, а вас ненавижу»[1327]; «Нам на земле вдвоем нет места…»[1328] – то вспоминается приведенный фон Кореном зоологический пример с кротами, которые дерутся до тех пор, «пока не падает слабейший» (см. выше); во время поединка фон Корена с Лаевским эта история приходит на ум дьякону (см. выше). Момент «звериной» агрессии, в которой, согласно дарвиновской модели, проявляются более ранние этапы эволюции, после вызова на дуэль облекают в слова оба противника. Фон Корен опасается, что Лаевский его «укусит»[1329]; Лаевский, испытывающий к нему «‹…› тяжелую ненависть, страстную, голодную ‹…›»[1330], воображает исход поединка, окрашенный «анималистической метафорикой»: «Выстрелить в ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним, и как насекомое с оторванной ножкой теряется после в траве, так пусть он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же ничтожных людей, как он сам»[1331].
Не только Лаевский и фон Корен, но и другие причастные к поединку лица, которые ясно сознают бессмысленность дуэли, однако не препятствуют ей, предстают действующими лицами «ритуального» поединка, понятого с точки зрения теории эволюции. И дуэлянты, и секунданты действуют машинально, будто гротескные марионетки, участвующие в непонятном им обряде, который, однако, не могут прервать:[1332] «[Лаевский] умоляюще взглянул на секундантов; они не шевелились и были бледны»[1333].
Единственным персонажем, словно бы остающимся вне этого дарвинистского мира, выступает молодой дьякон Победов, которому Чехов неслучайно придает черты лесковского антигероя[1334]. Оставаясь по большей части молчаливым свидетелем чужих поступков и разговоров, дьякон своим «бахтинским» смехом, неоднократно упоминаемым в повести[1335], подчеркивает всю их абсурдность. Занимая внешнюю позицию по отношению к художественному миру (куда он, словно герой плутовского романа, попал как бы случайно), он оказывается единственным, кто может вмешаться в фатальную механику событий и своим «отчаянным криком» («Он убьет его!»[1336]) не дать фон Корену и в самом деле убить Лаевского[1337].
После этого coup de théâtre[1338] оканчивается не только дарвинистская борьба Лаевского с фон Кореном; Дарвин и его аргументы в буквальном смысле исчезают со страниц повести, что сначала воспринимается персонажами с облегчением. По пути в город после поединка Лаевскому «‹…› казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить»[1339]. «Похоронили» здесь не только русскую литературу (прежде всего творчество Льва Толстого), которая тяготела над действующими лицами повести, определяя их риторику и диктуемые ею поступки, семиотику пространства и структуру почти угнетающим образом. Предложенная нами интерпретация также позволяет увидеть на надгробии этого «тяжелого, невыносимого человека» мрачные черты и окладистую бороду немолодого Чарльза Дарвина, демонстрирующего, кстати сказать, подозрительное портретное сходство с Львом Толстым в старости.
Заключительная глава XX, служащая эпилогом повести, показывает, что осталось от литературно-дарвинистского мира после дуэли. «Избавленный» от дарвинизма художественный мир предстает во всей своей убогой «наготе» и душераздирающей пошлости. От дарвиновского трагикомического theatrum naturae остались лишь ветхие кулисы, за которыми снуют жалкие фигуры, словно охваченные ужасом перед «неприкрашенной» жизнью. После дуэли Лаевский и Надежда Федоровна мирятся и начинают новую жизнь: заключают брак и поступают на службу, чтобы покрыть долги. Спустя три месяца после дуэли фон Корен, отправляясь в давно задуманную исследовательскую экспедицию, прощается с Лаевским и Надеждой Федоровной, живущими, по словам Самойленко, «хуже нищего»[1340]. Особенно «робко», с «виноватым и испуганным» лицом смотрит на зоолога Надежда Федоровна, так что в голове у него проносится: «Как они, однако, оба жалки! ‹…› Не дешево достается им эта жизнь!»[1341] На утверждение дьякона, что этим жестом примирения фон Корен и Лаевский побороли величайшего врага человечества – гордыню, фон Корен отвечает: «Полно, дьякон! Какие мы с ними победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется как китайский болванчик, а мне… мне грустно»[1342].
Эпилог повести сразу привлек внимание литературной критики. Современники Чехова, в частности Дмитрий Мережковский, Алексей Плещеев и Александр Скабичевский, сочли радикальную перемену, произошедшую в Лаевском, ничем не мотивированной[1343]. Современные интерпретаторы расценивают эту перемену как один из многочисленных примеров чеховского отказа от классической событийности русского реалистического романа, от «прозрения» как ментального события, ведущего к своеобразному «возрождению» протагониста[1344]. Эпилог подчеркивает случайную, ситуативную и ограниченную природу любых истин, в данном случае двух теорем – научной (фон Корен) и литературной (Лаевский), абсолютизация которых привела к нарастанию конфликта между героями и едва не завершилась смертельным исходом[1345]. «Никто не знает настоящей правды»[1346], – резюмируют бывшие противники в эпилоге, признавая тем самым свою былую «эпистемологическую гордыню»[1347].
В интерпретации эпилога можно пойти еще дальше. Избавившись от тяжелых, однако пестрых интертекстуальных «одежд», художественный мир лишается классического повествовательного напряжения и в буквальном смысле распадается. В конце повести простившиеся с фон Кореном Лаевский, Самойленко и дьякон наблюдают, стоя на пристани, как лодка, уносящая зоолога к пароходу, борется с высокими волнами. Лаевский мысленно философствует о человеческих «поисках за правдой», тривиальным образом сравнивая их с движением лодки: «Лодку бросает назад, – думал он, – делает она два шага вперед и шаг назад ‹…›. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад»[1348]. Здесь Чехов прибегает к своему типичному приему, пародируя ментальное событие в виде внутреннего монолога персонажа, формулирующего банальную «мораль истории», которую можно ошибочно истолковать как квинтэссенцию смысла произведения[1349]. Важно, что последнее слово в повести остается не за Лаевским, а за дьяконом, который лаконично заключает: «Не видать и не слыхать», – и за рассказчиком, который констатирует безрадостность распавшегося мира фразой: «Стал накрапывать дождь»[1350].
Щемящая пустота, охватывающая в конце художественный мир «Дуэли», словно отсылает к эпистемологическому кризису, который настиг писателя после сахалинского путешествия и выступил на первый план в нарративной и стилистической «монструозности» «Острова Сахалин»[1351]. В «Дуэли», отразившей чеховское увлечение Дарвином, писатель не просто инсценировал апории, присущие аргументации ученого, но и заставил дарвинистский мир взорваться изнутри, оставив персонажей посреди жизни, отныне такой банальной и безнадежной.
VIII. Заключение и перспективы
Действие последней главы истории российского дискурса о вырождении происходит в Берлине: именно здесь издательство Фридриха Готгейнера выпускает в 1903 году – на русском и на немецком языках – «сказку-утопию» К. С. Мережковского «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века»[1352]. Автор – биолог, известный сегодня как основоположник эволюционной теории симбиогенеза[1353], старший брат писателя-символиста Дмитрия Мережковского[1354] – опубликовал книгу в Берлине из опасения, что русская цензура может частично или полностью запретить ее из‐за содержащейся в ней критики христианства[1355]. На заре XX века Константин Мережковский в радикальной форме высказывает евгенические фантазии, восходящие к дарвинистскому дискурсу о вырождении конца предшествующего столетия (гл. VII); это позволяет рассматривать «Рай земной» как заключительную главу истории, изложенной в настоящем исследовании. Евгенический «рай» Мережковского – это кульминационная точка развития того научного нарратива, первые художественные воплощения которого появились в русской литературе в конце 1870‐х годов на фоне восприятия романов Золя.
Структура «Рая земного» соответствует условностям классической утопии. Повествование ведется от первого лица. Рассказчик, потерпевший кораблекрушение и выброшенный на берег некоего острова в южном полушарии, вскоре понимает, что попал в «утопическую» общину XXVII века[1356]. Распознав в жертве кораблекрушения «бедного» «человека XIX века»[1357], предводитель общины – моложавый старик по имени Эзрар – ведет с ним долгие беседы, в ходе которых объясняет путешественнику новый миропорядок и историю его возникновения. После двух дней повествовательного времени (и 279 печатных страниц), затраченных на исчерпывающее описание «утопии», рассказчик пробуждается в «печальном», «сером», «холодном» Петербурге и с разочарованием констатирует: «Итак – то был сон!»[1358] Сама книга, однако, еще не закончена: далее следует приложение, куда вошли десять эссе, в которых автор вновь поясняет главные идеи своей «утопии» (критика прогресса; вопрос о сущности счастья; критика христианства и т. д.), а также пространная выдержка из главы «Великий инквизитор» романа Достоевского «Братья Карамазовы» (кн. 5, гл. 5), в которой, по мнению Мережковского, изложены основные принципы его собственной «сказки».
Наряду с такими произведениями, как «2086, или Век равенства» («2086 oder Das Weltalter der Gleichheit», 1887) Отто фон Лейкснера, «Рай на земле (1901–1912)» («Der Himmel auf Erden in den Jahren 1901 bis 1912», 1892) Эмиля Грегоровиуса, «Будущее человечество (3000‐й год)» («L’Anno 3000. Un sogno», 1897) Паоло Мантегацца и «Современная утопия» («A Modern Utopia», 1905) Г. Дж. Уэллса, «Рай земной» представляет собой одну из наиболее радикальных евгенических утопий о будущем, написанных на рубеже XIX–XX столетий[1359]. Мир XXVII века населяют не более двух миллионов человек[1360] – результат длительного «селекционного выведения». «Великий съезд всех лучших представителей человечества»[1361], действуя втайне, почти полностью пресек дальнейшее размножение «выродившихся» людей при помощи эликсира-«стерилизатора»[1362], а из немногочисленных прошедших тщательный отбор индивидов создал новую расу, живущую в состоянии бесконечного детства и призванную воплотить на земле «вечное счастье». Вот как Эзрар излагает план «лучших представителей человечества»:
Те, среди которых мы жили, дошли до последней степени испорченности и вырождения, с такими людьми счастье устроить было невозможно, надо было совершенно заново переродить их и физически, и духовно. ‹…› вот что нужно для того, чтобы осуществить вечное счастье на земле: нужно, чтобы люди стали подобны детям, ибо только дети могут быть счастливы. ‹…› И вот мы принялись за работу. С большой тщательностью выбрали мы такие элементы, которые могли дать желаемые результаты, т. е. людей, наиболее приближавшихся к детскому типу и по физической организации, и, главное, по душевным качествам и строгим подбором из поколения в поколение усиливали и развивали требуемые качества. И теперь мы можем с радостью сознаться, что наши труды увенчались полным успехом. Результаты превзошли даже все наши ожидания[1363].
Будущее общество Мережковского состоит из трех каст: «покровителей» (к этой группе принадлежит Эзрар), которые строго регулируют искусственный отбор для продолжения человеческого рода; «друзей» – инфантильного человечества, «облагороженного» «покровителями»; и «рабов» – низшей расы, выведенной специально для работы, тупоумных тружеников, чья задача – обеспечивать новых людей пищей, одеждой и т. д.[1364] Три этих «вида», никогда не смешивающихся между собой, соответствуют трем элементам: «мысль, счастье и труд», – строгое разделение которых препятствует погружению «рая земного» в состояние «хаоса»[1365]. Защищенные, обеспеченные всем необходимым, избавленные от любого труда люди-дети посвящают свои беззаботные дни совместным играм на природе, танцам, музыке и свободной любви. Они сохраняют детский облик и нрав до тридцатипятилетнего возраста, по достижении которого начинают быстро стареть. Тогда их забирают из общины, отвозят в отдаленное место и безболезненно усыпляют при помощи наркотика «нирвана», чтобы уберечь от старческих болезней и немощей[1366].
«Друзья» живут небольшими общинами «из сотни или более» человек, руководимыми двумя-тремя «покровителями»[1367]. Все общины располагаются «под тропиками», остальные же части планеты «пусты и необитаемы»[1368]. «Рабы» проживают в отдельных поселениях неподалеку от общин. Новые люди не ведают государственного порядка, у них «нет ни правительства, ни власти, ни законов». Эзрар говорит: «Все человечество разбито на мелкие ячейки, на такие совершенно общины, как наша, живущие вполне независимо друг от друга и совершенно подобно тому, как и мы. Единственным связующим элементом являются областные съезды покровителей, повторяющиеся раз в течение нескольких лет»[1369]. Кроме того, каждые двести лет собирается всеобщий съезд всех «покровителей», на котором принимаются решения, обязательные к исполнению во всех общинах на протяжении следующих двух столетий.
Основной принцип жизни нового человечества – «упрощение жизни»[1370]. Принцип этот приходит на смену жажде прогресса, некогда приведшей людей к полному вырождению: «Человечество может оставаться вечно счастливым только тогда, когда оно откажется от прогресса и навеки сохранит свое новое устройство неизменным. ‹…› Не поклоняйтесь прогрессу: в нем яд, который вас погубит»,[1371] – гласит одна из заповедей «рая земного». Поэтому решено было отказаться от большинства технических и культурных достижений XIX века. Все население планеты обслуживают лишь восемь фабрик, производящих самое необходимое; сельское хозяйство направлено исключительно на удовлетворение насущных потребностей: ни торговли, ни частной собственности больше не существует[1372]. Помимо простоты в одежде, пище, быту и занятиях, жизнь «друзей» характеризуется намеренно низким образовательным уровнем. Они не умеют ни читать, ни писать, а необходимые познания о природе и истории черпают из бесед с «покровителями». Жажда знаний считается нездоровым атавизмом: страдающих этой формой «гипертрофии духа» удаляют из общины, стерилизуют и ссылают на остров Пасхи – в своего рода «колонию-поселение» науки, где есть библиотеки и школы[1373].
«Утопия» Мережковского, задачу которой сам он видит в «установлении патернализма» как единственно верной альтернативы индивидуализму и социализму[1374], представляет собой проект своеобразного «педофилического рая», проникнутый вульгарным эротизмом. «Рай земной» – это литературное изображение мира как сплошного публичного дома для педофилов, недвусмысленно отражающее извращенные сексуальные наклонности автора[1375]. Вот лишь небольшая выдержка:
И я опять обвел глазами толпу этих красивых созданий, стоявших вокруг нас и со вниманием следивших за нашим спором, и действительно, ничто не могло так мягко, так успокоительно подействовать на мои взволнованные чувства, как это чудное зрелище. Некоторые из них подходили ко мне, брали меня за руку, гладили ее, как бы желая меня этим успокоить: одна прелестная молодая девушка с большими наивными, как у детей, черными глазами и крошечным пунцовым ротиком подошла ко мне и, положивши мне руки на плечи, наклонилась к самому моему лицу, взглянула на меня с улыбкой и – поцеловала прямо в губы! И как все это делалось просто, мило, с совершенно детской доверчивостью, без того стеснения, той холодной сдержанности, которые ставили такие тяжелые преграды в отношениях между нашими людьми[1376].
Этим ненормальным «мужским фантазиям» сопутствуют жестокие картины победившей идеологии расовой гигиены. При создании нового человечества пришлось «азиатов ‹…› истребить всех без исключения. Ни монгольская, ни негритянская расы не должны были войти в состав нового, обновленного человечества, ибо ни душевные, ни физические качества их не были для того пригодны; к поголовному истреблению предназначена была также и семитическая раса, а также такие народности, как Армяне, Персияне, Сирийцы и т. п., издревле уже насквозь прогнившие, алчный, хитрый эгоистичный характер которых, закаленный тысячелетней наследственностью, не мог бы быть изменен никаким искусственным подбором»[1377]. Эзрар ставит это своей касте в заслугу: «‹…› население сильно поредело, и не будь нас, человечество, по крайне мере арийская раса несомненно бы погибла»[1378]. Драматическим апогеем апокалиптического изображения гибели прежних людей, во многом напоминающего «Последнее самоубийство» (1844) Владимира Одоевского и сочинения Томаса Мальтуса[1379], становится еврейское «нашествие»:
Выползли тогда, как клопы из своих щелей, прежние ростовщики и развратители рода человеческого – жиды, и ко всеобщему удивлению нагруженные мешками золота, которое они на всякий случай своевременно припрятали, если не для себя, то для своих потомков[1380].
«Рай земной», который из‐за этого и других подобных пассажей никак нельзя назвать приятным чтением, составляет важный этап в развитии русских нарративов о вырождении по той причине, что в этом тексте соединились несколько повествовательных линий, восходящих к концу XIX века и описанных в настоящем исследовании. Евгеническое (кошмарное) видение Мережковского выступает своего рода шоковой терапией, «исцеляющей» общую нервозность XIX столетия, которая рассматривалась как причина и вместе с тем как проявление дегенерации или ее симптом (гл. IV). Так, свойственное XIX веку представление о любви Эзрар называет «болезненным, истеричным, соответствовавшим общей болезненности ‹…› нервного века»[1381]. Рассказчик тоже признает, что его современники живут в постоянном нервном напряжении, и говорит, словно цитируя Р. фон Крафт-Эбинга или П. И. Ковалевского (гл. IV.1): «Наша шумная, суетливая и хлопотливая жизнь, где все от мала до велика надрывались и переутомлялись, толкаясь и давя друг друга, представляется мне теперь чем-то уродливым и безобразным»[1382]. Усиливающиеся процессы усложнения и специализации жизни, а также погоня за прогрессом приводят, как видно из ретроспективного рассказа Эзрара, к полному вырождению человека как вида. В ответ тайный союз «лучших представителей человечества» выдвигает своеобразную программу «перезапуска», основанную на пасторальном принципе упрощения жизни.
Воинствующий антимодернизм Мережковского радикализирует аналогичные тенденции, присутствующие в российском дискурсе культурного пессимизма конца XIX века (гл. IV.1). Представители этого дискурса неоднократно ставили России диагноз коллективного вырождения, а также утверждали, предвосхищая появление евгеники, необходимость корректировки антиселективных явлений (гл. VII.1). Расово-гигиенические и антисемитские составляющие евгенической программы Мережковского соответствуют похожим тенденциям, которые обозначились в национально-консервативном крыле российской психиатрии, представленном прежде всего именами И. А. Сикорского, В. Ф. Чижа и П. И. Ковалевского: недаром двое последних принадлежат к числу героев этой книги (гл. IV.1, IV.2, VI.1, VI.2, VIII.1). На рубеже XIX–XX веков все эти авторы отстаивали и пропагандировали указанные тенденции в многочисленных сочинениях, часть которых носит научно-популярный характер[1383].
Предложенное Мережковским «решение» проблемы вырождения, однако, выходит далеко за рамки евгенических представлений конца XIX столетия. Решение это заключается в тотальном биополитическом подходе к «раю земному», предполагающем строгий контроль и регуляцию размножения; Эзрар подчеркивает, что в этом «залог счастья и благополучия рода человеческого»[1384]. Так, люди-дети носят «привешенную к руке золотую пластинку» с записанными на ней наследственными характеристиками. Это позволяет тщательно отбирать «производителей» в строгом соответствии с законами наследственности, которые к XXVII веку уже полностью изучены[1385]. В этом отношении футурологическая утопия Мережковского отчасти предвосхищает последующее развитие науки, которое в 1920‐х годах приведет к возникновению советской евгеники[1386]. Почву же для подобных тенденций подготовила российская психиатрия конца царской эпохи (Т. И. Юдин и др.), в 1900–1910‐х годах по-своему переосмыслявшая теорию вырождения[1387].
Подобно роману о вырождении рубежа 1870–1880‐х годов, «антиутопическая утопия» Мережковского тоже являет собой пример художественного изложения биомедицинских концепций, которые лишь спустя несколько лет станут предметом научных дисциплин, в данном случае евгеники. Впрочем, положительное отношение Мережковского к селекции человека не получает развития в позднейших фантазиях на тему евгеники, созданных в 1920‐х годах и проникнутых скорее пародийно-сатирическим духом, о чем свидетельствуют такие тексты, как «Собачье сердце» М. А. Булгакова (1925)[1388], «Человек-амфибия» (1928) А. Р. Беляева[1389], а также «Хочу ребенка» (1926) С. М. Третьякова[1390]. «Рай земной» можно скорее отнести к контексту тех проникнутых бредом величия биополитических утопий, которые пропагандировались в России начала XX века в целях создания «нового человечества»[1391].
Радикальные евгенические идеи, высказанные К. С. Мережковским в «Рае земном», отражают среди прочего характерное для русской культуры 1900–1910‐х годов заострение проблемы вырождения. Это явление хорошо освещено в исследовательской литературе благодаря новейшим работам по истории науки и дискурса, в которых рассматриваются биомедицинские концепции конца царской эпохи[1392]. Неоднократно затрагивался и вопрос о том, как это заострение повлияло на нарратив о дегенерации в литературе того времени, в которой наблюдается аналогичное заострение нарративных моделей, сложившихся в 1880–1890‐х годах. Так, представление о всеобъемлющей социальной аномии, ставящее во главу угла понятие преступности и преобладающее в политическом дискурсе последних лет существования Российской империи[1393], приводит к заметному распространению криминально-антропологических нарративов о вырождении (гл. VI) не только в сфере криминологии, но и в беллетристике, в частности в уголовном романе[1394] и трущобной литературе[1395] (гл. VI.2).
Напротив, значение романа о вырождении – этой первоначальной формы, которую концепция вырождения принимает в художественной словесности (гл. II–IV), – для русской литературы 1900–1910‐х годов остается почти не изученным. Между тем эта романная разновидность переживает новый расцвет в традиции постреализма, в которую выливается роман о вырождении 1880–1890‐х годов[1396]. Соответствующую литературную линию продолжает не столько символистский роман Федора Сологуба «Мелкий бес» (1901), в котором, при всем художественном совершенстве изображения прогрессирующего психического распада, отсутствует повествовательная схема вырождения, сколько незавершенный цикл романов А. В. Амфитеатрова «Концы и начала» (1903–1910), где последовательно осуществляется золаистский литературный проект естественной и социальной истории конкретной эпохи[1397]. Как и у Золя, психическое, физическое и моральное вырождение одной семьи – угасающего знатного рода Арсеньевых – составляет макроструктурную символическую линию, объединяющую несколько романов цикла, в которых Амфитеатров с энциклопедической полнотой изображает жизнь русского общества 1880–1900‐х годов. Романное действие, проникнутое натуралистической концепцией социально-биологического детерминизма и нередко прерываемое пространными публицистическими пассажами, разворачивается в самых разных местах: от гостиных высшего общества до столичных бедняцких кварталов; от театров, ресторанов и универмагов до провинциальных фабрик и исправительных колоний. Среди действующих лиц встречаются такие исторические личности того времени, как С. Ю. Витте, Н. К. Михайловский, Г. В. Плеханов, А. П. Чехов и Ф. И. Шаляпин.
Новый расцвет романа о вырождении связан прежде всего с многочисленными семейными хрониками 1910‐х годов, значительная часть которых сегодня оказалась забыта[1398]. Так, И. А. Новиков в своей хронике «Между двух зорь (Дом Орембовских)» (1917) опирается на изображение гибели поместного дворянства у Салтыкова-Щедрина, также составляющее лейтмотив кристально ясной прозы И. А. Бунина того же времени, особенно повести «Суходол» (1912)[1399]. Роман И. С. Рукавишникова «Прóклятый род» (1911–1912), в котором экономическому упадку сопутствует биологический, наследует социальному роману Мамина-Сибиряка. Рукавишников изображает психофизическую и социальную деградацию одной поволжской купеческой династии при помощи классического золаистского нарратива о вырождении, позволяющего описать социально-биологически обусловленный дегенеративный процесс, охватывающий три поколения: от «железного старика» – семейного патриарха, нажившего состояние, – до его психически больных, ведущих декадентский образ жизни внуков. Тяготеющее над семьей «проклятие» не в последнюю очередь проявляется в том фаталистическом детерминизме, который пронизывает судьбу всех трех обреченных поколений и символом которого выступает «проклятый» унаследованный капитал. Обращаясь к натуралистической связке наследия, наследства и наследственности (гл. III.3), Рукавишников изображает отчаянные, заведомо провальные попытки младших поколений избавиться от биологического и экономического наследия, оставленного главой семьи.
Роман Рукавишникова составляет связующее звено между натурализмом 1880–1890‐х и его отголосками в ранней советской прозе 1920‐х годов, продолжающей продуктивным образом использовать нарратив о вырождении[1400]. Примерами могут послужить «Угрюм-река» (1928–1933) В. Я. Шишкова и – прежде всего – «Дело Артамоновых» (1925) Максима Горького. Развивая идеи, намеченные в раннем романе «Фома Гордеев» (1899), Горький создает семейную эпопею о психофизическом вырождении династии промышленников, сопровождающемся все большим отчуждением хозяев от «дела» и от рабочих. Объясняя этот неудержимый семейный упадок пороками капиталистического строя, Горький придает детерминистской повествовательной модели отчетливую историсофскую окраску[1401].
Дальнейшее развитие нарратива о вырождении, вкратце очерченное в этой, заключительной, части, свидетельствует о том, что он сохраняет продуктивность и в русской культуре и литературе начала XX столетия. В книге «Вырождение. Литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века» изложена история становления такого взаимодействия науки и литературы. Было показано, как русские писатели рубежа 1870–1880‐х годов, осмысляя поэтику Эмиля Золя, освоили жанр романа о вырождении и тем самым превратили литературу в инстанцию обоснования биомедицинских нарративов о дегенерации, опередив в этом психиатров. Уже на этом начальном этапе важнейшую роль сыграл русский натурализм, представленный ныне полузабытым творчеством Мамина-Сибиряка, Ясинского, Боборыкина, Гиляровского и других авторов. Этим объясняется тот факт, что натурализм выступает «героем» настоящей книги наравне с классическим реализмом Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Толстого и Чехова. Лишь обращение к литературе натурализма позволило нам выявить внутрилитературные процессы испытания различных повествовательных форм, в которые русский роман о вырождении облекает соответствующий нарратив: разрыва наррации, эксперимента и контрфактуальности. Начальные этапы истории, рассказанной в этой книге, позволили не только раскрыть литературную основу российского дискурса о вырождении, но и продемонстрировать всю важность такой формы биомедицинского письма в контексте русской литературы эпохи раннего модерна.
Последующее утверждение идеи дегенерации в российском научном и культурном дискурсе к концу 1880‐х годов расширило не только сферу применения, но и семантику этой концепции. Сосредоточившись на повествовательных формах, в равной степени свойственных науке и литературе, настоящая книга исследовала прихотливые пути развития дискурса о вырождении на исходе XIX века. Были прослежены трансформации этого дискурса: между антимодернистской психиатрической наукой и литературным «искусством нервов», криминальной антропологией и произведениями о преступниках, евгеникой и литературным дарвинизмом, – а также литературно– и культурно-историческое значение этих превращений. Таким образом, в книге предложен новый, отчасти неожиданный взгляд на эпоху fin de siècle в России. При этом биомедицинской науке, с одной стороны, и литературе натурализма и позднего реализма, с другой стороны, отведены равно важные роли в формировании, изменении и критической проверке нарратива о вырождении. Разработка повествовательной схемы дегенерации послужила не только целям имперского самоописания[1402] или самоосмысления русской культуры, столкнувшейся с «изнанкой модерна»[1403], но и – прежде всего – испытанию эпистемологических и поэтологических условий, границ и возможностей повествовательности вообще.
IX. Литература
Альбов В. Капиталистический процесс в изображении Мамина-Сибиряка (критический очерк) // Мир божий. 1900. № 1. С. 112–135; № 2. С. 62–94.
Амфитеатров А. В. Психопаты. Правда и вымысел. М., 1893.
–: Восьмидесятники: В 2 т. 2-е изд. СПб., 1908.
Арсеньев К. К. Современный роман в его представителях. VIII. Эмиль Зола // Вестник Европы. 1882. № 8. С. 643–696.
–: Теория экспериментального романа // Арсеньев К. К. Критические этюды по русской литературе. Т. 2. СПб., 1888. С. 336–357.
–: Салтыков-Щедрин (литературно-общественная характеристика). СПб., 1906.
Ахшарумов Д. Д. Случай дегенеративного психоза. История болезни девицы М. // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1883. № 2. С. 33–46.
Баженов Н. Н. Второй международный конгресс криминальной антропологии // Вопросы философии и психологии. 1890. № 2. С. 17–41.
–: Больные писатели и патологическое творчество // Баженов Н. Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. М., 1903. С. 10–40.
–: Символисты и декаденты // Баженов Н. Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. М., 1903. С. 41–75.
Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с фр., сост., вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 2000. С. 196–238.
Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга. Очерки столичной жизни [1887]. СПб., 1994.
–: Пролетариат и уличные типы Петербурга. Бытовые очерки. СПб., 1895.
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. Теория романа (1930–1961 гг.). М., 2012. С. 340–511.
Беляков С. А. Антропологическое исследование убийц // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1884. № 4/1. С. 19–48; № 4/2. С. 12–52.
–: Нравственное помешательство // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1885. № 5/2.
Берлин И. Русские мыслители / Пер. с англ. С. Александровского и В. Глушакова. М., 2017.
Берштейн Е. «Psychopathia sexualis» в России начала века: политика и жанр // Eros and Pornography in Russian Culture / Ed. by M. Levitt and A. Toporkov. М., 1999. P. 414–441.
Бехтерев В. М. Объективно-психологический метод в применении к изучению преступности. СПб., 1912.
Боборыкин П. Д. Новые приемы французской беллетристики // Неделя. 1872. 3 сентября.
–: Реальный роман во Франции. Чтение третье // Отечественные записки. 1876. № 7. С. 63–92.
–: У романистов (парижские впечатления) // Слово. 1878. № 11. С. 21–31.
–: Собрание романов, повестей и рассказов: В 12 т. СПб., 1897.
–: Воспоминания. Т. 1–2. М., 1965.
–: Сочинения: В 3 т. М., 1993.
Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков. М., 2005.
Букчин С. Влас Дорошевич. Судьба фельетониста. М., 2010.
Бушмин А. С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.; Л., 1959.
–: Из истории взаимоотношений М. Е. Салтыкова-Щедрина и Эмиля Золя // Русско-европейские литературные связи. Сборник статей к 70-летию со дня рождения М. П. Алексеева. М.; Л., 1966. С. 360–371.
Венюков М. И. О вырождении рода человеческого // Русская мысль. 1887. № 9. С. 50–65.
Весслинг Р. Смерть Надсона как гибель Пушкина: «образцовая травма» и канонизация поэта «больного поколения» / Пер. с англ. П. Барсковой, А. Богдановой и Ю. Заранкиной // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 122–153.
Вильчинский В. П. Русская критика 1880‐х годов в борьбе с натурализмом // Русская литература. 1974. № 4. С. 78–89.
Виноградов В. В. Школа сентиментального натурализма. Роман Достоевского «Бедные люди» на фоне литературной эволюции 40‐х годов // Виноградов В. В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 141–187.
Владимиров Л. Е. О значении врачей-экспертов в уголовном судопроизводстве. Харьков, 1870.
–: Психические особенности преступников по новейшим исследованиям // Юридический вестник. 1877. № 7–8. С. 105–142; № 9–10. С. 3–31.
Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского 1506–1933. М., 1933.
Вульферт А. К. Антрополого-позитивная школа уголовного права в Италии. Критическое исследование. Т. 1–2. М., 1887–1893.
Генкель М. А. Частотный словарь романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Пермь, 1974.
Гернет М. Н. Социальные факторы преступности. М., 1905.
Герцен А. И. La Russie [1849] // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 6. М., 1955. С. 150–186.
Гиляровский В. А. Избранное: В 3 т. М., 1960.
Головин К. Ф. [Орловский]. Русский роман и русское общество. СПб., 1897.
Гончаров И. А. Литературный вечер // Гончаров И. А. Собрание сочинений. Т. 7. М., 1954. С. 100–192.
Горький М. Разрушение личности [1909] // Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 24. М., 1953. С. 26–79.
–: О «карамазовщине»; Еще о «карамазовщине» (1913) // Ф. М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 389–399.
Гофштеттер И. Поэзия вырождения. Философские и психологические мотивы декадентства. СПб., 1902.
Грачева А. М. «Семейные хроники» начала XX века // Русская литература. 1982. № 1. С. 64–75.
Гребенщиков М. Новые теории преступления и наказания // Русское богатство. 1884. № 5. С. 344–368.
Гроссман Л. П. Натурализм Чехова // Вестник Европы. 1914. № 7. С. 218–247.
–: Семинарий по Достоевскому. М., 1922.
Груздев А. И. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Критико-биографический очерк. М., 1958.
Гюисманс Ж.-К. Наоборот / Пер. с фр. Е. Л. Кассировой под ред. В. М. Толмачева. М., 2005.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа [1871]. М., 1991.
Дарвин Ч. Сочинения: В 9 т. / Пер. с англ. М.; Л., 1935–1959.
Делёз Ж. Кино 1. Образ-движение // Делёз Ж. Кино / Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2004. С. 201–146.
–: Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М., 2011.
Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк в истории русского романа // Русская литература 1870–1890 годов. Т. 6. Свердловск, 1974. С. 59–83.
–: Д. Н. Мамин-Сибиряк в литературном контексте второй половины XIX века. Екатеринбург, 1992. С. 139–149.
Дорошевич В. М. Сахалин (каторга). М., 1903.
–: Избранные страницы. М., 1986.
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1990.
Дохман А. М. Наследственность в нервных болезнях. Казань, 1887.
Дриль Д. А. Преступный человек // Юридический вестник. 1882. № 11. С. 401–422; № 12. С. 483–550.
–: Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права (Вступление к исследованию о малолетних преступниках) // Юридический вестник. 1883. № 10. С. 171–232; № 11. С. 355–413.
–: Малолетние преступники. Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней. Т. 1–2. М., 1884–1888.
–: Учения позитивной школы уголовного права // Русские ведомости. № 1888. 25 февраля. С. 2–3.
–: Антропологическая школа и ее критики // Юридический вестник. 1890. № 12. С. 579–599.
–: В чем же состоят увлечения антропологической школы уголовного права? // Русская мысль. 1890. № 6. С. 132–146.
–: Психофизические типы в их соотношении с преступностью и ее разновидностями. М., 1890.
–: Тюремный мир. Русская мысль. 1891. № 2. С. 63–81.
–: Что говорилось на Международном уголовно-антропологическом конгрессе в Брюсселе // Русская мысль. 1893. № 2. С. 88–104; № 3. С. 60–87.
–: Преступность и преступники (уголовно-психологические этюды). СПб., 1895.
–: Ссылка во Франции и России. СПб., 1899.
–: Наука уголовной антропологии, ее предмет и задачи // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма. 1904. № 1/1. С. 12–20.
–: Учение о преступности и мерах борьбы с ней. СПб., 1912.
Дюков П. А. Преступление и помешательство // Вестник психиатрии. 1885. № 3/1. С. 1–29.
Желиховская В. П. Вырождение // Русское обозрение. 1897. № 43/1. С. 41–67; № 43/2. С. 646–679; № 44/1. С. 177–191; № 44/2. С. 620–644; № 45/1. С. 142–166; № 45/2. С. 685–719; № 46/1. С. 93–130.
Женетт Ж. Повествовательный дискурс / Пер. с фр. Н. Перцова // Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. Т. 2. Фигуры III. М., 1998. С. 60–281.
Животов Н. Н. Петербургские профили. Т. 1–4. СПб., 1894–1895.
Закревский И. П. Об учениях уголовно-антропологической школы // Журнал гражданского и уголовного права. 1893. № 1. С. 65–132.
Замошкин Н. Владимир Алексеевич Гиляровский // Гиляровский В. А. Избранное: В 3 т. Т. 1 (Трущобные люди. Мои скитания. Люди театра). М., 1960. С. 6–14.
Засодимский П. В. Красивое животное (по поводу «Нана») // Русское богатство. 1882. № 1. С. 1–34.
Зеньковский В. В. Федор Павлович Карамазов // О Достоевском II. Сборник статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933. С. 93–114.
Зола Э. Экспериментальный роман // Вестник Европы. 1879. № 9. С. 406–438.
Золотоносов М. Н. Братья Мережковские. Т. 1 (Отщеpenis Серебряного века. Роман для специалистов). М., 2003.
Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. / Пер. с фр. М., 1960–1967.
Ибсен Г. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3 / Пер. с норв. А. и П. Ганзен. М., 1957.
Иезуитова Л. А. О «натуралистическом» романе в русской литературе конца XIX – начала XX в. (П. Д. Боборыкин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. В. Амфитеатров) // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Л., 1984. С. 228–264.
История русского романа. Т. 1–2. М.; Л., 1962–1964.
Каминский В. И. К вопросу о гносеологии реализма и некоторых нереалистических методов в русской литературе // Русская литература. 1974. № 1. С. 28–45.
Канаев И. И. На пути к медицинской генетике // Канаев И. И. Избранные труды по истории науки. Сборник статей. СПб., 2000. С. 339–355.
Каннабих Ю. История психиатрии [1928]. М., 1994.
Каронин С. Мой мир // Каронин С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1958. С. 43–120.
Катаев В. Б. Проза Чехова. Проблемы интерпретации. М., 1979.
–: Иероним Иеронимович Ясинский // Катаев В. Б. Спутники Чехова. М., 1982. С. 465–467.
–: Литературные связи Чехова. М., 1989.
–: Эволюция и чудо в мире Чехова // Anton P. Čechov – philosophische und religiöse Dimensionen im Leben und Werk / Hg. von V. B. Kataev u. a. München, 1997. S. 351–356.
–: Натурализм на фоне реализма (о русской прозе рубежа XIX–XX вв.) // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2000. № 1. С. 31–53.
Клеман М. К. Начальный успех Зола в России // Язык и литература. 1930. № 5. С. 271–328.
–: Э. Зола в России // Литературное наследство. 1932. № 2. С. 235–248.
–: Эмиль Зола – сотрудник «Вестника Европы» // Клеман М. К. Эмиль Зола. Сборник статей. Л., 1934. С. 266–304.
Ковалевский П. И. Руководство к правильному уходу за душевными больными. 2-е изд. Харьков, 1880.
–: Судебно-психиатрические анализы. Харьков, 1880; Т. 1–2. 2-е изд. Харьков, 1881.
–: От редакции // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1883. № 1. С. 1–4.
–: Дмитрий Дриль. Малолетние преступники. Вып. I. 1884 // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1885. № 5/1. С. 108–110.
–: Общая психопатология. Харьков, 1886.
–: Лечение душевных и нервных болезней в России. Харьков, 1889.
–: К учению о сущности нейрастении // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1890. № 16. С. 1–22.
–: Иоанн Грозный и его душевное состояние [1893] // Ковалевский П. И. Одаренные безумием. Психиатрические эскизы из истории. Киев, 1994.
–: Нервные болезни нашего общества. Харьков, 1894.
–: Судебная общая психопатология. Варшава, 1896.
–: Судебно-психиатрические очерки. СПб., 1899.
–: Вырождение и возрождение. Социально-биологический очерк. СПб., 1899.
–: Психология преступника по русской литературе о каторге. СПб., 1900.
–: Вырождение и возрождение. Преступник и борьба с преступностью (Социально-биологические эскизы). 2-е изд. СПб., 1903.
–: Борьба с преступностью путем воспитания. СПб., 1908.
–: Психология русской нации. Воспитание молодежи. Александр III – царь-националист. М., 2005.
–: Русский национализм и национальное воспитание в России [1912]. М., 2006.
Колчинский Э. И. Биология Германии и России – СССР в условиях социально-политических кризисов первой половины XX века (между либерализмом, коммунизмом и национал-социализмом). СПб., 2006.
Коноплева Е. Тема преступления и наказания в сборнике Д. Н. Мамина-Сибиряка «Преступники» // Русская словесность. 2016. № 5. С. 77–80.
Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении) / Пер. с фр. И. А. Шапиро. Ростов н/Д., 2003.
Коростелев Г. М. и др. Критика мальтузианских и неомальтузианских взглядов. Россия XIX – начала XX в. М., 1978.
Корсаков С. С. Курс психиатрии. М., 1893.
Крафт-Эбинг Р. ф. Наш нервный век. Популярное сочинение о здоровых и больных нервах / Пер. с нем. СПб., 1885.
Кремлев А. Н. Можно ли называть Гамлета дегенератом? // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма. 1904. № 1/6. С. 369–379.
Крестовский В. В. Петербургские трущобы (книга о сытых и голодных) [1867]. Т. 1–2. Л., 1990.
Кривонос В. Ш. Архетипические образы и мотивы в романе Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» // Щедринский сборник. Статьи. Публикации. Библиография. Тверь, 2001. С. 77–90.
Кропоткин П. А. Взаимная помощь, как фактор эволюции / Пер. с англ. В. Батуринского под ред. автора. СПб., 1907.
Кубиков И. А. И. Свирский // Свирский А. И. Полное собрание сочинений. Т. 1. М.; Л., 1928. С. 7–18.
Кудрявцева Г. Н. Сюжетные ситуации и мотивы романа В. Крестовского «Петербургские трущобы» // Вопросы художественного метода, жанра и характера в русской литературе XVIII–XIX веков. М., 1975. С. 203–226.
Кулешов В. И. Нерешенные вопросы изучения русской литературы рубежа XIX–XX веков // Вопросы литературы. 1982. № 8. С. 50–74.
–: Реализм А. П. Чехова и натурализм и символизм в русской литературе его времени // Кулешов В. И. Этюды о русских писателях (исследования и характеристики). М., 1982. С. 245–261.
–: О русском натурализме и о П. Д. Боборыкине // Кулешов В. И. В поисках точности и истины. М., 1986. С. 170–200.
Лавров П. Исторические письма. 3-е изд. СПб., 1906.
Лакшин В. Я. Толстой и Чехов. 2-е изд. М., 1975.
Лахманн Р. Истерический дискурс Достоевского // Русская литература и медицина. Тело, предписания, социальная практика / Под ред. К. Богданова и Р. Николози. М., 2006. С. 148–169.
Леонтьев К. Н. Византизм и славянство [1875] // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. Философия и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 94–155.
Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1948.
Лесевич В. Экскурсии в области психиатрии. О психическом вырождении // Русская мысль. 1887. № 2. С. 1–34; № 3. С. 50–82.
Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 11 т. М., 1956–1958.
Лещинская Г. И. Эмиль Золя. Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке 1865–1974. М., 1975.
Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М., 1982.
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М., 1998.
Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство / Пер. с 4-го итал. изд. К. Тетюшиновой. СПб., 1885.
–: [Lombroso C.]. Новейшие успехи науки о преступнике / Пер. с итал. С. Л. Раппопорта. СПб., 1892.
–: [Lombroso C.]. Преступление / Пер. с итал. Г. И. Гордона. СПб., 1900.
–: Мое посещение Толстого. Женева, 1902; http://az.lib.ru/l/lombrozo_c/text_1902_moyo_poseshenie_tolstogo.shtml (09.02.2019).
Ломброзо и Ляски. Политическая преступность и революция по отношению к праву, уголовной антропологии и государственной науке / Пер. с итал. К. К. Толстого. СПб., 1906.
Ломброзо Ц., Ферреро Г. [Lombroso C., Ferrero G]. Женщина преступница и проститутка / Пер. с итал. Г. И. Гордона. Киев, 1897.
Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60‐х годов XIX века. Л., 1974.
Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике и топологии культуры: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992. С. 224–242.
–: Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 10–257.
–: Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1997.
Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.
Лукач Г. Рассказ или описание / Пер. с нем. Н. В. Волькенау // Литературный критик. 1936. № 8.
Любавский А. Д. Русские уголовные процессы. Т. 1–3. СПб., 1867.
Маевская Т. П. Идеи и образы русского народнического романа (70–80‐е годы XIX в.). Киев, 1975.
Макрейнольдс Л. П. И. Ковалевский: уголовная антропология и русский национализм / Авториз. пер. с англ. // Новое литературное обозрение. 2017. № 144. С. 342–359.
Мамин-Сибиряк Д. Н. Тот самый, который… // Русское богатство. 1893. № 7. С. 1–27.
–: Мамин-Сибиряк о себе самом // Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке / Под ред. З. А. Ерошкиной. Свердловск, 1936. С. 5–8.
–: Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1958.
Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 1998.
Марков Е. Критическая беседа // Русская речь. 1879. № 12. С. 268.
Матвеев П. Атавизм в современном французском романе («La bête Humaine» par E. Zola) // Русский вестник. 1890. № 11. С. 126–172.
Мах Э. Преобразование и приспособление в естественно-научном мышлении // Мах Э. Популярно-научные очерки / Пер. с нем. Г. А. Котляра. СПб., 1909. С. 171–184.
–: Умственный эксперимент // Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования / Пер. с нем. М., 2003. С. 191–207.
Менжулин В. И. Другой Сикорский. Неудобные страницы истории психиатрии. Киев, 2004.
Мережковский К. С. Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века. Берлин, 1903.
Мержеевский И. П. Об условиях, благоприятствующих развитию душевных и нервных болезней в России, и о мерах, направленных к их уменьшению // Труды первого съезда отечественных психиатров, происходившего в Москве с 5 по 11 января 1887 г. СПб., 1887. С. 15–37.
Мечников Л. И. Изнанка цивилизации // Дело. 1878. № 10. С. 89–132; № 11. С. 181–222; 1880. № 1. С. 49–84; № 2. С. 99–137.
–: [В. Басардин]. Новейший «Нана-турализм» // Дело. 1880. № 3. С. 36–65; № 5. С. 71–107.
–: Уголовная антропология // Русское богатство. 1886. № 3. С. 193–208; № 4. С. 99–112.
Минц З. Г. Новые романтики (К проблеме русского пресимволизма) // Тыняновский сборник. Третьи тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 144–156.
Минцлов Р. Р. Особенности класса преступников // Юридический вестник. 1881. № 10. С. 216–246; № 11. С. 355–418; № 12. С. 577–606.
Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зерновой. Лондон, 1992.
Михайловский Н. К. Письма о правде и неправде. II // Отечественные записки. 1877. № 12. С. 309–334.
–: Литературные заметки. Парижские письма Э. Зола // Отечественные записки. 1879. № 9. С. 96–119.
–: Записки современника. IV: О порнографии // Отечественные записки. 1881. № 5. С. 109–122.
–: Литература и жизнь // Русская мысль. 1893. № 1. С. 145–169.
–: Жестокий талант // Михайловский Н. К. Сочинения. Т. 5. СПб., 1897. С. 1–78.
–: Щедрин // Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 433–593.
Михневич В. О. Язвы Петербурга. Опыт историко-статистического исследования нравственности столичного населения [1886]. СПб.; М., 2003.
Могильнер М. Homo imperii: Очерки истории физической антропологии в России. М., 2008.
–: Прирожденный преступник в империи: атавизм, пережитки, бессознательные инстинкты и судьбы российской имперской модерности / Авториз. пер. с англ. // Новое литературное обозрение. 2017. № 144. С. 318–341.
Монье М. [Monnier M.]. Сбитый с толку. Экспериментальный роман // Русская мысль. 1883. № 5. C. 161–196; № 6. С. 212–252; № 7. С. 218–268; № 8. С. 215–264.
Муратова К. Д. Возникновение социалистического реализма в русской литературе. М.; Л., 1966.
–: Роман 1910‐х годов. Семейные хроники // Судьбы русского реализма начала XX века / Под ред. К. Д. Муратовой. Л., 1972. С. 97–134.
Мухин Н. И. Нейрастения и дегенерация // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1888. № 12/1. С. 49–67.
Набоков В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. С. Антонова, Е. Голышевой, Г. Дашевского, И. Клягиной, А. Курт и Е. Рубиновой. М., 2010.
Невский В. А., Федотов Д. Д. Отечественная невропатология и психиатрия XVIII и первой половины XIX века (1700–1860 гг.). Библиографический указатель. М., 1964.
Никитин Н. В. [Азовец]. Преступный мир и его защитники [1902]. М., 2003.
Николаев Д. П. Смех Щедрина. Очерки сатирической поэтики. М., 1988.
Николози Р. Апокалипсис перенаселения: политическая экономия и мысленные эксперименты у Т. Мальтуса и В. Одоевского / Пер. с нем. М. Варгин // Новое литературное обозрение. 2015. № 132/2. C. 187–200.
Ницше Ф. Мнимая молодость // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 13: Черновики и наброски 1887–1889 гг. / Пер. с нем. В. М. Бакусева и А. В. Гараджи. М., 2006. С. 166–167.
–: Случай «Вагнер» / Пер. с нем. Н. Н. Полилова // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 5: По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. Случай «Вагнер». М., 2012. С. 383–422.
Нордау М. Вырождение / Пер. с нем. В. Генкена. Киев, 1894.
–: Вырождение / Пер. с нем. Р. И. Сементковского. СПб., 1894.
–: Вырождение. Современные французы / Пер. с нем. Р. И. Сементковского и А. В. Перелыгиной. М., 1995.
Нымм Е. Новый человек в повести И. Ясинского «Учитель» (1886) // Блоковский сборник. Т. 15 (Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX–XX вв.). Тарту, 2000. С. 90–107.
–: Литературная позиция Иеронима Ясинского (1880–1890‐е годы). 2003; http://www.ruthenia.ru/document/534033.html (09.02.2019).
Оболенский Л. Е. Обо всем // Русское богатство. 1883. № 5–6. С. 633–637.
–: Гениальность и помешательство. Соч. Ломброзо // Русское богатство. 1885. № 7. С. 163–169.
Овсянико-Куликовский Д. Н. Петр Дмитриевич Боборыкин // История русской литературы XIX в. Т. 5 / Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. М., 1910. С. 134–144.
–: Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве // Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. Т. 6. СПб., 1911. С. 61–125.
Огнирский Б. Условия прогресса в сфере положительного знания // Дело. 1873. № 5. С. 44–64; № 6. С. 1–26.
Одоевский В. Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1–2. М., 1981.
Оршанский И. Г. Наши преступники и учение Ломброзо // Санитарное дело. 1890. № 18. С. 202–207; № 20. С. 234–239; № 24/25. С. 307–312.
–: Роль наследственности в передаче болезней. СПб., 1897.
–: Атавизм и вырождение. М., 1910.
Отрадин М. Роман В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» // Крестовский В. В. Петербургские трущобы (книга о сытых и голодных) [1867]. Т. 1. Л., 1990. С. 3–24.
Павлова М. М. Преодолевающий золаизм, или Русское отражение французского символизма (ранняя проза Ф. Сологуба в свете «экспериментального метода») // Русская литература. 2002. № 1. С. 211–220.
Пазухин А. Д. Современное состояние России и сословный вопрос // Русский вестник. 1885. № 1. С. 5–58.
Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М., 1999.
Петрюк П. Т. Профессор Павел Иванович Ковалевский – выдающийся отечественный ученый, психиатр, психолог, публицист и бывший сабурянин (К 160-летию со дня рождения) // Психiчне здоров’я. 2009. № 3. С. 77–87.
Пильд Л. Иероним Ясинский: позиция и репутация в литературе // Блоковский сборник. Т. 16 (Александр Блок и русская литература первой половины XX века). Тарту, 2003. С. 36–51.
Плещеев А. Иностранная литература. «Брюхо Парижа» (Le Ventre de Paris) роман Эмиля Зола. 1873 // Отечественные записки. 1873. № 7. С. 27–81.
Победоносцев К. П. Болезни нашего времени [1896] // Победоносцев К. П. Сочинения. СПб., 1996. С. 321–351.
Помяловский Н. Г. Полное собрание сочинений. СПб., 1897.
Попов П. Нейрастения и патофобия // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1898. № 32. С. 20–114.
Потапов М. А., Евсиков В. И. Теория полового отбора Ч. Дарвина и перспективы ее развития в свете эволюционных идей Д. К. Беляева // Вестник ВОГиС. 2009. Т. 13/2. С. 390–400.
Раковский К. Г. [Е. Станчева]. «Несчастненькие». О преступлениях и преступниках. СПб., 1900.
Реизов Б. Г. К истории замысла «Братьев Карамазовых» // Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970. С. 129–158.
Рейтблат А. И. «Русский Габорио» или ученик Достоевского? // Шкляревский А. Что побудило к убийству? (Рассказы следователя). М., 1993. С. 5–13.
Розенбах П. Я. О нейрастении // Вестник клинической и судебной психиатрии. 1889. № 6. С. 111–119.
Россолимо Г. И. Искусство, больные нервы и воспитание (по поводу декадентства). М., 1901.
Рыбаков Ф. Е. Современные писатели и больные нервы. Психиатрический этюд. М., 1908.
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1965–1977.
Самосюк Г. Ф. Библеизмы в структуре образа Иудушки Головлева // Литературоведение и журналистика. Саратов, 2000. С. 91–102.
Сафронов А. В. Виноватые, отверженные, несчастные. Проблемы преступления и наказания в русской художественной документалистике конца XIX – начала XX века. Рязань, 2001.
Свешников Н. Петербургские Вяземские трущобы и их обитатели. СПб., 1900.
Свирский А. И. Мир нищих и пропойц. СПб., 1898.
–: Мир трущобный. Очерки. СПб., 1898.
–: Казенный дом. Тюрьмы, надзиратели, арестанты. М., 2002.
Свирский А. И., Максимов С. М. История нищенства на Руси. М., 2009.
Сементковский Р. И. Вырождение или невежество? // Сементковский Р. И. Русское общество и литература. От Кантемира до Чехова. СПб., б. г. С. 492–517.
–: Назад или вперед? Предисловие к русскому изданию книги «Вырождение» 1894 г. // Нордау М. Вырождение. Современные французы / Пер. с нем. М., 1995. С. 5–18.
Сендерович С. Чехов – с глазу на глаз. История одной одержимости А. П. Чехова. СПб., 1994.
Сикорский И. А. Задачи нервно-психической гигиены и профилактики // Труды первого съезда отечественных психиатров, происходившего в Москве с 5 по 11 января 1887 г. СПб., 1887. С. 1055–1064.
–: Психопатическая эпидемия 1892 года в Киевской губернии. Киев, 1893.
–: Биологические вопросы в психологии и психиатрии // Вопросы нервно-психической медицины. 1904. № 1. С. 79–114.
Сироткина И. Е. Классики и психиатры: психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX века / Пер. с англ. автора. М., 2008.
Скабичевский А. М. Художественность «Семейного суда» [1875] // М. Е. Салтыков-Щедрин как сатирик, художник и публицист / Под ред. Н. Н. Покровского. М., 1906. С. 233–242.
–: Французские романтики (историко-литературные очерки) // Отечественные записки. 1880. № 1. С. 81–114.
–: Сочинения. Т. 1–2. СПб., 1903.
Смирнов И. П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
–: Преодоление литературы в «Братьях Карамазовых» и их идейные источники // Die Welt der Slaven. 1996. № 41/2. S. 275–298.
Смирнов М. М. Дуэль в «Дуэли» // Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература. М., 1978. С. 66–72.
Станковић Б. Сабрана дела Борисава Станковића. Кн. 3 (Нечиста крв). Београд, 1970.
Старыгина Н. Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870‐х годов. М., 2003.
Тагер Е. Б. Проблемы реализма и натурализма // Русская литература конца XIX – начала XX в. Девяностые годы. М., 1968. С. 142–188.
Тарновская П. Гениальность и помешательство по Ц. Ломброзо // Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии. 1883. № 1. С. 190–206.
–: Ц. Ломброзо. Преступный человек // Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии. 1885. № 3. С. 278–296.
Темлинский С. Золаизм. Критический этюд. М., 1881.
Тихомиров Л. А. Конец века // Русское обозрение. 1893. № 23. С. 368–381.
Ткачев П. Н. Больные люди [1873] // Ткачев П. Н. Избранные сочинения. Т. 3. М., 1932. С. 5–48.
–: Тенденциозный роман // Дело. 1873. № 2. С. 1–29; № 6. С. 1–37; № 7. С. 364–396.
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М., 1999.
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 3. СПб.; М., 1907.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928–1958.
Троицкий П. А. Итоги кефалометрии у преступников в связи с некоторыми признаками физического их вырождения (Материалы для судебной психопатологии) // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1885. № 5/2. С. 1–93.
Труды первого съезда отечественных психиатров, происходившего в Москве с 5 по 11 января 1887 г. СПб., 1887.
Усманов Л. Д. Художественные искания в русской прозе конца XIX в. Ташкент, 1975.
Федотов Д. Д. Очерки по истории отечественной психиатрии (вторая половина XVIII и первая половина XIX века). М., 1957.
Феоктистов Е. М. [V. W.]. Нравы и литература во Франции // Русский вестник. 1873. № 11. С. 221–261; № 12. С. 550–591.
Флоринский В. М. Усовершенствование и вырождение человеческого рода. Волгоград, 1926.
Фрезе А. У. Краткий курс психиатрии. СПб., 1881.
Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / Пер. с нем. М. В. Вульфа. Мн., 1990.
Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. М., 1964.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб., 1994.
Фуко М. Воля к истине: По ту сторону власти, знания и сексуальности / Пер. с фр. С. Табачниковой. М., 1996.
–: Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. М., 1999.
–: Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году / Пер. с фр. А. В. Шестакова. СПб., 2004.
–: «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / Пер. с фр. Е. А. Самарской. СПб., 2005.
–: Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 3. Избранные политические статьи, выступления и интервью / Пер. с фр. Б. М. Скуратова под ред. В. П. Большакова. М., 2006. С. 191–204.
–: Мысль о Внешнем / Пер. с фр. Т. Вайзер // Современные стратегии культурологических исследований: Труды Ин-та европейских культур. Вып. 2 / Отв. ред. Т. А. Филиппова. М., 2008. С. 318–347.
–: Рождение клиники / Пер. с фр. А. Ш. Тхостова. М., 2010.
Ханзен-Лёве О. А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм / Пер. с нем. С. Бромерло, А. Ц. Масевича и А. Е. Барзаха. СПб., 1999.
Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. XIV. Письма 1838–1876 годов. М., 1949.
Чертелев Д. Н. Критика вырождения и вырождение критики // Русский вестник. 1897. № 3. С. 56–82; № 4. С. 79–102; № 11. С. 1–22; № 12. С. 1–28.
Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1974–1983.
Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М., 1964.
Чиж В. Ф. Достоевский как психопатолог [1885] // Чиж В. Ф. Болезнь Н. В. Гоголя. Записки психиатра. М., 2001. С. 287–384.
–: Пушкин как идеал душевного здоровья [1889] // Чиж В. Ф. Болезнь Н. В. Гоголя. Записки психиатра. М., 2001. С. 419–437.
–: Лекции по судебной психопатологии. СПб., 1890.
–: Новые сочинения по криминальной антропологии // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1891. № 17. С. 147–155.
–: Нравственность душевнобольных // Вопросы философии и психологии. 1891. № 7. С. 122–148.
–: К учению об органической преступности // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1893. № 21. С. 137–176.
–: Обзор сочинений по криминальной антропологии // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1893. № 22. С. 105–118.
–: Преступный человек перед судом врачебной науки. Казань, 1894.
–: Криминальная антропология. Одесса, 1895.
–: И. С. Тургенев как психопатолог [1899] // Чиж В. Ф. Болезнь Н. В. Гоголя. Записки психиатра. М., 2001. С. 204–286.
–: Достоевский как криминолог [1901] // Чиж В. Ф. Болезнь Н. В. Гоголя. Записки психиатра. М., 2001. С. 384–418.
Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971.
Чупринин С. И. Фигуранты – среда – реальность (К характеристике русского натурализма) // Вопросы литературы. 1979. № 7. С. 125–160.
–: Труды и дни П. Д. Боборыкина // Боборыкин П. Д. Сочинения: В 3 т. Т. 1. М., 1993. С. 5–26.
Шайкевич М. Психопатологический метод в русской литературной критике // Вопросы философии и психологии. 1904. № 3. С. 309–334; № 4. С. 465–484.
Шелгунов Н. В. Недоразумения нашего художественного творчества (по поводу реальной теории Золя) // Дело. 1879. № 9. С. 309–340.
Шмид В. Нарратология. М., 2003.
Щенников Г. К. Русский натурализм и его уроки // Русская литература. 1992. № 2. С. 11–27.
Щербак А. Е. Преступный человек по Ломброзо. СПб., 1889.
Щукин В. Г. Поэзия усадьбы и проза трущобы // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1994. № 2. С. 9–17.
–: Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М., 2007.
Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Пер. с англ. и итал. С. Серебряного. СПб., 2007.
Эльсберг Я. Стиль Щедрина. М., 1940.
Энгельштейн Л. «Комбинированная» неразвитость: дисциплина и право в царской и советской России / Пер. с англ. С. Силаковой под ред. автора // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 31–49; http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/engel.html (09.02.2019)
Юдин Т. И. О характере наследственных взаимоотношений при душевных болезнях // Современная психиатрия. 1913. № 7. С. 568–578.
–: Очерки истории отечественной психиатрии. М., 1951.
Язвы Петербурга. Сборник газетного фельетона конца XIX – начала XX вв. / Л. Я. Лурье (ред.). Л., 1990.
Якобий П. И. Основы административной психиатрии. Орел, 1900.
Яковлев А. А. О нашей современной нервности // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1891. № 17. С. 25–49.
Якубович П. Ф. [Л. Мельшин]. Русская каторга перед судом кафедральной науки // Русское богатство. 1900. № 7/2. С. 1–19.
Ясинский И. И. [О. И.]. Эмиль Зола и Клод Бернар // Слово. 1879. № 10. С. 152–157.
–: [Максим Белинский]. Старый сад // Ясинский И. И. Полное собрание повестей и рассказов. Т. 2 (1882–1883). СПб., 1888. С. 190–283.
–: Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М.; Л., 1926.
Abbott H. P. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge, 2002.
Ackerknecht E. Diathesis: The Word and the Concept in Medical History // Bulletin of the History of Medicine. 1982. № 56. P. 317–325.
–: Kurze Geschichte der Psychiatrie. 3. Aufl. Stuttgart, 1985.
Adams M. B. Eugenics in Russia. 1900–1940 // The Wellborn Science. Eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia / Ed. by M. B. Adams. New York; Oxford, 1990. P. 153–216.
Ajouri Ph. Erzählen nach Darwin. Die Krise der Teleologie im literarischen Realismus: Friedrich Theodor Vischer und Gottfried Keller. Berlin, 2007.
Albers I. Sehen und Wissen. Das Photographische im Romanwerk Emile Zolas. München, 2002.
Albrecht A., Danneberg L. First Steps Toward an Explication of Counterfactual Imagination // Counterfactual Thinking – Counterfactual Writing / Ed. by D. Birke et al. Berlin, 2011. P. 12–29.
Alt P.-A. Ästhetik des Bösen. München, 2010.
Andriopoulos S. Unfall und Verbrechen. Konfigurationen zwischen juristischem und literarischem Diskurs um 1900. Pfaffenweiler, 1996.
Arndt R. Die Neurasthenie (Nervenschwäche). Ihr Wesen, ihre Bedeutung und Behandlung. Wien; Leipzig, 1885.
Baake K. Metaphor and Knowledge. The Challenges of Writing Science. New York, 2003.
Baer A. Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. Leipzig, 1893.
Baguley D. Naturalist Fiction: The Entropic Vision. Cambridge, 1990.
–: Zola and Darwin: A Reassessment // The Evolution of Literature: Legacies of Darwin in European Cultures / Ed. by N. Saul and S. J. James. Amsterdam; New York, 2011. P. 201–212.
–: Darwin, Zola and Dr Prosper Luca’s «Treatise on Natural Heredity» // The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe. Vol. 4 / Ed. by Th. F. Glick and E. Shaffer. London et al., 2014. P. 416–430.
Barthelmeß A. Vererbungswissenschaft. Freiburg; München, 1952.
Bazerman Ch. Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science. London, 1988.
Beard G. M. A Practical Treatise on Nervous Exhaustion (Neurasthenia). Its Symptoms, Nature, Sequences, Treatment. New York, 1880.
–: Die Nervenschwäche (Neurasthenia). Ihre Symptome, Natur, Folgezustände und Behandlung. Leipzig, 1881.
Becker E. M. Medicine, Law, and the State in Imperial Russia. Budapest; New York, 2011.
Becker P. Physiognomie des Bösen. Cesare Lombrosos Bemühungen um eine präventive Entzifferung des Kriminellen // Der exzentrische Blick. Gespräch über Physiognomik / Hg. von C. Schmölders. Berlin, 1996. S. 163–186.
–: Verderbnis und Entartung. Eine Geschichte der Kriminologie des 19. Jahrhunderts als Diskurs und Praxis. Göttingen, 2002.
Beckerhoff F. Monster und Menschen: Verbrechererzählungen zwischen Literatur und Wissenschaft (Frankreich 1830–1900). Würzburg, 2007.
Beer D. The Medicalization of Religious Deviance in the Russian Orthodox Church (1880–1905) // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. № 5/3. P. 451–482.
–: Blueprints for the Change: The Human Sciences and the Coercive Transformation of Deviants in Russia, 1890–1930 // Osiris. 2007. № 22. P. 26–47.
–: Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity. Ithaca; London, 2008.
–: The House of the Dead: Siberian Exile Under the Tsars. London, 2016.
Beer G. Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. 3rd ed. Cambridge, 2009.
Behrens R., Guthmüller M. Krankes/gesundes Leben schreiben. Emile Zolas Le docteur Pascal im Umgang mit dem Hereditäts– und Lebenswissen des ausgehenden 19. Jahrhunderts // Krankheit schreiben. Aufzeichnungsverfahren in Medizin und Literatur / Hg. von Y. Wübben und C. Zelle. Göttingen, 2013. S. 432–457.
Belknap R. L. The Genesis of «The Brothers Karamazov»: The Aesthetics, Ideology, and Psychology of Making a Text. Evanston, 1990.
Bender N. Voltaire zwischen Aufklärung und Rokoko. Luxus als Notwendigkeit // Das «andere» 18. Jahrhundert: Komparatistische Blicke auf das Rokoko der Romania / Hg. von A. Oster. Heidelberg, 2010. S. 33–49.
Benedikt M. Anatomische Studien an Verbrecher-Gehirnen: für Anthropologen, Mediciner, Juristen und Psychologen. Wien, 1879.
Bergengruen M. u. a. (Hg.). Neurasthenie: Die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur. Freiburg i. Br., 2010.
Bernheimer Ch. Decadent Subjects: The Idea of Decadence in Art, Literature, Philosophy, and Culture of the Fin de Siècle in Europe. Baltimore; London, 2002.
Bespalova A. G. u. a. (Hg.). Journalistische Genres in Deutschland und Russland. Handbuch. Köln, 2010.
Binswanger O. Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie: Vorlesungen für Studierende und Ärzte. Jena, 1896.
Bisi R. Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità. Milano, 2004.
Blanck K. P. D. Boborykin: Studien zur Theorie und Praxis des naturalistischen Romans in Russland. Wiesbaden, 1990.
Bleuler E. Der geborene Verbrecher. Eine kritische Studie. München, 1896.
Blumenberg H. Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt a. M., 1998.
Boele O. Erotic Nihilism in Late Imperial Russia. The Case of Mikhail Artsybashev’s «Sanin». Madison, 2009.
Bojanowska E. Chekhov’s «The Duel», or How to Colonize Responsibly // Chekhov for the 21th Century / Ed. by A. Brintlinger and C. Apollonio. Bloomigton, 2012.
Bölsche W. Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Poesie. Prolegomena einer realistischen Ästhetik [1887]. Tübingen, 1976.
Bono J. J. Science, Discourse, and Literature. The Role/Rule of Metaphor in Science // Literature and Science. Theory and Practice / Ed. by S. Peterfreund. Boston, 1990. P. 59–89.
Booth Ch. Life and Labour of the People in London: In 7 vols. London; New York, 1892–1897.
Borgards R. u. a. (Hg.). Literatur und Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart; Weimar, 2013.
Bourget P. Charles Baudelaire [1881] // Bourget P. Œuvre Complètes. Vol. 1 (Critique). Paris, 1899. P. 3–20.
Bowers K., Kokobobo A. (eds.). Russian Writers and the Fin de Siècle: The Twilight of Realism. Cambridge, 2015.
Bowler P. J. Evolution: the History of an Idea. Berkeley et al., 1984.
–: The Non-Darwinian Revolution. Reinterpreting a Historical Myth. Baltimore; London, 1988.
Brändli S. u. a. (Hg.). Zum Fall machen, zum Fall werden. Wissensproduktion und Patientenerfahrung in Medizin und Psychiatrie des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt a. M.; New York, 2009.
Brandt Ch. Metapher und Experiment. Von der Virusforschung zum genetischen Code. Göttingen, 2004.
Brendel E. Intuition Pumps and the Proper Use of Thought Experiments // Dialectica. 2004. № 58/1. P. 89–108.
Brintlinger A. Writing about Madness: Russian Attitudes toward Psyche and Psychiatry, 1887–1907 // Madness and the Mad in Russian Culture / Ed. by A. Brintlinger and I. Vinitsky. Toronto et al., 2007. P. 173–191.
Brooks P. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York, 1984.
Brown J. R. The Laboratory of the Mind: Thought Experiments in the Natural Sciences. London; New York, 1991.
Brown J. V. The Professionalization of Russian Psychiatry: 1857–1911. Ph. D. Diss. University of Pennsylvania, 1981.
–: Psychiatrists and the State in Tsarist Russia // Social Control and the State: Historical and Comparative Essays / Ed. by S. Cohen et al. Oxford, 1983. P. 267–287.
–: Revolution and Psychosis: The Mixing of Science and Politics in Russian Psychiatric Medicine, 1905–13 // Russian Review. 1987. № 46. P. 283–302.
–: Social Influences on Psychiatric Theory and Practice in Late Imperial Russia // Health and Society in Revolutionary Russia / Ed. by S. G. Solomon et al. Bloomington; Indianapolis, 1990. P. 27–44.
–: Heroes and Non-Heroes: Recurring Themes in the Historiography of Russian-Soviet Psychiatry // Discovering the History of Psychiatry / Ed. by M. S. Micale and R. Porter. New York; Oxford, 1994. P. 297–307.
–: Professionalization and Radicalization: Russian Psychiatrists Respond to 1905 // Russia’s Missing Middle Class: The Professions in Russian History / Ed. by H. D. Balzer. Armonk, 1996. P. 143–167.
Buckler J. A. Mapping St. Petersburg. Imperial Text and Cityshape. Princeton, 2005.
Bulferetti L. Cesare Lombroso. Torino, 1975.
Bulhof I. N. The Language of Science: A Study of the Relationship between Literature and Science in the Perspective of a Hermeneutical Ontology, with a Case Study of Darwin’s The Origin of Species. Leiden et al., 1992.
Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton, 2010.
Burgener P. Die Einflüsse des zeitgenössischen Denkens in Morels Begriff der «dégénérescence». Zürich, 1964.
Busch W. Konstantin Merežkovskijs Menschheitstraum // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1966. № 202. S. 441–446.
Bynum W., Neve M. Hamlet on the Couch // American Scientist. 1986. № 74/4. P. 390–396.
Campbell J. A. The Invisible Rhetorician: Charles Darwin’s «Third Party» Strategy // Rhetorica. 1989. № 7/1. P. 55–85.
–: Scientific Discovery and Rhetorical Invention: The Path to Darwin’s Origin // The Rhetorical Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry / Ed. by H. W. Simons. Chicago; London, 1990. P. 58–90.
–: Charles Darwin: Rhetorician of Science // Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies / Ed. by R. A. Harris. Mahwah, 1997. P. 3–17.
Canguilhem G. Le normal et le pathologique. Paris, 1966.
Capuana L. Gli «ismi» contemporanei [1896]. Milano, 1973.
Carroll J. Literary Darwinism: Evolution, Human Nature, and Literature. New York; London, 2004.
Cartron L. Degeneration and «Alienism» in Early Nineteenth-Century France // Heredity Produced: At the Crossroads of Biology, Politics, and Culture, 1500–1870 / Ed. by S. Müller-Wille and H.-J. Rheinberger. Cambridge, A. M. London, 2007. P. 155–174.
Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 4 (Von Hegels Tod bis zur Gegenwart [1832–1932]). Darmstadt, 1994.
Ceccarelli L. Shaping Science with Rhetoric. The Cases of Dobzhansky, Schrödinger and Wilson. Chicago; London, 2001.
Chamberlin J. E., Gilman S. L. (eds.). Degeneration: The Dark Side of Progress. New York, 1985.
Chevrel Y. Le Naturalisme. Paris, 1982.
–: Probleme einer komparatistischen Literaturgeschichtsschreibung – am Beispiel des Naturalismus in den europäischen Literaturen // Germanistik und Komparatistik. DFG-Symposion 1993 / Hg. von H. Birus. Stuttgart, 1995. S. 466–480.
Childs D. J. Modernism and Eugenics: Woolf, Eliot, Yeats, and the Culture of Degeneration. Cambridge, 2001.
Clark W. Narratology and the History of Science // Studies in History and Philosophy of Science. 1995. № 26/1. P. 1–71.
Crook P. Darwin’s Coat-Tails. Essays on Social Darwinism. New York et al., 2007.
Cuddy L. A., Roche C. M. (eds.). Evolution and Eugenics in American Literature and Culture, 1880–1940: Essays on Ideological Conflict and Complicity. Lewisburg; London, 2003.
Danneberg L. u. a. (Hg.). Metapher und Innovation. Die Rolle der Metapher im Wandel von Sprache und Wissenschaft. Bern u. a., 1995.
Dannenberg H. P. Coincidence and Counterfactuality. Plotting Time and Space in Narrative Fiction. Lincoln; London, 2008.
Darwin Ch. The Origin of Species by Means of Natural Selection [1859]. London, 1985.
–: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex [1871]. London, 2004.
Darwin G. On Beneficial Restrictions to Liberty of Marriage // Contemporary Review. 1873. № 22. P. 412–426.
Davies D. Thought Experiments and Fictional Narratives // Croatian Journal of Philosophy. 2007. № 7/1. P. 29–45.
Depew D. J. The Rhetoric of the Origin of Species // The Cambridge Companion to the «Origin of Species» / Ed. by M. Ruse and R. J. Richards. Cambridge, 2009. P. 237–255.
Dezalay A. (éd.). Zola sans frontières. Actes du colloque international de Strasbourg (Mai 1994). Strasbourg, 1996.
Dirscherl K. Der Roman der Philosophen. Diderot – Rousseau – Voltaire. Tübingen, 1985.
Doležel L. Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds. Baltimore, 1998.
Dowbiggin I. R. Degeneration and Hereditarianism in French Mental Medicine 1840–90: Psychiatric Theory as Ideological Adaptation // The Anatomy of Madness: Essays in the History of Psychiatry. Vol. 1 (People and Ideas) / Ed. by W. F. Bynum and R. Porter. London; New York, 1985. P. 188–232.
–: Inheriting Madness: Professionalization and Psychiatric Knowledge in Nineteenth Century France. Berkeley, 1991.
–: Back to the Future: Valentin Magnan, French Psychiatry, and the Classification of Mental Diseases, 1885–1925 // Social History of Medicine. 1996. № 9/3. P. 383–408.
Draitser E. A. Techniques of Satire: The Case of Saltykov-Ščedrin. Berlin; New York, 1994.
Dralyuk B. Western Crime Fiction Goes East: The Russian Pinkerton Craze 1907–1934. Leiden; Boston, 2012.
Drost W. Du Progrès à rebours. Fortschrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im 19. Jahrhundert: Das Beispiel Frankreich // Fortschrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im Europa des 19. Jahrhunderts / Hg. von W. Drost. Heidelberg, 1986. S. 13–29.
Dudek G., Warm G. Zur typologischen Entwicklung des russischen Gesellschaftsromans 1880–1917 // Zeitschrift für Slawistik. 1968. № 13. S. 349–372.
Duncan Ph. A. The Fortunes of Zola’s Parizskie Pis’ma in Russia // The Slavic and East European Journal. 1959. № 3/2. P. 107–121.
–: Chekhov’s «An Attack of Nerves» as «Experimental» Narrative // Chekhov’s Art of Writing. A Collection of Critical Essays / Ed. by P. Debreczeny. Columbus, 1977. P. 112–122.
Durkheim É. Les règles de la méthode sociologique. Paris, 1895.
Durkin A. R. Allusion and Dialogue in «The Duel» // Reading Chekhov’s Text / Ed. by R. L. Jackson. Evanston, 1993. P. 169–178.
Düwell S., Pethes N. (Hg.). Fall. Fallgeschichte. Fallstudie. Theorie und Geschichte einer Wissensform. Frankfurt a. M.; New York, 2014.
Ehre M. A Classic of Russian Realism: Form and Meaning in «The Golovlyovs» // Studies in the Novel. 1977. № 9/1. P. 3–16.
Ellenberger H. F. Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung. Zürich, 1985.
Engels E.-M. Charles Darwin. München, 2007.
–: Charles Darwins evolutionäre Theorie der Erkenntnis– und Moralfähigkeit // Charles Darwin und seine Wirkung / Hg. von E.-M. Engels. Frankfurt a. M., 2009. S. 303–339.
Engels E.-M., Glick Th. F. (eds.). The Reception of Charles Darwin in Europe. Vol. 1–2. London; New York, 2008.
Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca; London, 1992.
Engstrom E. J. «On the Question of Degeneration» by Emil Kraepelin (1908) // History of Psychiatry. 2007. № 18/3. P. 389–398.
Erhart W. Familienmänner. Über den literarischen Ursprung moderner Männlichkeit. München, 2001.
Fahnestock J. Rhetorical Figures in Science. New York; Oxford, 1999.
Fando R. A. Die Anfänge der Eugenik in Russland. Kognitive und soziokulturelle Aspekte. Berlin, 2014.
Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York, 2002.
Féré Ch. Dégénérescence et criminalité: essai physiologique. Paris, 1888.
Ferri E. Das Verbrechen als sociale Erscheinung. Grundzüge der Kriminal-Sociologie. Leipzig, 1896.
–: Polemica in difesa della scuola criminale positiva // Ferri E. Studi sulla criminalità. 2 ed. Torino, 1926. P. 167–248.
Fiedler F. Aus der Literatenwelt. Charakterzüge und Urteile – Tagebuch. Göttingen, 1996.
Finke M. C. Seeing Chekhov: Life and Art. Ithaca; London, 2005.
Fischer-Homberger E. Die Neurasthenie im Wettlauf des zivilisatorischen Fortschritts. Zur Geschichte des Kampfes um Prioritäten // Neurasthenie: Die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur / Hg. von M. Bergengruen u. a. Freiburg i. Br., 2010. S. 23–69.
Föcking M. Pathologia litteralis. Erzählte Wissenschaft und wissenschaftliches Erzählen im französischen 19. Jahrhundert. Tübingen, 2002.
Frank S. K. Dostoevskij, Jadrincev und Čechov als «Geokulturologen» Sibiriens // Gedächtnis und Phantasma. Festschrift für Renate Lachmann / Hg. von S. K. Frank u. a. München, 2001. S. 32–47.
–: Anthropologie als Instrument imperialer Identitätsstiftung: Russisch-sibirische Rassentheorien zwischen 1860 und 1890 // Kultur in der Geschichte Russlands / Hg. von B. Pietrow-Ennker. Göttingen, 2007. S. 203–223.
Frey Ch. Am Beispiel der Fallgeschichte. Zu Pinels «Traité médico-philosophique sur l‘aliénation» // Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen / Hg. von J. Ruchatz u. a. Berlin, 2007. S. 263–278.
Friedlander J. L. Psychiatrist and Crisis in Russia, 1880–1917. Ph. D. Diss. University of California, Berkeley, 2007.
Frierson C. A. Peasant Icons: Representations of Rural People in Late 19th Century Russia. New York; Oxford, 1993.
Frigessi D. La scienza della devianza. Introduzione // Lombroso C. Delitto, genio, follia. Scritti scelti / A cura di D. Frigessi et al. 2 ed. Torino, 2000. P. 333–373.
Fusso S. Dostoevskii and the Family // The Cambridge Companion to Dostoevskii / Ed. by W. J. Leatherbarrow. Cambridge, 2002. P. 175–190.
Gabriel G. Logik und Rhetorik der Erkenntnis. Zum Verhältnis von wissenschaftlicher und ästhetischer Weltauffassung. Paderborn u. a., 1997.
Gadebusch Bondio M. Die Rezeption der kriminalanthropologischen Theorien von Cesare Lombroso in Deutschland 1880–1914. Husum, 1995.
–: La Germania e i paesi di lingua tedesca // Cesare Lombroso cento anni dopo / A cura di S. Montaldo e P. Tappero. Torino, 2009. P. 213–234.
Galassi S. Kriminologie im Deutschen Kaiserreich. Geschichte einer gebrochenen Verwissenschaftlichung. Stuttgart, 2004.
Galton F. Hereditary Genius. An Inquiry into Its Laws and Consequences. London, 1869.
Gamper M. Normalisierung/Denormalisierung, experimentell. Literarische Bevölkerungsregulierung bei Emile Zola // Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. Jahrhundert / Hg. von M. Krause und N. Pethes. Würzburg, 2005. S. 149–168.
–: (Hg.): Experiment und Literatur. Themen, Methoden, Theorien. Göttingen, 2010.
Gamper M. u. a. (Hg.). «Es ist nun einmal zum Versuch gekommen». Experiment und Literatur I (1580–1790). Göttingen, 2009.
–: «Wir sind Experimente: wollen wir es auch sein!» Experiment und Literatur II (1790–1890). Göttingen, 2010.
–: «Es ist ein Laboratorium, ein Laboratorium für Worte». Experiment und Literatur III (1890–2010). Göttingen, 2011.
Garofalo R. «Di una nuova scuola penale in Russia» // Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale. 1884. № 5. P. 328–331.
Gatlin S. H. Charles Darwins Idee der natürlichen Selektion im Journal of Mental Science (1859–1875) // Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert / Hg. von E.-M. Engels. Frankfurt a. M., 1995. S. 262–280.
Gauthier P. E. Zola’s Literary Reputation in Russia prior to «L’Assommoir» // The French Review. 1959. № 33/1. P. 37–44.
Gendler T. S. Galileo and the Indispensability of Scientific Thought Experiments // The British Journal for the Philosophy of Science. 1998. № 49/3. P. 397–424.
Geppert H. V. Der realistische Weg. Formen pragmatischen Erzählens bei Balzac, Dickens, Hardy, Keller, Raabe und anderen Autoren des 19. Jahrhunderts. Tübingen, 1994.
Gerasimov I. et al. New Imperial History and the Challenges of Empire // Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov et al. Leiden; Boston, 2009. P. 3–32.
Gerigk H.-J. Text und Wahrheit. Vorbemerkungen zu einer kritischen Deutung der «Brüder Karamazov» // Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongreß in Prag / Hg. von E. Koschmieder u. a. München, 1968. S. 331–348.
–: Der Mörder Smerdjakow. Bemerkungen zu Dostojewskijs Typologie der kriminellen Persönlichkeit // Dostoevsky Studies. 1986. № 7. S. 107–122.
Giacanelli F. Il medico, l’alienista. Introduzione // Lombroso C. Delitto, genio, follia. Scritti scelti / A cura di D. Frigessi et al. 2 ed. Torino, 2000. P. 5–43.
Gibson M. Born to Crime. Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology. Westport; London, 2002.
Gijswijt-Hofstra M. Introduction: Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War // Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War / Ed. by M. Gijswijt-Hofstra and R. Porter. Amsterdam; New York, 2001. P. 1–30.
Gijswijt-Hofstra M., Porter R. (eds.). Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War. Amsterdam; New York, 2001.
Glendening J. The Evolutionary Imagination in Late-Victorian Novels: An Entangled Bank. Burlington, 2007.
Glick Th. F., Shaffer E. (eds.). The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe. Vol. 3–4. London et al., 2014.
Goering L. «Russian Nervousness»: Neurasthenia and National Identity in Nineteenth-Century Russia // Medical History. 2003. № 47/1. P. 23–46.
Golstein V. Accidental Families and Surrogate Fathers: Richard, Grigory, and Smerdiakov // A New Word on The Brothers Karamazov / Ed. by R. L. Jackson. Evaston, 2004. P. 90–106.
Gould S. J. Der falsch vermessene Mensch. Basel u. a., 1983.
Gourg M. Quelques aspects de la réception des thèses naturalistes en Russie // Les Cahiers Naturalistes. 1991. № 65. P. 25–36.
Graevenitz G. v. Einleitung // Konzepte der Moderne / Hg. von G. v. Graevenitz. Stuttgart; Weimar, 1999. S. 1–16.
Greenslade W. Degeneration, Culture and the Novel 1880–1940. Cambridge, 1994.
Greg W. G. On the Failure of «Natural Selection» in the Case of Man // Fraser’s Magazine for Town and Country. 1868. № 465. P. 353–362.
Griesecke B., Kogge W. Was ist eigentlich ein Gedankenexperiment? Mach, Wittgenstein und der neue Experimentalismus // Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. Jahrhundert / Hg. von M. Krause und N. Pethes. Würzburg, 2005. S. 41–72.
Gross A. G. The Rhetoric of Science. Cambridge; London, 1990.
–: Starring the Text. The Place of Rhetoric in Science Studies. Carbondale, 2006.
Gross A. G., Keith W. M. (eds.). Rhetorical Hermeneutics. Invention and Interpretation in the Age of Science. New York, 1997.
Groys B., Hagemeister M. (Hg.). Die Neue Menschheit. Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Frankfurt a. M., 2005.
Guarnieri L. L’atlante criminale. Vita scriteriata di Cesare Lombroso. Milano, 2000.
Günther H. Der sozialistische Übermensch. M. Gor’kij und der sowjetische Heldenmythos. Stuttgart; Weimar, 1993.
Guermès S. Le mystérieux M. de Saint-Médan // Les Cahiers Naturalistes. 2006. № 80. P. 253–267.
Gumbrecht H. U. Zola im historischen Kontext. Für eine neue Lektüre des Rougon-Macquart-Zyklus. München, 1978.
Gural-Migdal A. (éd.). Zola et le texte naturaliste en Europe et aux Amériques: Généricité, intertextualité et influences. Lewiston, 2006.
Hacking I. Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften. Stuttgart, 1996.
Hahn B. Chekhov. A Study of the Major Stories and Plays. Cambridge et al., 1977.
Hansen-Löve A. A. Der russische Symbolismus. System und Entfaltung der poetischen Motive. Bd. 1–3. Wien, 1989–2014.
–: Grundzüge einer Thanatopoetik. Russische Beispiele von Puškin bis Čechov // Thanatologien – Thanatopoetik. Der Tod des Dichters – Dichter des Todes / Hg. von A. A. Hansen-Löve u. a. München, 2007. S. 7–78.
Harré R. Some Narrative Conventions of Scientific Discourse // Narrative in Culture. The Use of Storytelling in the Sciences, Philosophy, and Literature / Ed. by C. Nash. London; New York, 1990. P. 81–101.
Harris R. A. (ed.). Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies. Mahwah, 1997.
Hauschild Ch. Jurij Lotmans semiotischer Ereignisbegriff. Versuch einer Neubewertung // Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze / Hg. von W. Schmid. Berlin; New York, 2009. S. 141–186.
Helwart T. Verbrecherkonzepte in Skizzen und Erzählungen der späten Zarenzeit (Giljarovskij, Svirskij, Bachtiarov u. a.). Masterarbeit, Ms. Ruhr-Universität Bochum, 2015.
Höfner E. Zola – und kein Ende? Überlegungen zur Relation von Wissenschaft und Literatur. Der roman expérimental und der Hypothesen-Streit im 19. Jahrhundert // Literatur, Wissenschaft und Wissen seit der Epochenschwelle um 1800. Theorie – Epistemologie – komparatistische Fallstudien / Hg. von Th. Klinkert und M. Neuhofer. Berlin; New York, 2008. S. 127–166.
Hörisch J. Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes. Frankfurt a. M., 1996.
Holquist M. Dostoevsky and the Novel. Princeton, 1977.
Holmes F. L. Argument and Narrative in Scientific Writing // The Literary Structure of Scientific Argument: Historical Studies / Ed. by P. Dear. Philadelphia, 1991. P. 164–181.
Holz A. Das Werk von Arno Holz. Bd. 10 (Die neue Wortkunst. Eine Zusammenfassung ihrer ersten grundlegenden Dokumente). Berlin, 1925.
Hühn P. Event and Eventfulness // Handbook of Narratology / Ed. by P. Hühn et al. Berlin; New York, 2009. P. 80–97.
Huertas R. Madness and Degeneration, I. From «Fallen Angel» to Mentally Ill // History of Psychiatry. 1992. № 3. P. 391–411.
Huxley Th. H. The Struggle for Existence: a Programme // The Nineteenth Century. 1888. № 132/23. P. 161–180.
Ingold F. Ph. Lev Tolstoj und Max Nordau. Zur Rezeption und Diskussion des Dekadentismus in Russland // Komparatistik: theoretische Überlegungen und südosteuro-päische Wechselseitigkeit. Festschrift für Zoran Konstantinović, Innsbruck, am 5 Juni 1980 / Hg. von F. Rinner und K. Zerinschek. Heidelberg, 1981. S. 399–416.
Jacyna L. S. Lost Words. Narratives of Language and the Brain, 1825–1926. Princeton; Oxford, 2000.
Jahn H. F. Der St. Petersburger Heumarkt im 19. Jahrhundert. Metamorphosen eines Stadtviertels // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1996. № 44/2. S. 162–177.
–: Armes Russland. Bettler und Notleidende in der russischen Geschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Paderborn u. a., 2010.
Kaiser E. Wissen und Erzählen bei Zola. Wirklichkeitsmodellierung in den Rougon-Macquart. Tübingen, 1990.
Kappeler A. Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992.
Kataev V. B. Piotr Boborykine (1836–1921) // Histoire de la littérature russe. Vol. 2/2 (Le temps du roman) / Éd. par E. Etkind et al. Paris, 2005. P. 905–919.
Kathan B. Das irdische Paradies // Quarber Merkur. 2008. № 107/108. S. 9–138.
Kenneth S. D. Madness in Russia, 1775–1864: Official Attitudes and Institutions for Its Care. Ph. D. Diss. University of California, 1977.
Kiceluk S. Der Patient als Zeichen und als Erzählung: Krankheitsbilder, Lebensgeschichten und die erste psychoanalytische Fallgeschichte // Psyche. 1993. № 47/9. S. 815–854.
Kirt R. Komparatistische Naturalismus-Forschung. Eine Standortbestimmung // Revue luxembourgeoise de littérature générale et comparé. 1988. P. 85–90.
Kitcher Ph. The Cognitive Functions of Scientific Rhetoric // Science, Reason, and Rhetoric / Ed. by H. Krips et al. Kostanz; Pittsburgh, 1995. P. 47–65.
Kitzinger Ch. «This Ancient, Fragile Vessel»: Degeneration in Bely’s Petersburg // Slavic and East European Journal. 2013. № 57/3. P. 403–423.
Kleeberg B. Theophysis. Ernst Haeckels Philosophie des Naturganzen. Köln u. a., 2005.
–: Schlechte Angewohnheiten. Einleitung // Schlechte Angewohnheiten. Eine Anthologie 1750–1900 / Hg. von B. Kleeberg. Berlin, 2012. S. 9–63.
Klimowicz T. Dmitrij Mamin-Sibirjak i problemy naturalizmu w literaturze rosyjskiej. Wrocław, 1979.
Kline S. J. The Degeneration of Women. Bram Stoker’s Dracula as Allegorical Criticism of the Fin de Siècle. Rheinbach-Merzbach, 1992.
Klioutchkine K. The Rise of Crime and Punishment from the Air of the Media // Slavic Review. 2002. № 61/1. P. 88–108.
Kluge R.-D. Das Leben ist mehr als der Sinn des Lebens: «Die Brüder Karamasow» // F. M. Dostojewski. Dichter, Denker, Visionär / Hg. von H. Setzer u. a. Tübingen, 1998. S. 137–157.
Knapp Sh. Herbert Spencer in Čexov’s «Skučnaja istorija» and «Duèl’»: The Love of Science and the Science of Love // Slavic and East European Journal. 1985. № 29/3. P. 279–296.
Knight N. Ethnicity, Nationalism and the Masses: Narodnost’ and Modernity in Imperial Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge Practices / Ed. by D. L. Hoffman and Y. Kotsonis. New York, 2000. P. 41–64.
Koch J. L. A. Die Frage nach dem geborenen Verbrecher. Ravensburg, 1894.
Köppe T. (Hg.). Literatur und Wissen. Theoretisch-methodische Zugänge. Berlin; New York, 2011.
Kolkenbrock-Netz J. Fabrikation – Experiment – Schöpfung. Strategien ästhetischer Legitimation im Naturalismus. Heidelberg, 1981.
Korthals H. Zwischen Drama und Erzählung. Ein Beitrag zur Theorie geschehendarstellender Literatur. Berlin, 2003.
Koschorke A. Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt a. M., 2012.
Košenina A. (Hg.). Kriminalfallgeschichten. Sonderband der Zeitschrift Text + Kritik. München, 2014.
Kovalewsky P. J. Folie du Doute // The Journal of Mental Science. 1887. № 33. P. 209–218.
Kraepelin E. Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. 6. Aufl. Leipzig, 1899; 8. Aufl., 1909.
–: Zur Entartungsfrage // Zentralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie. 1908. № 31. S. 745–751.
Krafft-Ebing R. v. Grundzüge der Criminalpsychologie. 2. Aufl. Stuttgart, 1882.
–: Lehrbuch der Gerichtlichen Psychopathologie. 3. Aufl. Stuttgart, 1892.
–: Nervosität und neurasthenische Zustände. Wien, 1895.
–: Lehrbuch der Psychiatrie. 6. Aufl. Stuttgart, 1897.
Kramer K. D. Satiric Form in Saltykov’s Gospoda Golovlevy // Slavic and East European Journal. 1970. № 14/4. P. 453–464.
–: The Chameleon and the Dream. The Image of Reality in Čexov’s Stories. The Hague; Paris, 1970.
Krause M., Pethes N. (Hg.). Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. Jahrhundert. Würzburg, 2005.
–: Zwischen Erfahrung und Möglichkeit. Literarische Experimentalkulturen im 19. Jahrhundert // Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. Jahrhundert / Hg. von M. Krause und N. Pethes. Würzburg, 2005. S. 7–18.
Krauthausen K. Wirkliche Fiktionen. Gedankenexperimente in Wissenschaft und Literatur // Experiment und Literatur. Themen, Methoden, Theorien / Hg. von M. Gamper. Göttingen, 2010. S. 278–320.
Kreiswirth M. Merely Telling Stories? Narrative and Knowledge in the Human Sciences // Poetics Today. 2000. № 21/2. P. 293–318.
Krementsov N. From «Beastly Philosophy» to Medical Genetics: Eugenics in Russia and the Soviet Union // Annals of Science. 2011. № 68/1. P. 61–92.
–: The Strength of a Loosely Defined Movement: Eugenics and Medicine in Imperial Russia // Medical History. 2015. № 59/1. P. 6–31.
Kretzschmar D. Identität statt Differenz. Zum Verhältnis von Kunsttheorie und Gesellschaftsstruktur in Russland im 18. und 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M., 2002.
Kühne U. Die Methode des Gedankenexperiments. Frankfurt a. M., 2005.
Kupferschmidt H.-G. Saltykow-Stschedrin. Philosophisches Wollen und schriftstellerische Tat. Halle a. d. S., 1958.
Küpper J. Vergas Antwort auf Zola. Mastro Don Gesualdo als «Vollendung» des naturalistischen Projekts // 100 Jahre Rougon-Macquart im Wandel der Rezeptionsgeschichte / Hg. von W. Engler u. a. Tübingen, 1995. S. 109–136.
Kurella H. Cesare Lombroso als Mensch und Forscher. Wiesbaden, 1910.
Küster S. Medizin im Roman. Untersuchungen zu «Les Rougon-Macquart» von Émile Zola. Göttingen, 2008.
Lachmann R. Erzählte Phantastik. Zu Phantasiegeschichte und Semantik phantastischer Texte. Frankfurt a. M., 2002.
Lankester E. R. Degeneration: A Chapter in Darwinism. London, 1880.
Lanz-Liebenfels J. Menschenzucht // Die Rundschau. Forschung, Entwicklung, Technologie. 1903. № 7. S. 450–452.
Legrain P. M. La médecine légale du dégénéré // Archives d’anthropologie criminelle. 1894. P. 1–26.
Legrain P. M., Magnan V. Les dégénérés. État mental et syndromes épisodiques. Paris, 1895.
Leibbrand W., Leibbrand-Wettley A. Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen Psychopathologie. Freiburg; München, 1961.
Lennox J. G. Darwinian Thought Experiments: A Function for Just-So Stories // Thought Experiments in Science and Philosophy / Ed. by T. Horowitz et al. Savage, 1991. P. 223–245.
Lepenies W. Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. München; Wien, 1976.
–: Transformation and Storage of Scientific Traditions in Literature // Literature and History / Ed. by L. Schulze et al. Lanham; London, 1983. P. 37–63.
Levine G. Darwin and the Novelists: Patterns of Science in Victorian Fiction. Cambridge, A. M. London, 1988.
Levy D. M., Peart S. J. Sympathy Caught between Darwin and Eugenics // Sympathy. A History / Ed. by E. Schliesser. Oxford, 2015. P. 323–358.
Lewis D. Truth in Fiction // American Philosophical Quarterly. 1978. № 15/1. P. 37–46.
Lindau P. Interessante Fälle. Criminalprocesse aus neuester Zeit. Breslau, 1888.
–: Ausflüge ins Kriminalistische. München, 1909.
Linder J. Deutsche Pitavalgeschichten in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Konkurrierende Formen der Wissensvermittlung und der Verbrechensdeutung // Erzählte Kriminalität. Zur Typologie und Funktion von narrativen Darstellungen in Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1770 und 1920 / Hg. von J. Schönert. Tübingen, 1991. S. 313–348.
Link J. Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. 2. Aufl. Opladen; Wiesbaden, 1999.
Link-Heer U. Über den Anteil der Fiktionalität an der Psychopathologie des 19. Jahrhunderts // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 1983. № 51/52. S. 280–302.
–: «Le mal a marché trop vite». Fortschritts– und Dekadenzbewußtsein im Spiegel des Nervositäts-Syndroms // Fortschrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im Europa des 19. Jahrhunderts / Hg. von W. Drost. Heidelberg, 1986. S. 45–67.
–: Nervosität und Moderne // Konzepte der Moderne Hg. von G. v. Graevenitz. Stuttgart; Weimar, 1999. S. 102–119.
Lombroso C. Il caso Vilella [1874] // Lombroso C. Delitto, genio, follia. Scritti scelti / A cura di D. Frigessi et al. 2 ed. Torino, 2000. P. 235–239.
–: L’uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie. Milano, 1876.
–: L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, giurisprudenza e alle discipline carcerarie. Torino, 1878.
–: Delinquenti d’occasione // Archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale. 1881. № 2. P. 313–323.
–: Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung. In deutscher Bearbeitung von M. O. Fraenkel. Hamburg, 1887.
–: Entartung und Genie. Neue Studien / Hg. von H. Kurella. Leipzig, 1894.
–: Gli anarchici. Torino, 1894.
–: Die Anarchisten / Hg, von H. Kurella. Hamburg, 1895.
–: L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria. Torino, 1896–1897.
–: La nuova scuola penale. Torino, 1910.
Lombroso C. Introduction // Lombroso Ferrero G. Criminal Man According to the Classification of Cesare Lombroso. New York; London, 1911. P. XI–XXI.
–: Delitto, genio, follia. Scritti scelti / A cura di D. Frigessi et al. 2 ed. Torino, 2000.
–: Ritorno al primitivo // Lomboso C. Delitto, genio, follia. Scritti scelti / A cura di D. Frigessi et al. 2 ed. Torino, 2000. P. 426–457.
Lombroso C., Ferrero G. La donna delinquente, la prostituta e la donna normale. Torino, 1893.
–: Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte. Übersetzung von H. Kurella. Hamburg, 1894.
Lombroso C., Laschi R. Il delitto politico e le rivoluzioni in rapporto al diritto, all’antropologia criminale ed alla scienza di governo. Torino, 1890.
López-Beltrán C. Forging Heredity: From Metaphor to Cause, a Reification Story // Studies in History and Philosophy of Science. 1994. № 25/2. P. 211–235.
–: In the Cradle of Heredity: French Physicians and «L’Hérédité Naturelle» in the Early 19th Century // Journal of the History of Biology. 2004. № 37/1. P. 39–72.
–: The Medical Origins of Heredity // Heredity Produced: At the Crossroads of Biology, Politics, and Culture, 1500–1870 / Ed. by S. Müller-Wille / H.-J. Rheinberger. Cambridge, A. M. London, 2007. P. 105–132.
Macho Th., Wunschel A. Zur Einleitung. Mentale Versuchsanordnungen // Science & Fiction. Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur / Hg. von Th. Macho und A. Wunschel. Frankfurt a. M., 2004. S. 9–14.
Macho Th., Wunschel A. (Hg.). Science & Fiction. Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur. Frankfurt a. M., 2004.
Magnan V. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 1–6. Leipzig, 1891–1893.
Malinas Y. Zola et les hérédités imaginaires. Paris, 1985.
Malthus Th. R. An Essay on the Principle of Population [1798]. London, 2007.
Mann G. Dekadenz – Degeneration – Untergangsangst im Lichte der Biologie des 19. Jahrhunderts // Medizinhistorisches Journal. 1985. № 20/1, 2. S. 6–35.
Mariani C. E. Appunti per uno studio sulla psicosi del genio in Tolstoi // Archivio di Antropologia Criminale, Psichiatria, Medicina Legale e scienze affini. 1901. № 22. P. 260–265.
Marullo Th. G. Crime Without Punishment: Ivan Bunin’s «Loopy Ears» // Slavic Review. 1981. № 40/4. P. 614–624.
Mashek D. J., Aron A. (eds.). Handbook of Closeness and Intimacy. Mahwah, 2004.
Matich O. Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia’s Fin de Siècle. Madison, 2005.
Matlaw R. E. The Brothers Karamazov: Novelistic Technique. The Hague, 1957.
Maudsley H. The Physiology and Pathology of the Mind. London, 1867.
Mazzarello P. Il genio e l’alienista. La visita di Lombroso a Tolstoj. Napoli, 1998.
McGuire J. E., Melia T. Some Cautionary Strictures on the Writing of the Rhetoric of Science // Rhetorica. 1989. № 7/1. P. 87–99.
–: The Rhetoric of the Radical Rhetoric of Science // Rhetorica. 1991. № 9/4. P. 301–316.
McNair J. Boborykin and his Chronicles of the Russian Intelligentsia // The Golden Age of Russian Literature and Thought / Ed. by D. Offord. New York, 1992. P. 149–167.
McReynolds L. Murder Most Russian: True Crime and Punishment in Late Imperial Russia. Ithaca; London, 2013.
Mereschkowsky C.v. Das irdische Paradies. Ein Märchen aus dem 27. Jahrhundert. Eine Utopie / Aus dem Russ. von H. Mordaunt. Berlin, 1903.
Merten S. Die Entstehung des Realismus aus der Poetik der Medizin. Die russische Literatur der 40er bis 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Wiesbaden, 2003.
Micale M. S. Approaching Hysteria: Disease and Its Interpretations. Princeton, 1995.
Michler W. Darwinismus und Literatur. Naturwissenschaftliche und literarische Intelligenz in Österreich 1859–1914. Wien u. a., 1999.
Miller M. A. Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union. New Haven; London, 1998.
Möbius P. J. Über nervöse Familien // Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin. 1884. № 40. S. 228–243.
–: Einleitung // Magnan V. Psychiatrische Vorlesungen. Über die Geistesstörungen der Entarteten. Leipzig, 1892. S. III–XIV.
–: Über Entartung. Wiesbaden, 1900.
–: Geschlecht und Entartung. Halle, 1903.
–: Die Nervosität. Leipzig, 1906.
Möbius Th. Fortschrittskritik und Menschenpark. Konstantin S. Mereschkowskijs Utopie «Das irdische Paradies» // Auf Utopias Spuren. Utopie und Utopieforschung / Hg. von A. Amberger und Th. Möbius. Wiesbaden, 2017. S. 285–302.
Møller P. U. Postlude to the Kreutzer Sonata. Tolstoj and the Debate on Sexual Morality in Russian Literature in the 1890s. Leiden et al., 1988.
Mogilner M. Russian Physical Anthropology of the Nineteenth-Early Twentieth Centuries: Imperial Race, Colonial Other, Degenerate Types, and the Russian Racial Body // Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov et al. Leiden; Boston, 2009. P. 155–189.
–: Review: Daniel Beer, Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930. Cornell University Press, 2008 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2010. № 11/3. P. 661–672.
–: Homo imperii: A History of Physical Anthropology in Russia. Lincoln; London, 2013.
–: Racial Psychiatry and the Russian Imperial Dilemma of the «Savage Within» // East Central Europe. 2016. № 43/1, 2. P. 99–133.
Montaldo S., Tappero P. (ed.). Cesare Lombroso cento anni dopo. Torino, 2009.
Moore J., Desmond A. Introduction // Darwin Ch. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex [1871]. London, 2004. P. XI–LXVI.
Morel B. A. Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives. Paris, 1857 [Reprint New York, 1976].
Moretti F. Atlas of the European Novel 1800–1900. London; New York, 1998.
Morrissey S. K. Suicide and the Body Politic in Imperial Russia. Cambridge, 2006.
–: The Economy of Nerves: Health, Commercial Culture, and the Self in Late Imperial Russia // Slavic Review. 2010. № 69/3. P. 645–675.
Moser W. Experiment and Fiction // Literature and Science as Modes of Expression / Ed. by F. Amrine. Dordrecht et al., 1989. P. 61–80.
Mülder-Bach I., Ott M. (Hg.). Was der Fall ist. Casus und Lapsus. Paderborn, 2014.
Müller H.-J. Zola und die Epistemologie seiner Zeit // Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte. 1981. № 5/1. S. 74–101.
Müller-Funk W. Die Kultur und ihre Narrative. Wien; New York, 2002.
Müller-Wille S., Rheinberger H.-J. Heredity – The Formation of an Epistemic Space // Heredity Produced: At the Crossroads of Biology, Politics, and Culture, 1500–1870 / Ed. by S. Müller-Wille and H.-J. Rheinberger. Cambridge, A. M. London, 2007. P. 3–34.
Müller-Wille S., Rheinberger H.-J. (eds.). Heredity Produced: At the Crossroads of Biology, Politics, and Culture, 1500–1870. Cambridge, Mass.; London, 2007.
Murašov J. Jenseits der Mimesis. Russische Literaturtheorie im 18. und 19. Jahrhundert von M. V. Lomonosov zu V. G. Belinskij. München, 1993.
–: Von der Sprache des Geldes zur Schrift der Assignaten. Prolegomena zu einer russischen Mediengeschichte des 18. Jahrhunderts // Kultur – Sprache – Ökonomie / Hg. von W. Weitlaner. Wien, 2001. S. 7–29.
Murav H. Russia’s Legal Fictions. Ann Arbor, 1998.
Näcke G. Degeneration, Degenerationszeichen und Atavismus // Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. 1899. № 1. S. 200–221.
Nate R. Rhetorik und der Diskurs der Naturwissenschaften // Die Aktualität der Rhetorik / Hg. von H. F. Plett. München, 1996. S. 102–119.
Nersessian N. J. In the Theoretician’s Laboratory: Thought Experimenting as Mental Modeling // Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science. 1992. № 2. P. 291–301.
Nethercott F. Russian Legal Culture Before and After Communism. Criminal Justice, Politics, and the Public Sphere. London; New York, 2007.
Neuberger J. Hooliganism: Crime, Culture, and Power in St. Petersburg, 1900–1914. Berkeley et al., 1993.
Nicolosi R. Unreine Liebe. B. Stankovićs Nečista krv als Degenerationsroman // Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert / Hg. von R. Hodel. Frankfurt a. M., 2007. S. 159–176.
Nordau M. Paris unter der dritten Republik. Leipzig, 1890.
–: Entartung [1892–1893]. Hrsg., komm. und mit einem Nachwort vers. von Karin Tebben. Berlin; Boston, 2013.
Norton J. D. On Thought Experiments: Is There More to the Argument? // Philosophy of Science. 2004. № 71/5. P. 1139–1151.
Nussbaum F. A. The Limits of the Human: Fictions of Anomaly, Race, and Gender in the Long Eighteenth Century. Cambridge, 2003.
Nye R. A. Crime, Madness, and Politics in Modern France: The Medical Concept of National Decline. Princeton, 1984.
Oberländer A. Unerhörte Subjekte. Die Wahrnehmung sexueller Gewalt in Russland 1880–1910. Frankfurt a. M., 2013.
Olby R. C. Constitutional and Hereditary Disorders // Companion Encyclopedia of the History of Medicine. Vol. 1 / Ed. by W. Bynum and R. Porter. London; New York, 1993. P. 412–437.
Oppenheimer F. Eine reactionäre Utopie // Die Zeit. 1902. 29. November. S. 98–100.
Ortony A. (ed.). Metaphor and Thought. Cambridge, 1979.
Ovsyannikov S. A., Ovsyannikov A. S. Sergey S. Korsakov and the Beginning of Russian Psychiatry // Journal of the History of the Neurosciences. 2007. № 16/1, 2. P. 58–64.
Paperno I. La prose des années 1870–1890 // Histoire de la littérature russe. Vol. 2/2 (Le temps du roman) / Éd. par E. Etkind. Paris, 2005. P. 789–823.
–: «Who, What Am I?» Tolstoy Struggles to Narrate the Self. Ithaca; London, 2014 (рус. пер.: Паперно И. «Кто, что я?»: Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах. М., 2018).
Parnes O. «Es ist nicht das Individuum, sondern es ist die Generation, welche sich metamorphosiert». Generationen als biologische und soziologische Einheiten in der Epistemologie der Vererbung im 19. Jahrhundert // Generation. Zur Genealogie des Konzepts – Konzepte von Genealogie / Hg. von S. Weigel u. a. München, 2005. S. 235–259.
Parnes O. u. a. Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts– und Kulturgeschichte. Frankfurt a. M., 2008.
Paul D. B. Darwin, Social Darwinism and Eugenics // The Cambridge Companion to Darwin / Ed. by M. J. S. Hodge and G. Radick. Cambridge, 2009. P. 219–245.
Pellini P. Naturalismo e verismo. Firenze, 1998.
Pera M. The Discourses of Science. Chicago, 1994.
Perelman Ch. Das Reich der Rhetorik. Rhetorik und Argumentation. München, 1980.
Person J. Der pathographische Blick. Physiognomik, Atavismustheorien und Kulturkritik 1870–1930. Würzburg, 2005.
Peters J.-U. Tendenz und Verfremdung. Studien zum Funktionswandel des russischen satirischen Romans im 19. und 20. Jahrhundert. Bern u. a., 2000.
Pethes N. Vom Einzelfall zur Menschheit. Die Fallgeschichte als Medium der Wissenspopularisierung zwischen Recht, Medizin und Literatur // Popularisierung und Popularität / Hg. von G. Blaseio. Köln, 2005. S. 63–92.
–: Zöglinge der Natur. Der literarische Menschenversuch des 18. Jahrhunderts. Göttingen, 2007.
–: Epistemische Schreibweisen. Zur Konvergenz und Differenz naturwissenschaftlicher und literarischer Erzählformen in Fallberichten // Der ärztliche Fallbericht. Epistemische Grundlagen und textuelle Strukturen dargestellter Beobachtung / Hg. von R. Behrens und C. Zelle. Wiesbaden, 2012. S. 1–22.
–: Literarische Fallgeschichten. Zur Poetik einer epistemologischen Schreibweise. Konstanz, 2016.
Pick D. Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848 – c. 1918. Cambridge, 1989.
Ploetz A. Grundlinien einer Rassen-Hygiene. I. Teil: Die Tüchtigkeit unsrer Rasse und der Schutz der Schwachen. Berlin, 1895.
Popkin C. Chekhov as Ethnographer: Epistemological Crisis on Sakhalin Island // Slavic Review. 1992. Vol. 51/1. P. 36–51.
–: The Pragmatics of Insignificance. Chekhov, Zoshchenko, Gogol. Stanford, 1993.
Prichard J. C. A Treatise on Insanity and Other Disorders Affecting the Mind. London, 1835.
Pross C. Dekadenz. Studien zu einer großen Erzählung der frühen Moderne. Göttingen, 2013.
Rabinbach A. The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity. New York, 1990.
Radkau J. Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler. München; Wien, 1998.
Ralser M. Der Fall und seine Geschichte. Die klinisch-psychiatrische Fallgeschichte als Narration an der Schwelle // Wissen. Erzählen. Narrative der Humanwissenschaften / Hg. von A. Höcker u. a. Bielefeld, 2006. S. 115–126.
Rayfield D. Understanding Chekhov: A Critical Study of Chekhov’s Prose and Drama. Bristol, 1999.
–: Darwin, Chekhov and Mandelshtam // The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe. Vol. 3 / Ed. by Th. F. Glick and E. Shaffer. London et al., 2014. P. 257–267.
Renneville M. La Francia // Cesare Lombroso cento anni dopo / A cura di S. Montaldo e P. Tappero. Torino, 2009. P. 203–211.
Rescher N. Reductio ad absurdum // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 8 / Hg. von J. Ritter und K. Gründer. Basel, 1992. S. 369–370.
Reyfman I. Ritualized Violence Russian Style. Stanford, 1999.
Rheinberger H.-J. Experiment, Differenz, Schrift: Zur Geschichte epistemischer Dinge. Marburg, 1992.
Rheinberger H.-J., Müller-Wille S. Vererbung. Geschichte und Kultur eines biologischen Konzepts. Frankfurt a. M., 2009.
Rice J. L. Dostoevsky and the Healing Art: An Essay in Literary and Medical History. Ann Arbor, 1985.
–: The Covert Design of The Brothers Karamazov: Alesha’s Pathology and Dialectic // Slavic Review. 2009. № 68/2. P. 355–375.
Richardson A. «I differ widely from you»: Darwin, Galton and the Culture of Eugenics // Reflecting on Darwin / Ed. by E. Voigts et al. Farnham, 2014. P. 17–40.
Richter K. Literatur als Korrektiv // Die Literatur und die Wissenschaften 1770–1930 / Hg. von K. Richter u. a. Stuttgart, 1997. S. 131–138.
Rimke H., Hunt A. From Sinners to Degenerates: The Medicalisation of Morality in the Nineteenth Century // History of the Human Sciences. 2002. № 15/1. P. 59–88.
Roelcke V. Krankheit und Kulturkritik. Psychiatrische Gesellschaftsdeutungen im bürgerlichen Zeitalter (1790–1914). Frankfurt a. M.; New York, 1999.
–: Electrified Nerves, Degenerated Bodies: Medical Discourses on Neurasthenia in Germany, circa 1880–1914 // Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War / Ed. by M. Gijswijt-Hofstra and R. Porter. Amsterdam; New York, 2001. P. 177–197.
Rondini A. Cose da pazzi. Cesare Lombroso e la letteratura. Pisa; Roma, 2001.
Rosenshield G. Western Law, Russian Justice. Dostoevsky, the Jury Trial, and the Law. Madison, 2005.
Rothe A. v. Geschichte der Psychiatrie in Russland. Leipzig; Wien, 1895.
Rothfield L. Vital Signs: Medical Realism in Nineteenth-Century Fiction. Princeton, 1994.
Rotman B. Signifying Nothing: The Semiotics of Zero. Stanford, 1993.
Ruhe C. «Invasion aus dem Osten». Die Aneignung russischer Literatur in Frankreich und Spanien (1880–1910). Frankfurt a. M., 2012.
Saal-Losq Ch. Literary Allusion in Anton Chekhov’s Short Stories (1889–1904). Ph. D. Diss. Stanford University, 1978.
Salomoni A. La Russia // Cesare Lombroso cento anni dopo / A cura di S. Montaldo e P. Tappero. Torino, 2009. P. 249–261.
Sapp J. u. a. Symbiogenesis: The Hidden Face of Constantin Merezhkowsky // History and Philosophy of the Life Sciences. 2002. № 24. P. 413–440.
Saul N., James S. J. (eds.). The Evolution of Literature. Legacies of Darwin in European Cultures. Amsterdam; New York, 2011.
Schallmayer W. Über die drohende körperliche Entartung der Kulturmenschheit. o. O., 1891.
Schmid W. Ornamentales Erzählen in der russischen Moderne. Čechov – Babel’ – Zamjatin. Frankfurt a. M., 1992.
–: Die «Brüder Karamazov» als religiöser «nadryv» ihres Autors // Wiener Slawistischer Almanach. 1996. № 41. S. 25–50.
–: Ereignishaftigkeit in den «Brüdern Karamasow» // Dostoevsky Studies. 2005. New Series 9. P. 31–44.
Schmieder F. Experimentalsysteme in Wissenschaft und Literatur // Experiment und Literatur. Themen, Methoden, Theorien / Hg. von M. Gamper. Göttingen, 2010. S. 17–39.
Schnackertz H. J. The Origin of Species (1859): Die metaphorische Ambivalenz des Darwinschen Diskurses // Schnackertz H. J. Darwinismus und literarischer Diskurs. Der Dialog mit der Evolutionsbiologie in der englischen und amerikanischen Literatur. München, 1992. S. 26–62.
Schneider L., Jing X. (Hg.). Anfänge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania. Paderborn, 2014.
Schneider S. Einleitung // Die Dinge und die Zeichen. Dimensionen des Realistischen in der Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts / Hg. von S. Schneider und B. Hunfeld. Würzburg, 2008. S. 11–24.
Scholle Ch. Das Duell in der russischen Literatur. Wandlungen und Verfall eines Ritus. München, 1977.
Schönert J. Bilder vom «Verbrechermenschen» in den rechtskulturellen Diskursen um 1900: Zum Erzählen über Kriminalität und zum Status kriminologischen Wissens // Erzählte Kriminalität. Zur Typologie und Funktion von narrativen Darstellungen in Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1770 und 1920 / Hg. von J. Schönert. Tübingen, 1991. S. 497–531.
Schümann D. Kunst = Natur – x oder Gibt es einen polnischen Naturalismus? // Zeitschrift für Slavische Philologie. 2007. № 52/3. S. 251–277.
–: Kampf ums Da(bei)sein: Darwin-Diskurse und die polnische Literatur bis 1900. Köln u. a., 2015.
Scudo F. M., Acanfora M. Darwin and Russian Evolutionary Biology // The Darwinian Heritage / Ed. by D. Kohn. Princeton, 1985. P. 731–754.
Schwartz M. Das Ende von Petersburg. Utopie und Apokalypse in der russischen Literatur des Fin de Siècle // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 2015. № 63/11. S. 982–1000.
Shamina V. Eugenics and Its Reflection in Twentieth Century Russian Literature // Culture and Biology: Perspectives on the European Modern Age / Ed. by R. Nate and B. Klüsener. Würzburg, 2011. P. 277–288.
Shideler R. Questioning the Father: From Darwin to Zola, Ibsen, Strindberg, and Hardy. Stanford, 1999.
Shorter E. A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac. New York, 1997.
Shumeiko L. Konstantin Sergeevič Merežkovskij (1855–1921) als Begründer der Symbiogenesetheorie der Evolution // Gesnerus: Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences. 2001. № 58/1–2. S. 40–52.
Sieferle P. Bevölkerungswachstum und Naturhaushalt. Studien zur Naturtheorie der klassischen Ökonomie. Frankfurt a. M., 1990.
Simons H. W. (ed.). The Rhetorical Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry. Chicago; London, 1990.
Sommer R. Kriminalpsychologie und strafrechtliche Psychopathologie auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Leipzig, 1904.
Sorensen R. A. Thought Experiments. New York, 1992.
Souder L. What Are We to Think About Thought Experiments? // Argumentation: An International Journal on Reasoning. 2003. № 17. P. 203–217.
Spackman B. Decadent Genealogies: The Rhetoric of Sickness from Baudelaire to D’Annunzio. Ithaca; London, 1989.
Spector S. Die Großstadt schreiben. Zur literarischen Unterwelt der Städte um 1900 // Kriminalliteratur und Wissensgeschichte / Hg. von C. Peck und F. Sedlmeier. Genres – Medien – Techniken. Bielefeld, 2015. S. 113–125.
Speirs L. Tolstoy and Chekhov. Cambridge, 1971.
Sperrle I. Ch. The Organic Worldview of Nikolai Leskov. Evanston, 2002.
Sprengel P. Darwin in der Poesie. Spuren der Evolutionslehre in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Würzburg, 1998.
Stack D. Charles Darwin’s Liberalism in «Natural Selection As Affecting Civilised Nations» // History of Political Thought. 2012. № 33/3. P. 525–554.
Städtke K. Ästhetisches Denken in Rußland. Kultursituation und Literaturkritik. Berlin, 1978.
Stannard M. W. Degeneration Theory in Naturalist Novels of Benito Pérez Galdós. Ph. D. Diss. University of Minnesota, 2011.
Stedman J. G. Outcast London: A Study in the Relationship between Classes in Victorian Society. Oxford, 1971.
Steinberg H., Angermeyer M. C. Emil Kraepelin’s Years at Dorpat as Professor of Psychiatry in Nineteenth-Century Russia // History of Psychiatry. 2001. № 12. P. 297–327.
Steinlechner G. Fallgeschichten. Krafft-Ebing, Panizza, Freud, Tausk. Wien, 1995.
Stepan N. Biological Degeneration: Races and Proper Places // Degeneration. The Dark Side of Progress / Ed. by J. Chamberlin and S. L. Gilman. New York, 1985. P. 97–120.
Stingelin M. Der Verbrecher ohnegleichen. Die Konstruktion «anschaulicher Evidenz» in der Criminal-Psychologie, der forensischen Physiognomik, der Kriminalanthropometrie und der Kriminalanthropologie // Physiognomie und Pathognomie. Zur literarischen Darstellung von Individualität. Festschrift für Karl Pestalozzi zum 65. Geburtstag / Hg. von W. Groddeck und U. Stadler. Berlin; New York, 1994. S. 113–133.
Stöber Th. Vitalistische Energetik und literarische Transgression im französischen Realismus-Naturalismus. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. Tübingen, 2006.
Stöckmann I. Der Wille zum Willen. Der Naturalismus und die Gründung der literarischen Moderne 1880–1900. Berlin; New York, 2009.
–: Psychophysisches Erzählen. Der Wille und die Schreibweise der Nerven bei Hermann Conradi // Neurasthenie: Die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur / Hg. von M. Bergengruen u. a. Freiburg i. Br., 2010. S. 289–312.
Strasser P. Verbrechermenschen. Zur kriminalwissenschaftlichen Erzeugung des Bösen. Frankfurt a. M.; New York, 1984.
Süßmann J. u. a. (Hg.). Fallstudien: Theorie – Geschichte – Methode. Berlin, 2007.
Suleiman S. R. Authoritarian Fictions. The Ideological Novel as a Literary Genre. 2nd ed. Princeton, 1993.
Swirski P. Of Literature and Knowledge: Explorations in Narrative Thought Experiments, Evolution and Game Theory. London; New York, 2007.
Tarde G. La criminalité comparée. Paris, 1886.
Tellini G. Il romanzo italiano dell’Ottocento e Novecento. Milano, 2000.
Tetlock Ph. E., Belkin A. (eds.). Counterfactual Thought Experiments in World Politics: Logical, Methodological, and Psychological Perspectives. Princeton, 1996.
Tetlock Ph. E. et al. (eds.). Unmaking the West: «What-If?» Scenarios That Rewrite World History. Ann Arbor, 2006.
Thomé H. Autonomes Ich und «inneres Ausland». Studien über Realismus, Tiefenpsychologie und Psychiatrie in deutschen Erzähltexten (1848–1914). Tübingen, 1993.
Tobin P. D. Time and the Novel. The Genealogical Imperative. Princeton, 1978.
Todd W. M. III. The Anti-Hero with a Thousand Faces: Saltykov-Shchedrin’s Porfiry Golovlev // Studies in the Literary Imagination. 1976. № 9/1. P. 87–105.
Todes D. P. From Radicalism to Scientific Convention: Biological Psychology in Russia from Sechenov to Pavlov. Ph. D. Diss. University of Pennsylvania, 1981.
–: Darwin Without Malthus. The Struggle for Existence in Russian Evolutionary Thought. New York; Oxford, 1989.
–: Darwins malthusische Metapher und russische Evolutionsvorstellungen // Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert / Hg. von E.-M. Engels. Frankfurt a. M., 1995. S. 281–308.
Troyat H. Tschechow. Leben und Werk. Stuttgart, 1987.
Tulloch J. Chekhov: A Structuralist Study. London, 1980.
Urban V. Geschichte als Argument? Politische Kommunikation russischer Konservativer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 2009.
V. E. [Rezension zu] Mereschkowsky C. v. Das irdische Paradies. Ein Märchen aus dem 27. Jahrhundert. Eine Utopie. Charlottenburg 1903 // Literarische Warte. Monatsschrift für schöne Literatur. 1905. № 6/2. S. 120–121.
Valentino R. S. Vicissitudes of Genre in the Russian Novel: Turgenev’s Fathers and Sons, Chernyshevsky’s What Is to Be Done? Dostoevsky’s Demons, Gorky’s Mother. New York et al., 2001.
Velo Dalbrenta D. La scienza inquieta. Saggio sull’Antropologia criminale di Cesare Lombroso. Padova, 2004.
Venturi F. Il populismo russo. Torino, 1952.
Villa R. Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell’antropologia criminale. Milano, 1985.
Vinken B. Zola – alles sehen, alles wissen, alles heilen. Der Fetischismus im Naturalismus // Historische Anthropologie und Literatur. Romanistische Beiträge zu einem neuen Paradigma der Literaturwissenschaft / Hg. von R. Behrens u. a. Würzburg, 1995. S. 215–226.
Vogüé E. M. Comte de. Le Roman Russe [1886]. 13ème ed. Paris, 1892.
Vroon R. Max Nordau and the Origins of Russian Decadence: Some Preliminary Observations // Sine arte, nihil. Сборник научных трудов в дар профессору Миливое Йовановичу / Под ред. К. Ичин. Белград; М., 2002. С. 85–100.
Vucinich A. Darwin in Russian Thought. Berkeley et al., 1988.
Walkowitz J. R. City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London. Chicago, 1992.
Wallace A. R. The Origin of Human Races and the Antiquity of Man Deduced from the Theory of «Natural Selection» // Journal of the Anthropological Society of London. 1864. № 2. P. CLVIII–CLXX.
Waller J. C. «The Illusion of an Explanation»: The Concept of Hereditary Disease, 1770–1870 // Journal of the History of Medicine. 2002. № 57. P. 410–448.
Wanning F. Gedankenexperimente. Wissenschaft und Roman im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Tübingen, 1999.
Warning R. Kompensatorische Bilder einer «wilden Ontologie»: Zolas Les Rougon-Macquart // Poetica. 1990. № 22. S. 355–383.
–: Erzählen im Paradigma. Kontingenzbewältigung und Kontingenzexposition // Romanistisches Jahrbuch. 2001. № 52. S. 176–209.
–: Heterotopien als Räume ästhetischer Erfahrung. Paderborn; München, 2009.
–: Zola als Erzähler // Anfänge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania / Hg. von L. Schneider und X. Jing. Paderborn, 2014. S. 29–48.
Waters K. C. The Arguments in the Origin of Species // The Cambridge Companion to Darwin / Ed. by J. Hodge and G. Radick. Cambridge, 2003. P. 116–139.
Weigel S. Das Gedankenexperiment: Nagelprobe auf die facultas fingendi in Wissenschaft und Literatur // Science & Fiction. Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur / Hg. von Th. Macho u. a. Frankfurt a. M., 2004. S. 183–205.
Weingart P. u. a. Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt a. M., 1988.
Werlinder H. Psychopathy: A History of the Concepts – Analysis of the Origin and Development of a Family of Concepts in Psychopathology. Uppsala, 1978.
Wessling R. D. Semyon Nadson and the Cult of the Tubercular Poet. Ph. D. Diss. University of California, Berkeley, 1998.
Wett B. «Neuer Mensch» und «Goldene Mittelmäßigkeit». F. M. Dostoevskijs Kritik am rationalistisch-utopischen Menschenbild. München, 1986.
Wetzell R. F. Inventing the Criminal. A History of German Criminology, 1880–1945. Chapel Hill; London, 2000.
Whelan H. W. Alexander III and the State Council: Bureaucracy and Counter-Reform in Late Imperial Russia. New Brunswick, 1982.
White F. H. Degeneration, Decadence and Disease in the Russian Fin de Siècle: Neurasthenia in the Life and Work of Leonid Andreev. Manchester, 2014.
Wille W. Studien zur Dekadenz in Romanen um die Jahrhundertwende. Greifswald, 1930.
Willer S. Erbfälle. Theorie und Praxis kultureller Übertragung in der Moderne. Paderborn, 2014.
Willer S. u. a. (Hg.). Erbe. Übertragungskonzepte zwischen Natur und Kultur. Berlin, 2013.
Woodward J. B. Ivan Bunin. A Study of His Fiction. Chapel Hill, 1980.
Wrigley E. A. Poverty, Progress, and Population. Cambridge, 2004.
Wübben Y. Ordnen und Erzählen. Emil Kraepelins Beispielgeschichten // Zeitschrift für Germanistik. 2009. № 19/2. S. 381–395.
–: Die kranke Stimme. Erzählinstanz und Figurenrede im Psychiatrie-Lehrbuch des 19. Jahrhunderts // Der ärztliche Fallbericht. Epistemische Grundlagen und textuelle Strukturen dargestellter Beobachtung / Hg. von R. Behrens und C. Zelle. Wiesbaden, 2012. S. 151–170.
–: Verrückte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19. Jahrhunderts. Konstanz, 2012.
Wübben Y. Psychiatrie // Literatur und Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch / Hg. von R. Borgards u. a. Stuttgart; Weimar, 2013. S. 125–130.
Young R. M. Darwin’s Metaphor. Nature’s Place in Victorian Culture. Cambridge et al., 1985.
Zelinsky B. Roman und Romanchronik. Strukturuntersuchungen zur Erzählkunst Nikolaj Leskovs. Köln; Wien, 1970.
Zelle C. Zur Sachprosa des «Falls». Psychiatrische Fallerzählungen um 1850/70 in der Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie und im Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten // Fallgeschichten. Text– und Wissensformen exemplarischer Narrative in der Kultur der Moderne / Hg. von L. Aschauer u. a. Würzburg, 2015. S. 47–71.
Žmegač V. Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik. Tübingen, 1990.
Zola É. Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire. 5 vols. / Éd. par H. Mitterand. Paris, 1959–1967.
–: Œuvres complètes. 15 vols / Éd. par H. Mitterand. Paris, 1966–1970.
Zucker A. E. The Genealogical Novel, a New Genre // Publications of the Modern Language Association of America. 1928. № 43. P. 551–560.
X. Указатель имен
Аксаков С. Т.
Александр II
Александр III
Альберти К.
Альбов В.
Амфитеатров А. В.
Антокольский Л. М.
Апухтин А. Н.
Аристотель
Арсеньев К.К
Баженов Н.Н
Балинский И.М
Бальзак О. де
Банг Г.
Башляр Г.
Бекетов А. Н.
Беккариа Ч.
Белинский В. Г.
Беляев А. Р.
Беляков С. А.
Бенедикт М.
Бернар К.
Бёльше В.
Билибин В. В.
Бир Д.
Бирд Дж. М.
Блок А. А.
Блюменберг Г.
Боборыкин П. Д.
Бодлер Ш.
Булгаков М. А.
Бунин И. А.
Бут Ч.
Бьёрнсон Б.
Вагнер В. А.
Вагнер Р.
Вайгель З.
Варнинг Р.
Венгерова З.
Верга Дж.
Вирхов Р.
Витгенштейн Л.
Витте С. Ю.
Владимиров Л. Е.
Волынский А.
Вольтер
Вундт В.
Вуншель А.
Гален
Галилео Г.
Гальтон Ф.
Гарин-Михайловский Н. Г.
Гарофало Р.
Гаршин В. М.
Ге Н. Н.
Геккель Э.
Гексли Т. Г.
Герцен А. И.
Гиляровский В. А.
Гиппократ
Годвин У.
Головин К. Ф. (Орловский)
Гонкур Ж. и Э. де
Гончаров А. И.
Горький М.
Грег У. Г.
Грегоровиус Э.
Гризингер В.
Гроттевиц К.
Гумбрехт Х. У.
Гумплович Л.
Гюго В.
Данилевский Н. Я.
Дарвин Дж. Г.
Дарвин Л.
Дарвин Ч.
Добрый Р.
Дорошевич В. М.
Достоевский Ф. М.
Дриль Д. А.
Дюгем П.
Желиховская В. П.
Женетт Ж.
Зиммель Г.
Златовратский Н. Н.
Золя Э.
Ибсен Г.
Кайзерлинг Э. ф.
Кангилем Ж.
Капуана Л.
Каронин С. (Н. Е. Петропавловский)
Кесслер К. Ф.
Клеман М. К.
Ковалевский Е. П.
Ковалевский П. И.
Кожевников А. Я.
Козарач И.
Козарач Й.
Колькенброк-Нетц Ю.
Кони А. Ф.
Коржинский С. И.
Короленко В. Г.
Корсаков С. С.
Крафт-Эбинг Р. ф.
Крепелин Э.
Крестовский В. В.
Кретцер М.
Крлежа М.
Кропоткин П. А.
Кун Т. С.
Курелла Г.
Кювье Ж.
Кюппер И.
Легран дю Соль А.
Легрэн П. М.
Лейкснер О. ф.
Лермонтов М. Ю.
Лесевич В. В.
Лесков Н. С.
Лещинская Г. И.
Линдау П.
Линев Д. А.
Линк Ю.
Ломброзо Ферреро Дж.
Ломброзо Ч.
Лопес-Бельтран К.
Лотман Л. М.
Лотман Ю. М.
Лукач Г. (Д.)
Люка П.
Макрейнольдс Л.
Максимов С. В.
Мальтус Т. Р.
Мамин-Сибиряк Д. Н.
Манн Т.
Мантегацца П.
Маньян В.
Матич О.
Мах Э.
Махо Т.
Мендель Г.
Мережковский Д. С.
Мережковский К. С.
Мержеевский И. П.
Мертен С.
Мечников Л. И.
Мёбиус П. Ю.
Минцлов Р. Р.
Михайловский Н. К.
Михневич В. О.
Могильнер М.
Модсли Г.
Морель Б. О.
Моро де Тур Ж.-Ж.
Мухин Н. И.
Надсон С. Я.
Некрасов Н. А.
Ницше Ф.
Новак В.
Новиков И. А.
Нордау М.
Ньютон И.
Одоевский В. Ф.
Оршанский И. Г.
Оукама Кнооп Г.
Пазухин А. Д.
Панов С. А.
Паперно И.
Перес Гальдос Б.
Пинель Ф.
Питаваль Ф. Г. де
Платон
Плетц А.
Плеханов Г. В.
Плещеев А.
Победоносцев К. П.
Поленц В. ф.
Поппер К.
Потапенко И. Н.
Причард Дж. К.
Путилин И. Д.
Пушкин А. С.
Раковский К. Г. (Е. Станчева)
Реизов Б. Г.
Репин И. Е.
Рукавишников И. С.
Руссо Ж.-Ж.
Салтыков-Щедрин М. Е.
Санд Ж.
Свирский А. И.
Сементковский Р. И.
Сеченов И. М.
Сикорский И. А.
Сироткина И. Е.
Скабичевский А. М.
Смит А.
Сологуб Ф. К.
Спенсер Г.
Станкович Б.
Стасюлевич М. М.
Стивенсон Р. Л.
Стокер Б.
Суворин А. С.
Сулейман С. Р.
Сю Э.
Таганцев Н. С.
Тард Г.
Терпигорев С. Н.
Тённис Ф.
Тихомиров Н. А.
Ткачев П. Н.
Тодес Д. П.
Толстой Д. А.
Толстой Л. Н.
Третьяков С. М.
Тургенев И. С.
Уоллес А. Р.
Успенский Г. И.
Уэллс Г. Дж.
Феоктистов Е. М.
Ферри Э.
Фёкинг М.
Финк М.
Флек Л.
Флобер Г.
Фрезе А. У.
Фридлендер Г. М.
Фуко М.
Харди Т.
Холлендер Ф.
Цертелев Д. Н.
Чернышевский Н. Г.
Чехов А. П.
Чехов М. П.
Чиж В. Ф.
Чупринин С. И.
Шальмайер В.
Шаляпин Ф. И.
Шарко Ж.-М
Шевляков М.В
Шекспир У.
Шеффле А.
Шишков В. Я.
Шкляревский А. А.
Шмид В.
Штрассер П.
Шюле Г.
Элиот Дж.
Энгельштейн Л.
Эртель А. И.
Эса де Кейрош Ж. М.
Юдин Т. И.
Ядринцев Н. М.
Якобсен Й. П.
Яковлев А. А.
Якубович П. Ф. (Л. Мельшин)
Ясинский И. И.