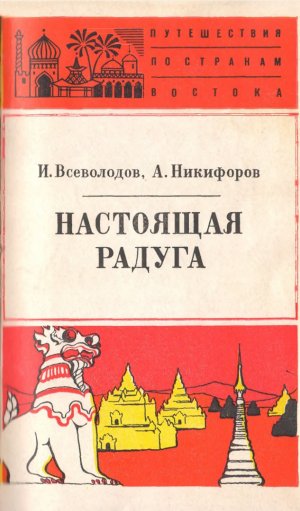
*Редакционная коллегия
К. В. Малаховский (председатель), А. Б. Давидсон,
Н. Б. Зубков, Г. Г. Котовский, Н. А, Симония
Ответственный редактор
Э. О. Берзин
М., Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1973.
ВСТУПЛЕНИЕ
В этой книге рассказывается о том, как и России узнали о Бирме и как эти знания росли, распространялись и способствовали превращению любопытства к далекой экзотической стране в интерес и сочувствие к ее проблемам, горю и надеждам.
Не так уж много русских путешественников побывало в Бирме, несравнимо меньше, чем в Индии или Китае. И сама страна меньше и не так доступна, как ее великие соседи. И внутреннее ее положение было таково, что лишь в середине XVIII века опа была после долгой полосы раскола объединена под властью династии Конбаунов. А с первого десятилетия XIX века она стала объектом устремлений Англии — три войны (1824–1826, 1852 и 1885 годов) лишили Бирму независимости, которую опа обрела вновь лишь в 1948 году.
Среди русских путешественников, побывавших в Бирме (большая часть их приходится на вторую половину прошлого века), не было открывателей новых хребтов и рек. Они посещали в основном известные по описаниям англичан места, куда можно было добраться пароходом или поездом. В записках и дневниках русских путешественников интересно и важно другое — отношение к Бирме и событиям, там происходившим.
Записки русских путешественников были, пожалуй, наиболее объективными свидетельствами о Бирме и бирманцах из всего, написанного иностранными путешественниками: ведь Россия не имела в Бирме интересов, не преследовала никаких целей. В свете этого важно то, что все сведения русских путешественников объединяет общая черта, которая присутствует в каждой строчке, в каждой фразе, — теплое, дружелюбное отношение к бирманцам и Бирме. И отношение это крепнет по мере того, как путешественник проводит в Бирме дни и недели.
В результате этого возникают две другие стойкие тенденции в записках русских путешественников. Они начинают, порой даже с некоторым удивлением, отмечать, насколько Бирма напоминает им Россию, несмотря на разницу в климате, на то, что, казалось бы, ничего; общего между этими двумя странами нет и быть не может. Но путешественник Жирмунский записывает в дневнике: «Поля, поля, поля… Что-то, напоминающее Россию: бесконечная равнина, пестрые пятна жнецов, стаи коршунов в высоте и белые капустницы над лугами; соломенные крыши избушек и длинные ряды подсолнечников…» А несколькими годами раньше другой путешественник, Минаев, писал: «Мне все кажется, что я на Волге и эти деревушки — русские поселки…»
Из теплоты и уважения к бирманцам возникает и вторая тенденция, характерная почти для всех записок русских путешественников, — осуждение английской политики в Бирме, протест против завоевания. Тот же Минаев завершает свои рассуждения коротким ироническим замечанием (Минаев вообще отличался прямым и несговорчивым характером и не скрывал своих истинных мыслей ни в дневнике, ни в разговорах с бирманцами или англичанами): «И чуден здесь божий мир! Смотришь кругом и начинаешь разуметь, зачем сюда забрался западный человек. Ведь кругом золотое дно».
Русские путешественники в Бирме были весьма разными людьми. Среди них мы найдем и торговцев, и князей, и царских дипломатов, и известных ученых. Их записки очень различны — как по литературному уровню, так и по глубине, с которой авторам удалось заглянуть в суть жизни Бирмы. Однако, за небольшим исключением, всем им свойственно стремление не только понять Бирму и бирманцев, но и донести до русского читателя очарование далекой страны, рассказать о ее культуре, буднях. И нет ни одного автора, который погнался бы за тропической экзотикой, кто обрушил бы на читателя лавину «тайн Востока» — от индийских гробниц до загадочных жрецов и кровожадных тигров.
Трезвое, гуманное отношение к стране вело в свою очередь к стремлению помочь Бирме, переживавшей во и горой половине прошлого века тяжелые годы. И потому путешественник Пашино подолгу беседует с бирманским королем (минджи) Миндоном и пытается затем убедить русское правительство в необходимости вступиться за Бирму. И потому так резки в своих описаниях и характеристиках востоковед Минаев и дипломат де Воллан, а химик Менделеев пишет из Парижа в Петербург, желая способствовать признанию Бирмы русским правительством, в надежде, что это поможет ей сохранить независимость.
Однако добрые намерения этих людей не принесли, да и не могли принести ожидаемых результатов. Бирма пыла покорена Великобританией и на долгие годы пропала с карты мира — стала провинцией Британской Индии. Русские путешественники XX века попадали уже и английскую колонию. И попадали туда редко: англичане не жаловали их. Особенно это почувствовалось после 1917 года — возвращавшиеся в Советскую Россию этнографы А. и Л. Мерварты более двух месяцев провели в тюрьме в Рангуне. Так завершилось последнее русское путешествие в Южную Азию, после которого наступил многолетний перерыв, окончившийся лишь с достижением Бирмой независимости.
Но советские люди — инженеры, врачи, ученые, журналисты, почвоведы, строители, ирригаторы, побывавшие в независимой Бирме после 1948 года, в своих записках и книгах продолжили труд, начатый их предшественниками, и сохранили те черты отношения к Бирме, которые так привлекают нас в работах русских путешественников XIX — начала XX века.
Бирма спряталась в тени великих соседей Индии и Китая. Громады этих стран отвлекали внимание завоевателей и путешественников. Китай нависает с севера и северо-востока. Он отделен от Бирмы отрогами Гималаев. Индия лежит к западу от Бирмы, отделяя ее от стран Ближнего Востока и Европы. Из Индии в Бирму, в основном морем, вместе с торговцами, плывущими на восток, проникла религия — буддизм, пришла письменность и многое из того, что впоследствии легло в основу бирманской национальной культуры. На юго восток от Бирмы расположены другие страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. Малайзия. Отношения Бирмы с этими странами складывались по-разному, почти все они, как и Бирма, в XIX веке стали европейскими колониями и лишь после второй мировой войны вернули себе независимость.
Издавна Бирму населяют разные народы. Крупнейшими из них являются собственно бирманцы (и их предшественники — пью), которые относятся к тибето-бирманской семье народов, и моны — представители мон-кхмерской языковой группы, живущие в Южной Бирме, у побережья Бенгальского залива и Андаманского моря. Если моны уже в первые века нашей эры были втянуты в широкую международную торговлю, шедшую между Индией и странами Дальнего Востока, то сами бирманцы, населявшие Верхнюю (Северную) Бирму, широких контактов с внешним миром не имели. И лишь в XI веке, после создания государства Паган, которое на два с половиной века объединило под властью бирманцев почти всю современную Бирму, она стала единым государством. Впрочем, после падения Пагана страна еще не раз раскалывалась на несколько кия жести и царств, и моны, столицей которых был город Негу, неоднократно добивались независимости. Поэтому вплоть до XVII века Бирма была известна внешнему миру под именем Пегу — самого южного и наиболее доступного торговцам бирманского царства.
Все эти особенности истории Бирмы и обусловили малую ее известность в Европе вплоть до XIX века.
Географы и путешественники античного мира знали об Индии, имели некоторое, хоть и туманное представление о Китае, но даже Птолемей, составитель крупнейшего географического труда древности, полагал, что Индийский океан замкнут с юга и востока Южным континентом и схож поэтому со Средиземным морем. А что касается Бирмы и соседних с ней стран, то сведения Птолемея, собранные у моряков, случайно заплывавших далеко на восток, и у торговцев, заходивших с караванами в Индию, были настолько неопределенны, что до сих пор ученые спорят, где располагался «Золотой Херсонес» Птолемея — то ли на Малаккском полуострове, где были обнаружены заброшенные золотые рудники, то ли ближе, на юге Бирмы, то ли совсем далеко, в Южном Вьетнаме.
Вещи путешествуют дальше и зачастую быстрее, чем люди. Проходя через десятки рук, товары из Китая добрались до Рима, а римские изделия находили дорогу и страны Южной Азии. Во многих странах Юго-Восточной Азии археологи обнаружили сделанные в Риме светильники, монеты, статуэтки. В Сиаме даже изготовляли на месте светильники по римскому образцу. Однако светильник не мог вернуться домой, не мог рассказать о том, что видел.
После падения Римской империи монополистами и восточной торговле стали арабы. Они пересекали Индийский океан, бывали в портах Малайи и Сиама, плавали и к берегам Южного Китая. Но представления арабских купцов о Бирме и соседних с ней странах были туманны и полны сказочных домыслов. Сказки с Синдбаде-мореходе, основанные большей частью на рассказах арабских моряков, лишь в малой степени отражают действительность. За пределами нескольких знакомых портов лежали неведомые страны, в которые купцы предпочитали не углубляться. Потому и географические справочники арабов, столь точные и полные, когда дело касается других областей земли, мало что прибавляют к географии Птолемея, когда речь заходит о Юго-Восточной Азии.
Первым человеком, поведавшим Европе о том, что и действительности представляют собой Китай и соседние с ними страны, был венецианец Марко Поло, который провел в Китае семнадцать лет в конце XIII века и выполнял многочисленные поручения императора Хубилая, связанные с поездками в соседние государства. Он же оказался первым европейским путешественником, побывавшим в Бирме, хоть и неизвестно до сих пор, доходил ли он с китайским отрядом до столицы Бирмы — города Пагана — или видел лишь северные районы. В любом случае Марко Поло описывает караульную экспедицию китайцев против ослабевшего Паганского государства, рассказывает, как лучники китайцев хитростью смогли обратить в бегство слонов, находившихся в войске бирманского царя: лучники стреляли ни ногам слонов до тех пор, пока те, взбешенные, не повернули обратно и не рассеяли собственное войско. Марко Поло описал столицу Бирмы — большой и богатый город с множеством построенных из камня высоки? башен, на которых висят колокольчики, звенящие по; ветром. Одна из башен покрыта золотом, вторая — серебром. Именно эта последняя деталь в описании башен и заставляет усомниться в том, что Марко Поло добирался до Пагана. В башнях можно угадать бирманские пагоды — конусообразные каменные громады Но точный, даже скрупулезный в описаниях, Марко Поло наверняка заметил бы, что пагоды бывают белыми или позолоченными. Вернее всего, о пагодах рассказал венецианцу кто-нибудь из китайских офицеров или купцов, бывавших в Пагане.
Когда книга Марко Поло вышла в свет, современники отнеслись к ней как к собранию чудесных сказок. Они скорее были склонны поверить в людей с собачьими головами и в сирен, чем в точные и подробные рассказы о Китае и странах Южных морей. Одним из немногих читателей, поверивших Марко Поло, был Христофор Колумб. Принадлежавшая ему книга Марко Поло, которая хранится сейчас в Севилье, несет на нолях многочисленные пометки Колумба: открыватель Америки читал ее не как сборник сказок, а как руководство к действию, как справочник.
Прошло более ста лет, прежде чем еще один средневековый путешественник, также венецианец (Венеция была крупнейшей торговой державой средневековой Европы), Николо ди Конти, вновь побывал в Бирме. Ди Конти жил в Дамаске и примерно в 1420 году отправился в путешествие на Восток. Известно, что он побывал в Южном Китае, на Суматре и на Яве, посетил Негу и Тенассерим — южную оконечность Бирмы. Ди Конти вернулся домой в 1444 году и покаялся в том, что вынужден был ради спасения жизни отречься от христианства. Римский папа даровал венецианцу прощение при условии, что тот продиктует свои воспоминания папскому секретарю. Наступало время великих географических открытий, и папский престол не скрывал своего интереса к дальним землям. Росла цена на информацию — через полстолетия Колумб отправится на поиски Индии на запад, через Атлантический океан, а Васко да Гама — на восток, через океан Индийский.
Николо ди Конти многое видел в Бирме. После того как он побывал в Пегу и Тенассериме — в монских провинциях, он пересек Бенгальский залив и высадился на западной оконечности Бирмы, в Аракане. Оттуда, преодолев горные перевалы, он добрался до города, превышавшего прочие размерами и богатством, до столицы собственно Бирмы — Авы. Николо ди Конти рассказал о том, что бирманцы покрывают тело от колен до пояса татуировкой (обычай этот сохранялся до самого последнего времени), и описал знаменитого белого слона — обязательную принадлежность царского двора в Бирме и Сиаме. Белый слон венецианца разочаровал: он был пыльного цвета с розовыми глазами. В Пегу Николо ди Копти провел четыре месяца, описал торговлю и обычаи.
А третьим европейцем, писавшим о Бирме, был русский Афанасий Никитин, купец из Твери. Афанасий Никитин известен как первый русский путешественник по Индии, юг которой он подробно описал в достоверных записках. Никитина интересовала торговля, и потому при описании каждого города он сообщает, что там растет, чем там торгуют. В числе прочих городов Никитин рассказал и о Пегу; он характеризует его как большой порт, торговля которого находится в руках индийцев. Вряд ли Никитин сам посетил Бирму, вернее всего, он слышал о ней от других купцов.
На рубеже XV–XVI веков в Бирме побывали итальянские купцы ди Санто Стефанно, который провел и Пегу полтора года, и Лодовико ди Вартема, получивший даже аудиенцию у короля монов. Разумеется, в те же годы Бирму посетило и еще немало итальянских купцов, но они не оставили никаких документов о своих странствиях.
Если ранние путешественники добирались до Бирмы и Индии на свой страх и риск на попутных арабских судах и надеяться им приходилось лишь на собственную удачу и доброе отношение местных царей и купцов, то португальцы пришли в Азию с мечом в руке. Они нашли морской путь вокруг Африки, по которому плыли отлично вооруженные корабли, устанавливавшие свое право на монопольную торговлю при помощи пушек. Португальцы рвались к островам пряностей, лежавшим на востоке, в Малайском архипелаге, а на пути к цели устраивали базы, жгли, грабили, убивали, неся перед собой знамя христианства — моральное оправдание всем преступлениям, ибо совершались они во имя истинного бога против закосневших в грехе язычников.
Вскоре первые португальцы появились и в Бирме, в южных ее областях. Бирма не входила в сферу первое степенных интересов португальцев: в ней не было пряностей и порты ее находились несколько в стороне от основных путей, по которым португальцы рвались к заветным островам. И хотя португальский конкистадор адмирал Албукерки послал официальную миссию в Пегу, однако никаких дальнейших шагов в этом направлении не последовало. Поэтому те португальцы, которые появлялись в Бирме, приходили туда не как завоеватели, а как самостоятельные торговцы и искатели приключений.
У португальцев были мушкеты и пушки — вещи остродефицитные в войнах, которые вели между собой азиатские монархи. И не удивительно, что бирманские короли и правители соседних стран охотно, нанимали португальцев на службу. Известен случай, когда бирманский король Табиншветхи включил в свою армию португальский отряд в семьсот человек; в армии его противников в 1541 году также был португальский отряд. А в 1548 году португальский отряд участвовал в бирманском походе на столицу Сиама Аютию, однако взять город бирманская армия не смогла, потому что защищал его другой португальский отряд.
Некоторые из этих наемников оставили свои записки о Бирме и сопредельных странах. Сохранились и записки католических миссионеров, которые появлялись всюду, куда приходил португальский солдат. Однако в Бирме никаких успехов не удалось добиться ни тем, ни другим. Солдаты не могли рассчитывать на большее, нежели награды от бирманского короля, — армия его была слишком сильна, чтобы португальцы могли с ней справиться, — а миссионеры без помощи солдат не могли обратить буддистов Бирмы в христианскую веру.
Не прошло и ста лет со дня появления первого португальского корабля в Индийском океане, как португальское владычество начало клониться к упадку. Ресурсов маленькой Португалии, как человеческих, так и материальных, не хватало на то, чтобы удерживать базы и крепости, разбросанные по всей Азии. Более сильные и богатые конкуренты (прежде всего англичане и голландцы) рвались на место португальцев, и путь им прокладывали путешественники и авантюристы. К их числу относился англичанин Ральф Фитч.
Фитч и три его спутника отправились в путешествие из Англии в 1583 году. Они добрались до Гоа — центра португальских владений в Индийском океане. В этом южноиндийском городе они были арестованы как шпионы и, очевидно, не без оснований, ибо у португальцев были достаточно веские причины не доверять торговым конкурентам. Одного из пленников вскоре выпустили на победу, так как он оказался художником, а местным иезуитам требовалось расписать церковь. Трем остальным удалось с помощью находившегося на португальской службе голландца Линсхотена бежать и после многих приключений пробраться ко двору Великого Могола, императора Акбара. Путь на восток продолжал один Фитч. В 1586 году он высадился в южнобирманском порту Бассейн, откуда проследовал в Пегу. Из Пегу он совершил трудное путешествие на север, в государство Чиенгмай. После возвращения в Пегу он побывал в Малакке и других портах Малайи, где собирал информацию о торговле с Китаем. Возвращался домой он тоже через Пегу. В 1591 году, после восьмилетнего отсутствия, Фитч приехал в Англию. Его родственники были весьма разочарованы, увидев путешественника живым и здоровым: будучи уверены в его смерти, они разделили его имущество.
Записки путешественников, подобных Фитчу, дневники итальянских торговцев, которые могли проникать и глубь португальских владений, пользуясь единством веры, первые путешествия английских кораблей вокруг спета и, наконец, измена голландца Линсхотена (того самого, что помог бежать из Гоа Фитчу), который бежал из Гоа в 1592 году и представил в Европе доказательства того, что Португальская империя дышит на ладан, — все это способствовало усилению действий голландцев и англичан, направленных на захват выгодных рынков.
Наконец, к началу XVII века создаются голландская и английская Ост-Индские компании и начинается вытеснение португальцев из Индийского океана и с островов пряностей.
Последний раз португальцы появляются как реальная сила в истории Бирмы именно в тот период. Воспользовавшись падением династии Таунгу, обессиленной бесконечными кровопролитными войнами с Сиамом, и очередным распадом Бирмы на несколько враждующих государств, португальский авантюрист де Бриту захватил южнобирманский город Сириам и основал там собственное царство, которое продержалось до тех пор, пока Бирма не объединилась вновь. В 1613 году царство было занято бирманцами и де Бриту был казнен.
С этих пор в списке путешественников, а также торговых и дипломатических агентов и шпионов фигурируют лишь голландские и английские имена. Если обстоятельства благоприятствовали, англичане делали попытки обосноваться в Бирме, строили там фактории, а то и просто захватывали временно какой-нибудь кусок бирманской территории. Не отставали от них голландцы и появившиеся вскоре в Южных морях французы. Южная Бирма нужна была им как база для продвижения дальше на восток, как порт, в котором можно было бы ремонтировать суда: ведь именно в Бирме растет лучшее для строительства кораблей дерево тик. И с каждым годом нужда в такой базе росла, потому что тот, у кого было больше баз в Индийском океане, имел больше шансов победить в затяжной войне между европейскими эскадрами: победив и вытеснив португальцев, их конкуренты перегрызлись между собой.
До самого начала XIX века Бирма почти не знала столкновений с европейскими державами, хотя с каждым годом расширявшиеся владения англичан в Индии все более приближались к ее границам. Угроза существованию бирманского королевства к началу XIX века была еще туманной, и бирманцы не могли ее оценить и осознать. Бирма, объединенная под властью династии Конбаунов, казалась непобедимой. Вот в эти годы там и побывал первый гость из России.
РАССКАЗ ПЕРВЫЙ
«МЫ ПОСЫЛАЕМ ТЕБЯ В ИНДИЮ…»,
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ
С НЕСКОЛЬКИМИ ЗАГАДКАМИ
И теперь тебя, Рафаила, мы посылаем в Индию, к сыну Шамираги. Поскольку отец твой, будучи на службе благословенного отца нашего, несколько раз был отправлен в Индию, мы и тебя для той же службы посылаем в Индию.
Владетель Карталинии, Кахетии и прочего,тринадцатый царь Георгий.
1
Свою книгу, изданную в Москве в 1815 году, Рафаил Данибегашвили начинает так:
«1795 года, Марта 15 дня, был я отправлен Грузинским Царем Ираклием в Индию по следующему обстоятельству: в Мадрасе жил богатый Армянин, который ежегодно присылал Ираклию подарки. Царь в вознаграждение пожаловал ему большую деревню Лори и крепость на оную послал через меня. Приехавши в Мадрас, я не застал онаго Армянина в живых: он умер за год до моего прибытия. Я вручил упомянутую крепость сыну его, находившемуся тогда в Мадрасе».
Итак, грузинский дворянин Данибегашвили (Данибегов) отправился в путь. В путь невероятно долгий по нашим меркам, но в то время в Грузии уже достаточно известный, обжитый тысячами торговых караванов а сравнительно безопасный.
Сначала была Турция. Данибегов не спешил. Он находил время полюбоваться видами, завернуть на поклонение к гробу Иоанна Крестителя и отметить При этом, что «над могилою, где стоит гроб, сооружена во имя Предтечи великолепная церковь, с хорошею колокольнею, который как по собственной красивой архитектуре своей, так и потому, что стоят на горе, представляют собою прекрасный вид».
Данибегов видел разрушенные землетрясением города на берегу Тигра, заглянул в Тигранакерт, посетовал на то, что жители в нем не любят ни пришельцев, ни друг друга, обратил внимание на то, что в Мосуле «женщин тамошних можно назвать красавицами». Был он и в Багдаде, о котором рассказал в своей книге довольно подробно, и прибыл наконец в Басру, лежащую на берегу Персидского залива.
В некоторых городах путешественник задерживался подолгу, другие пропускал, по крайней мере в своих описаниях, замечая лишь, что не почитал нужным оставаться здесь долго.
Любопытно читать сегодня эту книгу, особенно любопытно сравнивать ее с записками путешественников, отправившихся на Восток раньше Данибегашвили и после него. Кинта эта занимает промежуточное положение между лаконичными строками Никитина или Марко Поло и записками путешественников XIX века. У Никитина — деловитость, Документ. В городе имярек торгуют тем-то. Пути до следующего города столько-то дней. Битва, о которой стало известно, проходила следующим образом. Все это в книге Данибегова есть — она могла бы принадлежать перу раннего путешественника по торговым делам, если бы не частые отступления, не имеющие ценности для будущих торговцев. Земля интересует Данибегашвили именно как путешественника — зоркого, наблюдательного и находящего время поглядеть по сторонам, заметить любопытные обычаи, красоту окружающего мира или беды живущих в нем людей.
Индия Данибегова не Индия Никитина. Она уже частично покорена англичанами, и рвущиеся в нее и соседние земли европейцы хотят не только торговать, но и завоевывать.
Из Басры в Бомбей раз в месяц отправлялся пакетбот, доставлявший английскую почту в Индию. Однако Данибегашвили предпочел местный корабль, побывал 14 и Южной Аравии и лишь оттуда взял курс на восток, и Бомбей, который «может назваться славною Английскою пристанью».
Теперь, казалось бы, ничто не мешало Данибегову поплыть до Мадраса: ведь между ним и Бомбеем к тому времени уже существовало регулярное сообщение, установленное англичанами, которым принадлежали оба города. Но Данибегашвили опять не спешит. Он садится на английский корабль и отправляется на Цейлон. Явно чересчур долго путешествует по Цейлону, заезжает в город Манар, интересуется сбором жемчуга, а оттуда едет опять же не в Мадрас, а во французскую колонию Пондишери. К тому времени французы потеряли большинство своих колоний в Индии; да и Пондишери, и котором жило много французов, в те дни, когда там побывал Данибегашвили, был временно оккупирован англичанами. Некоторое время путешественник проводит в городе Транкебаре и лишь потом добирается наконец до своей цели — Мадраса.
Как ни удивительно, именно о Мадрасе, куда Данибегашвили послан грузинским царем, он почти ничего не пишет. Большую часть абзаца, посвященного Мадрасу, занимают рассуждения о жевании бетеля и о том, что англичане, установив на бетель налог, получают с того большую прибыль.
И ни слова ни об армянском купце, ни о его сыне, ни о выполнении царской воли, ни даже о том, занимался ли Данибегашвили другими делами, хотя бы торговыми. А должен был бы: в архивах сохранился вексель Данибегашвили, в котором говорится, что 2 апреля 1795 года он под залог принадлежавшего ему сада взял в Тбилиси в долг у армянского священника Тер-Давида 60 рупий и обещал привезти на них товаров из Мадраса.
Зато сразу за упоминанием о Мадрасе следует подробное и красочное описание путешествия на восток, за пределы Индии, куда его грузинский царь не посылал.
2
То, что Данибегашвили побывал в Бирме и был там первым путешественником из Российской империи, стало известно совсем недавно. Несмотря на то что его книга была издана в Москве, потом переведена на грузинский язык и внимательно изучена грузинскими историками, лишь в 1961 году географ Л. Маруашвили решил проверить путь Данибегашвили по карте. Выводы, к которым он пришел после тщательного изучения книги Данибегашвили, оказались весьма неожиданными и позволили узнать много нового.
«Из города Мадраса, по кратком моем в нем пребывании, желая ознакомиться с другими городами, отправился я морем в город Беку или Ранхун», — пишет Данибегашвили. Комментаторы его книги полагали, что имеется в виду Рангпур, индийский город. Действовал гипноз названия книги — «Путешествие в Индию». Допускалось, что на пути в Индию и обратно Данибегашвили пересекал другие страны, но пока жил в Индии — из нее не отлучался.
Маруашвили без труда догадался, что под Ранхуном подразумевается Рангун — нынешняя столица Бирмы, а в те годы быстро растущий порт в дельте основной реки Бирмы Иравади, а под Беку — бывшая столица царства монов город Пегу, известный во всей Азии порт, именем которого путешественники и торговцы часто называли всю Бирму. А так как перед отъездом из Индии Данибегашвили, без сомнения, слышал и о том и о другом городе, то он и написал через много лет «Беку или Ранхун». Когда же мы читаем в книге Данибегашвили описание жизни в Беку, то все становится на свои места, ибо описание это относится явно к Бирме.
Морское путешествие из Калькутты в Рангун оказалось опасным. И тут краткие — справки Данибегашвили о виденных им городах превращаются в подробное и красочное изложение приключений.
«Лишь только вошли мы в море, — сию грозную стихию, как вдруг поднялась ужасная буря, море страшно взволновалось, и судно наше, с стремлением несяся по оному, начинало угрожать нам неизбежной погибелью».
Пришлось пристать к берегу, не доплыв до Бирмы, и ждать, пока у корабля починят сломанный руль. Прошло несколько дней, и путешествие продолжилось.
Вернее всего, в дельту Иравади корабль не заходил. Он направился восточнее, к Пегу, расположенному на реке Ситаун.
Город, по описанию Данибегашвили, разделяется рекой на две части — старую и новую. «Цвет тела жителей его белый, расположением лица походят они на Китайцев. Все вообще употребляют в пищу сарачинское пшено (рис. Авт.) и рыбу; хлеба никакого у них нет».
Данибегашвили пишет и об Аве — столице Бирмы, и которой он явно не был и о которой сообщает, что здешний (т. е. Пегу. — Авт.) главноуправляющий, равно как и других окрестных городов, ежегодно обязан являться к своему государю, который живет в… городе Хаве».
Со слов своих знакомых он рассказывает и об обычаях при авском дворе. Обычаи ему показались курьезными: «Нет ничего смешнее картины положения вышеупомянутых главноуправляющих в присутствии Государя их. Сверх того, что, разговаривая с ним, не иначе должны называть его, как божеством, они не только в присутствии его не могут сидеть, но и стоять, и потому должны ложиться брюхом на пол; и ежели он сделает какой-нибудь вопрос, то не вставая должны отвечать ему».
Сведения, которые Данибегов сообщает о Бирме, довольно точны и тогда, когда он пишет о своих впечатлениях, и тогда, когда сведения эти он получил от торговцев, в первую очередь армянских, встреченных им в Бирме.
Путешественника заинтересовало кораблестроение в Пегу. «Беку по множеству лесов, его окружающих, снабжает Англичан деревьями на построение судов годными. В сем городе Англичане строят суда. И хотя строением судов очень славится Бомбай (Бомбей. — Авт.), однако лучшие деревья в оный отсюда доставляются».
Надо было на верфях побывать. И тут чуть не случилась беда.
Данибегов отправился на верфи: хотел сам посмотреть, как строятся корабли. Что случилось далее, он рассказывает сам:
«Приход мой туда, с одной стороны, был очень щастлив, а с другой очень нещастлив. Щастлив потому, что в сие самое время начали судно для Государя: это любопытно было видеть. С наружи обложили судно чистым золотом, а внутренность его должна выделана быть дорогими деревьями. Нещастлив же потому, что я не успел еще налюбоваться таким редким для меня зрелищем, как вдруг толпа людей окружает меня, схватывает, влечет в тюрьму, угрожает лишением головы — и за что же? за то, что я, желая подойти к начатому судну по ближе и не могши сделать этого за грязью, по незнанию моему прошел по назначенной для судна сего доске».
К счастью, за злополучного путешественника вступились армянские купцы — богатые и влиятельные люди, которые и убедили начальника верфи, что гость совершил проступок по неведению.
Рассказывает Данибегов и о добыче рубинов, оловянной руды, о торговле в Бирме, об обычаях при дворе и отмечает, что «англичане многократно покушались завладеть сим городом, но безуспешно».
Наконец пребывание в Бирме подошло к концу. Пора было возвращаться в Индию. Данибегов взошел на корабль, который отправлялся в Калькутту, и полагал уже, что его визит в Бирму завершен.
Путешественнику удивительно не повезло. Ведь дорога в Бирму чуть не кончилась морской катастрофой, жизнь там чуть не завершилась тюрьмой. И надо же было так случиться, что на восемнадцатый день плавания из Пегу в Калькутту снова разыгралась жестокая буря.
Данибегашвили так описывает дальнейшие приключения: «Судно наше долго боролось с пенистыми волнами, наконец должно было уступить силе их, и судно наше совершенно разрушилось. С разрушением его многие лишились жизни; благодаря Провидению, с тремя товарищами моими я, бросившись в бывшую привязанную к судну лодку, спас жизнь мою. В сей лодке мы 19 дней носились по волнам Океана, многократно покушались пристать к берегу, но, боясь крокодилов, которых там очень много, и в лесах по берегу Океана лежащих слыша ужасный рев львов (тигров? — Авт.), — никак не осмеливались выдти на берег. В продолжение всего времени Травы и коренья тростниковые составляли единственную нашу пищу. Природа со всеми красотами ея была мертва для нас, никакие величественные виды, ни приятные хоры птиц, раздававшиеся на берегу Океана, не могли истребить в душе нашей прошедших ужасов…»
Все-таки удивительно: за многие годы скитаний Данибегашвили наверняка неоднократно подвергался смертельной опасности, испытал множество приключений, но лишь его сравнительно краткое путешествие в Бирму описано именно в личном плане. Словно пока Данибегашвили путешествовал по известным путям, по молодой британской империи, по знакомому в Грузии Ближнему Востоку, он был краток, стоило же ему покинуть привычные места, как в нем проснулся дар рассказчика, романиста.
Но постепенно волнение стихло. Океан стал ровным, мягкие волны накатывались на узкие песчаные пляжи, к которым близко подступали синие холмы Аракана.
В результате кораблекрушения Данибегашвили очутился у берегов этой западной провинции Бирмы, отделенной от остальной страны покрытыми лесом горами. Места эти, пограничные с Бенгалией, были населены слабо. Лишь изредка здесь можно было встретить рыбацкую деревушку. Не удивительно, что опасавшиеся пристать к берегу пассажиры лодки несколько дней не встречали ни души. Наконец они увидели впадавшую в океан реку. Они вошли в устье ее и пристали к берегу, не зная, что делать дальше.
Наступила ночь. Путешественники жались к лодке, готовые в любой момент броситься в нее и грести от берега, как только из леса появится тигр. Но тигра не было. Зато после полуночи они увидели в отдалении огонек. Путешественники побежали по берегу к свету в вскоре поняли, что он исходит из лодки, в которой сидит рыбак. Однако результат их криков и беготни оказался плачевным: рыбак подобрал весла и быстро поплыл вверх по реке. Не успели огорченные путники пройти несколько сот шагов дальше по берегу, как увидели еще один огонек. Второй рыбак перепугался настолько, что бросился в воду и попытался вплавь скрыться от злых духов, за которых принял темные шумные тени на берегу. Но, продолжает Данибегашвили, «мы единогласно закричали в след ему, что мы ему подобные люди. Опомнившись, он возвратился к нам. Мы рассказали ему все случившееся с нами. Он взял нас с собою и привел в свою деревню, где мы пробыли 8 дней, по прошествии которых с сим рыбаком отправились далее…»
От деревни, расположенной на крайнем западе Аракана, было уже недалеко до английских владений. И через два дня путники были приняты английским пограничным офицером, который снабдил их одеждой и устроил на корабль, уходивший в Калькутту, куда Данибегашвили благополучно и прибыл.
В Калькутте Данибегов прожил долго. Он сам признается в том, что пробыл в этом городе «довольное время». Его явно интересует положение англичан в Калькутте, структура их управления провинцией, даже жалованье, которое платят в армии.
Из Калькутты начинается как бы новый этап путешествия. На каждой странице книги мелькают все новые названия индийских городов и местностей, причем, если отметить их на карте, окажется, что Данибегов не всегда последователей в описании — словно, проехав город и побывав в других, он возвращается назад и описывает места, которые остались далеко позади. Данибегашвили пишет об обычаях индийцев, о положении англичан в различных княжествах, даже о пенсиях, которые англичане платят магараджам.
Потом, в середине описания Индии, мелькает фраза: «Во время моего здесь пребывания возложена на меня была от Галского владельца должность собирать положеную на народ подать». Но так как эта фраза вклинивается в описание Дели, то очевидно, что Данибегашвили имел в виду делийского султана — одного из последних представителей династии Великих Моголов, которые мирно доживали свой век на пенсии у англичан. Неизвестно лишь: то ли в текст книги вкралась опечатка, то ли Данибегашвили почему-то не захотел называть делийского султана своим именем. Грузинскому дворянину было положено большое жалованье — двести рупий ежемесячно (английский солдат получал в месяц, по словам того же Данибегашвили, лишь семь рупий). Возможно, у него были рекомендации очень влиятельных людей, знакомством с которыми он обзавелся за несколько лет пребывания в Индии.
С большим сочувствием пишет Данибегашвили о том, как при осаде Агры английскими войсками жители отстояли свой город и даже женщины участвовали в этой обороне.
Неизвестно, когда и почему Данибегашвили оставляет свою службу в Дели и отправляется на север. Он явно едет домой, хотя все еще не спешит. Казалось бы, ему ничего не стоило вернуться в Бомбей и по известной дороге сравнительно быстро добраться до дома. Но путешественник избирает невероятно трудный и малоизвестный, даже сейчас нелегкий путь. В книге он объясняет свой выбор любопытством, которое будто бы вело его от города к городу. Вот почему он, по его словам, попал в Кашмир: «Я желал быть и в известном всем европейцам знаменитом городе Кашемире; и чтоб удовлетворить любопытству моему, поехал туда из Норпора в по довольном путешествии прибыл в сей город».
Итак, Данибегашвили вновь покидает места, уже покоренные англичанами, и оказывается в княжествах, подвластных афганцам. Он отмечает, что «англичанам чрезмерно желается завладеть сим городом, но желание их до сего времени безуспешно».
За Кашмиром начинались высокие горы. Пора было поворачивать обратно. Но не тут-то было. Следует лаконичное замечание путешественника: «Оставя Кашемир, я отправился в город Тибет и через 20 дней припыл в оный».
Путешественники начали проникать в Тибет во второй половине прошлого века. Тибет был «запретным», таинственным», и даже на рубеже XX века редко кому из европейцев удавалось пробраться в сердце Гималаев. А Данибегашвили побывал там задолго до европейских путешественников, и в том нет никаких сомнений: всего лет сто назад путешественник Пашино был отмечен Географическим обществом за то, что открыл полиандрию в предгорьях Тибета, Данибегашвили же пишет о многомужестве без особого удивления, так же как и о том, чем питаются тибетцы, и о том, что в Тибете можно было бы торговать русскими шелковыми тканями.
Данибегашвили не жалуется на дорогу, не говорит и ее трудностях. Более того, он сдержанно заявляет: «Дорога из Кашемира в Семиполатскую крепость, простирающаяся на три тысячи верст, весьма ровна». Где пешком, где на лошадях, месяц за месяцем проводя в самых негостеприимных местах земли, посланник грузинского царя лишь однажды позволяет себе сказать о дороге от Тибета до города Яркенда в Синьцзяне: «Сие путешествие для меня было очень скучно: ибо безплодие той дороги, по которой я ехал, величайшие рвы и высочайшие горы, в числе которых есть ледяные, рождали в душе моей несносное чувство горести, и это чувство тем более увеличивалось, что все места сии необитаемы».
Потом, через сто лет, по этим же местам пройдут и Пржевальский, и другие путешественники, которых мы привыкли называть великими. Они опишут эти высокогорные бесплодные долины, привезут оттуда фотографии и рисунки, и читатель сможет хоть в малой степени оценить величие жертв и лишений, на которые шли эти путешественники. Но в те годы, когда вышла в свет книга Данибегашвили, чувство горести, рождавшееся у путешественника, прошедшего полмира, никто разделить и понять не мог.
Пройдя безлюдные пустыни, Данибегашвили надолго остановился в Яркенде, а оттуда отправился в Турфан, оставив краткое описание Синьцзяна. Теперь оставалось лишь три месяца пути до Семипалатинска, куда путешественник стремился. «Дорога для меня была очень приятна, — вспоминает грузинский путешественник, — потому что в продолжение оной видел я множество различных народов, как-то: Калмыков, Киргизцев, Козаков (казахов. — Авт.)…»
Данибегашвили почти дома. Еще немного…
В Семипалатинске Данибегашвили уже ждали. «Из Семипалата 7 дней ехал я на почтовых лошадях до Омской крепости, где я удостоился видеть почтенную особу генерала Глазенапа…» Отсюда Данибегашвили отправился на Макарьевскую ярмарку (несомненно, за годы путешествия он не забывал и о своих торговых делах) и дальше — в Москву.
А через два года он сам (по его словам) перевел на русский язык рукопись своего путешествия и издал ее в Москве с помощью известных в Москве людей, к числу которых принадлежал, например, «ординарный профессор и кавалер Иван Двигубский».
Вот и все о путешествии. Дальше начинаются загадки.
3
Вопрос первый: Почему грузинский царь дарит большую деревню армянскому купцу, живущему в Мадрасе, и посылает доверенного человека передать ему дарственную?
Вопрос второй: Кто такой Рафаил Данибегашвили? Когда он ездил в Индию и зачем? Почему не вернулся в Грузию?
Вопрос третий: Почему Данибегашвили выбирает труднейший путь через Гималаи, а не возвращается домой как принято — через Ближний Восток? Почему он едет в Семипалатинск?
Это основные вопросы, которые возникают при чтении книги грузинского дворянина Данибегашвили. Есть и другие.
Итак, начнем по порядку. Попытаемся ответить на первый вопрос, вернее, расскажем, как отвечали на него грузинские исследователи и к какому выводу пришел Л. Маруашвили.
В конце XVIII века международное положение Грузии было очень тяжелым. Мудрый и предусмотрительный царь Ираклий II понимал, что Грузия не сможет сама справиться с агрессией южных соседей — Персии и Турции, войска которых столетиями опустошали страну. Большая часть грузинской знати, да и сам царь склонялись к союзу с Россией и к вхождению в Российскую империю, видя в этом спасение от вторжений с юга. Но заключенный с Россией в 1783 году Георгиевский трактат еще не давал Грузии полной уверенности и защите от персов. Даже в 1795 году войска Ага-Магомет-хана вторглись в Грузию, которая хотя и была защищена формальным союзом с Россией, но реальной помощи пока не получила. В этой обстановке при грузинском дворе появился некий царевич Паата, который был сыном карталинского царя и провел юность в Англии и Франции. Царевич возглавил партию, ратовавшую за сближение с Англией.
А в это время в индийском городе Мадрасе жил купец Шах-Амирян. Это был сказочно богатый человек, сильный своим влиянием среди армянских купцов в Индии и на Ближнем Востоке — весьма могущественной и многочисленной колонии, с которой считались и правители азиатских государств и даже англичане. Кроме того, у Шах-Амиряна были свои люди и в Грузии — армянские купцы и грузинские католики, к числу которых принадлежал и отец нашего Данибегашвили. Шах-Амирян преклонялся перед военным и государственным талантом царя Ираклия и лелеял мечту создать на Кавказе объединенное грузино-армянское царство, которое ориентировалось бы на Англию и другие европейские державы. Итак, из того, что мы знаем об армянском купце, следует: Шах-Амирян был не просто купцом — он был главой заграничной партии сторонников Ираклия.
Кто же такой Данибегашвили? Сохранился важный документ, подписанный сыном Ираклия — грузинским царем Георгием. В нем царь, посылая Данибегашвили и Индию в 1799 году, подтверждает за ним титул его отца — пятисотник (хутасистави), дворянство и его земельные владения в Тбилиси. Из этого документа обнаруживается, что отец Данибегашвили имел какие-то связи с Индией и не раз выполнял там поручения грузинских царей. И царь Георгий отправляет Рафаила Данибегашвили в Индию к сыну Шах-Амиряна.
Гели теперь вспомнить начало книги Данибегашвили, то окажется, что он отправился в свой долгий путь в 1795 году. И послал его в Индию не Георгий, а Ираклий, умерший в 1798 году, после нашествия персов, сжегших Тбилиси и разоривших Грузию. Так когда же Данибегашвили все-таки отправился в Индию?
Оказывается, он был там два раза, но почему-то не захотел уточнить это в своей книге. Первый раз он едет в Мадрас в 1795 году и даже берет в апреле того года 60 рупий взаймы у армянского священника. Там, в Индии, он, по его же словам, не застает армянского купца в живых. Он выполняет формальную часть поручения — передает сыну купца дарственную на деревню и через некоторое время возвращается обратно. Это случилось в 1798 году. Неизвестно, встречался ли он в Мадрасе со сторонниками Шах-Амиряна, но если даже и встречался и вез какие-то документы назад, то к моменту его возвращения из первого путешествия обстановка в Тбилиси изменилась настолько, что эти документы никого уже не интересовали.
Царь Ираклий успел перед смертью раскрыть заговор царевича Пааты. Царевич был казнен. Персы сожгли Тбилиси и разорили страну. Вступивший на престол в 1798 году Георгий полностью находился на прорусских позициях. Он полагал, что любое промедление гибельно для Грузии. Несмотря на угрозы персидского шаха, Георгий направил посольство в Москву и присягнул на верность императору Павлу. Император также не терял времени даром. Отправив Георгию атрибуты царской власти, он прибавил к ним реальную военную силу: два полка — егерский и мушкетерский. Затем в Тбилиси появился русский посол крупный вельможа в доверенное лицо императора граф Мусин-Пушкин.
И вот в это время, когда Грузия почти вошла уже в состав Российской империи, царь Георгий вдруг вновь посылает в Индию Данибегашвили, столь недавно оттуда вернувшегося. Формальный повод не очень понятен — просто к сыну армянского купца. В гости? С устным поручением? В любом случае дело настолько важное, что грузинский царь издает рескрипт, где подтверждает все чины, права и привилегии семьи Данибегашвили.
Заподозрить царя Георгия в двойной игре невозможно. Известно, что он не был склонен к сложной дипломатической политике, да и на что ему связи с армянским купцом в Мадрасе, если Грузия уже практически присоединена к России по его же прошению?
Зато в это время в Грузии уже есть люди, заинтересованные в том, чтобы как можно подробнее разведать обстановку в Индии и прилегающих к ней странах. Сам Павел, рассорившись с англичанами, планирует поход казаков в Индию. Только что вернувшийся из Индии влиятельный, опытный и с большими связями грузинский путешественник мог привлечь к себе внимание русских дипломатов. Но если у Данибегашвили было задание от русского правительства, тогда значительно удобнее было посылать его, как и прежде, в качестве личного посланца грузинского царя.
Следовательно, книга должна начинаться словами: «В конце 1799 года был я отправлен грузинским царем Георгием…»
Если эти предположения верны, тогда понятна и неспешность путешествия Данибегашвили, и его интерес к английским владениям и положению индийцев под английским господством, и его поездки в места, которые не могли дать ему материальной выгоды как купцу и никак не относились к официальной цели путешествия.
Данибегашвили провел в Индии и соседних с ней странах четырнадцать лет. Имея большие связи среди армянских купцов, работая даже одно время сборщиком налогов у Великого Могола, Данибегашвили, без сомнения, имел возможность сообщать в Грузию о своем продвижении. Более того, он мог получать оттуда и указания, как вести себя в дальнейшем.
В таком случае не кажется странным, что он отправляется обратно труднейшим и неизведанным путем через Гималаи и оказывается не в Тбилиси, а в Семипалатинске.
А там его ждут почтовые лошади — быстрейший путь сообщения в те времена. И его срочно доставляют не к кому иному, как к фактическому хозяину Сибири, начальнику Сибирской линии генералу Глазенапу. И, рассказывая о теплом приеме, который оказал путешественнику генерал, Данибегов роняет слова: «Сколько снисходителен и добр он к людям, препорученным его покровительству».
Кто-то это должен был сделать. Кто-то должен был информировать генерала о приезде важного гостя и «препоручить гостя его покровительству».
Неизвестно, какова была дальнейшая судьба Данибегашвили. Мать его, католичка Анна-Роза, в начале XIX века еще жила в Тбилиси, его брат Иосиф в 1808 году получил подтверждение на права и пенсию брата от русских властей в Грузии. Сам Данибегов до 1815 года был в России. Вернулся ли он в Грузию снова, мы не знаем.
Почти двести лет назад одинокий путешественник проделал путь длиной в 20 тысяч километров, объездил Индию, побывал в Бирме, в Малом Тибете, в Восточном Туркестане и оставил о том интересную книгу. И путешествие его было необыкновенно.
ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
1
В те дни, когда в Бирме побывал Рафаил Данибегашвили, она переживала пору своего последнего взлета. Централизованное бирманское государство по праву считалось сильнейшим в Юго-Восточной Азии, и бирманские войска были грозой Манипура, Ассама, Чиенгмая и других соседних с Бирмой государств. Но в расцвете Бирмы скрывалась и опасность для ее дальнейшей судьбы: она оставалась феодальным, замкнутым государством, а властители ее, убежденные в своей непобедимости, не могли оценить всех масштабов угрозы дальнейшему существованию Бирмы, исходившей с запада, из английских владений в Индии.
А в 1815 году, когда книга Данибегашвили была отпечатана в Москве, над Бирмой уже собирались тучи. За сто лет до того Бирма могла еще надеяться на возможность сопротивления европейским колонизаторам; однако к началу XIX века разрыв в уровне экономического развития достиг таких размеров, что лишь коренная ломка уклада общественной жизни, перестройка армии, внедрение фабрик и заводов, выход на внешний рынок могли спасти страну от завоевания. А для этого не было времени, да и оснащенный веками образ жизни казался правителям Бирмы единственно возможным и нерушимым.
Англичане начали вторжение в Бирму, как только освободились в Индии и на других фронтах колониальных войн, как только были готовы к завоеванию еще одной чужой территории. Формальным основанием к первой англо-бирманской войне послужили столкновения на западных границах Бирмы — как на севере, в Манипуре, куда бирманские короли не раз организовывали походы против ассамских и манипурских племен, вторгавшихся в бирманские владения, так и на юге, где антибирманские араканские повстанцы, нашедшие убежище на территории захваченной англичанами Бенгалии, постоянно совершали рейды на бирманскую территорию.
В 1824 году английский экспедиционный корпус высадился в дельте Иравади, в крупнейшем бирманском мороком порту Рангуне — молодом городе, бурно развивавшемся во второй половине XVIII — начале XIX века. Англичанам удалось захватить город и укрепиться в нем. Поспешивший им навстречу талантливый бирманский военачальник Бандула попытался организовать сопротивление в окрестностях города и блокировать противника. Началась длительная позиционная война, в ходе которой англичане несли большие потери, в основном от болезней. Однако в одной из стычек генерал Бандула был убит, и это внесло разброд в бирманскую армию. Сменившие Бандулу бесталанные генералы (зато родственники короля) вынуждены были отступить под натиском англичан, а когда те углубились далеко на территорию страны и под угрозой оказались важные центры собственно Бирмы, бирманский королевский двор был вынужден запросить мира.
Англичане были беспощадны. И хотя официально война начиналась лишь для того чтобы «отвадить» бирманцев от военных действий у границ британских владений в Индии, по условиям мирного договора — у Бирмы отняли важные южные провинции — Аракан и Тенассерим — и наложили на нее громадную контрибуцию.
Если до первой англо-бирманской войны в России о Бирме знали лишь единицы, то с 1824 года слово «Бирма», «Бирмания» начинает довольно часто фигурировать на страницах газет и журналов. Причем если первые публикации были, естественно, перепечатками из английской прессы, то весьма скоро появляются и материалы другого рода, в которых авторы пытаются отсеять налет недоброжелательной к Бирме английской пропаганды, готовившей новые захваты во славу британского оружия и на пользу британским фабрикантам.
Общеизвестно, что царская цензура внимательно и строго следила за русской периодической печатью, ни в коем случае не дозволяя ставить под сомнение внутреннюю или внешнюю политику царизма. Однако в отношении Бирмы эта политика не была четко определенной, ясно было лишь, что не в интересах России ссориться с Англией из-за малоизвестной и весьма далекой страны, где сама Россия никаких целей не преследует. Все это позволило русской либеральной общественности довольно широко комментировать со своих позиций английскую агрессию в Бирме, глубже знакомить читателей с историей Бирмы, культурой, навыками и обычаями ее народа. Не было бы, вероятно, преувеличением утверждать, что русская пресса освещала события в Бирме более объективно, чем пресса любой другой европейской державы, не говоря уже об английской.
Наиболее полную информацию о Бирме в тот период давали такие издания, как «Сын отечества», «Русский инвалид» и «Московский телеграф». Большую роль в распространении знаний по истории и этнографии Бирмы в России сыграли «Атеней» и «Азиатский вестник».
Причины, выдвигавшиеся британскими политиками в оправдание войны против Бирмы, были настолько лживо-пропагандистскими, что их не приняла всерьез чиже газета «Санкт-Петербургские ведомости». А «Сын отечества» в 1824 году без обиняков писал, что действительной целью Англии в войне против Бирмы является стремление захватить ее богатства, прежде всего тиковые леса, и открыть торговую дорогу из Индии через бирманские земли в Китай.
Русскую общественность живо интересовали все стороны жизни бирманского общества. Во время войн с английскими захватчиками в 1824–1826 и 1852 годах на первый план выходили, естественно, рассказы о патриотизме и доблести бирманцев. Но никогда не покидали границ русской прессы мотивы восхищения бирманским народом, его культурой. С легкой руки «Московского телеграфа» — первого либерального журнала в России, по словам Белинского, самого лучшего журнала в России «от начала журналистики» — еще в 1825 году утвердилось в России мнение, что просвещенный человек должен знать Бирму, обычаи и нравы ее народа, ее историю и культуру.
Как бы продолжая эту мысль, «Азиатский вестник» и том же году писал, что русской общественности не следует вполне доверять тому, что пишут о Бирме на Западе. Либеральная печать России отметала утверждения англичан о «дикости» бирманцев, о том, что они якобы ненавидят все европейское и питают прирожденную враждебность к Западу. «Всякий бирман умеет читать, писать и знает счет», а бирманские ученые и монахи «занимаются переводами книг с иностранных языков», — писал «Азиатский вестник» в сентябре 1825 года. А «Сын отечества» еще до этого сообщил своим читателям, что «бирманы довольно просвящены» и «в каждом их монастыре находится библиотека», грамотность же населения там даже выше, чем в европейских странах. Английский миф о диких бирманцах раздражал даже «Санкт-Петербургские ведомости». В номере от 5 апреля 1825 года сообщается, что бирманцы весьма лояльны к иностранцам и гостеприимны, что во всех бирманских городах живет много иностранцев из разных стран мира, которые «свободно занимаются торговлей, свободно отправляют свое богослужение», и что сами бирманцы не только почти поголовно грамотны, но «весьма любят музыку и поэзию» и «великие охотники до шахматной игры».
В период между двумя англо-бирманскими войнами бирманская тематика в русской печати несколько ослабла. Она вновь зазвучала в начале второй половины XIX века. Вопросы далекой истории, быта и культуры бирманцев отошли в это время на второй план, зато русский читатель хорошо представлял характер бирманского народа, его храбрость и свободолюбие, его патриотизм и ненависть к врагам.
В ходе второй войны англичане отхватили уже значительно больший кусок бирманской территории, оккупировали южные области страны и отрезали Бирму от моря, подготавливая окончательный захват ее.
После окончания войны в Бирме произошли некоторые изменения, отразившиеся на ее политике, как внутренней, так и внешней. Эти изменения стали возможными, когда на престол взошел король Миндон — крупный политический деятель, старавшийся любой ценой сохранить бирманскую государственность и начавший нащупывать контакты с европейскими державами, чтобы найти союзников в неизбежных новых конфликтах с Англией.
После полувекового перерыва в Бирме вновь появились русские люди. Однако первые из них, побывавшие и стране в начале 60-х годов, увидели не независимую Бирму, а те ее области, которые в 1852 году были присоединены англичанами к Британской Ост-Индии.
До нас дошли записки двух из этих русских путешественников — командира военного транспорта «Гиляк» Адольфа Ивановича Энквиста и судового врача Владимира Николаевича Дмитриева.
2
Капитан «Гиляка» А. И. Энквист был опытным и известным моряком. В 1853–1856 годах, еще лейтенантом, он участвовал в кругосветном плавании фрегата «Диана». В 1861 году вместе с чином капитан-лейтенанта Энквист получил под командование пароход «Гиляк» — паровой военный транспорт, ходивший также и под парусами. На этом транспорте Энквист совершил два кругосветных плавания. Любопытно отметить, что «Гиляк» был последним русским кораблем, совершившим плавание вокруг мыса Доброй Надежды до открытия в 1869 году Суэцкого канала.
В конце 1862 года «Гиляк» по пути с Дальнего Востока зашел на Филиппины, в Манилу. Здесь уже находились другие суда русской Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Попова. От него-то Энквист и получил приказ идти в бирманский порт Моулмейн (Моламьяйн) для закупки тика.
Моулмейн стоит в устье реки Салуин. Подходы к порту в те времена были сложными, и обычно суда буксировались катерами, принадлежащими английской компании. Однако Энквист решил не тратить казенных денег на буксировку — компания, будучи монополистом и этом деле, брала с гостей столько, сколько почитала нужным, — и провел корабль в порт без всякой помощи.
В канун Нового года «Гиляк» бросил якорь в Моулмейне. Моулмейн тогда процветал: он был важной базой англичан на пути в Малайю и Сингапур. Интересны наблюдения Энквиста о торговле Моулмейна. «Город, — пишет он, — имеет 65 000 жителей, из которых 2300 европейцев. Славится своим хорошим климатом преимущественно против других мест Ост-Индии. Торговлю ведет пиковым деревом и рисом. Ежегодный вывоз тика доходит до 98 000 тонн, из числа которых 58 000 идет в одну Англию; риса же вывозится до 37 000 тонн, из которых большое число идет в английские порты».
Пройдет несколько десятилетий, и вывоз тика отступит на второй план: Бирма превратится в рисовую житницу Британской империи. Но во времена Энквиста ломка бирманской экономики только начиналась, и традиционный предмет вывоза — тик — еще господствовал в бирманской внешней торговле.
Переговоры о покупке тика и погрузка его затянулись надолго. Полтора месяца «Гиляк» простоял в порту. Отсутствие транспорта встревожило контр-адмирала Попова, и он послал в Моулмейн клиппер «Абрек» узнать, не случилось ли что с моряками. «Абрек» — второе русское судно, побывавшее в Бирме, — провел в Моулмейне всего три дня и ушел в Калькутту.
В своих записках капитан Энквист пишет и о бирманских погонщиках слонов, и о работе в порту, и о природе Моулмейна. Однако русские моряки с «Гиляка» были ограничены в своих поездках, и большей частью им приходилось иметь дело с англичанами. Интереснее для нас записки о Бирме начала шестидесятых годов, оставленные врачом В. Н. Дмитриевым.
3
До сих пор в Ялте есть «домик Дмитриева». Человек это был незаурядный, талантливый и многосторонний. Известен он более всего тем, что был основателем ялтинского курорта, крупным медиком, курортологом. Он был близок к Чехову, хорошо знаком со многими учеными и литераторами, увлекался театром и сам ставил спектакли. Но нас интересует сейчас менее известная сторона его биографии, нас интересует Дмитриев-путешественник.
В молодости Дмитриев работал судовым врачом на русских кораблях и побывал во многих странах, в том числе и в Бирме. На ее берег он сходил дважды.
В отличие от сдержанного, связанного официальным положением Энквиста Дмитриев — лицо частное, и его оценки положения в южных областях Бирмы, незадолго до того захваченных англичанами, его характеристики английской политики, описание положения в Моулмейне (именно этот порт в шестидесятых годах чаще всего посещали русские суда) резки и нелицеприятны. «Английский лев, — пишет Дмитриев, — нет, не будем говорить — лев, льву это не свойственно, ближе к истине сказать английская Лиса Патрикеевна всякими правдами и неправдами всюду подбирает, что плохо лежит. Тогда она только что (за десять лет до прибытия в Бирму Дмитриева. — Авт.) отхватила лакомый кусок от Бирманской Империи…»
Моулмейн, как уже отмечал Энквист, имел в это время значительное европейское население — более двух тысяч человек. В нем быстро рос так называемый европейский город — явление типичное для колониальных стран. Это зеленый, тенистый район города, где редко и живописно разбросаны в тени пальм и манговых деревьев более или менее элегантные виллы. Такие районы и целые города в конце прошлого века росли по всей Южной и Юго-Восточной Азии и Африке. Они были таким же обязательным элементом колоний, как европейские яхт-клубы и тяжелые «колониального стиля» административные здания, до удивления чужеродные в странах Востока с их легкой и практичной архитектурой. Про этот «новый город», вернее, про население его Дмитриев писал: «Это все бары, высшее чиновничество, офицерство, которые не смешиваются с чернью».
А рядом кипел «туземный» город. Там Дмитриеву нравилось куда больше. И присутствие европейцев никак не стесняло. «Да и лучше, что не видно их чопорной неприветливости, презрительного отношения ко всему не английскому. А туземцы: и бирманцы и тальены (таланиги-моны. — Авт.) и карены… весь народ простой, бесхитростный, с которым очень приятно иметь дело».
Пребывание в Бирме запомнилось Дмитриеву на всю жизнь. И характерно, что сорок лет спустя, уже стариком, Дмитриев, полемизируя со сторонниками теории об исконном отставании «низших восточных рас», писал: «Не время и не место распространяться здесь об особенностях бирманской культуры… Но нельзя и не сказать, что это не дикари… это не дикость, а своя особенная культура… Не смотрите, что он прикрыт только коротенькой юбочкой, — он мыслит, он рассуждает, он по-своему образован, знаком с внутренней жизнью человека и думает о ней не меньше европейца, — конечно, своим особенным, не похожим на европейский, способом мышления».
Но наибольший интерес для нас представляет описание Дмитриевым бирманского театра — первое сообщение о бирманском искусстве в русской литературе, полученное из первых рук, причем пишет о бирманское театре знаток, занимавшийся этим вопросом в России сам поставивший ряд спектаклей.
Представления, на которых побывал русский путешественник, были приурочены к бирманскому Новому году, приходящемуся на апрель. Это праздник воды, знамение приближающегося муссона, граница сухого дождливого периодов.
Бумажные разноцветные фонарики освещали сцену, на которой молодые актеры давали представление, изображая в танце посев и уборку риса, различные ремесла, окраску тканей. Затем Дмитриев отправился в другой театр, где показывали пве — классическое бирманское представление, сюжетом которого обычно являются буддийские мифологические мотивы, сдобренные танцами и шутками.
«Перед нами открылся зрительный зал самый обширный, какой только может быть на Земле, — пишет Дмитриев, — потолок самого благородного стиля — голубой темный бархат, весь убранный блестящими серебряными звездами. Стены раздвинуты до самого горизонта — с одной стороны взгляд упирается в скат только что покинутой нами горы, покрытой сплошь густым лесом, впереди даль реки с многочисленными островами, которые виднеются на серебристой глади вод, как корзины цветов, а с боков кустарники. Пол зала зеленого бархата, слегка покат, как в амфитеатре».
Наконец по толпе, рассевшейся на пологом склоне холма, прошло движение. Казалось, еще ярче вспыхнули фонарики. Служитель разжег факелы, вытянувшиеся в ряд у сцены…
Путешественник не досмотрел пве до конца: ведь оно продолжается всю ночь и возобновляется на следующий день, как только стемнеет, — и так на неделю или больше. Сначала больше виделось необычное — красочность костюмов, резкость угловатых движений актеров, необычность инструментов оркестра и самой музыки, в которой европейскому уху так трудно уловить ритм и мелодию. Но постепенно очарование сказки, простого и тонкого искусства актеров захватило врача. «Все было просто, — вспоминал он. — Совсем, можно сказать, по детски, а между тем мы с интересом слушали и очень долго наслаждались чем-то новым, неожиданным, неслышным доселе». И уже казалось, что все понятно — актер ходил по сцене, танцевал, и видно было, как он хвалится своими подвигами, своими битвами со злыми демонами. А вот рассказ пошел о другом — о его любви и девушке, о том, как он лишился любимой…
Только когда ночь давно вступила в свои права, Дмитриев взглянул на часы: уже четыре часа он провел у сцены. Пора идти. На корабле будут волноваться.
И через много лет, вспоминая этот вечер, Дмитриев говорил друзьям, что мечта его — увидеть когда-нибудь бирманскую труппу в Ялте.
4
Во второй половине прошлого века начало бурно развиваться русское востоковедение. Наиболее крупные ученые-востоковеды (из тех, кто занимался проблемами Индии и Дальнего Востока) выросли среди исследователей восточной идеологии и философии, в первую очередь буддизма. Появление их трудов, а также публикация записок первых путешественников типа Энквиста и Дмитриева позволили русским читателям получить достаточно полное и конкретное представление о государственном устройстве, населении и истории Бирмы. Правда, информация, которая пришла из первых рук (а помимо этого появился ряд переводов работ английских авторов), была несколько ограничена тем, что русские корабли приставали лишь к портам Южной Бирмы, находившимся в английских владениях. Что же касается свечений о еще независимом Бирманском королевстве — Верхней Бирме, то они черпались русской общественностью только из работ иностранцев, которые, в первую очередь англичане, были зачастую тенденциозны.
Поэтому крайне интересны для нас сведения о первом русском путешественнике, попавшем в Верхнюю Бирму, тем более что он не только побывал в стране, но и познакомился с крупными бирманскими государственными деятелями, был тепло принят при бирманском дворе и сыграл определенную роль в развитии российско-бирманских отношений.
Мы уже отмечали, что в своих попытках установить отношения с другими государствами, как с соседними, так и с европейскими, правительство короля Миндона развило довольно значительную дипломатическую активность. И вполне естественно, что в поле его зрения попала и Россия, как возможный защитник от английской экспансии.
Еще в пятидесятых годах, во время Крымской войны, бирманцы внимательно следили за ходом военных действий, рассчитывая, что победа России над Великобританией и ее союзниками благоприятно скажется на положении Бирмы. Однако Россия потерпела поражение, интерес к союзу с ней временно погас. Тем не менее, когда в 1874 году в Иран было направлено бирманское посольство, в числе поставленных перед ним задач была и такая: попытаться установить связи с Россией через русского посла в Тегеране.
Посольству были вручены подарки для русского императора и письмо, подписанное первым министром Бирмы. Среди подарков, переданных русскому послу, был большой и красивый рубин, золотая шкатулка, украшенная драгоценными камнями, и несколько рулонов бирманских тканей. Закончив свою миссию в Иране, посольство Бирмы задержалось в Тегеране, ожидая разрешения русского правительства на поездку в Петербург. Идею посольства в Россию поддержал и шах Ирана, который весьма опасался британской экспансии. Однако император Александр II решил не портить отношений с Англией из-за отдаленной маленькой страны, и ответ его гласил: разрешения на поездку посольства а Россию не давать.
Английский Генеральный штаб к тому времени уже разработал план кампании по захвату Верхней Бирмы. Об этом знали не только в Калькутте, но и в Петербурге. Русский военный агент в Англии генерал-майор А. П. Горлов имел достоверные сведения о содержании плана войны Англии в Бирме. В его рапорте военному министру Д. А. Милютину от 7(19) июля 1875 года мы читаем: «План военных действий есть следующий: посадив войска на флотилию речных судов, отряд пойдет вверх по Иравади до столицы, взятием которой окончится и война». Горлов знал и о том, что во время движения этого флота по Иравади англо-индийские десантные войска должны взять и уничтожить береговые укрепления бирманцев. Русский генерал знал также, что англичане уже начали строить базу в 450 верстах от Мандалая, в Таетмьо, чтобы сосредоточить «все необходимое для войны». Лондон рассчитывал разделаться с Бирмой «в течение одной или в две недели». Но опытные английские колонизаторы не стали осуществлять этот план в 1875 году. Поход в Бирму был временно отложен. И это вовсе не потому, что Англия боялась проиграть войну. Нет. Более неотложными были дела у Лондона в других районах мира.
Тысяча восемьсот семьдесят пятый год был для британских политиков годом чрезвычайно бурной дипломатической деятельности. Шла подготовка к церемонии провозглашения королевы Виктории императрицей Индии. Укреплялись позиции Англии на Ближнем, Дальнем и Среднем Востоке. В том же, 1875 году Англия накупила у египетского хедива акции Суэцкого канала, направила в китайские воды флот и закрыла свою миссию в Пекине. Правительство Небесной империи струсило и в следующем, семьдесят шестом году подписало конвенцию, предоставившую Англии ряд привилегий в соседней с Бирмой Юньнани; кроме того, Англии было разрешено снарядить экспедицию в Тибет. Этими акциями устранялось вмешательство Китая в английские дела и Бирме в будущем.
Английская дипломатия шла также на обострение отношений с бирманским правительством, с тем чтобы или подчинить его воле Лондона, или создать повод для поенного вмешательства. Так, Миндону был предъявлен ультиматум, требующий отменить в отношении английских резидентов закон, обязывавший снимать обувь в присутствии бирманского короля. Как и ожидали в Лондоне и Калькутте, ультиматум был отвергнут, и выиграла от этого лишь Англия: Миндон был объявлен врагом европейцев, унижающим их достоинство. Однако до войны дело не дошло. Англия готовилась к покорению Афганистана, начинала операции в Южной Африке. В эти годы ее отношения с Россией временами настолько обострялись, что, казалось, вот-вот между ними вспыхнет война. Царское правительство, конечно, не беспокоила судьба покоренных Англией стран и народов. Царизм сам преследовал в Средней Азии такую же цель, что и правительство королевы Великобритании и императрицы Индии в других частях Азии и в Африке. Политика Лондона осуждалась в Петербурге постольку, поскольку она усиливала главную соперницу России на Востоке. Но положение России, особенно в связи с ее политикой на Балканах, было таково, что открытый конфликт с Великобританией не входил в расчеты царского правительства, и уж ни в коем случае оно не желало рисковать ради Бирмы.
Потерпев неудачу в первой попытке, бирманцы тем не менее не оставили мысли наладить с Россией дипломатические отношения.
Здесь на сцене появляется путешественник Николай Ненюков. К сожалению, документов, которые говорят о его путешествии, сохранилось всего два: это справка министерства иностранных дел, обнаруженная не так давно в Архиве внешней политики России, и письмо первого министра Бирмы по вопросу установления отношений с Россией, в котором также упоминается имя Ненюкова.
Справка датирована началом 1876 года. В ней говорится: «Русский путешественник г-н Ненюков, путешествуя весьма долго по свету, посетил в начале прошлого года все главные города Британской Индии и после того проехал в Бирманию. Прибыв в Мандале, главный город независимого Бирманского королевства, имея рекомендательное письмо к английскому агенту капитану Стро веру, г-н Ненюков был приглашен жить в доме сего агента, который и представил его королю».
Британский агент, как следует дальше из справки, сам сопровождал Ненюкова к королю Миндону. К сожалению, из справки неясно, как это произошло. Судя по дальнейшим событиям, визит этот ни в коей мере не отвечал интересам Великобритании и вряд ли английский агент по собственной инициативе представил Нонюкова королю. Вернее всего предположить, что о прибытии первого русского в Мандалай стало известно при бирманском дворе и король Бирмы выразил каким-то образом желание встретиться с ним. Тогда дальнейшее поведение английского агента вполне логично: лучше не отступать ни на шаг от русского, чем дать ему свободу действий. Тогда становится ясной и фраза из справки: Король через Стровера, служившего переводчиком, сделал г-ну Ненюкову несколько вопросов». Таким образом, ход беседы до какой-то степени агентом контролировался.
Справка, вернее всего, писалась со слов самого Ненюкова, и кое-какие детали, важные сегодня, но не казавшиеся важными самому путешественнику, в ней опущены. Так, в справке приводится вопрос короля, вполне понятный в свете желания Бирмы наладить отношения с Россией: «Он спросил его: скольку ему лет, находится ли на государственной службе и с какою долью путешествует». Но ответа Ненюкова нет. Очевидно, ответ удовлетворил Миндона, причем настолько, что ни не стал продолжать беседу в присутствии английского агента, а, дав согласие на поездку Ненюкова на север Бирмы, в город Бамо, пригласил его снова явиться ко двору по возвращении. При этом король подчеркнул (что любопытно, так как Миндон предпочитал без нужны не обострять отношений со всемогущим английским резидентом), чтобы пришел Ненюков к нему без англичанина, а в сопровождении «француза Давера», находящегося на службе короля. С этим «французом Давером» нам придется еще столкнуться, здесь же только отметим, что в справке министерства допущена небольшая ошибка: в отличие от приехавшего в Бирму вслед за Ненюковым Петра Пашино, Ненюков не сблизился (хотя и был знаком и позднее переписывался) с португальцем Фернаном д’Аверой — человеком интересным, своеобразным и не в пример многим другим европейцам, прижившимся в те годы в Мандалае, горячим сторонником сохранения бирманской независимости. Роль, которую избрал Ф. д’Авера, была не из благодарных. Другие, более дальновидные или более расчетливые европейцы (например, итальянский консул в Мандалае Андрино, о котором язвительно пишет Минаев) были просто-напросто агентами англичан и старались угодить тем, кого считали будущими хозяевами страны.
Итак, Миндон пожелал говорить с Ненюковым с глазу на глаз: д’Авера был доверенным лицом короля.
Ненюков побывал в Верхней Бирме и стал при этом одним из последних, кто видел в живых английского путешественника Марджори, искавшего наиболее выгодный путь из Бирмы в Китай (он был не первым английским путешественником такого рода) и вскоре погибшего при таинственных обстоятельствах на территории Китая. Гибель Марджори дала возможность англичанам начать шантаж Бирмы, якобы виновной в его смерти. И только выгодное для Бирмы стечение политических обстоятельств отсрочило английское вторжение. Правда, встреча Ненюкова с Марджори прошла незамеченной для падкой до сенсаций прессы, ибо в противном случае, вполне возможно, могла бы родиться легенда о «русской руке», причастной к гибели Марджори.
Когда Неиюков вернулся из Северной Бирмы, король без отлагательства принял его, и не один раз, а дважды. Ненюков не пишет о содержании этих бесед, говорит лишь, что «король о политике не говорил, а сказал только, чтобы Ненюков переговорил с его министрами». Однако можно предполагать, о чем шел разговор, так как мы знаем, какие темы поднимал король в беседах с приехавшим вскоре после Ненюкова в Бирму Пашино: по словам последнего, Миндон живо интересовался жизнью, историей России, даже прочел жизнеописание Петра Великого, подражать которому желал.
Любопытны темы переговоров Ненюкова с бирманскими министрами. «Министры спрашивали Ненюкова, — говорится в справке, — почему русский посланник в Тегеране не допустил бирманское посольство ехать в Россию?» Вряд ли бирманские министры были так наивны, что полагали причиной неудачи посольства произвол русского посла; но в их интересах было изобразить этот инцидент как недоразумение, дабы не закрывать дорогу к будущим попыткам такого рода: ведь иначе пришлось бы признать, что само русское правительство выступав против переговоров, а это можно было бы счесть оскорблением бирманскому правительству, после чего дальнейшие попытки контакта были бы бессмысленны. Ненюков ответил, что он об этом ничего не слыхал и не думает, чтобы русский посланник в Тегеране мог запретить кому нибудь въезд в Россию, но полагает, что если посланник посоветовал бирманскому посольству не ехать в Россию, то это, вероятно, потому, что «высшее русское правительство в С. Петербурге не желало бы вступить в сношения с бирманским послом низшего ранга против того, который был послан к английской королеве, и что государь император, самый могущественный государь в мире, не согласился бы, конечно, ни в коем случае допустить ведение переговоров иначе как с посланником самого высшего чина» (тут Ненюков не принимает дипломатической игры бирманских министров, однако, будучи человеком неглупым, предлагает свою, также удовлетворяющую гордость бирманцев версию случившегося).
Тогда министры делают следующий дипломатический шаг: Ненюкову предлагают отправиться еще на один прием к королю Бирмы и после разговора с ним отвезти русскому императору письмо с предложением о переговорах. Правительство Бирмы даже предложило Ненюкову оплатить ему проезд в Петербург и обратно, т. е. прервать путешествие для «командировки» в Петербург.
Неизвестно, каковы были мотивы дальнейших действий Ненюкова, но можно предположить, что на них отразился целый ряд факторов. Во-первых, у путешественника были свои планы и неожиданный перерыв в путешествии никак в них не входил: ведь подобная «командировка» заняла бы несколько месяцев. Во-вторых, он мог предполагать, и не без оснований, что русское правительство не изменит своей осторожной, выжидательной политики и поездка его будет бессмысленной, тем более что он был частным лицом, к мнению которого вряд ли стали бы прислушиваться в Петербурге. И, наконец, третье обстоятельство также сыграло свою роль: начинался буддийский пост, во время которого король по религиозным соображениям не мог встречаться с иностранцами и давать аудиенций даже частного характера, — а Миндон был очень набожным человеком. Значит, для того чтобы получить письмо, надо было надолго остаться в Мандалае, и все путешествие ставилось под угрозу. Наконец, в справке есть сказанные Ненюковым слова: «Г-н Ненюков, как частное лицо, старался, по возможности, быть осторожным в этом деле». Здесь, возможно, выступает на сцену английский резидент, в доме которого Ненюков жил. Вряд ли резидент был заинтересован в исполнении этого поручения, а путь Ненюкова лежал в Индию, в английские владения.
Однако все это не более чем догадки. Наверняка известно лишь то, что Ненюков, который спешил в Индию, обещал д’Авере сообщить о дате своего возвращения домой и это обещание исполнил.
Уже в Петербурге Ненюков получил письмо д’Аверы, в котором тот сообщал, что вскоре направит ему письмо от бирманского министра иностранных дел для русского министра Горчакова.
Но письмо все не шло, и Ненюков встревожился. Он написал д’Авере об исчезновении письма и предположил, что оно задержано англичанами. Если уж Ненюков об этом решил написать, видно, основания для такой тревоги у него были. Однако прошло еще несколько месяцев, и долгожданное письмо, пролежавшее, должно быть, довольно долго в соответствующих английских ведомствах, пришло. А вскоре пришло второе такое же, так как д’Авера поспешил с ответом Ненюкова к королю и тот приказал изготовить копию письма и вновь направить в Петербург.
Очевидно, Горчаков доложил об очередном послании бирманского правительства императору Александру II, и тот снова приказал не спешить с какими бы то ни было действиями. Ответ Горчакова министру иностранных дел Бирмы был вежливым… и совершенно не на тему. Русский министр благодарил бирманское правительство за теплый прием, который оно оказало Ненюкову, и выражал надежду на то, что и другие русские путешественники будут приняты в Бирме таким же образом; к этому добавлялось, что, если бирманские путешественники (не посольство, а именно «подданные его бирманского величества») соберутся в Россию, они тоже могут рассчитывать на теплую встречу.
Письмо это было получено бирманским правительством, и в Петербург полетело новое послание. Оно также сохранилось в архивах МИД. В нем министр иностранных дел Бирмы с первых строк возвращается к интересующей его теме: «Мой августейший государь всегда считал своим долгом устанавливать дружеские отношения и укреплять уже существующие с государями других великих наций, которые, подобно Бирме, дорожат своей независимостью… мой августейший государь, питая особые симпатии к великому государю Российскому и великому русскому народу, пытался осуществить свое королевское желание…» Бирманский министр вспоминает о письмах, посланных с Ненюковым, говорит о визите в Бирму армянского архиепископа Григория — в Бирме была большая и активная армянская община, через которую бирманское правительство также пыталось найти путь к установлению отношений с Россией. И наконец, рассказывает о приеме, оказанном в Бирме русским путешественникам Пашино и Хлудову. В письме говорится: «Они (т. е. Пашино и Хлудов. — Авт.) обещают, если я вручу им письма к Вашей светлости, приложить нее усилия, чтобы способствовать установлению дружественных отношений между нашими двумя правительствами».
Итак, на сцене появляются еще два человека, которые побывали в Бирме и даже связали себя определенными обещаниями, — такими, какие не осмелился взять на себя Ненюков. Кто же эти люди? Почему и как они попали в Бирму и каким образом стали столь хорошо знакомы бирманским министрам?
РАССКАЗ ВТОРОЙ
«РОДИТЕЛЬ МОЙ, ХАСАН-БЕЙ, БЫА ЧЕЛОВЕК ЗАЖИТОЧНЫЙ»
В страны далекие Ташкента
От нас увозишь ты с собой
И сердце доброе студента,
И ум, годами развитой…
1
Приятно верить в конечную справедливость и завершать рассказ о большом путешественнике и ученом словами: «Памятник ему возвышается там-то… улица его имени проходит сквозь новые кварталы… собрание его сочинений…»
Всего этого нет. Частично в том виновата судьба, частично и сам Петр Иванович Пашино. Даже имя его ничего не говорит не только читателям, но и большинству историков и этнографов. И если бы востоковед Елизавета Ивановна Гневушева, готовя в 1948 году диссертацию по истории Индии, не столкнулась случайно с его трудами и не заинтересовалась его личностью, известно было бы и того меньше.
Но Елизавета Ивановна — человек упорный. На ее счету есть по крайней мере два интереснейших человека, спасенных из незаслуженной безвестности: Василий Малыгин, разгромивший в конце прошлого века голландские войска в Индонезии во время восстания на острове Ломбок, и Петр Иванович Пашино.
Люди такого масштаба, как Пашино, оставляют по себе очевидные и многочисленные следы. Но следы эти разбросаны по архивным папкам, скрываются в частных письмах, в статьях давно забытых газет и журналов. И лишь собрав их воедино, можно представить себе, кем же был человек.
Историку порой приходится становиться детективом. Оброненное невзначай слово в письме ведет к заметке в газете. Заметка заставляет обратить внимание на человека, никак, казалось бы, не связанного с основным руслом поисков. А человек дает ключ к открытию, по-новому раскрывающему целый период в жизни главного героя поисков.
Прошло несколько лет раскопок в архивах и библиотеках. И вот вышла книга Гневушевой «Забытый путешественник» — надежная основа дальнейших поисков и исследований о Петре Пашино, журналисте, путешественнике, этнографе, дипломате, несчастном и большом человеке. За четырнадцать лет, прошедших со дня опубликования книги, к портрету Пашино прибавились новые черты, и все же многое еще неизвестно и неясно, и виной тому в первую очередь небрежение, с которым Пашино относился к собственным трудам и собственной славе.
Имя венгерского путешественника Вамбери, составившего себе бессмертную известность многочисленными книгами и фантастическими путешествиями, известно многим. Большую роль тут сыграла и повесть Николая Тихонова о путешествии Вамбери в запретную Бухару. Вамбери удалось проникнуть в места, где не бывал до него ни один путешественник, только потому, что он мог полностью перевоплотиться в странствующего дерни ша и избегнуть разоблачения и казни. А ведь Пашино (кстати, последний европеец, беседовавший с Вамбери перед тем, как тот отправился в опасное путешествие) повторил через несколько лет подвиг Вамбери, но в обстоятельствах куда более опасных, потому что был задержан и случайно разоблачен.
Он начинал литературную деятельность в «Современнике», и первый из его многочисленных псевдонимов был придуман Добролюбовым. Он встречался с Гарибальди, а итальянский король посоветовал ему побывать и Бирме. Его встречал император Эфиопии, и с ним подолгу беседовал король Бирмы. Его высылали из Средней Азии и сажали в тюрьму в Индии и Америке.
Невезение преследовало его с детства, и борьбе с ним была посвящена вся жизнь. Петр Пашино родился в 1836 году, а через два года умер его отец. Еще через семь лет, в 1845 году, скончалась от чахотки мать. Остались снисходительные родственники, подобравшие невысокого худого мальчика и определившие его на казенный счет в гимназию в Казани. Кончились семилетние скитания по чужим углам, остались позади мелькавшие в неустроенной, голодной жизни уральские города, началось учение — тоже семилетнее, тоже трудное, тоже голодное.
Но у этого человека был легкий характер. Он рано привык мириться с жизненными невзгодами, он даже как-то не отделял себя от них, будто знал, что никогда ему не удастся стать богатым, знатным и уверенным и завтрашнем дне. Это не было христиански униженным смирением — просто Пашино отвергал невзгоды как нечто такое, что остается всегда рядом с ним, но никак не влияет ни на его отношения с людьми, ни на его поступки. Однако безвыходная бедность сформировала, к сожалению, одну черту в его характере, впоследствии нередко мешавшую: уверенность, в том, что он менее способен и менее талантлив, чем друзья, желание отойти на задний план, предоставив почести более достойным.
У каждого человека есть заветное воспоминание детства. У Пашино таким воспоминанием были два фунта мармелада — награда за лучший перевод с турецкого. В Казанской гимназии готовили переводчиков с восточных языков и учителей для школ «инородцев». Пашино оказался очень способным к языкам — к шестнадцати годам он хорошо знал и турецкий и персидский, не говоря уже о латыни, греческом, французском и немецком. Два фунта мармелада Пашино отнес друзьям — был пир.
В 1852 году Пашино окончил гимназию. Ему еще не было шестнадцати лет, однако вопреки объявленному и аттестате праву поступления в университет он получил распоряжение отправиться на Кавказ для работы в народной школе: чиновник, распределявший выпускников, не заметил, что будущему учителю нет шестнадцати.
Но возраст спас. Друзьям Пашино — а в это время они появились у него уже и среди ученых и среди преподавателей гимназии — удалось доказать, что работать учителем ему рано. Они хотели, чтобы юноша учился дальше. И после длительной переписки его удалось отстоять — он стал студентом Казанского университета.
Студенту тоже жилось не сладко, хотя свободы было нуда больше, чем в скучных дортуарах гимназии. Первая же попытка воспользоваться свободой для извлечения из нее реальной прибыли закончилась плачевно: Пашино получил единицу по поведению за первый курс университета и лишь заступничество любимого профессора спасло его от исключения. А придуманный первокурсниками план, исполнителем которого стал Пашино, отличался оригинальностью и граничил с опереттой. Для выполнения плана потребовалось женское платье, парик и черная маска. Пашино был мал ростом, тонок, гибок. В женском наряде и черной маске он проникал на модные тогда в Казани костюмированные балы и сводил с ума подвыпивших купцов. На заднем плане всегда дежурили голодные друзья. Купцы поили и кормили очаровательную незнакомку и ее друзей-студентов. А в конце бала незнакомка исчезала, подобно Золушке.
Балы и приключения не мешали учиться. Пашино овладевает санскритом, потом арабским языком. В 1855 году Восточное отделение в Казанском университете закрылось, и он перевелся в Петербург, где и проучился последний год и познакомился с кумиром революционной молодежи — Добролюбовым.
Окончание университета было началом первого путешествия Пашино. Он был отправлен как отлично закончивший курс для проведения раскопок в Болгаре на Волге. В археологии Пашино смыслил мало, денег на раскопки дать забыли, к тому же местный священник, неправильно прочитав слово «кандидат» в документах археолога, принял его за беглого с военной службы и велел рабочих «дезертиру» не давать. Правда, когда священника убедили, что Пашино не дезертир, он сам принял участие в раскопках.
Отчет о раскопках был принят благожелательно, зачтен в качестве кандидатской диссертации, и Пашино получил назначение — в Азиатский департамент министерства иностранных дел.
Провинциальный юноша без связей был «белой вороной» в министерстве, большинство чиновников которого происходили из знатных фамилий и могли не беспокоиться о хлебе в ожидании хорошего назначения. Пашино был один. И он стал искать способа не помереть с голоду на чисто формальное жалованье.
Тогда родилась газета «Потеха». Вернее, не газета, а рассчитанный на простолюдинов уличный листок, в меру сатирический, в меру язвительный, не замахивавшийся на основы российской жизни, но критически к ним относившийся. Таких листков в те годы было множество и именно их широкое распространение насторожило обер-полицмейстера, который вскоре их запретил. Правда, «Потеха» была единственным листком, о котором, появился похвальный отзыв в «Современнике». «Потеха» средств к жизни не принесла. Пашино редактировал так же журнал «Лесоводство и охота» и даже писал дипломные сочинения не слишком даровитым офицерам Генерального штаба.
Три рассказа Пашино о волжских татарах прошли и «Современнике» с большим трудом. «Кроме общей цензуры, — пишет Пашино, — статьи мои должны были быть прочитанными цензорами министерств внутренних дел и государственных имуществ, так как в них описывался быт крестьян». В то же время Пашино преподавал и Межевом институте, хотя был немногим старше своих студентов и все так же тонок и хрупок, отчего казался совсем юношей.
Казалось уже, что Пашино понемногу вживается в круг литературной петербургской интеллигенции. Но тут неожиданно ему сообщили, что открылась вакансия второго секретаря в русском посольстве в Персии.
Новому второму секретарю посольства было двадцать пять лет. Несколько лет он с нетерпением ожидал назначения в восточное посольство, надеясь, что это одним ударом разрубит все узлы, даст материальное благополучие и предоставит возможность увидеть мир: ведь Пашино был путешественником задолго до того, как от правился в свое первое путешествие. Однако, если можно было отыскать в России наиболее неприспособленного к дипломатической карьере человека, им был, наверно, именно Пашино. Вроде бы всем, чем положено владеть дипломату, он обладал — знал к тому времени несколько восточных языков, три европейских, знал санскрит, латынь — пожалуй, был даже слишком образован для дипломата. И вместе с тем был совершенно беззащитен перед своеобразной действительностью посольства — миром сплетен, интриг, подсидок и доносов. Дипломатическая карьера Пашино была обречена на провал, и не знал об этом только сам молодой дипломат.
Разочарование наступило быстро. Пашино выдержал и посольстве полтора года, затем взял отпуск и вернулся и Петербург, по пути объехав всю Северную Персию. Обратно он решил не возвращаться.
Но перед отъездом у него произошла знаменательная встреча.
Эти два человека не могли не встретиться. Тегеран был скучен, невелик, и каждый вновь приехавший был на виду. Вамбери узнал, что в русском посольстве работает человек, знающий языки и обычаи среднеазиатских народов. Пашино был знаком с работами Вамбери и хотел встретиться с путешественником, решившим под видом дервиша проникнуть в Бухару.
Говорили они по-турецки. Вечером Пашино записал и дневнике, что ему грустно: он знает, что Вамбери погибнет, как гибли его предшественники.
Вернувшись в Петербург, Пашино обрабатывал и готовил к печати записки о Персии, печатал статьи, очерки, планировал новые путешествия, интересные, но нереальные из-за отсутствия средств. Подъем и всеобщие надежды на близкие перемены к лучшему в России после реформы 1861 года рухнули. Правительство отказалось от широких обещаний и прибегло к обычному для него методу убеждения общественного мнения в правильности своих действий — к арестам и ссылкам. «Многие из знакомых по литературе были сосланы или заключены в тюрьму… — писал Пашино. — Стихи одного поэта, уже сосланного, и его карточка в арестантском мундире, с кандалами на ногах, передаваемые из рук в руки, производили потрясающее действие на натуры впечатлительные, к которым, несомненно, принадлежу и я».
Планы, как литературные, так и другие, выношенные за месяцы жизни в Тегеране, оказались неосуществимыми. Деньги кончились. И Пашино скрепя сердце согласился было снова уехать в Персию, уже первым секретарем посольства, убеждая себя, что использует время для новых путешествий по стране.
И тут все сорвалось.
Пашино читал листовки «Земли и воли» и не скрывал этого, причем не только в разговорах с друзьями, но и с сослуживцами по министерству. Далеко не все из них любили молодого секретаря со слишком радикальными воззрениями и знакомствами. Это был не первый и не последний донос на Пашино. Но время было такое, что за доносом последовали решительные действия. Дальше все было так же, как в тысячах домов: стук в дверь, полицейские чины, дворник в качестве понятого. Обыск, листовки, которые Пашино даже не считал нужным прятать. А потом неприятный разговор в кабинете министерства под большим, в рост, портретом его императорского величества: «Министерство иностранных дел не считает возможным впредь…»
Его не арестовали, не выслали и даже не отчислили из министерства. Просто закончилась дипломатическая карьера, и Пашино вновь превратился, как и пять лет назад, в мелкого чиновника, о котором уже было известно, что он никогда не будет дипломатом.
Так прошли четыре года. Опять случайные литературные заработки, статьи, дружба с поэтами Курочкиным, Минаевым, мечты о горах и пустынях Азии и по прежнему бедность.
В 1866 году в Среднюю Азию отправлялась важная миссия. Командовал ею генерал Романовский. При нем состоял молодой блистательный вельможа — флигель адъютант князь Воронцов-Дашков. Миссия должна была взять на себя управление покоренным краем, отстранив от этого завоевателя — генерала Черняева, самоуправство которого начало раздражать петербургское начальство. Черняев вел себя, как Наполеон: хотел штурмовал крепости, не хотел — не штурмовал, облагал налогами не тех, кого надо было облагать, и покорял области, о неприкосновенности которых царское правительство клялось перед всем миром. Черняевы были нужны в момент завоевания. Когда пришла пора осваивать присоединенные области, нужда в них отпала.
При миссии находился и переводчик-драгоман Пашино, откомандированный из министерства иностранных дел, как знающий языки и обычаи тех мест, но не годный для карьеры в министерстве. Оказалось, что скромный переводчик отлично знаком и с молодым князем и с высоким главой миссии: Романовский был не чужд литературы и редактировал журнал «Русский инвалид», в котором Пашино по возвращении из Персии печатал свои записки. По личной просьбе Романовского МИД и отпустил в Туркестан неблагонадежного дипломата.
Именно тогда поэты — друзья Пашино — и написали ему вынесенное в эпиграф этой главы стихотворное напутствие: «В страны далекие Ташкента…» Ташкент казался более далекой и загадочной страной, чем Персия. Еще за четыре года перед тем европейский путешественник не мог и мечтать проникнуть в запретную Бухару, и Вамбери, как уже говорилось, совершил настоящий подвиг. Чиновники, сидевшие в Оренбурге в ожидании назначений и жаждавшие проникнуть в завоеванный край, суливший быстрое обогащение и продвижение по службе, завидовали Пашино, опередившему их. Вновь открывались возможности к быстрой карьере. К богатству. Надо было лишь распорядиться своей судьбой так, как делали это менее совестливые коллеги. Ведь Пашино уже тридцать лет, и эта поездка — последний шанс рвануться вверх.
Прошло несколько месяцев путешествия по Средней Азии, описанного впоследствии Пашино в нескольких статьях, и пришлось присоединиться в Ташкенте к отряду бывшего редактора Романовского. Жизнь в отряде была скучна, как во всяком провинциальном гарнизоне. Несколько скрашивало ее общение с Воронцовым, интересным и образованным собеседником, хотя близости к ним так и не возникло: флигель-адъютант оставался вельможей, Пашино — бедным переводчиком. А с генералом Романовским отношения испортились: в Петербурге генерал ценил Пашино как автора своего журнала, здесь же ему был нужен не автор, не путешественник, а чиновник. Но, как и следовало ожидать, чиновником Пашино себя проявил опять никуда не годным. Правда, он не отказывался от работы: ведь он оказался единственным русским в администрации, знавшим местные языки, и недостатка в знакомых узбеках и казахах у него не было. Пашино даже купил себе в Ташкенте дом (ему давно хотелось обзавестись собственным домом) и там с утра до вечера принимал гостей — не чиновников, а местных жителей. В конце концов это и погубило снова его карьеру. Пашино оказался тем неудобным для властей типом честного российского интеллигента, который, полагая, что для народов Средней Азии факт колонизации объективно полезен, ибо дает им возможность приобщиться к прогрессу, одновременно осуждал русских чиновников-грабителей, хлынувших в Ташкент, и эти свои взгляды не скрывал не только от начальства, но, что еще хуже, от своих гостей-узбеков.
Любопытна формулировка, которой воспользовался Романовский, ходатайствуя о том, чтобы старого знакомого от него убрали. «Это скорее упрямый ученый, — написал оскорбленный генерал, — нежели дипломат… он писал какие-то статьи для каких-то ученых обществ, по которые даже показывать мне он считал лишним». Генерал был обижен. Генерал забыл о том, что он сам литератор. Он гнал Пашино из Средней Азии именно за то, за что совсем недавно приглашал его к себе на службу. А Воронцов-Дашков лишь посмеивался над недалеким генералом, успокаивая Пашино: «Наконец-то вы поймете, какова истинная цена этому солдафону».
Пашино отказался уйти по собственному желанию, и Романовский вскипел. Он выслал переводчика под конвоем урядника, как человека неблагонадежного и вредного. Даже бумаги и записки Пашино были изъяты генералом. Да и денег ему не дали взять с собой. Пришлось продать дом, на который ушло жалованье почти за год.
Скандал получил огласку. Генерала Романовского не любили. Воронцов слал язвительные письма друзьям. Командующий Оренбургским военным округом генерал Крыжановский, зная обо всем, урядника отправил обратно, а непокорного Пашино оставил в Оренбурге, чтобы тот составил ему отчет о положении в Туркестане. Все равно лучше Пашино никто этого сделать бы не смог. Пашино страдал из-за отсутствия записок и дневников, бомбардировал Воронцова письмами, чтобы тот получил бумаги от генерала Романовского. Но бывший редактор был непреклонен. Он шел на все, чтобы Пашино более не смог заниматься литературой. А поведение генерала Крыжановского полагал почти преступным.
Крыжановский не спешил отпускать Пашино. Высланный переводчик был просто кладом. Генерал убедил его написать учебник для мусульманских школ и читать лекции для кадетов. И когда волна административной бури, поднятой Романовским, докатилась до Оренбурга и начальник Генерального штаба направил Крыжановскому разгромную депешу о сокрытии им неблагонадежного и негодного для службы переводчика, Крыжановский ответил сдержанно, но не без укола в адрес Романовского: «Пребывание Пашино в Оренбурге не было бесполезно для службы». Но у министерства иностранных дел, за которым все еще числился Пашино, были возможности поддержать Романовского: несмотря на просьбы оренбургского генерала, жалованье Пашино из Петербурга не высылали. Он, как всегда, страшно занят, он работает с утра до вечера, его ценит оренбургский командующий, а денег все нет, и даже носить нечего: из Ташкента не разрешили взять белья.
И это был предел физическим возможностям. В тридцать лет Пашино был изможден и измучен настолько, что, вернувшись в мае 1867 года в Петербург, в разгар хождений по инстанциям, в бесконечных объяснениях и просьбах о выдаче положенного жалованья, и слег. Осенью его хватил удар. И когда он вышел из больницы, — нищий, как всегда, неустроенный, как всегда, — он был инвалидом. У него почти не действовали правые рука и нога. Теперь уже не только карьера была погублена полностью, — казалось, что рухнули и мечты о далеких странствиях: с одной рукой и одной ногой далеко не уедешь.
Выздоравливая, Пашино продолжал работать. Он все таки был удивительным тружеником. В 1868 году вышла его книга «Туркестанский край» — совершенно новое в русской литературе исследование Средней Азии, ибо не было до этого русского человека, который так хорошо знал бы и языки и обычаи края, который столько бы видел и понял. Правда, по цензурным соображениям многое пришлось убрать, но и без этого книга стала обязательным пособием для любого будущего исследователя Средней Азии.
Однако и эта книга, высоко оцененная прессой, не только не дала достатка, но даже не помогла расплатиться с долгами. И когда через два года вновь названному генерал-губернатору Туркестана Кауфману понадобился опытный переводчик, Пашино не без помощи друзей решил еще раз попытать счастья в Средней Азии, и карьере уже не было и речи — хотя бы расплатиться с долгами. Но в Ташкенте преследовали те же беды. Вновь долги, вновь полное непонимание его стремлений, вновь конфликт с очередным генералом и вновь высылка в Петербург. Это второе пребывание в Туркестане были еще более коротким и разочаровывающим: если в первый свой визит туда Пашино мог надеяться, что у власти в Средней Азии окажутся честные люди, то теперь на это не оставалось никакой надежды.
Больше в Туркестан Пашино уже не возвращался. Он долго болел, двигаться было все труднее. Пришлось оставить службу в министерстве, дававшую хоть маленькое, но все-таки жалованье, которого по крайней мере хватало на еду.
Пашино решил снова заняться издательской деятельностью. Эту мысль поддержал старый приятель Воронцов-Дашков. Больше того, он дал денег на обзаведение и оказал помощь на первых порах.
Первый номер журнала «Азиатский вестник» вышел в 1872 году.
Авторами в первом печатном органе, который должен был всерьез знакомить русского читателя с проблема ми современного востоковедения, были не только крупные ученые-востоковеды, но и демократы, находившиеся в то время в ссылке. Программную статью для первого номера написал революционный демократ Шелгунов — прислал из мест не столь отдаленных. У первого номера журнала было девяносто два подписчика. Второй номер хотя и был после цензурных мытарств отпечатан, но подписчикам не поступил. Журнал был крамолен своей правдивостью. Он был не нужен правительству.
2
Завершился еще один круг жизни Пашино. Снова рухнула карьера, снова провалилась попытка стать редактором. Но если за десять лет до того Пашино был здоров и полон надежд, то теперь он был лишь тенью прежнего юного дипломата. Зато были друзья, была известность среди ученых и литераторов. И когда Пашино предложил Географическому обществу отправиться на Памир через Индию, т. е. повторить через три четверти века путь Данибегова, Географическое общество отнеслось к этому очень благосклонно. Часть средств на путешествие, которое Пашино замыслил совершить под видом дервиша, дало Географическое общество, часть — собрали по подписке друзья.
В 1873 году Пашино приехал в Бомбей, а оттуда — в Северную Индию. В Амритсаре пришлось пересесть на лошадей, в Кашмире идти пешком. Волоча правую ногу, опираясь на палку, стараясь не потерять очки, без которых он был почти беспомощен, Пашино поднимался вслед за своим слугой и другом Абдул-Гани. Был ноябрь, шел снег, мела метель и «я, как хромой и безрукий, — пишет Пашино, — несколько раз кричал, вздыхал, стонал, не имея возможности иначе выразить свои страдания. Несколько раз я обрывался и падал сажени на три, потом взбирался, хватаясь за колючки и вьюны, растущие по обрыву, внизу которого была бесконечная пропасть».
План с переодеванием в дервиша пришлось оставить. Удобнее оказалось выступать в роли слуги Абдул-Гани. Как-то раз это даже помогло: в горах напали разбойники, забрали все что было денег у Абдул-Гани, а слугу не тронули. Отобрав у путников также посуду и утварь, разбойники уже не имели к ним никаких претензий, и один из них даже проводил Пашино и Абдул-Гани до ближайшей деревни и помог достать там посуду вместо отобранной.
В городках и селах, через которые проходили путешественники (и где раньше еще не бывало европейцев), Абдул-Гани выдавал себя за купца, едущего в Яркенд купить лошадей. Слуга его, немытый турок, в громадной чалме, с коленкоровой простыней через плечо, был куда более правоверным мусульманином, чем хозяин, беспрестанно бормотал молитвы и слыл среди караванщиков человеком набожным.
Приближались знакомые места — Средняя Азия. Вдали уже можно было различить вершины Памира. На базаpax и в караван-сараях любопытный слуга Абдул-Гани не раз уже встречал знакомые типы лиц: здесь торговали и узбеки и таджики. Звучала знакомая еще по Туркестану речь.
Одно лицо показалось особенно знакомым. Где-то он встречал этого пожилого низенького человека… Вот он поднимается с коврика, отставляет чашку с чаем и идет к Пашино по темным шумным переходам базара.
— Эффенди!
Пашино не оборачивается. Он волочит ногу, спешит затеряться в лабиринте узких улочек.
— Эффенди, постой! Что заставило тебя переодеться правоверным?
Оборачиваются прохожие. Не украл ли чего этот грязный турок в большой чалме?
— Держите его!
Но перед Пашино уже спасительные двери караван сарая. Абдул-Гани спешит к воротам. Пашино слышит спор, останавливается, возвращается. Убегать дальше по разумно.
— Я знаю его, — настаивает низенький преследователь. — Он русский офицер. Большой человек. Я был поваром у Абдурахман-хана, когда повелитель правоверных приезжал в Ташкент. Этот русский крутился рядом, выведывал. Прошло много лет, я вернулся в Афганистан но я помню его.
Большая толпа собралась вокруг. На Пашино смотрят недоброжелательно. Здесь боятся шпионов: близки английские владения, а там, за Памиром, Россия. Так погибли Коннолли и Стоддард — английские путешественники. Абдул-Гани клянется всеми святыми, что слуги его родом из Турции. Толпа собралась у входа в каморку, где живут Пашино и Абдул-Гани, — ждут, пока подозрительный человек соберется, чтобы идти к вали — судье.
— Абдул-Гани, — умоляет Пашино. — Ты пойдешь мной к вали. Если они меня разоблачат, тебе ничего не грозит. Но ты хоть будешь знать, как я погиб. Ты вернешься в Россию и расскажешь об этом русскому генералу. Тебе дадут за это награду. Ты расскажешь там о пути, который мы прошли вместе.
В эти минуты Пашино более всего страшила неизвестность: погибнешь и никто не узнает, где кончил дни путешественник Пашино. На заседании Географического общества Петр Петрович Семенов поднимется со своего места, предложит собравшимся минутой молчании почтить память члена общества, известного своими трудами Петра Ивановича Пашино. Члены общества поднимутся, помолчат и перейдут к другим делам. Вот и все — и ни один человек больше не вспомнит о Пашино И не родятся задуманные книги, и, главное, та книга о путешествии в запретные области Азии, которая осталась в голове Пашино: ведь нельзя же вести дневник в этом последнем путешествии.
Абдул-Гани долго колебался. За деревянной дверью шумела нетерпеливая толпа, и голос низенького афганца, поднимаясь над гулом толпы, будоражил ее, разогревая страсти. Пашино передал слуге все свои деньги, спасенные от разбойников, часы, очки. Абдул-Гани растрогался. Ему проще было бы уйти и скрыться: в суматоxe никто бы не заметил исчезновения. Но он сказал:
— Пойдем, Петр. И да сохранит нас Аллах.
Они шли по пыльной улице, сзади топали возбужденные предстоящим разоблачением люди, и Абдул-Гани говорил неспешно и даже торжественно:
— Кому не суждено дальше жить, тот непременно и известную минуту умрет, если же кому суждено дальше жить, того против воли божьей никто не смеет казнить.
Старый вали уже был предупрежден о поимке шпиона. Он сидел на возвышении в обширной комнате, окруженный советниками, муллами и просто любопытными стариками. Низенький афганец был допущен в зал и стоял в сторонке.
— Который из них? — спросил вали, поглаживая серебряную бороду.
Абдул-Гани отступил назад, и Пашино оказался совсем один посреди пустого, ставшего холодным и необоримым пространства.
Он опустился на корточки. Голова была ясной, звонкий, и Пашино молча твердил: я — турок, я — слуга Абдул-Гани.
Допрос был долгим. Абдул-Гани клялся на Коране и показывал фальшивые документы своего слуги; афганец с не меньшим упорством уверял, что Пашино — русский шпион; когда же дошла очередь до самого обвиняемого, то он начал свою речь так:
— Я родом из Аясулука, из-под Смирны. Родитель мой, Хасан-бей, был человек зажиточный…
Когда Пашино замолчал, вали долго думал, потом, с удивлением взглянув на афганца, махнул рукой муллам: экзаменуйте его. Неверный не сможет ответить на шипи вопросы.
Пашино, заметив этот жест, вздохнул с облегчением. Сомнения вали, вначале уверенного в том, что разоблачение шпиона займет всего несколько минут, были ему на руку. А экзамена Пашино не боялся: он знал Коран лучше многих мулл.
Богобоязненный слуга сыпал наизусть изречениями из Корана, спорил с мудрыми стариками и был так начитан в священном писании мусульман, что старики лишь качали головами, а вали с укоризной посматривал на доносчика.
Потом святые муллы долго шептались — нет, неверный не может так знать того, что недоступно даже многим правоверным.
— Иди, — сказал, наконец, вали. — Иди и вымойся. Не дело столь ученому человеку являть собой грязную свинью. — Затем он обернулся к доносчику. — И ты иди. И впредь не занимай глупыми подозрениями нашего драгоценного времени.
На улице все еще ждала толпа, разочарованная и поблекшая. Редкое зрелище — казнь неверного — увидеть не удалось.
Пашино еле шел. Ему хотелось опереться на руку Абдул-Гани, но он спиной ощущал взгляды и слышал, как афганец повторял:
— Неверный затуманил глаза уважаемого вали. Рука дьявола направляла его ответы.
Над базаром, над пыльным, холодным городом поднимались далекие голубые вершины Памира. До цели оставалось несколько дней пути. Пашино мечтал лини, об одном — выспаться.
Абдул-Гани устало семенил рядом и, вздыхай, повторял:
— Надо уходить сейчас же. Нельзя здесь оставаться.
Пашино отмахнулся.
— Решение вали — закон. Никто нас не тронет. Выходим утром, с караваном.
Абдул-Гани пожал плечами.
— Возьми деньги и часы, эффенди.
Абдул-Гани был прав: задержка до утра оказалась роковой. Вечером, когда Пашино вышел в город, толпа фанатиков забросала его камнями. Стражники стояли, смотрели на избиение, но не вмешивались. К счастью, Абдул-Гани успел на помощь, услышал шум, вытащил окровавленного, избитого Пашино из свалки, промыл ему раны.
Тогда же пришел караван-баши, с которым они должны были уходить завтра.
— Мы не возьмем вас в караван, — сказал он. — Твой. нуга — неверный. Сам дьявол покровительствует ему.
— Мы пойдем с другим караваном, — ответил Пашино, лежавший в углу.
— Никто не возьмет вас, — сказал караванщик. — И ни один проводник не согласится вести вас. Если же вы все-таки пойдете дальше, то люди с камнями догонят вас и убьют. Уходите обратно. Откуда пришли.
И они ушли на юг. На окраине города, там, где дорога уходила в ущелье, Пашино остановился и долго смотрел на голубые вершины Памира.
В городе Амальсу уже слыхали, что путешественники погибли, и встретили их как пришельцев с того света. А через несколько дней Пашино впервые за все время мылся, переоделся в оставленный в долине европейский костюм и снова стал русским, путешествующим для собственного удовольствия. Он прошел дальше, чем кто-либо другой из путешественников. Ему удалось остаться живым тогда, когда шансов на это не было. Но до Памира он не дошел.
Всю обратную дорогу через Индию от Пашино не отставали английские агенты. Преувеличенные слухи о его подвигах, о чрезвычайном задании, якобы полученном им от русского царя, об опасности его для владений британской короны вызывали к нему особое внимание полиции. Пашино продолжал свое путешествие по Индии до тех пор, пока оставались деньги. Когда же на пароходе Карачи — Бомбей у него украли последние деньги, пришлось просить английские власти отправить его в Египет: ближе не было русского консула. Ответ английских властей был скор. Его выслали из Индии так быстро, что даже русские генералы, высылавшие Пашино из Ташкента, позавидовали бы такой оперативности. Даже белье не успел он получить у прачки.
Упрямый путешественник не отказался от своих планов. Он писал впоследствии: «Я мечтал пройти Памир и исследовать источники реки Аму-Дарьи, подняться к озерам, которые носят название Каракуль… затем перебраться через хребет Алай в Коканд… проникнуть через Пихор в страны, доселе не посещенные еще ни одним из европейских путешественников».
Отчет Пашино в Географическом обществе, встречи с Воронцовым-Дашковым, делавшим быструю карьеру, разговоры с высокими чинами министерства иностранных дел сводились к одному: как достать хоть немного денег, чтобы вернуться в Индию. Ничто — ни угроза смерти, ни лишения, ни бесконечное невезение, когда любое начинание Пашино срывалось у самой цели, не могло его остановить. Ему с трудом давался каждый, шаг, а он продолжал планировать путешествия, которые были не под силу и здоровым людям.
В 1874 году, заинтересовав своими проектами влиятельных людей и получив кое-какие деньги, Пашино во второй раз отправился в Индию. Поездка эта была обречена на провал с того дня, как Пашино ступил на палубу парохода. Возможно, Пашино и сам знал об этом уж очень хорошо он был знаком британским властям в Индии, а в их интересы никак не входило покровительство русскому путешественнику. Россия и Великобритания в своей колониальной экспансии в Азии вот-вот должны были столкнуться именно там, куда стремился Пашино, в местах, где еще не проходил ни один из европейских путешественников. Информация о пути между Индией и Средней Азией, крайне необходим для России, была нужна и Англии. И уже поэтому английские власти в Индии готовы были пойти на все, чти бы не допустить упрямого русского первым пройти этими путями.
Пашино начал свое второе путешествие, не маскируясь. Не маскируясь же, за ним следила полиция с того момента, как он сошел на берег в Бомбее. Пашино был ограничен так же, как любой турист в тех краях. Индия, столь близкая и понятная раньше, была для него закрыта. Три месяца Пашино провел в Лахоре, стараясь добиться разрешения английских властей на путешествие на север. Наконец в начале января 1875 г. разрешение было получено. Однако то ли давал его неосведомленный чиновник, то ли это был тактический шаг, но через несколько дней, когда Пашино был готов выйти в путь, разрешение взяли обратно. А ведь он уже подобрал себе проводника и в газетах появились сообщения о его новом маршруте.
Что делать? Другой бы отправился обратно или попытался утешиться осмотром городов Индии, в которых еще не побывал, и написать еще одну книгу о своих путешествиях. Пашино не мог, не умел отступать — недаром столько раз в жизни ему пришлось из-за этого страдать.
Пашино пошел один. Он переоделся арабом и, сообщив об этом лишь новым своим приятелям из доброжелательно настроенных к коллеге английских журналистов, незаметно покинул гостиницу в Лахоре и сел на поезд. Журналисты отговаривали Пашино, намекая, что у него ничего не выйдет. А потом, если судить о последующих событиях, сообщили куда следует о его намерениях. Впрочем, может быть, Пашино просто недооценил возможностей английской полиции. В любом случае, когда через несколько дней пути хромой араб зашел в буфет первого класса, чтобы выпить чашку чая, тут же появился полицейский и, вытащив араба наружу, жестоко исколотил его. Полицейский ничего не знал о настоящей национальности араба или делал вид, что не знает. Но этот инцидент и последующий арест Пашино положили конец его планам. Второе путешествие, как и первое, окончилось жестокими побоями. А когда Пашино, вынужденного признаться, что он на самом деле не араб, а русский путешественник, с извинениями и улыбками все-таки отпустили на свободу, пришлось отказаться от продолжения путешествия. Вновь Пашино переоделся, на этот раз навсегда, и остаток своего пребывания в Индии путешествовал спокойно. Полицейские следили за ним, но европейцев в Британской Индии бить не полагалось, разве что они сами на это напрашивались, принимая вид индийцев или арабов, бить которых было разрешено.
Правда, Пашино предпринял еще одну попытку пробиться в Туркестан с юга и для этого переехал в Персию, намереваясь пройти через Афганистан. Но в это время в Афганистане шла борьба за престол, в стране было неспокойно, и даже упрямый Пашино понимал, что ничего из задуманного предприятия не выйдет. Он потратил несколько месяцев на обследование Южной Персии и вернулся домой.
3
Не успел Пашино устроиться вновь в Петербург не успел удовлетворить просьбы журналистов, осаждавших его в редкий момент известности, почти славы, заказами на статьи, как к нему явился нежданный и не обычный гость. Это был один из богатейших купцов по фамилии Хлудов, решивший отправить сына, горького пьяницу и любителя приключений, в Филадельфию на Всемирную выставку в надежде на то, что наследник хлудовских миллионов, посмотрев божий мир, остепенится. Но отпускать в далекий путь молодого пьяницу одного Хлудов, конечно, не хотел.
И вот, прочтя в газете о возвращении известного путешественника и узнав от достоверных лиц, что путешественник этот вечно стеснен в деньгах, Хлудов предложил ему отправиться в кругосветное путешествии в качестве няньки, переводчика и домашнего учители. В остальном он предоставил Пашино свободу: куда ехать и сколько оставаться в том или ином месте, путешественник должен был решать сам. Пашино согласился.
В Италии Пашино встретился и разговаривал с Гарибальди. Встреча была волнующей, и Пашино подробно описал ее, не скрывая чувств, охвативших его при виде итальянского героя. Вторая встреча в Италии с не столь знаменитым, но не менее влиятельным человеком, оказала большое влияние на дальнейший хон путешествия. Король Италии Виктор-Эммануил, узнан в ходе беседы о планах Пашино, посоветовал ему обязательно попасть в Бирму и попытаться подняться по Иравади — величайшей реке Бирмы — до ее истоков которые тогда еще не были обнаружены. Интерес итальянского короля к Бирме был не случаен. При дворе бирманского короля работали в те годы итальянские офицеры и инженеры: не смея бороться на равных с основными претендентами на Бирму — Англией и Францией, Италия тем не менее старалась там обосноваться и потому была сторонницей независимости Бирмы, т. е. независимости от Англии и Франции.
Оброненные королем Италии слова вызвали в душе Пашино цепную реакцию. Действительно, почему бы и не попытаться пройти первым не только к истокам Иравади, но и оттуда в Китай, а затем на родину? Ведь однажды уже срывались путешествия в Россию со стороны Индийского океана. Если повезет в третий раз, то будет найден совершенно новый путь, овладеть которым столь рьяно стремятся и англичане и французы. И ведь русскому, надо полагать, легче будет сделать то, что не удалось врагам Бирмы, к которым бирманцы относятся с недоверием.
Дальнейший путь путешественников на Восток — через разоренную, теряющую колонии и обреченную на скорое поражение в Болгарии Турцию, через знакомую уже Индию — был лишь подготовкой к последнему рывку. Хлудов не возражал. Ему было интересно с этим знающим всё и всех хромым, близоруким и, казалось бы, вчистую неприспособленным к трудностям пути человеком. Скоро экспедиция, если можно так назвать это странное содружество, сформировалась и оформилась внутри: Хлудов признал, что его нянька и переводчик — начальник экспедиции, а сам он лишь зритель — порой заинтересованный, порой восторженный, порой растерянный, порой равнодушный.
Предстоящее путешествие по неизведанной Иравади настолько захватило Пашино, что он практически ничего не написал о третьем путешествии по Индии. И не только потому, что на этот раз он не ставил себе в Индии никаких целей и был лишь туристом, — ведь и из неудачных путешествий Пашино привозил интереснейшие статьи и записки, — просто на этот раз Индия казалась лишь преддверьем Бирмы.
Сначала был Рангун, к тому времени уже четверть века находившийся в руках англичан, быстро растущий, дымящий на окраинах первыми заводами и все-таки не похожий на города Британской Индии. Пароходик «Юньнань» — название его как бы напоминало все время о цели — был стар. Сзади лениво крутились огромные колеса, к бортам были пришвартованы барки. Пашино не сходил с верхней палубы, предоставив буфет в полное распоряжение молодого спутника.
Иравади была бесконечно широка, спокойна, и в блеклом дневном мареве пагоды казались золотыми и белыми облаками, зацепившимися за вершины холмов. Пароход часто останавливался. Кули, смеясь и громко перекликаясь, грузили на него дрова. Тогда Пашино сходил на берег. Было жарко, сухо; яркие одежды бирманцев напоминали Россию. И вовсе не ведая о тех, кто последует за ним, Пашино замечает то же самое, что они: «Это наша Украина и запорожцы. В случае чего они первые придут на помощь повстанцам». Так писал он о рыбаках, имея в виду восстание против англичан: Пашино был давнишним врагом колониализма, который он видел в действии.
Потом была граница Бирмы английской и Бирмы еще независимой. Оставалось менее десяти лет до ее полного покорения. Это чувствовали все — и в Лондоне, и в Калькутте, и в Рангуне, и, наконец, в Мандалае, где старый король Миндон пытался то небольшими уступками, то дипломатическим лавированием и обращением к нейтральным странам отсрочить конец бирманской независимости. Понял это и Пашино. За недели, проведенные в Британской Бирме, он не раз встречался с английскими чиновниками, торговцами, военными и слышал одно и то же: Бирма должна быть окончательно покорена. И чем скорее, тем лучше.
В Мандалае, последней столице независимой Бирмы Пашино и Хлудову пришлось задержаться: ведь на опасное путешествие вверх по Иравади надо было получить разрешение бирманского правительства. Дело осложнялось трагическим обстоятельством, которое совсем недавно, в 1875 году, чуть было не привело к войне между Бирмой и Англией.
Вскоре после завоевания Нижней Бирмы англичане начали предпринимать экспедиции на север. Одну из главных выгод превращения Бирмы в колонию английские политики и промышленники видели в том, что он лежала на пути в Китай — сказочно богатый рынок проникновением на который в немалой степени определялась активность европейских держав в Юго-Восточной Азии. И в самом деле, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что в южные провинции Китая легче всего проникнуть именно из Бирмы, двигаясь вверх по течению Иравади. Такой торговый путь существовал издревле, будучи одновременно и путем часто повторявшихся китайских вторжений в Бирму. После разгрома бирманцами китайских войск в XVIII веке этот торговый путь почти заглох, тем более что большая его часть проходила через горы, населенные воинственными шанскими и качинскими племенами, нападавшими на торговые караваны. Открыть этот путь и наводнить китайский рынок английскими товарами было мечтой торговцев и в Лондоне и в Рангуне. Однако экспедиции сталкивались с враждебностью горных племен, с недоверием бирманского правительства и китайских губернаторов Юньнани. Ведь то, о чем мечтали торговцы в Лондоне, никак не радовало китайское правительство, помнившее о многочисленных попытках европейцев закрепиться в Китае.
И вот в 1875 году очередная английская экспедиция, направленная на поиски путей в Китай, подверглась нападению горцев, а один из ее участников, уже упоминавшийся нами Марджори, был убит. Возможно, к нападению на экспедицию были косвенно причастны и китайские власти, тем более что произошло это уже за пределами Бирмы. Когда весть о смерти Марджори достигла Рангуна и Лондона, поднялась буря: ведь это был замечательный предлог для того, чтобы покончить независимостью Бирмы. Слово «война» носилось в воздухе.
Петр Пашино был встречен бирманскими чиновниками без особого энтузиазма. Бирманцы боялись, что в случае какого-нибудь несчастья с Пашино судьба Бирмы будет поставлена на карту. Англичане могли воспользоваться предлогом и ввести свои войска (они уже, требовали пропустить воинские части на территорию Бирмы, чтобы «наказать» виновников нападения на экспедицию). Однако визиты Пашино в бирманские министерства довольно быстро привели к тому, что общительный и доброжелательный путешественник обзавелся приятелями и знакомыми среди бирманских вельмож и государственных деятелей. И постепенно его роль в Бирме, его задачи и цели претерпели изменения.
Чем больше Пашино знакомился с Мандалаем, чем больше узнавал бирманцев, тем более отступало на задний план желание пройти к истокам реки. Пашино почувствовал, что он нужнее Бирме в другом качестве — как представитель России.
Особенно Пашино сблизился с португальцем д’Аверой. И это не удивительно: как мы помним, д’Авера был знаком и с Ненюковым, регулярно с ним переписывался, слал в Петербург тревожные письма о том, как Англия готовится к захвату Бирмы. А Бирму он, по-видимому, искренне любил: здесь он женился, здесь с давних пор служил драгоманом бирманского министерства иностранных дел. Пашино не стоило большого труда отыскать его в Мандалае.
И еще с одним любопытным человеком познакомился там Пашино — с наследником престола, будущим королем Бирмы, а пока что министром юстиции Тибо. В исторических книгах, написанных англичанами, Тибо принято изображать извергом, истребившим сотни родственников, врагом Англии, человеком неразумным, коварным и чуть ли не слабоумным, полностью попавшим под башмак своей жены королевы Супалат и ее не менее коварной матери. До сих пор живуча версия, согласно которой англичане покорили Бирму именно для того, чтобы оградить ее подданных от тирании отвратительного монарха. Как уже говорилось, любой предлог хорош, если пришло время аннексировать страну. А изображение Тибо в роли изверга весьма способствовали созданию антибирманского общественного мнения и Англии.
Объективных описаний личности последнего бирманского короля в западной литературе почти не сохранилось; тем интереснее характеристика, данная ему Пашино после их встречи. Пашино описывает Тибо, как худощавого брюнета с выдающимися скулами и умным лицом, внимательно прислушивающегося к словам своих советников. Тибо встретил Пашино очень благосклонно и они несколько часов беседовали. Молодой принц произвел на Пашино настолько хорошее впечатление, что и через несколько лет, публикуя в русских журналах благожелательные статьи о Бирме, свежие сведения о которой он черпал из писем своего приятеля д’Авери, Пашино присоединяется к словам португальского драгомана: «Ура! императором избран Тибо. Этот молодой человек чрезвычайно энергичный и очень гуманный.
Наконец, познакомившись почти со всеми членами правительства Бирмы, Пашино был приглашен и к королю. Пашино оставил подробное описание сложного церемониала, по которому «фразу императора повторят министр двора, лежащий ничком на полу. Эту же фразу повторяет государственный казначей, но только гораздо громче, адресуя ее переводчику. Последний передает ее нам двумя словами, вроде благополучно ли вы доехали. Вы отвечаете, что несчастий с вами дорогой не было. Наш ответ передается переводчиком высокопарно и многословно государственному казначею. Тот при передаче нашего ответа министру двора прибавляет от себя еще несколько фраз, а последний, возвышая голос, нараспев говорит такую продолжительную речь, что приводит вас и изумление, потому что ваш ответ состоял только из нескольких слов».
Прием у короля был формальностью. Он должен был повысить статус Пашино в Бирме, был как бы признанием его представителем России. Аудиенция была нужна также, чтобы после нее передать Пашино официальные письма бирманского правительства министру иностранных дел России — об установлении дипломатических отношений Бирмы с Россией — и военному министру — с просьбой об обучении в России бирманских офицеров. На первое письмо Бирма, как и раньше, ответа не получила, так как царское правительство по-прежнему не желало обострять отношений с Англией. Однако военное министерство по согласованию с правительством ответило Бирме положительно. Было дано согласие на присылку в Россию молодых бирманцев, и также выражена официальная благодарность за теплый прием, оказанный в Бирме Пашино и Хлудову. Таким образом, пребывание Пашино в Бирме стало неким толчком в развитии русско-бирманских отношений и, очевидно, не погибни Бирманское королевство так скоро, все откладывавшийся вопрос о признании Бирмы был бы разрешен положительно. Большая заслуга и том принадлежит Пашино.
Когда Пашино вернулся в Россию, он не только доложил о своем путешествии в Географическом обществе, но и встречался с руководителями русской политики. Именно после его горячих, страстных писем в защиту Бирмы, адресованных как князю Горчакову, так и военному министру Милютину, и последовал благожелательный ответ о приеме бирманских офицеров.
В письмах Пашино вновь показал себя идеалистом. Ему так хотелось верить в возможность спасения Бирмы Россией, что он писал: «Основной факт… состоит в том, что Россия, могущественная в глазах Европы, имеет сверх того еще какое-то особенное, невероятное обаяние во всей внутренней Азии. Не знаю, откуда и с каких пор у большинства народов Азии родилось поверье, что они будут освобождены Россией от чужеземного владычества. Бирманский император Мендун (Миндон. — Авт.) — один из горячих сторонников такого взгляда и даже приказал перевести для себя историю Петра Великого, изучил ее в совершенстве и во что бы то ни стало желает походить на него…»
Пашино воспевает Бирму, несколько преувеличивая при этом ее богатства, подчеркивает высокую нравственность бирманцев, их веротерпимость, уверяет даже, что Миндон — «государь конституционный». Ему так хочется верить, что Бирму, беззащитную перед лицом английской агрессии, защитит Россия, что он идет на все, чтобы внушить свою надежду и царским чиновникам.
И вплоть до падения Бирмы Пашино не переставал выступать в печати в ее защиту, цитируя то восторженные, то удрученные письма д’Аверы. Последние из них были получены уже тогда, когда английские войска вступили в Мандалай.
4
Окончание кругосветного путешествия Пашино и Хлудова не было таким интересным, как их пребывание в Бирме. Правда, они проехали часть Китая, побывали в Японии, США; однако вершиной путешествия все-таки остались недели, проведенные в Бирме и в последний раз давшие Пашино ощущение привязанности к судьбам человечества, давшие возможность вновь выступить и в защиту угнетенных и приведшие в конце концов к новому разочарованию.
Из Америки Пашино вернулся быстрее, чем рассчитывал. В Америке ему не понравилось, да и плохое здоровье не позволяло надеяться на новые дальние путешествия.
И снова журналистская работа, снова бедная и неустроенная жизнь. Снова поездки по России и снова путешествия, пусть недолгие и несравнимые с большими путешествиями молодости. Были и удивительные приключения и встречи. Были поездки в Египет, в Аден. Было еще одно путешествие в Афганистан и приглашение министра иностранных дел Эфиопии посетить его страну. Было необычайное путешествие верхом на страусах в столицу Эфиопии, были конфиденциальные беседы с императором Менеликом, заинтересованным в союзе с Россией…
В восьмидесятых годах Пашино решил, что пришло время сесть и написать отчет о своих путешествиях: ведь пока результаты многих из них оставались на страницах газет и журналов и лишь один серьезный труд Пашино — описание Туркестанского края — был завершен и опубликован. И дело здесь было не только в том, что Пашино никогда не ценил своего литературного дара, просто невозможно было посвятить несколько лет работы большим книгам, если неизвестно было, будешь ли завтра сыт.
Когда в 1885 году вышел первый том его эпопеи «Вокруг света», называвшийся «По Индии», там было сказано, что второй том печатается и будет именоваться «По Персии», а том третий «По Туркестану» и том четвертый «По Китаю, Японии и Северной Америке» готоятся к печати.
И снова трагедия. Книга «По Индии» не принесла Пашино большого дохода, а когда был напечатан второй том, «По Персии», цензура потребовала внести в него изменения. Изменения были не столь значительны, и требовалось всего сто тридцать рублей, чтобы типография могла вновь набрать измененные места, — однако этих денег у Пашино не было. Книга не увидела света. Более того, ни напечатанного экземпляра, ни рукописи найти так и не удалось, хотя Е. И. Гневушева исследовала все возможные архивы и книгохранилища. Может быть, сам Пашино уничтожил ее.
Последние тома он так и не написал. Он запил и все больше времени проводил в кабаках. Иногда почтальон приносил письма с печатями далеких стран — Бирмы, Эфиопии, Китая. Но у Пашино не всегда были деньги, чтобы купить марку для ответа.
Старые друзья или умерли в ссылках, или забыли о нем. Когда-то почти друг, князь Воронцов-Дашков стал» большим вельможей, но Пашино не хотел его ни о чем просить: он стыдился своей бедности и прятался на улице от бывших приятелей. Он был не так уж стар — всего пятьдесят лет, но бесконечно устал от неудач и обманчивой славы, проходившей рядом и уносившейся дальше, к другим, более счастливым или более знатным.
В одной из газет в 1886 году была напечатана метка о том, что при разъезде из Александринского театра «писатель-путешественник» Пашино попал под копыта лошадей и доставлен в больницу. Журнала написавший об этом, знал кое-что о Пашино, упомянул о том, что писатель нищ, просил всех еще помнивших его или знавших его труды откликнуться. Это была просьба о подаянии. Такие нашлись. Была собрана большая сумма, и Пашино был определен в богадельню.
Там он и умер через пять лет.
Он писал и в богадельне. В журналах иногда появлялись его статьи и заметки, похожие на вырванные страницы из недописанных книг. И проходили почти замеченными. Он так и не дождался признания.
Когда Пашино умер, газеты узнали об этом. Как ни удивительно, почти во всех появились теплые некрологи, авторы которых напомнили и о его трудах и о его странствиях. Вспомнили и о том, что он был награжден орденами (по большей части персидскими — не русскими), что был членом научных обществ, что путешествия его были удивительны… Некрологи умерли вместе со смятыми номерами газет. Остались лишь ссылки на его труды в чужих книгах, упоминания, не всегда достоверные, недолговечные легенды и скрытые упреки, такие, как в книге англичанина Марвина: «Пашино… был одним тех неусидчивых смертных, которые никогда, нигде могут обосноваться надолго и, несмотря на большие способности и на непрестанные улыбки судьбы, все упускают благоприятный случай».
Благожелательный англичанин был не прав. Судьба не любила улыбаться Пашино. И то, чего он достиг, увидел, что сделал, он совершил не благодаря судьбе, а наперекор ей.
ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Пашино ничего не мог сделать для Бирмы — разве поспособствовать развитию симпатии к ней русской общественности. Действительная судьба страны решаюсь не в беседах с доброжелательными гостями, не на аудиенциях. Бирма оказалась втянута в мировую политику, и ее участь определялась взаимоотношениями европейских держав, деливших в те годы Азию. Отношение русского правительства к Бирме не было непосредственно связано с какими-либо корыстными интересами, однако и ожидать помощи от России, по крайней мере реальной помощи, Бирма не могла: слишком далека она была от сферы русских интересов, а Россия, переставшая после поражения в Крымской войне играть роль жандарма Европы, вынуждена была считаться с интересами Великобритании, что выразилось весьма отчетливо в проходивших тогда переговорах о судьбе Болгарии, освобожденной от турецкого владычества.
Поэтому отношение России к Бирме в течение всего этого периода четко разделялось на две линии — официальную и общественную. Если русская общественность, все ближе узнавая Бирму, проникалась к ней симпатией и лучшие представители русской интеллигенции старались сделать все, чтобы спасти Бирму от потери независимости, то линия официальная была не так последовательна. Проводя в основном все ту же политику невмешательства, Россия все-таки постепенно от нее отходила. И в этом была немалая заслуга людей типа Пашино, которые неустанно твердили о необходимости хотя бы косвенно признать Бирму и тем самым укрепить ее международное положение.
Во второй половине семидесятых годов наметилось некоторое движение в русской политике по отношению к Бирме. Наибольшую роль в этом сыграл в первую очередь Петр Пашино. Связь тут прослеживается довольно четко. Очевидно, в беседах Пашино с бирманскими министрами был поднят вопрос о возможности образования в России молодых бирманцев, в первую очередь офицеров. Не исключено, что эту мысль подал бирманцам сам Пашино. Так или иначе, но письмо бирманского министра с подобной просьбой было отправлено в 1876 году через Пашино. И если МИД продолжал свою прежнюю политику полного невмешательства, то военное министерство было более склонно пойти на определенные шаги в этом направлении.
Министерство иностранных дел, почувствовав, что военный министр Милютин склонен к каким-то действиям, решило его предостеречь. Письмо, направленное военному министру начальником Азиатского департамента Гирсом, может служить образцом казенной и то же время циничной отписки. МИД не хотел ничего предпринимать: так спокойнее. «С некоторого времени писал Гирс, — бирманское правительство домогается войти с нами в официальные сношения с явной цель напугать этим англичан. На первое письмо, полученное по этому предмету от бирманского министра, князь Александр Михайлович (Горчаков. — Авт.) дал уклончивый ответ, а на второе, полученное одновременно с тем, которое адресовано на имя Вашего превосходительства не дал никакого ответа. Я полагаю, что и вам можно отделаться уклончивым отзывом или повременить с ответом…»
Однако военный министр рассудил иначе. Он обратился с этим вопросом непосредственно к А. М. Горчакову и получил от него разрешение направить в Бирму письмо с согласием на присылку в Россию молодых бирманцев. В письме военного министра в Бирму говорилось: «Рад возможности заверить вас, что молодые подданные Его величества короля, которые приедут в Россию для специального обучения, встретят здесь дружественный и в высшей степени благосклонный прием».
Письмо было отправлено, но бирманцы не приехали. Возможно, виной тому два фактора: во-первых, смерть Миндона и приход к власти нового короля — Тибо, сопровождавшийся внутренними трудностями в Бирме. Во-вторых, усилившаяся активность Франции в Юго-Восточной Азии и надежды, появившиеся в правящих кругаx Бирмы в связи с этим.
К тому времени колониальные владения Франции приблизились к Бирме с востока. Бирма и Сиам стали как бы буферными государствами между английской и французской колониальными империями. Возникла перспектива сохранить независимость, используя острые противоречия между основными колониальными державами в Юго-Восточной Азии. Но то, что удалось сделать ценой громадных жертв Сиаму, у Бирмы не вышло, колонизаторы договорились между собой: Франция отступила, и Бирма была отдана на милость Великобритании. Однако в конце семидесятых годов многим казалось, что надежда на спасение еще есть. В Бирме появились французские агенты и дипломаты, а бирманское посольство было встречено в Париже внешне доброжелательно.
Послы Бирмы во Франции имели и еще одно поручение — попытаться вновь, уже от имени нового короля Бирмы, войти в контакт с Россией. Однако память о неудаче, которую бирманцы потерпели в Тегеране, заставила бирманских дипломатов быть крайне осторожными. Прямой путь в русское посольство с перспективой получить вежливый отказ не подходил. Бирманцы стали искать влиятельных посредников. Им казалось, что если удастся преодолеть равнодушие русских чиновников, то сам русский император на их инициативу может откликнуться положительно.
Такой посредник был вскоре найден с помощью французских друзей (а в Париже были силы, действительно желавшие независимости Бирмы). Им оказался Дмитрий Иванович Менделеев, который в то время находился в Париже, чтобы ознакомиться с достижениями французских естествоиспытателей в области воздухоплавания.
Когда друзья рассказали Менделееву о положении дел, знаменитый химик при всей его занятости не пожалел ни времени, ни усилий для того, чтобы помочь посольству. Первым его шагом был визит к русскому послу в Париже. Визит был неудачен. «Ответ состоял в том, что теперь не время и что Бирма может повредить нашим отношениям к Англии».
Тогда Менделеев написал большое письмо великому князю Константину, по инициативе которого он был и правлен в Париж. Письмо было строго конфиденциальным. В нем Менделеев излагал желание бирманцев установить прямые связи с Россией, произвести обмен посольствами, сообщал о возможности наладить торговые отношения и даже командировать в Бирму русских исследователей. В конце Менделеев объясняет, почему он избрал именно такой способ связей с русским правительством: «Уверенный в том, что гласность предварительных отношений Бирмы с Россией может повредить маленькой Бирме, если ее попытки будут безуспешны — я избрал прямейший путь — письмо к Вам».
Это письмо также завершило свой путь в папках министерства иностранных дел, куда его передал великий князь, и было обнаружено лишь в наши годы.
Последняя попытка бирманцев найти путь к русскому правительству относилась уже к 1885 году, когда очередное бирманское посольство во Францию все-таки встретилось в Париже с русским послом. В эти дин судьба Бирмы была уже фактически решена. И решена в Лондоне и Калькутте.
Бирманцы произвели хорошее впечатление на русского посла, и он направил два донесения известному уже Гирсу. В них говорилось о предложениях Бирмы принять в Мандалае русского консула и заключить торговый договор.
На этот раз лед сдвинулся. Гире доложил о беседе императору Александру III. Он напомнил ему об отказе принять бирманское посольство в 1874 году, но, признавая, что международное положение изменилось, предложил следующее: «При настоящих обстоятельствах вмешательство наше в отношении Бирмы к индийскому правительству едва ли возможно, и потому было бы, может быть, небесполезно поручить… Моренгейму (русскому послу в Париже. — Авт.) внушить послам, что сношения наши с Бирмою должны пока ограничиваться сферою коммерческих интересов». Гирс считал что консула в Бирму посылать также несвоевременно, а вот поручить одному из русских военных кораблей нанести визит в Бирму было бы неплохо.
Особенно понравилась императору последняя мысль Гирca. «Это можно», — написал он на полях доклада. И сверху, одобряя позицию министерства, — «хорошо».
Но шел уже 1885 год. Через несколько месяцев Бирма перестала существовать как независимое государство. И планам русского правительства, как бы ни были они половинчаты и нерешительны, не было суждено осуществиться. Английские войска в конце 1885 года поднялись по Иравади и после нескольких столкновении с бирманскими войсками вошли в Мандалай.
В истории Бирмы начался новый период — колониальный.
Если захват Бирмы прошел сравнительно быстро и почти без потерь для англичан, то первые же дни после завоевания принесли колонизаторам ряд неожиданностей. Захватить Бирму было нетрудно, покорить — куда труднее. Началась партизанская борьба бирманцев против англичан. И в эти дни в Бирму попал еще один русский путешественник.
РАССКАЗ ТРЕТИЙ
ПАНДИТ И ЦИВИЛИЗАТОРЫ
Мне все кажется, что я на Волге, и эти деревушки — русские поселки, и htis — православных храмов золоченые макушки…
1
Иван Павлович Минаев родился в 1840 году, умор в 1890, пятидесяти лет от роду. Великие математики и поэты к этому возрасту чаще всего уже успевают вы сказать то, что им назначено судьбой. Ученые-энциклопедисты, деятельность которых требует овладения грш мадным объемом информации, лишь подходят к созданию основных трудов. Минаев успел выпустить всего один том «Буддизма» — первой в истории мировой науки книги, в которой изучение одной из основных религиозных и философских систем было предпринято на основе обширнейших знаний истории, географии, философии Индии, Юго-Восточной Азии, Дальнего Восток и все исследования, книги, статьи, все путешествия Минаева были лишь подготовкой к этому труду. И тут он умер. Став известным, став знаменитым, но не успев сделать главного. И если это главное было потом донесено до людей его учениками, то сделано это было по частям и в иной интерпретации, так как ученики Минаева, будучи яркими индивидуальностями, не всегда были согласны с учителем и, внося в науку новое, вносили свое.
В начале этой книги, в рассказах о путешественниках, речь шла большей частью именно о путешествиях, о долгих годах пути, об опасностях и перевоплощениях, о труднодоступных горных долинах и бурях в океане. В рассказах о путешественниках главное было — сами путешествия.
Это неприменимо к Минаеву.
Он совершил три больших путешествия по Азии. Пожалуй, он был первым русским ученым-востоковедом, на месте изучавшим то, к чему готовился в библиотеках и музеях Петербурга и Европы. Но в любом из путешествий он оставался ученым. Он ничего не открывал — ни новых рек, ни горных вершин. Он не скрывался от полицейских и не вставал ранним утром вместе с караваном. Минаев путешествовал в каютах, останавливался в гостиницах и ни разу ему не пришлось скрывать свое настоящее имя. Это были путешествия, которые мы теперь зовем научными командировками, полевыми исследованиями.
Он был внешне очень респектабелен. Один из руководителей Русского географического общества, он был также весьма уважаемым членом лондонского Общества пали (Пали-сосайети), и именно в журнале этого общества были опубликованы его многочисленные, совершившие революцию в науке переводы и комментарии неизвестных ранее, погибших или погибающих буддийских текстов. Он отправлялся в Индию, имея в кармане солидные рекомендательные письма от английских профессоров, русских и французских академиков, и к нему на прием приходили с почтением ученые, а губернаторы провинций приглашали «профессора Минаефф» на званые обеды.
И он не отказывался. Он был в научной командировке.
По его учебнику изучали священный язык пали бирманские монахи и студенты Сорбонны. Он говорил на многих языках — и древних и новых. Ему приводили сыновей главы буддийских сект, просили: научи их уму-разуму, пандит. Пандит вежливо улыбался и отказывался от чести. Он был вежлив, но большей частью замкнут. И вот за этой замкнутостью скрывались два человека.
Один из них — профессор Петербургского университета, добрейший и чуткий человек, предмет обожания студентов и молодых ученых, создатель школы русского востоковедения. Это ему в одном из писем пишет находившийся на стажировке в Европе будущий академик, а тогда просто студент, ученик Минаева С. Ольденбург; «Сердечное спасибо за Вашу доброту ко мне — такая радость на чужой стороне теплое слово родины». Это о нем пишет в своем дневнике другой крупный русский востоковед, Кудрявский: «Вообще многим я ему обязав, так что кажется даже, что слишком уж много от неги берешь, ничего не давая взамен, а доброта его ко мне неистощима. С каждым разом как почувствуешь эту доброту, так на сердце радостно как-то станет: есть ж! на свете добрые люди! Сколько утешения в этой простой мысли!».
Но был и другой Минаев. Минаев, ненавидящий не справедливость, Минаев, чутко переживающий каждую ложь, Минаев гневный, нетерпимый, злой. Для того, чтобы понять это, надо ознакомиться с его дневниками. Публикуя некоторые из них, он приводил записи в порядок, смягчал кое-какие формулировки. Но в большинстве своем дневники эти увидели свет уже в наше время и только тогда мы узнали, какая страстная, горячая, непримиримая натура скрывалась за академической сдержанностью одного из крупнейших востоковеда России прошлого века.
Возвращаясь из последнего путешествия в Азию, Минаев остановился в Риме. Там он узнал из газет о новом жандармском циркуляре, изданном в Петербурге и направленном на дальнейшее ограничение прав студентов, на искоренение крамолы. И тогда Минаев записал в дневнике: «Дураки!! Думают, что из науки можно сделать средство дрессировать покорных хамов. Выдумайте что-нибудь поудобнее. Эти несколько строк сразили меня…» Ему же принадлежат слова о «полоумных генералах», которые изобретали «свою собственную систему хозяйственного управления, одинаково приложимую и к школе кантонистов, и к университету».
И поэтому особенно интересно сегодня открыть дневники Минаева-путешественника. Он там искренен настолько, насколько вообще можно быть искренним перед самим собой. Недаром совсем недавно эти дневники были изданы в Калькутте: то, что увидел, как увидел, что понял, как оценил ситуацию в Индии и Бирме русский ученый, представляет сегодня интерес не только для специалистов-востоковедов.
А попал Минаев в Бирму буквально на следующий день после того, как пал Мандалай и английские солдаты вошли в королевский дворец. Он был первым европейским ученым, увидевшим крушение Бирманской империи. И он проехал по охваченной угаром завоеваний Британской Индии и очутился в Бирме, когда воздух еще не очистился от гари и порохового дыма.
2
В Индии, где Минаев был уже не впервые, он старался, встречаясь с учеными, собрать сведения о Бирме — что там за библиотеки, на какие палийские тексты можно рассчитывать? В ответ ему говорили, что ничего о текстах неизвестно, зато сильно шалят разбойники-дакойты. И в дневниках Минаев скупо регистрирует слухи, доносившиеся до Бомбея и Калькутты. В Мандалай вряд ли попаду. Около Рангуна попадаются разбойники»… «Говорили о Бирме. Н. только что вернулся из Бирмы. Дакойты — это дело полиции, а не войска»… Солидные коллеги советовали Минаеву воздержаться от визита в только что покоренную страну — опасно, лучше переждать, пока полиция установит порядок и дакойты будут арестованы или повешены. Собеседники Минаева не подозревали о том, что в Бирме лишь начинается партизанская война, которая потребует у Великобритании нескольких лет и многих тысяч солдат. Не знали, что придется отзывать из Африки крупнейшего английского колониального генерала Робертса, чтобы он утихомирил страну. А Робертс будет требовать все новых войск (оказалось, что умиротворение Бирмы все-таки дело не полиции, а армии) и месяц за месяцем переносить в будущее сроки окончательной победы.
Минаев не согласился с советчиками. Будучи убежден, что в Мандалае должны храниться ценнейшие буддийские тексты, он не был уверен, что среди завоевателей найдутся в те дни достаточно компетентные специалисты, зато справедливо опасался, что грабители найдутся в избытке. И еще одна причина толкала Минаева поспешить с путешествием: он никогда не замыкался в стенах библиотек и в строгих рамках филологии или древней истории — для того, чтобы понять, как складывалась философская система буддизма в Бирме, он должен был увидеть саму Бирму, познакомиться со страной и с людьми раньше, чем колонизация подорвет систему буддийской церкви, раньше, чем погибнут многие уникальные черты, особенно те, что связаны с бирманской государственностью.
Пароход попался скверный. Скверной была и еда, к тому же было очень жарко. Минаев сильно устал в Индии, а впереди намечались не менее занятые недели. Приходилось общаться с подозрительными англичанами, преимущественно колониальными чиновниками, антирусские настроения среди которых были в то время чрезвычайно сильны: Англия вела тяжелую войну в Афганистане, вблизи от южных границ России, в Индии же была распространена почти религиозная надежда на Белого царя, который придет на помощи Индии и освободит ее от англичан. Вместе с тем вряд ли можно было рассчитывать на доверие только что утративших независимость бирманцев к европейцу.
И Минаев на пути к Рангуну записывает в дневнике: «Общество на пароходе очень вульгарное: какие-то странствующие актеры, отправляющиеся в Рангун. Тоже цивилизаторы! Им место в стране, преданной грабежу и разбою».
Минаев еще не видел Бирмы, но он много времени провел в Индии и имел возможность повидать британский колониализм в действии.
В дневниках Минаева нет обычного для туриста вступления, говорящего о первом знакомстве с чудесной и экзотической страной. Минаев ступил на рангунский берег, зная, что он увидит, с готовым планом путешествия. И потому первая же запись в дневнике о Бирме поражает своей лаконичностью и даже обыденностью. Она схожа с записью в корабельном журнале. Только вместо слов: «Во столько-то прошли траверс маяка…» — там написано: «Часов в шесть показались берега Иравади и завиделись верхушки пагод Рангунской и Сириамской».
Однако за лаконичностью скрывалось жгучее желание как можно скорее начать знакомство с Бирмой. Ведь пароход пришел в Рангун днем, после этого надо было еще устроиться в гостинице, переодеться. И вот запись того же дня: «Ездил в Шве Датой с двумя спутниками по пароходу». До пагоды Шведагон от порта километров пятнадцать. Значит, первый же день не пропал даром.
И еще одна запись, датированная днем приезда: «У Минхла — сегодня в отеле рассказывали — мадрасские солдаты не хотели сражаться. Этим объясняется большая потеря в офицерах. Ждут голода. Рис порезали.
Объявлено от полиции, туземцам запрещено без фонарей выходить после 9 часов из дому».
Последняя тема первого дня — тема английской колонизации — будет возвращаться в дневник почти ежедневно. И все резче день ото дня будет русский ученый комментировать происходящие вокруг события.
Два следующих дня ушли на визиты к английским ученым и тем журналистам и чиновникам, к которым Минаев запасся рекомендательными письмами.
Появление русского профессора в Рангуне было местной сенсацией. Светило английской науки Форхаммер, монополист по части бирманских древностей, демонстрировал профессору редчайшие находки. Ими оказались надписи из Аракана — одна из них, по словам Форхаммера, очень древняя.
— Обратите внимание, господин Минаефф, — Форхаммер говорил с сильным немецким акцентом, — надпись времен великого императора Ашоки, третий век до нашей эры. Вскоре расшифрую, ибо, кроме меня, здесь не найдется настоящего палеографа.
Минаев поднес к глазам фотографию. Фотография была дрянной, любительской. Короткий текст читался легко: «Да будет возвещен этот закон».
— Да, — вежливо согласился гость. Эта письменность называется кутила — ближе к десятому веку нашей эры.
Русский профессор говорил, не отрывая глаз от фотографии: не хотел улыбаться.
Форхаммер же улыбнулся. Не очень весело. Взял фотографию, забросил ее подальше, на стол, и начал, говорить о том, как легко достать в Бирме рукописи: они никому не нужны, монахи сами в них ничего не понимают. Сейчас самое время вывозить редкости из Бирмы. Но в Мандалай ехать не следует: дакойты, разбойники, очень опасны. Не сегодня-завтра их уничтожат и тогда…
А на следующий день, когда Минаеву понадобилось снова побывать у главного археолога, жена Форхаммера встретила гостя в холле и сказала: «Муж очень занят, не может принять».
Форхаммер стоял за дверью, тяжело дышал. Было жарко, Минаев с утра носился с визитами по городу, пытаясь выехать на север Бирмы.
— Какого черта! — сказал плохо воспитанный русский медведь.
— Ах! — сказала госпожа Форхаммер.
Форхаммер выскочил из-за двери. Был он в белом костюме для тенниса.
— Я так виноват перед вами, — сказал он, пряча глаза. — Но мне было неловко показаться перед вами в таком наряде.
«Интересного разговора не было, — доверился Минаев дневнику. — Он глуп».
В Рангуне Минаев встречается с миссионерами, учителями. Разговор неизбежно вскоре покидает строгую стезю изучения древностей и перекочевывает на более животрепещущие вопросы. И главный из них: кто же такие эти дакойты? Разбойники? Если так, то откуда они взялись? Где были раньше?
Директор колледжа Жильберт уверял Минаева, что дакойты и не разбойники, и не патриоты. Дакойты — это те, кто прежде жил щедротами бирманских королей, когда же по милости англичан источник благ иссяк, они пошли добывать средства к жизни.
Старый миссионер Маркс (личность в истории Бирмы прелюбопытная, воспитатель последнего короля Бирмы, Тибо) с Жильбертом не был согласен. Он лучше знал страну, понимал, что от щедрот бирманских королей кормились придворные, но не десятки тысяч людей, взявших оружие. Но бирманцев он не любил, несмотря на профессиональное христианское смирение.
— Дакойты созданы англичанами, — отвечал он, не уточняя, кто же они такие. — Их нераспорядительностью, отсутствием всякой определенности в политике относительно Бирмы… Распустили войско и наполовину обезоружили его. У этого сброда нет никаких средств к жизни; разбойники по природе, они взялись за грабеж, как за самое легкое ремесло.
— Ну, а остальные бирманцы, как они относятся к дакойтам? — спрашивал гость.
— Бирманцы сами в грабежах не принимают участия, но не знают, что с ними будет, и потому боятся перейти на сторону англичан.
— А монахи?
— Монахи — вопрос особый. Они не патриоты, нет, но темные личности, напялившие желтые тоги. Вообще надо вести себя жестче.
Старый миссионер, знавший всех и вся при бирманском дворе, относился к крупнейшим авторитетам. Но если Форхаммер был главным в науке, то Маркса считали авторитетом в религии.
Минаев слушал его, слушал и заключил: «Маркс и наивго уверен, что он, подкапываясь под буддизм, готовит почву христианству».
За благообразной седой бородой скрывался шпион во славу божию.
— Я не миссионер, — сказал он на прощание Минцеву. — Моя работа подземная.
Прошло всего три дня в Рангуне. На третий день Минаев побывал в буддийском монастыре, в монастырской школе. Разговаривал с бирманцами. Вечером в гостинице открыл настежь окна, чтобы свежий вечерний январский воздух развеял сон: ведь он с пяти утра на ногах и все по этой жаре, а уже темно, скоро полночь, но надо заполнить несколько страниц дневника.
Прежде всего надо написать о дакойтах. Уже не со слов миссионеров и чиновников, а то, что сам думаешь о них, то, что тебе рассказали бирманцы. Никто до Минаева не разговаривал с самими бирманцами. Их мнение либо не интересовало приезжих, либо просто не было общего языка. На каком языке прикажете говорить с буддийским монахом? Минаев говорил на пали — священном языке буддизма.
«Туземцы о дакойтах думают иначе, — записывает Минаев. — По их мнению, во главе движения стоят претенденты на престол… Среди дакойтов не все разбойники, есть и патриоты. Далеко не все желают присоединения к Британской империи. Люди верующие не желают присоединения, потому что думают, что буддизму пришел конец. И они, конечно, правы. Туземцы в Северной Бирме вовсе не завидуют положению индийцев. А с присоединением им грозит та же участь».
Записано главное, теперь можно приниматься за описание школы, монастыря, отпускать довольно едкие реплики в адрес миссионеров — каждая встреча все более открывала этих в общем недалеких и зачастую злых людей проницательному русскому профессору. И он вспоминает о том, как Маркс заставлял бирманских учеников в своей миссионерской школе распевать молитву о даровании победы британскому оружию. Да, это и есть подземная работа миссионера.
«Буддизм здесь в агонии, — писал Минаев. — Он борется сильно, но теряет под собой почву. С христианством он мог бы еще мирно ужиться, но его добьет западная культура и неверие». Сегодня мы знаем, что буддизм в Бирме выжил, выдержал наступление христианства. Но тогда, в только что рухнувшей Бирме среди бравых офицеров и говорливых миссионеров, Минаев ощущал реальную угрозу бирманской самобытности, бирманской культуре…
Нет, придется тушить свет, завтра вставать с рассветом.
3
Минаев привык к неспешным индийским поездам. Точно таким же, как и тот, что на пятый день пребывания в Бирме повез его под вечер на север, в Пром — древний бирманский город, некогда столицу, уже более тридцати лет находившийся под властью англичан.
Профессора никто не провожал. Носильщик отнес его чемодан в купе первого класса. Носильщик был индийцем; индийцами были и чиновники на железной дороге, машинисты, кондукторы и даже полицейский. Железная дорога принадлежала к тому миру, что вторгся в Бирму вместе с англичанами: своей железной дороги бирманцы построить так и не успели. И то, что англичане рассматривали покоренную Бирму как провинцию Британской Индии, накладывало отпечаток на социальный состав колонии: индийцы в новой иерархии занимали место не только рядом с бирманцами, но зачастую и выше их. Уровень жизни в Индии был в основном ниже, чем в Бирме, поэтому из Индии приезжали как те, кто хотел и мог, пользуясь налаженными связями с англичанами, поживиться за счет бирманцев, — купцы, помещики, ростовщики, так и те, кто надеялся избавиться от постоянного голода и даже скопить немного денег для семьи, оставшейся дома, — кули, рабочие, батраки. Индийское население в Нижней Бирме непрерывно росло, и по мере того как индийцев становилось больше, росла и рознь между ними и бирманцами, которые часто связывали индийцев, даже самых бедных и бесправных, с английскими господами.
Поезд медленно тащился вдоль ровных рисовых полей. В этих местах уже мало осталось нераспаханных земель: Бирма быстро превращалась в рисовую житницу Британской империи и земли Нижней Бирмы оказались для этого самыми удобными. Солнце быстро скатывалось к горизонту — всегда сопровождающей путешественника по Бирме линии голубых и лиловых лесистых холмов. Там, как уверяли Минаева, скрывались таинственные повстанцы-дакойты — то ли бандиты, то ли патриоты. Минаев все больше склонялся ко второму мнению. Никто из англичан не мог объяснить ему, почему дакойты стали так активны не только в недавно покоренной Верхней Бирме, но и здесь, на юге, где уже тридцать лет как установлен английский мир и английский порядок.
Солнце коснулось лиловых холмов и тут же на глазах провалилось за них; словно по сигналу над головой вспыхнули звезды. Вечер был прохладным, и бирманцы, встречавшиеся на маленьких станциях, ходили в темных курточках — мерзли.
Пром оказался живописным городом. Близко к нему подступали холмы, поросшие лесом, рядом текла Иравади. Громадная пагода Швезандо возвышалась над городом, как острая вершина горы. Дом для приезжих — точно такой же, как во всех других городах Индии и Бирмы, построенный англичанами для чиновников, разъезжающих по государственным делам, — был скрипуч, пылен, и обширная тиковая кровать под москитной сеткой, натянутой на высокие палки, терялась в углу пустынной, мрачной комнаты.
В тот же день Минаев побывал в нескольких монастырях и монастырских школах Прома. «Странное впечатление производят эти школы, — записал он. — В середине сидит монах, шьет желтую ризу, кругом на циновках расположились мальчики с черными досками, на которых написано несколько фраз из Манталасутры. Читают громко нараспев, не понимая содержания».
Минаев расспрашивал монахов о хранящихся в монастырях рукописях, о монастырских делах. Отношение к нему монахов было разным — чаще даже враждебным. Настолько, что Минаев пришел к еще одному важному для себя выводу: монахи решительно ненавидят англичан и не терпят вмешательства нового правительства.
С первого же дня пребывания в Бирме Минаев начал пересматривать шкалу ценностей, представленную ему в Индии знакомыми англичанами. Вначале было так: дакойты — разбойники; приход англичан — благо дли нации, которой управляли темные деспоты, и нация понимает это; христианство также благо, ибо оно приносит бирманцам истинного бога взамен свойственного буддизму безбожия и недостаточно высокого морального уровня. И так далее…
Вечером в доме для приезжих к Минаеву привязался английский плантатор. Плантатор был агрессивен.
— Вы, русские, хотите отнять у нас Индию, — громко, словно угрожая, повторял он. — Мы, в Индии, ждем вашего прихода. Да-да, ждем. Ни один из нас не вернется назад и этим все кончится.
— Не все в Индии так думают.
— Вы имеете в виду агитаторов, смутьянов. Но их дело проиграно.
Ночь выдалась лунная, свежая. Дышалось свободно, и полупьяный плантатор, который жаждал русской крови, даже не вызывал раздражения. Было только грустно. Минаеву казалось, что бирманцам не выдержать натиска столь агрессивных плантаторов.
— Сколько веры нужно иметь, чтобы устоять, — сказал он самому себе.
— Что? — не понял плантатор.
Минаев попрощался и ушел к себе в комнату.
Милях в десяти от Прома, на берегу Иравади, был монастырь, в котором обитал ученый монах Мунинда. О Мунинде Минаев слыхал еще в Рангуне.
Беседовали о буддийских школах, о книгах, потом разговор вновь перешел на дела современные.
Старый мудрец жалел бирманского короля. Тут Минаев вновь услышал о том, что ужасный деспот Тибо, от которого якобы спасли Бирму англичане, был начитанным, образованным человеком, не виновным в приписываемых ему жестокостях.
Монахи сидели вокруг Мунинды и его гостя, прислушивались к неторопливому разговору на пали, который далеко не все понимали. Но беседа эта положила начало известности Минаева в Бирме.
Собираясь на пароход, который должен был доставить его на север страны, в Мандалай, Минаев и не подозревал, что по невидимой и непонятной чужому цепочке, от монастыря к монастырю, от пагоды к пагоде бежали слухи: в Мандалай едет великий пандит саяджи, которому открыты тайны древних книг, столь начитанный в типитаке, что великий Мунинда говорил с ним как с равным…
4
«Кругом такая красота, что и писать не хочется. Чем выше, тем живописнее… День ясный и такая прохлада; забываешь даже, что находишься у самых тропиков.
Мне все кажется, что я на Волге, и эти деревушки — русские поселки, и htis (маковки буддийских храмов. — Авт.) — православных храмов золоченые макушки… А река (Иравади. — Авт.) величественна. Тихо катит свои волны.
Сдается, что пишу глупости под впечатлением чудной природы, прохлады и здоровья».
Минаев отложил перо. Ветер, врываясь через открытое окно каюты, ворошил листы бумаги на столе. Пароход взял курс к берегу: кончались дрова. Деревня на холме была почти скрыта зарослями бананов, и только у деревянного причала купались, пересмеиваясь, полуобнаженные девушки. Вспомнилось, как за обедом гость капитана, командир бенгальского полка, рассуждал о том, что дерзость дакойтов объясняется недостаточной предусмотрительностью высшего командования. Минаев нахмурился. Запись того дня он закончил неожиданной фразой: «И чуден здесь божий мир! Смотришь кругом и начинаешь разуметь, зачем сюда забрался западный человек. Ведь кругом золотое дно».
На третий день показался Мандалай. И тут же скрылся в тучах мелкой пыли, которую поднимали повозки на высоких колесах. Долго пришлось ждать, пока найдется повозка, чтобы доехать до гостиницы, — до города было несколько километров. Гостиница была набита военными, чиновниками, представителями индийских и английских фирм. В грязном ресторане гудели голоса — от громких, принадлежавших офицерам, до сдержанных, опускающихся до шепота, — деловых людей. Было жарко, пыльно, и чудесные воспоминания о неспешном путешествии по Иравади вскоре были вытеснены новыми впечатлениями. В ресторане и холле, не стесняясь, разговаривали о недавних похождениях. Под окнами гостиницы прогромыхала телега с телами расстрелянных дакойтов.
— Они идут на казнь, улыбаясь и покуривая сигары, — сказал сосед по столу в ресторане.
— Надо быть более жестокими, — поддержал его офицер в расстегнутом красном мундире. — На той неделе они убили полковника Симпсона.
И снова Минаев пишет. И опять к услышанному прибавляются собственные выводы: «…боятся английских солдат. Солдаты вели себя отвратительно первые дни, напились и на базарах гонялись за бирманскими девками. Некоторые валялись по несколько часов на улице. Впечатление было мерзкое и сильное на туземное население». Это были панические дни в Мандалае. Гостиница питалась слухами о зверствах дакойтов. Профессору не советовали покидать ее стен. Управляющий гостиницей выспрашивал профессора, обзавелся ли он пистолетом, столь необходимым по настоящим временам. Пистолетом профессор не обзавелся и не собирался обзаводиться.
Пора было работать.
На следующий день Минаев отправился в громадный и роскошный монастырь, построенный бывшим бирманским послом в Париже. Монастырь был пустынен. В школе почти не было учеников. У ворот монастыри стояли на часах сипаи: хотя пора грабежей уже миновала и английских солдат отвели в казармы, потом: что отныне всё принадлежало британской короне, все-таки в монастыре осталось много соблазнительного. Бирманец, знавший о приезде Минаева и проводивший его в монастырь, посмотрел на сипая с нескрываемой ненавистью. И этот взгляд не укрылся от Минаева.
— При короле было много монахов и много учеников в школах, — сказал Минаеву монах. Теперь все разбежались. Что дальше?
— Жизнь будет продолжаться.
— Та жизнь, к которой мы привыкли, кончилась. А в будущее мы заглянуть не сможем.
Минаев кивнул. Он ответил по-русски:
— Лучше ли будет новое? Тех людей, которые могли бы сказать: «Да!» — еще нет. Да и что это будут за люди?
Монах кивнул головой, словно понял. А может, и понял по тону гостя.
Дни проходили в беседах с учеными монахами, в посещениях пагод и мастерских. Как то утром Минаева разбудил гонг. Он возвещал о начале аукциона. Аукцион дворцовых вещей, принадлежавших королю Тибо и его жене.
Немецкий делец хвастался потом за обедом молитвенником королевы и портретом в рамке с алмазами.
— Хотел бы я знать, что думают бирманцы об этом аукционе, — сказал Минаев, когда немец обратился к нему с вопросом, почему он в нем не участвовал: ведь там продавались и старинные рукописи.
— Какое нам дело, — искренне удивился немец. — Я не сочувствую англичанам. Но бирманцы могли вести себя умнее.
Полковник Слейден разрешил профессору, обладавшему солидными рекомендациями, ознакомиться с одной из захваченных библиотек. Библиотека был свалена в восемь громадных сундуков, а то, что не поместилось, валялось грудами рядом. Минаев начал именно с этих груд: он поднимал из пыли древние книги на пальмовых листах и складывал их осторожно на сундуки. К обеду проглядел более сотни книг.
Утомившись, Минаев пошел по дворцу — громадному прямоугольнику в центре города, обнесенному рвом с водой и невысокими кирпичными стенами. Внутри дворца помещались и тронные залы, и жилища короля и его родственников, и даже несколько монастырей. По дворцу бродило множество солдат: в дворцовых помещениях расположился штаб. Минаев нанес визит командующему английской армией генералу Прендергасту. Генерал был любезен, но неразговорчив. Он не возражал против ученых занятий русского профессора, однако после его ухода немедленно вызвал полковника Слейдена и сделал ему внушение. Как могло получиться что в Мандалае не оказалось ни одного английского ученого, который может разобраться в этом чертовом языке? Мы не имеем права относиться к рукописям и архивам как к ненужной бумаге. Общественное мнение Европы — очень деликатная штука.
— Россия — не Европа, — возразил полковник.
Генерал Прендергаст отмахнулся.
— Это не играет роли.
Библиотеки дворца поразили Минаева. Он провел в них несколько дней, но признавался, что не знает всех их богатств. Единственное, что можно утверждать, — весь главнейший состав буддийской литературы хранился в Мандалае. В том числе и многие рукописи, еще не введенные в научный оборот и просто неизвестные ученым. Но судьба их продолжала беспокоить Минаева. Тем более, что вдруг изменилось отношение к нему полковника. То ли ему не понравился выговор, полученный от Прендергаста, то ли и в самом деле он решил подождать, пока появятся свои, английские ученые. В любом случае доступ в личную библиотеку короля Тибо был закрыт. Слейден заявил, что ждет приезда известного ученого, профессора Форхаммера, который и приведет библиотеку в порядок. Минаев сдержал улыбку. Он отлично знал, что Форхаммер не бросит своего тенниса и рангунского безопасного дома ради рискованного путешествия в бирманскую столицу.
В библиотеку он все-таки попал. Помог другой полковник — Эйр. Начав работу в библиотеке, Минаон сразу отметил, что на золоченых шкафах, в которых хранились книги, стоят порядковые номера — от одного до тринадцати. Сохранилось же лишь семь шкафов. Сначала Минаев решил, что не может найти их, потому что в обширный зал были свалены вещи, не проданные на аукционе. Однако шкафов нигде не было. Минаев вспомнил слухи о древних рукописях, продававшихся на аукционе.
Послышались быстрые шаркающие шаги.
— Вы здесь, профессор?
Сутулый священник с толстой тетрадью в руке стоял и дверях, стараясь разглядеть в полумраке комнаты русского профессора. Профессор сидел на корточках перед шкафом, разложив на расшитом платке толстую пачку пальмовых листьев.
— Здравствуйте, — сказал священник. — Моя фамилия Кольбек. Я прислан полковником Слейденом для того, чтобы составить каталог книг.
— А Форхаммер?
В голосе русского звучала насмешка.
— Профессор Форхаммер занят в Рангуне. Очень занят.
— Вы знаете пали? — спросил Минаев. — Санскрит?
— Нет, упаси бог, — ответил священник. — Я буду копировать заголовки и нумеровать книги. Главное — последовательность и добросовестность.
— Очевидно, мне здесь больше делать нечего?
— Что вы, профессор. Вы вольны разбираться в книгах. Боюсь только, что нам вдвоем здесь будет тесно. Как только я завершу работу, я с удовольствием уступлю вам свое место.
— Ясно, — сказал Минаев. — Я понял.
Потом Кольбек смягчился. Даже попросил Минаева помочь ему, передал приглашение на обед от католического епископа. По пути на обед Минаев заглянул и бывшую спальню королевы. Там суетились столяры, переоборудуя ее в гостиную жены вице-короля Индии лорда Даффрена, которого ждали со дня на день.
Так и проходили жаркие дни в Мандалае. С утра библиотеки, монастыри, разговоры с торговцами, приносившими с базара рукописи, не зная зачастую ни их ценности, ни смысла. Потом заказы переписчикам: наиболее ценные рукописи из больших библиотек следовало скопировать. Не было никакой гарантии, что они сохранятся. И Минаев оказался прав. Некоторые копии, снятые им в Мандалае, сегодня уникальны. Кое-какие рукописи пропали вскоре после отъезда Минаева, а многие сгорели в дни второй мировой войны, когда во время японского наступления был подожжен Мандалайский творец и уничтожена университетская библиотека в Рангуне.
Из привычной уже рутины бирманской жизни Mинаева иногда выпадали необычные дни. Один из них запомнился и был приятен: он побывал в гостях у бывшего королевского библиотекаря. Отыскал его в Мандалае, и тот с радостью согласился побеседовать с ученым. Минаева интересовало, что из рукописей пропало, какие из них он не видел. Высохший старик полдня разговаривал с гостем, писал ему по памяти список книг. Рассказал, что сам видел, как раскрадывали царскую библиотеку. Рядом сидели другие ученые бирманцы, сплевывали красные сгустки бетеля в щели веранды.
На прощание старик обратился к Минаеву с просьбой: «Возьмите, сая, на обучение моего сына. Он дол жен научиться священному языку пали, а сейчас, когда подорваны монастыри и настоящие учителя исчезли, некому это сделать». А через два дня с подобной просьбой обратились и настоятели монастырей: «Оставайтесь, сая. Вы здесь нужны».
Но нужно было уезжать. Деньги кончились, большой ящик был набит рукописями и копиями, две толстых тетради дневника заполнены записями. И так уже почти два месяца он провел в Бирме — утомительные, интересные два месяца. Можно лишь обещать, что еще вернешься сюда, хотя сам не уверен в этом.
5
Потом опять был пароход, опять медленное путешествие — на этот раз вниз, в Рангун, опять разговоры завоевателей на пароходе. Но если раньше, месяц назад, Минаев еще только вырабатывал свое мнение, искал истину, то теперь с каждым днем записи в дневнике все более остры, резки и недвусмысленны. Мипае выбрал сторону в конфликте. Он знает, о чем пишет.
«Мы стояли у Сегаина, в виду Авы, — записывает он начиная новую тетрадь. — Все были, за исключением меня, военные люди… Разговор тот же, что и вчера вечером: о добыче в Мандалае, о грабеже в первую ночь, когда всякий хватал в Мандалае, что получше и поценнее, когда дворцовых женщин, спасавших свое добро, обыскивали тщательно, а за сопротивление секли. И этим людям всего этого мало, они ищут кладов, денег, бриллиантов, а главное — рубинов низложенного царя».
— К Слейдену приходил молодчик, — разглагольствовал армейский капитан, — обещал показать место заднего клада.
— И что же?
— Потребовал двадцать процентов.
— И что?
— Слейден предложил пять.
— Высек бы я его, да в тюрьму на несколько месяцев, он бы и даром все показал, — смеялся моряк.
— А вы не боитесь газет? Вдруг они узнали бы, — спросил Минаев.
— Откуда им знать? А узнали бы, так промолчали.
«Да! Втихомолку можно много здесь проделать. Эти женщины сеченые, солдаты пьяные, безобразничающие на базарах, часовые у складов награбленного царского добра и обкрадывающие это добро, — все эти подробности кампании, рассказанные вчера британскими офицерами за поздним обедом, рисуют, какими средствами насаждается западная культура здесь. И что за бесчинная кампания!»
А пассажиры все бахвалятся.
— На прошлой неделе я упражнялся в стрельбе и нечаянно отправил на тот свет одного туземца.
— Ай-ай, как вы плохо стреляете, майор.
— Да, пришлось заплатить его родным полсотни рупий. Они были очень довольны. Рассчитывали на тридцать, а я дал почти вдвое больше. За эти деньги они бы еще одного дали пристрелить.
Последние слова покрывает дружный хохот. О сотнях казненных дакойтов даже и не говорится. Минаев поднимается и уходит из-за стола. Офицеры насмешливо смотрят вслед профессору.
— Откуда этот фрукт?
— Русский.
— Русский? Шпион?
Минаев не слышит, о чем говорят дальше. Но отдохнуть, уйти от этих разговоров нельзя. За окном каюты какой-то фотограф хвастается, что отлично зарабатывает на фотографиях казненных.
В ночь перед Рангуном спалось плохо. Пароход часто останавливался: ждали встречную флотилию, с которой должен был проследовать в Мандалай вице-король, чтобы поставить точку на окончившейся войне и объявить всему миру дальнейшую судьбу Бирмы. А Минаеву снился английский офицер, сожалевший, что англичане недостаточно жестоки к бирманцам.
Пора уезжать. Уезжать из Бирмы, столь полюбившейся Минаеву, из Бирмы разоренной, растерянной, знающей, что ждет ее дальше. Минаев вновь раскрывает тетрадь и пишет: «О, эта цивилизация без милосердия, без мягкости хуже деспотизма. Где же с ней бороться бирманцам!»
Глубоко потрясенный виденным, Минаев не мог заглянуть в будущее. Настоящее было слишком трагично и, как казалось ему, беспросветно. Он был прав, когда писал, что еще нет людей, которые могли бы сказать наступит ли лучшее будущее для Бирмы. Для того чтобы ответить на этот вопрос, ему пришлось бы выполнить свое обещание, которое он дал библиотекарю и монахам, просившим его вернуться и учить их детей. Но сделать это он не смог. Всего через пять лет он умер.
Остались лишь дневники, которые он также не успел обработать и которые увидели свет почти через сто лет после его смерти. Они дошли до нас не сглаженными цензурой, без купюр и вырезок. Страстный голос Минаева и сегодня звучит резко и непримиримо. Вряд ли кто-нибудь еще столь кратко и метко подытожил всю историю английской колонизации Бирмы, как он в описании отъезда индийского вице-короля из Бирмы, после того как тот объявил Бирму провинцией Британской Индии: «Палят из пушек! Лорд Деффирин отъезжает в Мадрас. Кончился последний акт бирманской трагедии. Той трагедии, первая сцена которой разыгралась в Рангуне, когда здесь из груди британских торгашей раздался дикий вопль: Бирму нужно прикарманить!»
Минаев не был пророком. Он не был и политиком. Скорее всего, он был аполитичным, сухим ученым. Ноученым незаурядным, выдающимся. За время своего пребывания в Бирме он убедился, что эта полюбившаяся ему страна покорена только формально и больше в воображении англичан. И не удивительно, что его бирманские записи заканчиваются строками: «Царь сдался. Но кругом идет глухая борьба. Так называемые дакойты подстреливают английских чиновников из-за кустов, и время ли говорить о том, что страна спасена?!» Время быстро ответило на этот вопрос Минаева. Еще при его жизни «глухая борьба» переросла в народную войну. И возглавили ее такие выдающиеся сыны бирманского народа, как Золотой Яун — дед Аун Сана.
ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
1
К началу девяностых годов в Бирме наступило спокойствие — спокойствие сломленной страны. Пути назад уже не было, возвращение к прошлому стало немыслимым, так как монархия как знамя изжила себя, а д. А национально-освободительного движения в новых, демократических формах еще не настало время, еще не созрели те силы — национальная буржуазия, интеллигенция, рабочий класс, которые позднее, уже в XX веке, стали во главе борьбы за освобождение.
Конец прошлого века знаменовался усилением интереса в Европе к экзотике, к путешествиям в тропические страны. С одной стороны, возникшая колониальная литература создавала пусть не всегда правдивую, ни зато занимательную картину таинственного Востока, с другой стороны, развитие транспорта привело к облегчению самой процедуры путешествия. Регулярные пароходные рейсы и железные дороги, прорезавшие Индию, Бирму и Французский Индокитай, в несколько лет превратили в воспоминание былые подвиги путешественников, избиравших средством передвижения лошадей, а то и собственные ноги. Теперь в Бирму и Нидерландскую Индию, в Сингапур и Макао мог попасть любой состоятельный господин (или даже дама) со склонностями к перемене мест: везде, и в Сайгоне и в Рангуне, можно было рассчитывать на европейскую гостиницу, колониальный сервис и — при наличии связей — на место и клубе или гостиной местной знати.
И таких путешественников на рубеже веков появляется множество. Они спешили разглядеть достопримечательности, они склонны были видеть тайны и ужасы в том, в чем их не было, и полностью игнорировать их там, где их можно было бы увидеть. Среди них были и русские путешественники, не оставившие никаких следов своего пребывания на Востоке.
Рассказывать здесь о них и неинтересно и не нужно. Но среди в общем немногочисленных русских, посетивших Бирму после покорения ее англичанами, были и фигуры любопытные, встречались зоркие наблюдатели или неплохие литераторы.
Например, князь Константин Вяземский.
Его портреты появлялись время от времени в разделах светской хроники или на обложке журнала «Вокруг света». Обычно князь, англизированный, элегантный, стоял, опершись рукой на гриву ручного льва, или целился в оленя. Князь был красив, образован и честолюбив. Склонность к путешествиям и охота к перемене мест отлично уживались в нем с искренней любовью к комфорту, страсть охотника и авантюристические порывы соперничали со светскими причудами и спесью.
И все-таки к зауряд-путешественникам отнести князя никак нельзя. Странное смешение черт характера привело его к весьма нестандартным поступкам. И большая часть их отражена в его дневниках. Двенадцать тетрадей дневника Вяземский опубликовал, тридцать девять остались в рукописном фонде Библиотеки имени И И. Ленина. Всего — ни мало ни много —5000 страниц, вносящихся лишь к его второму путешествию.
Первое путешествие Вяземский совершил еще в 1883–1884 годах вокруг Средиземного моря. И уже тогда, хоть путешествие это было свадебным, Вяземский совершил его именно так, как совершит и второе — верхом.
В век пароходов и железных дорог Вяземский был оригиналом и анахронизмом. Это был снобизм, спорт, но и снобизм, и спорт полезного свойства: с коня путешественник видел куда больше, чем из окна вагона.
Вяземский и его жена путешествовали почти год. Они выехали из Стамбула, пересекли Турцию, а затем проехали в Египет через Сирию, Палестину и Синайскую пустыню. Добрались до Марокко, потом повернули обратно, проникли в Судан и в июне 1884 года вернулись на Кавказ. Нельзя сказать, что путешествие было легким, но молодая княгиня выдержала все трудности пути. Хотя в следующее, еще более амбициозное путешествие ехать уже не решилась.
Была у Вяземского мечта — проехать в седле через всю Африку от Египта до мыса Доброй Надежды. Этот план, который мог бы выдвинуть его в число самых и известных путешественников, не удался. Тогда им овладела другая мечта: Индия — Китай — Тибет… Вяземского влекли рекорды. Рекорды, правда, могли стать лишь условными: ведь сравнивать было не с чем. Тем не менее, если бы ему удалось пройти верхом всю Азию он стал бы единственным в мире человеком, сделавшим это.
Вяземский обратился за содействием к Географическому обществу. Географическое общество в поддержке и покровительстве отказало. И не потому, что что члены общества — крупнейшие географы России — были некомпетентны в таких вопросах, — наоборот, именно потому, что они отлично понимали цену рекордам Вяземского. В научную ценность путешествия они не верили: ведь им известны были достижения молодой четы Вяземских и известно было, что путешествие для Вяземского, по его же собственным словам, «как бы не прекращающееся театральное зрелище, и притом самое фантастическое».
Сам же Вяземский в дневниках выдвинул другую, куда менее правдоподобную причину отказа. Он пишет, что Географическое общество попросту не поверило в возможный успех такого грандиозного замысла.
Итак, 6 июля 1891 года князь Вяземский попрощался с женой и в сопровождении повара, переводчика и слуг отправился поездом в Нижний Новгород. Там он пересел на пароход и поплыл по Волге и Каме. От Перми до Тюмени он вновь добирался поездом, а дальше на тройке в почтовой бричке поехал через Томск и Иркутск в Кяхту. Здесь он получил в сопровождение несколько казаков, и небольшой конный отряд пустился в путь через пустыню Гоби.
Стоит повторить, что путешествие Вяземского, хоть и отдававшее причудой богача, не было легким и простым. Ведь за последовавшие годы он проехал более сорока тысяч верст верхом.
Осень и зиму 1891 и весну 1892 года Вяземский провел в Китае, пересекши его с северо-запада на юго-восток. Затем начался Индокитай. Путешественник побывал в Аннаме, Камбодже, Тонкине и Кохинхине. Оттуда поправился в Сиам. В Бангкоке он повернул на запад и 5 декабря 1892 года пересек бирмано-тайскую границу в районе деревни Меа. Уже полтора года Вяземский в пути, но до конца путешествия далеко, и он не поддается усталости.
Сейчас приходится лишь жалеть, что замечательный спортсмен и неутомимый кавалерист оказался плохим наблюдателем и слабым литератором. Он добросовестно исписывал тетрадь за тетрадью, но видел он удивительно немного, хотя побывал в весьма труднодоступных местах и должен был бы на основе виденного создать интереснейшее описание Азии.
И все-таки Вяземский оказался первым русским путешественником, побывавшим на окраинах Бирмы, и местах, где даже англичан видели лишь во время карательных экспедиций.
Вяземский был аристократом и, как таковой, отлично ощущал свое родство с британскими лордами и пэрами Франции. Поэтому покорение европейцами стран Азии его никак не смущало, было в порядке вещей. Но — удивительное дело — стоило ему пересечь бирманскую границу, как настроение его начало заметно меняться.
Прежде всего он заметил любопытную вещь: бирманцы не уступали дороги белому человеку. Казалось бы, аристократическая натура Вяземского должна была возмутиться. Но не тут-то было. Независимость и гордость бирманцев понравились путешественнику. В то те время приняли гостей в деревне очень радушно, хоть никто и не приказывал крестьянам этого делать. Путешественников разместили, накормили и притом отказались взять с них деньги.
И вот, может быть частично и под влиянием первой встречи на бирманской земле, Вяземский проникается к Бирме и бирманцам сочувствием и симпатией. Его поражает все — и архитектура страны, и ее пейзажи, и одежда, и быт людей. Англоман и аристократ постепенно все больше становится на сторону бирманцев, и в дневнике его появляются довольно резкие высказывания о новых хозяевах Бирмы.
От деревни Меа путешественники отправились на юг, к портовому городу Моулмейн. Часть пути Вяземский для экономии времени проделал на небольшим пароходе. Уже здесь он весьма критически отметил порядки, введенные англичанами в Бирме. Так, обнаружилось, что бирманцам ехать в первом классе запрещено, а в то же время цена билета второго класса, значительно уступавшего первому и отведенного бирманцам, ни на анну меньше, чем первого, европейского. «Это вполне по-английски», — вырывается у Вяземского.
Моулмейн, первый крупный бирманский город, поразил Вяземского. «Перенесите человека прямо из Европы разом сюда, и он вообразит себя в каком-то волшебном царстве, не от мира сего, так тут все мило, красиво, поэтично устроено. Даже я, проехавший Китай, Вьетнам, Сиам и видевший там множество разнообразных xрамов буддийской архитектуры, даже я был поражен и и нескольку часов гулял среди здешних изящных храмиков, восторгаясь на каждом шагу новыми, не виданными еще мною постройками… Архитектура бирманская совершенно своеобразная… Это надо посмотреть самому, никакой даже самый тщательный и искусный пересказ не даст понятия об этих прелестях, это нужно высмотреть самому, и, увидев хоть раз, на всю жизнь сохраняется неизгладимое впечатление».
В Рангун Вяземский, объехав Южную Бирму, попал в конце декабря 1892 года. К тому времени он уже многое узнал об обстоятельствах последней англо-бирмайской войны. И составил свое собственное, далеко расходящееся с официальным английским мнение о причинах и ходе завоевания Бирмы. «Англичане напали на Тибо втихомолку, — пишет он в дневнике, — без объявления войны». Дальше в речи князя появляется явная ирония. Он рассказывает о том, как английский командующий собрал бирманских министров и сказал, что любвеобильное сердце великой королевы Виктории болело, видя, как Бирма дурно управляется и как народ бедствует, а потому с нынешнего дня все подати, увеличенные вдвое, они должны передавать своевременно английским чиновникам». А для того чтобы бирманцам стало ясно, что теперь не до шуток, тех, кто не сразу отозвался на отеческий призыв, казнили.
В Верхней Бирме было все еще неспокойно; И, возможно, поэтому, а возможно, подозревая в Вяземской русского разведчика, командующий английскими войсками в Бирме отказал ему в разрешении отправиться на север страны. Лишь нажав как следует на губернатора Бирмы и воспользовавшись, очевидно, крупными связями в вице-королевстве индийском, Вяземский все-таки добился разрешения продолжить путешествие на север.
Следующим важным пунктом на пути Вяземского оказался Мандалай. Здесь он остановился в самой лучшей гостинице, принадлежавшей французам. Немедленно исчезла усталость. Были рады и хозяева: представился случай сорвать с русского барина солидный куш за услуги. Знакомство с Вяземским началось с воспоминания, как за год до того в этих номерах гостиницы отдыхал такой же славный путешественник из России, как и он. Вот только беда, запамятовали, как его звали. Кажется, Голицын, князь Голицын. Вяземский, по-видимому, не очень-то обрадовался этому известию. В дневнике он лишь скупо зафиксировал рассказ хозяина гостиницы о том, что здесь год тому назад останавливался русский, некий князь Голицын, прибывший в Мандалай из Индии после путешествия по Кашмиру и Непалу. Это даже немного испортило настроение Вяземскому: ведь он был убежден, что он первый русский князь в этой экзотической и неведомой стране. Досадно и нам, что мы ничего не знаем о пребывании Голицына в Бирме в 1891 году, в том году, когда там был и Григорий де-Воллан. Неведомо также, куда Голицын направился из Бирмы и какие от этого остались следы в письменных свидетельствах. Возникает и другой вопрос: был ли вообще кто-нибудь из Голицыных там? Может быть, выдумали Голицына хозяева гостиницы, чтобы заставить Вяземского раскошелиться? Но не будем гадать. Важно другое — то, что Бирма и бирманцы покорили Вяземского. На всю жизнь запомнился ему Мандалай. «Это поистине оригинальнейший город всей Бирмы и прелестнейший на всем Крайнем Востоке» — решил Вяземский. Он много времени провел и Мандалае и с горечью писал о том, что английские власти не проявляют никакой заботы о разрушающихся памятниках бирманской старины. Отдал должное Вяземский и искусству мандалайских ремесленников и художников. Он часто бывал в ремесленных кварталах.
«Здесь, — писал он, — кипит непрестанная деятельность. Прядут, шьют, вырезают по дереву, рисуют, и очень талантливо. Бирманцы в высшей степени одарены воображением. Я с наслаждением рассматривал их работу».
Прощаясь с Мандалаем, Вяземский поднялся на холм, господствующий над городом. «Да, поистине можно сказать, что человек, хоть раз в жизни увидевший подобную картину, уже не может называться несчастным, что бы потом с ним ни случилось».
После Мандалая Вяземский совершил поездки по другим древним городам Бирмы, побывал в бывших столицах — Аве, Амарапуре, Сагайне. Чувствовал он себя прескверно — сказывались усталость и болезни, приобретенные в джунглях Индокитая. Но Вяземский, в чем ему отказать нельзя, был упрям и настойчив. Он и дальнейший путь избрал трудный — через горы северо-западной границы Бирмы.
От Мандалая Вяземский спустился на пароходе к месту впадения в Иравади ее крупнейшего притока реки Чиндвин, а затем поднялся по Чиндвину. Пароход шел медленно. Он был гружен боеприпасами: покорение Бирмы еще не закончилось. Навстречу, тоже медленно, шел другой пароход, с ранеными карателями, подавлявшими восстание чинов.
Снова городок. Спутники по пароходу, английские офицеры, отговаривают путешественника: вас обязательно пристрелят в горах. Вяземский только улыбается: Он верит, что с ним в Бирме ничего плохого не случится. Он прощается с попутчиками и, купив лошадей, продолжает путь по горным тропам, по джунглям, мимо последних бирманских горных деревушек, в Манипур. В Индию.
В феврале 1893 года Вяземский добрался до Калькутты. Три месяца провел в путешествии по Индии, оттуда проник через Гималаи в Тибет. И дальше — через Памир, Бухару, Персию, Кавказ — на родину, куда он прибыл уже в 1894 году.
Через двадцать лет после неудачного путешествии Петра Ивановича Пашино Вяземский смог проделать тот маршрут, который Пашино мечтал пройти. Но Пашино был инвалидом, без денег, без помощников, Вяземский же был здоров, окружен охраной и мог не думать о деньгах. Но главное — не в этом. Главное в том, что за двадцать лет обстановка в тех местах настолько изменилась, что ни религиозные суды фанатиков, ни местные властители не угрожали путешественнику. Границы колониальных держав России и Англии уже почти сомкнулись в Центральной Азии — раздел Азии подходил к концу. И Вяземский практически не покидал земель, попавших под власть той или иной европейской короны.
Так и закончилось это почти фантастическое по масштабам путешествие. И было забыто, причем заслуженно. Соверши его человек типа Пашино или Минаева, оно вошло бы во все хрестоматии. Но совершил его спортсмен, который соревновался лишь сам с собой, хоть и не лишен он был искренних движений души и умения находить и оценивать прекрасное, если оно встречалось в пути.
2
А вот другой русский путешественник, побывавший в Бирме в те годы, относился совсем к иному типу людей. И путешествие его интересно с иных позиций, нежели путешествие Вяземского. Это не князь-спортсмен, но — царский дипломат, российский чиновник, следующий к месту своей службы, человек наблюдательный, образованный и весьма критически настроенный к англичанам, хотя вряд ли его можно отнести к числу прогрессивно мыслящих людей. Он воспринимает колониализм вообще как благо для азиатских народов, но к колониализму британскому относится весьма отрицательно, скорее из патриотических, нежели из социальных соображений.
Имя этого дипломата — Григорий де-Воллан, и его путешествие по Азии также пришлось на начало девяностых годов прошлого века. Григорий де-Воллан не только объехал Египет, Индию, Бирму, Индонезию, Сиам, Индокитай, но и оставил интересные заметки об этом путешествии.
Если сравнивать его записки с дневником Вяземского, — а всегда хочется сравнить впечатления людей, увидевших какую-либо страну в одно и то же время, — то кажется, что этих путешественников различает в первую очередь отношение к виденному, обусловленное разными задачами, которые они себе ставили. Вяземский, несмотря на свой титул и средства, всегда оставался просто туристом, де-Воллан был государственным деятелем, представителем правительства, не бог весть каким по чину, но все-таки представителем. Если же сравнивать его, например, с Минаевым, то и здесь мы усмотрим очевидную разницу. Ведь Минаев был типичным русским интеллигентом, сочувствовавшим страданиям Бирмы, ценившим ее цивилизацию и относившимся к стране как лицо объективное и весьма благожелательное. Де-Воллан был продолжателем линии Бирса и Бирчакова, советовавших в свое время погодить с признанием Бирмы, не вмешиваться, отсидеться, не рисковать, не защищать… Правда, за несколько лет, прошедших со дня гибели бирманского королевства, позиции русский дипломатии изменились, и записки де-Воллана, особенно в той их части, которая касается путешествия по Индии, отражают эти перемены. Именно в Индии, центре британской колониальной империи, наиболее ярко были видны антигуманные черты английского колониализма и там более всего ощущалась атмосфера незримого присутствия России, — пугающего для одних и исполненного надежды для других.
Де-Воллан умел смотреть, замечать, умел выразить свои мысли достаточно кратко и толково. Характерны главы его книги, посвященные первой части путешествия — через Египет в Индию, описание парохода, вернее, пассажиров его — англичан, голландцев, французов, немцев, стремившихся в колонии, к славе, богатств власти. Как уже говорилось выше, де-Воллан, оставаясь в принципе сторонником колонизации, оказывается ее противником на практике, так как полагает, что колонизация должна осуществляться для блага азиатских народов, а не для выгоды метрополий. Взгляд этот лишенный связи с реальностью (ибо никто никогда не захватывал другие страны ради их блага), тем не менее оказался благотворным для книги де-Воллана, поскольку, давая примеры «неправильной» колонизации и разоблачая «плохих» колонизаторов, автор неизбежно критиковал колонизацию вообще, вступая в явное, хотя и незаметное для самого себя противоречие с собственной теорией. Его общая позиция довольно четко выражена в следующих фразах: «И не туземным администраторам изменить вековое зло, присущее восточным монархиям. Это могут сделать только европейцы, но, конечно, не те, которыми кишит сейчас Египет (высказывание де-Воллана относится к началу его путешествия, когда он был в Египте. — Авт.). Эти жадные, бесшабашные и беспринципные рыцари наживы должны исчезнуть пред людьми другого нравственного закала, и только благодаря последним Египет узнает, на что способна христианская цивилизация».
Но чем дальше продвигается де-Воллан по азиатским странам, тем меньше остается у него надежд увидеть идеальных рыцарей «христианской цивилизации». Их нет. И неоткуда им взяться.
Вместо них в книге проходят десятки людей — краткие, выразительные портреты, написанные холодной и умелой рукой, портреты реалистические и беспощадные. Портреты ведут к обобщениям, порой скороспелым и противоречивым, порой точным и современным. Вот, например, немецкий торговец и его соотечественники: «Это уже не мечтатели и добродушные ребята, над которыми так смеялись предыдущие поколения. Это пионеры, высматривающие позиции, чтобы в один прекрасный день усесться прочно и воспользоваться наследием других народов… Если делать сравнение, то англичане представляются мне богатым дядюшкой, дрожащим за гнои сокровища, а немцы бодрым и уверенным в своих силах наследником чужого богатства».
В другом месте книги, заканчивая большой рассказ и путешествии по Индии, де-Воллан приводит спор между двумя англичанами. Один из них ратует за то, чтобы вообще не пускать в Индию туристов, даже английских, ибо по возвращении домой они пишут не то, что хотелось бы увидеть англичанам в колониях. Другой англичанин, возражая ему, говорит слова, которыми де-Воллан завершает описание Индии: «Англия — первая грабительница в мире… нам довериться нельзя. Сначала мы явимся торговать, займем кусочек земли, и затем пойдут недоразумения и мы прибегаем к силе. Так было в Индии. Так теперь в Бирме. Чем виноват бедный Тибау, бирманский король? За что мы лишили его наследственных владений? За что? За то, что нам не было позволено торговать в Бирме. А чем это кончилось — присоединением громадной территории. А вы еще говорите о нравственности…» И де-Воллан, комментируя эти слова, с которыми полностью согласен, вынужден заметить: «Эти люди составляют меньшинство. Большинство, наоборот… дружно стоят против всякой меры, которая могла бы удовлетворить туземцев».
Возвращаясь к этой мысли уже во время пребывания в Малайе, де-Воллан пишет: «Англичанин в припадке игривости мазнул своей ложкой по лицу китайца, прислуживавшего нам за столом. Надо было после этой милой шутки видеть обиженное лицо китайца, покрасневшего до корней волос. Вообще англичане на Востоке не церемонятся с туземцами и очень часто прибегают к пинкам и палке. Такое обращение не может нравиться туземцам. Если подумаешь, что англичан в Пенанге какая-нибудь горсть, то просто страшно за них делается».
Дальше к востоку де-Воллан столкнулся и с колонизаторами-голландцами. Вот идет званый обед на Яве. «Сервировка роскошная, обилие цветов, тонкого хрусталя, фарфора, серебра… тут опять повторили, что туземцы не должны говорить по-голландски. Это нужно для престижа. Если малаец выучится по-голландски, оденет сапоги, он почувствует себя таким же человеком, как и его господин. Это наши рабы, пояснила очень полная дама, которая задыхалась в корсете. — Не рабы, — поправил ее муж, — а люди низшей расы, которых следует держать на почтительной дистанции.
— Да и что говорить, — сказал один из гостей, в городах престиж исчезает! Надо поехать в глубь страны, чтобы увидеть, какой ореол окружает белого; туземец при виде европейца приседает на корточки и отворачивает от него свое лицо, показывая, что он, недостойный раб, не может смотреть на такую важную персону. А в Батавии (нынешняя Джакарта. — Авт.) где туземцы видят европейскую голь и зачастую пьяных матросов, почтение к европейцу исчезает. Исчезнет престиж, исчезнет и наша власть. Ведь власть наша держится на ниточке. Подумайте, двадцать миллионов и горсть европейцев!»
Можно отыскать в книге де-Воллана и критические замечания по адресу колонизаторов-французов, хотя следует отметить, что, возможно в силу своего происхождения, де-Воллан относится к французским колонизаторам не в пример мягче, чем к прочим, полагая, в частности, что они куда более демократичны и куда менее подвержены расистским настроениям.
В книге де-Воллана большое место занимают описания архитектуры, обычаев, искусства, религии, фольклора стран, в которых он побывал. Не гнушается он и сухих цифр, когда речь заходит об экономике. И все-гаки более всего его занимают проблемы современности — кастовые, религиозные, социальные — такие, например, как судьба метисов в английских и португальских колониях. Он любит поговорить со случайным собеседником в поезде, на пароходе, в гостинице и (правда, прося за это извинения у торопливого читателя) подробно передает эти разговоры, интересные живыми деталями и яркими характеристиками попутчиков, отчего картина жизни азиатских стран становится живой и непосредственной.
Любопытно, что де-Воллан находит теплые слова по отношению к национальным героям азиатских стран. Надо сказать, — пишет он, к примеру, — что Танджор еще недавно принадлежал одному из потомков Сивараджи Сиваджи, этого Ильи Муромца индусов, славного вождя маратхов и основателя одного из могущественных государств в Индии».
В Рангун де-Воллан попал из Калькутты. Остановка была не очень длительной, всего несколько дней. «Сюда редко заглядывают путешественники, — размышляет де-Воллан, — и мне хотелось бы посвятить Бирме больше времени, поехать в Мандалай — столицу Верхней Бирмы, оттуда на китайскую границу, но от такого заманчивого знакомства с новою страною надо отказаться. Впереди еще далекий путь на Яву, Китай и другие интересные места». А жаль. Побудь де-Воллан в Бирме подольше, увидь он здесь районы, лишь недавно покоренные англичанами и не лишившиеся еще многих, уже утерянных в Рангуне национальных черт, мы имели бы важное свидетельство наблюдательного очевидца о Бирме конца прошлого века.
Как всегда, еще на пароходе де-Воллан достает и прочитывает все, что может узнать о истории и особенностях страны, в которую намерен попасть. Так и теперь: он излагает в своей книге историю Бирмы, а затем, когда письменные источники информации исчерпаны, принимается за изучение попутчиков.
«Интересного на пароходе мало, публика несимпатичная. Всё молодые полицейские, едущие просвещай новый край и водворять в нем порядок. Посмотришь ни одного — ему лет двадцать, а он уже получает несколько сот рупий в месяц. Это не исключение, а скорее общее правило. Послушаешь этих господ и убедишься, что такое крупное жалованье — сущий пустяк в сравнении с крупными кушами, которые получают высшие чиновники… все это возьмется с населения покоренной провинции».
Де-Воллан наблюдает за молодыми хозяевами Бирмы с заинтересованностью биолога. И коллективный портрет, нарисованный им, настолько выразителен, что стоит того, чтобы привести его целиком: «Будущие администраторы — бодрый, веселый народ, любители спорта, поглощающие умеренное количество брэнди с содой, поклонники комфорта, во время обеда не отказывают себе в бутылочке холодненького. Шовинисты они страшные, патриоты самой чистой воды. Русских хотели бы изжарить и уничтожить вконец, но это не мешает им быть очень порядочными людьми. Посмотришь на них и подумаешь, как они не похожи на нашу молодежь; всё это практики, здравого смысла много, но идей очень мало, порывов, колебаний тоже не имеется, а есть одна торная дорожка, с которой они не собьются. Все они обзаведутся семьей, воспитают детей в том же духе добропорядочности, джентельменства, приучат их к труду, к исполнению долга, но не знаю, согласитесь ли вы со мной, — в таком обществе очень скучно и тоскливо».
Лишь два маленьких разъяснения стоит сделать к этому портрету. Слово «патриот» в те годы в русском языке имело несколько иной, чем сейчас, оттенок, употребляясь чаще всего в значении «ура-патриот». И второе слово, «порядочность», также не совсем совпадало по значению с сегодняшним: оно относилось скорее к хорошему воспитанию, манерам и следованию правилам хорошего тона.
Часть своего рассказа де-Воллан посвятил Рангуну — быстрому развитию этого колониального центра, его хозяйству, экономике и социальным отношениям в нем. Он оставил яркое, красочное описание пагоды Шведагон, рассказал про обычаи бирманцев, нарисовал уличные картинки. Его заинтересовала проблема просвещения в Бирме. «Не надо думать, — говорит он, — что страна погрязла в невежестве. Напротив, туземных школ очень много в Бирме, и в Бирме, как мне говорили, редко встретишь неграмотного».
Но тут же неприятная черта резанула глаз. «На станции мне выдали рукописный билет. Новость: на некоторых вагонах красуется надпись: «Только для европейцев». Туземцы, значит, и здесь должны знать свое место».
Глядя в окно неспешного поезда, отмечая все — и как обрабатывают поля, и как живут крестьяне, — де-Воллан вспоминает разговор с богатым индийским помещиком в Рангуне. Разговор он вспоминает не без иронии — не в пользу индуса: «Взять бы хоть коров, говорит индус, бирманец даже не умеет доить их. Он ест мясо, всякую гадость и не гнушается даже змеями. О кастах нет и помину, и женщины работают в поле голые по самый пояс. А затем, статочное ли дело, туземец садится обедать с женой из одного блюда, тогда как в Индии жена подождет, пока муж кончит обед, и тогда поест из другого блюда…»
На станции в Пегу де-Воллану повезло. Пока он в растерянности оглядывался, разыскивая кого-нибудь, кто говорил бы по-английски, к нему подошел человек, оказавшийся местным врачом. Он был метисом, англо-бирманцем, и принадлежал таким образом к той неустроенной и страдающей прослойке колониального общества, о которой де-Воллан много рассуждал, будучи и Индии. Метисы не были приняты в английском обществе и довольствовались в нем вторыми ролями. Одновременно их не признавали те, к кому они сами часто относились свысока, — коренные индийцы или бирманцы. Вот и оказывались метисы обособленной, неполноценной группой.
Врач пригласил русского путешественника к себе. По дороге они зашли в госпиталь, где работал врач: ему надо было осмотреть пациента. Пациентом оказался раненый дакойт, которого захватили в плен в бою. (Обратите внимание: идут девяностые годы, а партизанское движение еще далеко не подавлено.) «Бедняга, — сказал неожиданно доктор, осматривая избитого, израненного дакойта, — как они его обработали, околыш у него ран, да и то сказать — это ужасный народ, живым не дастся в руки англичан. Англичане называют их разбойниками, но в сущности это защитники отечества, ведущие партизанскую войну с англичанами».
Потом де-Воллан возвращается к вопросу о дакойтах и пытается обобщить все, что слышал о них. При этом получается двойственная картина, потому что, с одной стороны, как ни говори, де-Воллан был сторонником «законности и порядка», но, с другой стороны, человеком достаточно объективным, чтобы понять истинную сущность дакойтов. Он пишет о том, что «с дакойтами и разными неудобствами нынешнего положении англичане справятся очень скоро и страна вознаградит их сторицей за потраченный труд» (не надо понимать де-Воллана в том смысле, что Бирма будет благодарить англичанам, — нет, как раз перед этим он много пишет о богатствах Бирмы, которые эксплуатируют англичане, и о неудобствах в вывозе их, чинимых дакойтами; де-Воллан хочет сказать тем самым, что англичане от усмирения Бирмы получат материальные выгоды). Но наряду с этим де-Воллан пишет, что дакойты — «народные войска» и «мстители за короля», т. е. никак не согласен признать их разбойниками и грабителями согласно официальной английской версии, утверждающей, что в стране давно уже достигнут порядок и полное умиротворение.
Узнал де-Воллан многое и о захвате англичанами Мандалая в 1885 году. Его рассказ об этом никак ни прибавляет колонизаторам лавров. Он говорит о том, как город и дворец были преданы грабежу, как «масса драгоценностей, золотых статуй, редких вещей, книг и рукописей очутилось в руках солдат и простой челяди и продавалось ими за бесценок».
Вернувшись в Рангун и проведя там еще несколько дней, де-Воллан направился дальше — в Китай, Малайю, Индокитай, Индонезию.
3
Если русские путешественники бывали в Бирме на рубеже нашего века, то они не оставили о том сообщений. Ближайшее российское консульство было в Сингапуре, англичане не любили допускать в Бирму русских, и поэтому Бирма исчезает практически даже из дипломатической переписки. Она — провинция Британской Индии, причем провинция глухая, малодоступная. Если же туда, в Моулмейн или в Рангун, и заходили за тиком или рисом русские корабли, то их моряки обычно не вели дневников и не писали книг.
Вопрос об учреждении русского консульства в Рангуне в XIX веке так и не был решен. Только на самом пороге XX века, в 1899 году, Англия дала понять, что не будет возражать против открытия консульских пунктов России в Бомбее и Рангуне, если будут учреждены английские консульства в Иркутске и Самарканде. Было ясно, что Англия добивается для себя наибольшей выгоды, и царское правительство не стало настаивать на консульстве в Рангуне, где очень редко показывались корабли с русским флагом.
После русско-японской войны и первой русской революции 1905–1907 годов наступило потепление в англо-русских отношениях. Родилась Антанта. Надвигалась мировая война.
Мы не знаем, посетил ли какой-нибудь русский Бирму в первом десятилетии нашего века. Нам лишь известно, что в 1911 году там побывали русский генеральный консул в Калькутте Б. К. Арсеньев и генерал-лейтенант Н. С. Ермолов, сменивший генерала Горлова в Лондоне. Поездка в Бирму была для них служебной командировкой. Дело в том, что Англия находилась на волосок от войны с Китаем и война могла начаться именно здесь, на бирмано-китайской границе. Неизвестно, чем бы кончился англо-китайский конфликт, если бы не революция в самом Китае.
Арсеньев приехал в Рангун в самом начале 1911 гола и за короткое время успел съездить в Мандалай и многое увидеть. Он выявил и то, что в рядах китайской армии у границ Бирмы есть «японские офицеры с косами», и то, что Англия сосредоточивает свои силы в районе Мьитчины. Но самое главное его наблюдение Заключалось в том, что к англичанам были враждебно настроены качины, шаны и другие горные народности Бирмы. Арсеньев пришел к выводу о непрочности британской власти во всей Бирме, и в его донесении и министерство иностранных дел России 17 февраля (2 марта) 1911 года мы читаем, что «в стране мирных и кротких бирманцев, которыми англичанам до сих пор было так легко управлять, началось брожение умов, иногда принимающее форму серьезных народных волнений». Арсеньев был свидетелем того, как всего в 40 милях к западу от Мандалая жители целого обширного округа «отказались повиноваться английской власти, разогнали полицейские патрули и провозгласили своим королем главного руководителя движения». Восстание было подавлено, когда из Мандалая прибыли английские войска. Арсеньев был удивлен тогда тем, что «англо-индийская печать — добровольно или по принуждению ни одним словом не обмолвилась об этом факте, красноречиво свидетельствующем об опасном ослаблении британского авторитета в провинции, где вчера еще он казался утвержденным прочнее, чем где бы то ни было в Индийской империи».
Генерал Ермолов был в Бирме летом 1911 году и посетил северные районы страны, останавливаясь в Мандалае, Мьитчине и Бамо. Он также убедился в непрочности английских позиций в районах, населенных качинами и шанами, и даже считал целесообразным предоставить кашинам автономию. Мы здесь вспомнили донесения Ермолова и потому, что они представляют исключительную ценность для исследователей антианглийского движения горных народностей Бирмы, свидетельствуя о том, что спустя много лет после официального присоединения Бирмы к британским владениям в Индии антиколониальное движение не прекратилось. И позднее, уже накануне первой мировой войны, в донесении министерству иностранных дел России от 12(25) апреля 1913 года из Симлы русский дипломат Набоков писал, что в Качинском крае «еще очень далеко до умиротворения и фактического водворения власти англичан».
С иных позиций описывал Бирму последний русский путешественник, побывавший там до начала первой мировой войны. Он не был востоковедом, как Минаев или Пашино, не был и знающим скрытые пружины колониальной политики дипломатом, как де-Воллан. Это был молодой геолог Александр Жирмунский.
В 1911–1912 годах Жирмунский совершил путешествие по Азии, побывав в Японии, Бирме, Индии и Египте. Геологу не хотелось быть рядовым туристом — его интересовала проблема возрождения Азии. Сам он ее сформулировал следующим образом: «Азия далеко еще не сказала своего последнего слова. Характерно, что ни одна азиатская страна не покорилась европейцам вполне и что между азиатскими народами замечается редкое единодушие в стремлении к возрождению и вытеснению европейцев». Подобное высказывание, подобная установка перед путешествием могла родиться уже только в начале нашего века.
Именно с этих позиций благожелательного отношения к национальному возрождению Азии Жирмунский пытался подойти к описанию виденных им стран. Но, к сожалению, его молодость и оторванность от проблем изучения Азии привели к тому, что, рассказывая о Бирме, он искренне считал себя первооткрывателем. «Я отвожу сравнительно много места Бирме отчасти потому, — писал он, — что в русской литературе, насколько я знаю, не было еще непереводных описаний ее». Впрочем, вряд ли можно винить путешественника в незнании трудов Минаева, Пашино, де-Воллана и других: ведь дневники Минаева и Вяземского не были опубликованы, статьи Пашино затерялись на страницах газет, та же судьба была уготована очеркам Дмитриева и других путешественников. Жирмунский и познакомился с переводными и английскими трудами по Бирме и постарался дать читателям как можно более полную и объективную картину этой страны.
Нет нужды еще раз повторять, что Жирмунский, как в его предшественники, был быстро очарован Бирмой — в ее красотой, и ее народом. И нет нужды повторять, что он вскоре проникся антиколониальными настроениями, ибо в Бирме, как нигде, ощущалась ненормальность, неестественность управления этой страной пришедшими сюда европейцами.
«Приехав в Бирму для ознакомления со страной и народом, я, конечно, всего охотнее поселился бы именно среди этого народа. Но на месте убеждаешься в наивности подобных желаний. Англичане в своих азиатских владениях поставили себя так по отношению к туземцам, что последние, хотя и беспрекословно повинуются им во всем, ненавидят их как своих врагов в угнетателей. Причиной этому не столько материальный, — сколько нравственный гнет. Англичанин в Азии обычно считает себя неизмеримо выше туземца и выказывает это ему при каждом удобном случае. Туземец не имеет возможности по своему правовому положению отвечать тем же, но в его взгляде, когда он смотрит на белого, чувствуется многовековая обида…»
Жирмунский был вынужден остановиться в английской семье, остаться в «мире белых», как ни печалью это было. И в результате он, при всей своей добросовестности, упустил некоторые детали, которые понял бы совершенно иначе, имей в качестве проводника по Бирме местного жителя. Характерно, например, что, подробно описывая бирманские пагоды, рассказывая о религии и архитектуре бирманцев, Жирмунский подмечает: «Бирманцы настолько веротерпимы, что допускают белых в свои храмы, даже в обуви, в то время как сами всегда ходят босые». А ведь как раз в эти дни Бирма бурлила, оживленно обсуждая именно «башмачный вопрос»: то, что европейцы входят в бирманские пагоды не снимая обуви, оскорбляло бирманцев, было для них лишним напоминанием об их рабском состоянии. Пройдет несколько лет, бирманцы добьются отмены этой позорной привилегии для европейцев, и это будет один из первых побед национально-освободительного движения в Бирме.
Но, вернее всего, эта буря не затрагивала спокойной глади чиновничьего дома, где жил Жирмунский. Английский колониальный мирок в Бирме к этому времени уже установился, оброс традициями, замкнулся в себе, а национальная борьба была еще приглушена и не видна приезжему, не имевшему ни знакомых, ни связей, ни специальных знаний, позволяющих свободно общаться с бирманцами. И русский геолог, столь ярко и подробно рассказывающий об архитектуре и религии, о скульптурах и художниках, о природе Бирмы, становится лишь посторонним наблюдателем, когда сталкивается с социальной действительностью. Тем не менее видит он значительно больше, чем привыкший к порядкам колониальной империи англичанин. «Поезд, — пишет Жирманский, вторя де-Воллану и Вяземскому, — как обычно содержит великолепные вагоны 1 и 2 класса для англичан и грязные, решетчатые, маленькие вагоны для туземцев, к тому же битком набивающих их». Дискриминация, скрытая в других местах, но очевидная на железной дороге, сразу бросалась в глаза русским путешественникам. Она была дика для их глаза, она напоминала о том, что бирманцы низведены на положение людей второго сорта». И, несмотря на определенную «идеологическую обработку» гостя, которую провели его английские хозяева, Жирмунский после путешествия по Бирме смог сказать с уверенностью: «Теперь же, — увы! эти богатства высасываются англичанами, отправляющими их к себе на родину. Англия освободила бирманский народ от исключительной тирании ее царей (о тирании Тибо Жирмунский, конечно же, слышал от англичан. — Авт.), но зато прильнула к самому сердцу Бирмы и пьет ее кровь».
Жирмунскому удалось побывать в бирманских джунглях и даже отправиться на охоту с местным торговцем шкурами диких зверей. Он оставил нам единственное, пожалуй, в русской литературе описание бирманского леса и животного мира. Затем путешествие привело геолога в мертвый город Сагайн — бывшую столицу Бирмы, оставленную жителями (современный город того же названия построен несколько в стороне от руин столицы).
«Дальше, дальше, в глубь страны…»
Поезд останавливается на маленьких станциях, Жирмунский выходит на тихие перроны, над которыми нависают кроны манговых деревьев, бродит по улицам бирманских городков и деревень и старается понять, разобраться и передать будущему читателю все очарование и полноту бирманской жизни. И опять — как только Жирмунский описывает то, что видел, и делает обобщения и заключения именно на основе этого, его наблюдения и выводы интересны и даже сегодня не потеряли своего значения. Но порой вдруг слышишь голос англичанина, разъясняющий этому наивному русскому, что к чему.
«У этой женщины было белое лицо — совершенно белое, точно маска клоуна. Это объясняется привычкой бирманок употреблять едкую пудру таннака из тертого сандалового дерева, обладающую сильным и приятным ароматом, но сильно портящую кожу на лице». Конечно, относительно пудры просветила его англичанка. Не могла же она признать, что пудра таннака, столь некрасиво для ее европейского глаза ложащаяся толстым слоем на лица бирманок, на самом деле смягчает кожу и уничтожает морщины — лица даже пожилых бирманок гладкие, молодые.
Англичане рассказывали Жирмунскому и о покорении Бирмы. Если бы он побывал в ней вместе с де-Волланом, он, конечно бы, скептически встретил рассказ такого рода: «Вместо того чтобы отстаивать свою независимость, бирманцы, наоборот, радушно встретили английские войска, давали им приют в монастырях и поставляли необходимое продовольствие. Объясняется это тем, что простой народ в Бирме исстари строго соблюдает заповеди Будды, который запрещает убивать людей, вести войны и вообще обижать иностранцев, а придворные круги были заняты в это время распрями из-за порядка престолонаследия».
Но чем дольше путешествует Жирмунский по Бирме (а он пробыл там долго и объехал многие города, стараясь как можно больше узнать о жизни страны), тем реже он берет на веру рассказы англичан, тем теплее он относится к бирманцам, тем более восхищается он красотой бирманского искусства, преклоняется перед замечательным прошлым страны и душой ее народа. Он случайно попадает на праздник в монастыре среди развалин другой древней столицы — Амарапуры. И уходя с праздника, не может удержаться от восклицания: «Щедрости и великодушию бирманцев нет пределов».
Специальные главы в книге Жирмунского посвящены бирманскому театру, который произвел на него большое впечатление. Он подробно рассказывает о представлениях, на которых побывал, сравнивает театр в Бирме с китайским и находит образные выразительные слова для того, чтобы передать свои впечатления. «Здесь были хорошо. Беспрерывным потоком, все удалее, все беззаботнее лилась веселая песня; вот мелкие барабанчики и флейты перекликаются на разные лады, точно птицы в лесу, потом дружно начинают подъем, экстатически завершаемый гонгами и большими барабанами… Весело смотреть на бирманцев во время представления…»
Много рассказывает Жирмунский и о положении женщины в Бирме. И это понятно: ведь Жирмунский был первым русским путешественником, который приехал в Бирму с целью изучить ее в комплексе и жил там, не ограничивая себя какой-нибудь одной темой, а более детально описывая те стороны бирманской жизни, которые произвели на него наибольшее впечатление. К их числу относится и вопрос об особенном, почти уникальном в Азии положении женщин в этой стране.
Еще де-Воллан приводил слова недовольного бирманцами индуса о том, что бирманская женщина осмеливается есть с мужем из одной чашки. Жирмунский не пожалел времени, чтобы составить как можно более полное представление о роли женщины в бирманском обществе; наблюдения и сведения, сообщаемые им, и основном точны и представляют большую историческую и этнографическую ценность. Он сообщает и о том, что бирманский закон не признает правовых различий между мужчиной и женщиной, и о том, что «по отношению к женитьбе, наследству, частной собственности, а также в уголовных и бракоразводных делах обе стороны считаются совершенно равными». Данные, почерпнутые в литературе и из расспросов, он дополняет своими собственными наблюдениями. И как бы опасаясь, что ревнители подчиненного положения женщины на родине, в России, с опаской примут гимн эмансипации, звучащий в его записках, он отвечает на возможные возражения: «Лишена ли бирманка той тонкой женственности, в погоне за которой наши антифеминисты готовы бросить женщину в темницу духовного рабства? Безусловно, бирманка не то тепличное растение… рассыпающееся от неосторожного прикосновения. Каждая бирманка богата жизненным опытом, вполне самостоятельна, имеет собственную инициативу… в то же время в бирманке… нельзя отрицать бесспорного тонкого изящества».
Здесь Жирмунский покинул чисто бирманскую почву — Россия, откуда он приехал, была в этом отношении далеко не идеальной страной. Рассуждая о Бирме, он не мог забывать о своей родине, где женщины были лишены многих прав. И так уж получилось, что последняя глава нашей книги начнется именно с этой проблемы, с положения женщины в России.
Покидая Бирму, Жирмунский не скрывал любви к ее народу. И последние слова его как бы подытоживают все, что написал и сказал он за недели, проведенные там: «Стесненное положение Бирмы среди Сиама, Китая и Индии под игом англичан наложило сильную печать на ее быт. Но в чувстве бирманец… остался свободным… Бирманец не признает никаких стеснения. «Легко прийти, легко и уйти» — его любимая поговорка. Он делает лишь то, что считает сам необходимым, убежден, что каждый поступает так же, и потому он когда не вмешивается в посторонние занятия. Но, если вы к нему обратитесь за помощью, он проявляет необычайное гостеприимство, готов отдать все, что имеет. Поэтому нигде странник не чувствует себя так хорошо, как в Бирме».
4
Александр Жирмунский был последним русским путешественником, заставшим «классическую» колониальную Бирму. Надвигалась первая мировая война, которая должна была расшатать здание колониализма. Первые бирманские национальные организации, вначале такие робкие и законопослушные, уже перед войной приобрели силу, и путь от «башмачного вопроса» к требованию независимости, который они проделали всего за несколько лет, показался уверенным в непоколебимости своего господства англичанам до удивления коротким. Известие о победе Октябрьской революции в России, добравшись до Бирмы, способствовало зарождению первых ростков социалистического учения. Объединение национально-освободительного движения с социалистической идеологией и стало той силой, которая перевела в новое качество борьбу бирманцев за национальны освобождение и позднее привела его к победе.
Опасность Великой Октябрьской социалистической революции была в должной мере оценена колониальной администрацией. С 1917 года любой путешественник из России становится персоной нон-грата в английских владениях. Он источник заразной и опасной для существующего порядка вещей болезни. Его никак нельзя допускать в отверженный, «туземный» мир, о котором писал Жирмунский.
Но так получилось, что последние русские путешественники, покинувшие Россию еще до начала первой мировой войны, добрались до Бирмы уже в переломный момент. Один из них жил в Бирме перед самой революцией и вернулся оттуда уже после ее победы. Двое других попали туда в 1918 году. И первый и вторые были людьми удивительной судьбы и редкого таланта. Рассказ о них кажется порой приключенческим романом, порой трагедией. Рассказы о них — это повествование о двух одиссеях, начало которых лежит в одной эпохе, завершение — в другой. Это рассказы о людях, уехавших из царской России и вернувшихся в Россию Советскую.
РАССКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ
НАСТОЯЩАЯ РАДУГА
Я понял трагедию человека, который мечтает, чтобы люди любили друг друга, но не может осуществить свою мечту… Я тоже был мечтателем, но я желаю автору не расставаться со своей детской, прекрасной мечтой. И призываю читателей войти в эту мечту, увидеть настоящую радугу…
Лу Синь
1
В теином углу маленькой камеры полицейского участка, сидя на корточках, он быстро, наощупь перебирал свои вещи и говорил негромко.
«Это отдайте кому-нибудь, это мне не нужно… А это я возьму с собой в Россию…»
Он говорил по-японски почти без акцента, и офицер все понимал. Офицер возвышался над ним неподвижно, лишь рука с короткой палкой, казалось, жила отдельно от всего тела. Конец палки постукивал по согнутой спине арестованного. Сам начальник полиции Кавамура-сан приказал завершить высылку как можно скорей. Кавамура опасался беспорядков.
Беспорядков не было. Только приходили какие-то молодые люди, приносили в узелках передачи. Но офицер их прогнал.
«Не умрет».
В этот же вечер известный писатель Эгуту Кнеси спеша поспеть к утренней газете, записывал по памяти последнюю речь арестованного. Тот произнес ее на собрании Социалистической лиги: «Говорят: раз исчезают крысы, значит в доме пожар. Но на самом деле крысы потому и покидают дом, что в нем пожар. Говорят: муравьи бегут с плотины — быть наводнению. По потому-то муравьи и бегут с плотины, что началось наводнение. Люди, отставшие от жизни, говорят: социалисты и рабочие бунтуют — значит мир стал плох. А на самом деле потому и бунтуют рабочие и социалисты, что мир плох…»
Василий Ерошенко надеялся, что друзья придут проводить его. Но лишь двое из них — корреспондент газеты «Асахи Симбун» и преподаватель Коммерческой школы — решились прийти на пристань. Да и они повторяли: «Тише! Полицейский услышит! Не возмущайтесь!» Они поддерживали Ерошенко под руки, чтобы он не споткнулся обо что-нибудь. Полицейский, шедший впереди, нес в руках тонкую пачку бумаг — документы Ерошенко и билет третьего класса.
В третьем классе нечем было дышать. Ерошенко казалось, что его засунули в еще не остывшую топку. Может быть, он еще надеялся, что друзья придут на пристань, и потому попросил разрешения выйти на палубу.
Полицейский поднялся за Ерошенко и его спутниками на палубу. На палубе тоже было душно. Третий свисток. Над трубой «Ходзан-мару» поднялся столб пара. Журналист и учитель прощались.
«Стоя у поручней, я до последней минуты надеялся, что кто-нибудь приедет со мной проститься. Но напрасно… Никто так и не приехал… Быть может, они не смогли, а быть может, решили, что не стоит приезжать прощаться… Я сдерживал слезы».
Он знал, что вряд ли когда-нибудь вернется сюда.
«Когда-то Япония казалась мне чужой и далекой. Но после стольких лет, проведенных там, она стала мне почти так же близка, как Россия. И вот сегодня меня выслали из этой страны. Мне пришлось навсегда расстаться, даже не простившись, с друзьями, которые были для меня словно братья».
Полицейский, который должен был сопровождать особо опасного преступника до самого Владивостока, проводил Ерошенко до койки в третьем классе, улегся рядом и тут же заснул.
А Ерошенко не спал. Положение его было из рук вон плохо. В коридоре шумели пьяные голоса, разыскивали какого-то Петю. «Ходзан-мару» была похожа на Ноев ковчег.
Ерошенко попытался вытянуться на короткой койке. Конечно, если бы не было полицейского с документами, может быть, все бы и обошлось. Но полицейский сдаст его с рук на руки в порту. Нет, недаром друзья так бились за его освобождение. Во Владивосток ехать очень опасно.
А ведь еще недавно путешествие во Владивосток было мечтой. Он даже собирался, как закончит дела, отправиться туда на собственные деньги. Но дела все не кончались. То заседание в журнале «Танэмаку хито» («Сеятель»), то учредительное собрание Социалистической лиги, то надо выступать перед студентами. Ведь для многих он — представитель русской революции. И значение его — он отлично отдавал себе в этом отчет — удесятерялось именно оттого, что за неширокой полосой моря шла война за социализм.
И надо же было так случиться, что всего за несколько недель до высылки Ерошенко во Владивостоке произошел белогвардейский переворот. Вести оттуда полны ужасных рассказов о терроре, о семеновцах, каппелевцах, о правительстве Меркулова, о том, что Владивосток становится постепенно японской колонией.
И в том, что его выслали, чудилась иезуитская насмешка. Большевистского агента — а именно так называли его на допросах в полицейском участке после того, как Социалистическая лига была запрещена и ее основатели оказались в тюрьме, — большевистского агента отправляли во Владивосток, попавший в руки к смертельным врагам большевиков. А там уж сами разберутся, что с ним делать.
На пароходе во Владивосток спешили офицеры сбежавшие в Японию от большевиков, спешили купцы заблаговременно переведшие в Токио свои капиталы ехали просто случайные люди, либералы, осевшие в Гонконге, пока не выяснится, чьей же победой кончится гражданская война…
Ерошенко проснулся. В большой каюте третью о класса собрались люди. Он чувствовал, что они смотрят на него.
Ерошенко приподнялся на локте.
— Что вам нужно?
— Прости, товарищ, — услышал он голос. — Мы видели, как тебя под конвоем этого вот фараона на борт привели. Хотим поговорить.
— Хорошо, — улыбнулся Ерошенко и пригладил пышные золотые кудри. — Хорошо, поговорим.
— Скажи, за что тебя взяли? Ты агитировал?
— А может, революцию готовил?
— За какие такие дела немощного из Японии выслали?
— Может, тебя на расправу во Владивосток везут?
Ерошенко опустил ноги на чуть дрожащий, теплый пол. Нащупал рукой гитару. Гитара на месте.
— Давайте сначала выясним, кто вы такие будете.
— Рабочие мы, двадцать человек нас, с детьми, женами.
— Из Америки едем.
— Еще до революции туда попали.
— Мы все в ИРМ состоим. Знаешь?
— Знаю. Индустриальные рабочие мира.
— Правильно. И в тюрьмах сидели, а вот Нижинский шесть лет на каторге протрубил. А как узнали о революции у нас, стали домой собираться. Да вот видишь, пока собирались, опоздали. Попадем теперь к белякам в лапы.
— А вдруг наши к нам пробьются?
— Должно же во Владике подполье оставаться. Не может быть, чтобы японцам город отдали.
— Все ясно, — сказал Ерошенко. — Значит, и вы во Владивосток едете не с легким сердцем.
— Куда уж там. Если бы не мытарства в Японии, лучше бы уж переждать. Но мы решили, все к нашим ближе.
— А я никаких великих дел не совершал, — сказал тогда Ерошенко.
— Ну уж.
— Серьезно. Те, кто меня выслал, сделали, наверно, глупость. Да и испугались они не меня, а влияния, которое наша революция оказывает на Японию. Я состоял и Социалистической лиге, пел со сцены русские песни о свободе, писал книги и статьи, выступал с докладами о русской революции — за все это меня и выслали.
Ерошенко говорил не все. Приходилось быть острожным: среди рабочих могли оказаться и провокаторы. И, чувствуя какую-то недоговоренность, рабочие оставили расспросы. Не хочет человек всего говорить — не надо. Такое уж опасное время. Наверно, его уже поджидают во Владивостоке — недаром полиция японская не пожалела сержанта, чтобы арестант не сбежал по дороге. Хотя куда сбежишь?
Нестарый еще, красивый человек с золотыми кудрями протянул руку за спину, достал из чехла гитару, провел пальцем по струнам — проверить, не расстроилась ли. И запел глубоким, сочным голосом: «Степь да степь кругом…»
Кто-то из рабочих подхватил. Вскоре хор дружно и старательно выводил старую, грустную песню.
Ерошенко немного склонил голову набок, стараясь разобраться в переплетении голосов. Он давно уже привык наделять голоса внешностью и редко ошибался
2
Когда Васе Ерошенко было четыре года, он заболел корью. Церковь в селе Обуховке Белгородской губернии была далеко от их дома, но все-таки набожная тетка не испугалась ни зимней метели, ни отчаянного рева мальчишки, ни страха его матери. Она сильно надеялась, что бог мальчишку не оставит: ведь безгрешен парень. И решила отнести его в церковь, пусть помолится батюшка за здоровье младенца.
Батюшка молился в спешке, морщился, когда мальчишка заходился в реве. Потом махнул рукой — иди. Дома Васе стало хуже. Он совсем окоченел на ветру и в нетопленой церкви. Началось осложнение. И он ослеп.
С тех пор он не верил в бога, не любил попов и церкви, будь они христианские или какие бы то ни было иные.
Через много лет Ерошенко рассказывал одному из своих учеников, который ослеп на войне, в танке, и в отчаянии думал, что жизнь его кончилась: «Вам лучше. Вы всё помните. Я же смутно помню всего четыре вещи: небо, голубей, церковь, на которой они жили, и лицо матери. Не слишком много. Но и это всегда вдохновляло и вдохновляет меня на поиски чистых как небо мыслей и заставляет всегда мыслить о Родине, как о лице моей матери, в какой бы уголок Земли ни бродила меня судьба».
У него была удивительная, своеобразная манера говорить и писать. Сегодня она кажется чуть упрощенной и сентиментальной и немного менторской. Иногда кажется, что все им написанное переведено с восточных языков. Он ближе любого другого русского писателя по стилю к современной восточной прозе. Может быть, поэтому Ерошенко всегда был очень популярен в Японии, его книги неоднократно издавались в Китае, но в России он так и не стал известен.
И когда журналист Р. Белоусов, открывший для нас Василия Яковлевича Ерошенко так же, как Е. И. Гневушева открыла Пашино, занимался своим тяжким и благодарным делом, когда он писал и получал письма со всех концов нашей страны и из других стран, когда отыскивал в библиотеках забытые сборники Ерошенко и в журналах заметки о нем, он обнаружил, что Ерощенко сегодня объективно скорее писатель японский и китайский, нежели русский. Это тем более удивительно, что в Японии он провел в общей сложности менее пяти лет и куда меньше этого в Китае.
Очевидно, чувствовал это и сам Ерошенко. Иначе чем можно объяснить то, что за тридцать лет в Советском Союзе, за тридцать рабочих, трудовых, активных лет он написал так мало и еще менее публиковался. Нельзя тут ссылаться на невнимание редакций или на недостаточность таланта писателя. Просто, видимо, жизнь Ерошенко делится на несколько весьма различных этапов, из которых этап «японский» — это этап писательский. А годы, проведенные на родине, полностью посвящены просветительской, преподавательской деятельности.
Так и получилось, что в пятидесятые годы, когда началось открытие его для русских читателей, он казался же классиком — современником Короленко и Чехова. И поиски его биографии, начавшиеся в Японии и Китае, привели вновь к селу Обуховке, где начался и где закончился его жизненный путь. Обнаружилось, что совсем недавно, всего за пять лет до начала поисков, в Обуховке умер большой педагог и просветитель, воспитатель и даже духовный спаситель сотен людей, с его помощью нашедших свое место в жизни. Оказалось, что Ерошенко — наш современник.
Узнать об этом было грустно. Жизнь Ерошенко была нелегкой, связанной со многими разочарованиями и потерями. И живущие сейчас среди нас люди, писавшие о нем, часто не подозревали, что сдержанный, мудрый и всезнающий учитель и наставник был известен в других странах как крупный писатель, как революционер и поэт.
Сам Ерошенко мало кому говорил о своем прошлом. Он был очень скромен. Он не ценил своего литературного дара и к тому же, скорее всего, и не подозревал, что его книги переиздаются в Японии и что в докладах о начинателях социалистического движения в Японии упоминается среди первых его имя.
Ну что бы лет на пять раньше обратить внимание на новеллу классика китайской литературы Лу Синя «Утиная комедия»! Начать бы розыски русского друга великого китайского писателя, о котором Лу Синь пишет такой светлой и трогательной печалью. И тогда бы Epошенко мог сам встретить журналистов в саду в Обуховке или в учительской комнате школы для слепых в Кушке или Ташкенте. И улыбнулся бы застенчиво и удивился бы, что о нем помнят в Японии, откуда он уезжал в 1921 году на пароходе «Ходзан-мару» в сопровождении полицейского, не зная, останется ли живым во Владивостоке, занятом белыми. Ведь тогда он так горевал, что друзья не смогли прийти проводить его… Но судьба распорядилась иначе.
3
Милый мой, в года глухие
Свой закон и суд:
Если мы не бьем — другие
Нас с тобою бьют.
В. Ерошенко, «Колыбельная»
— Люди разделены на расы: белую, черную и так далее, — говорил учитель. Дети улыбались. Дети были слепыми и не могли различать расы по цвету кожи Наиболее цивилизованная и прогрессивная — белая раса, наименее цивилизованные — красная и черная.
— Можно вопрос, господин учитель?
Учитель недовольно морщится. Но никто в классе не видит его гримасы. Опять этот Ерошенко со своими вопросами. Учитель заранее знает, что Ерошенко придется наказать. Вот только как?
— Спрашивай.
— Мы самые прогрессивные, потому что у нас белая кожа?
— Да.
— Значит, когда мы загораем на солнце, то становимся уже не такими прогрессивными?
Учитель придумал наказание.
— На колени, — сказал он скучным голосом человека, выполняющего, неприятный долг.
— Россия — монархия. Управляет ею император с короной на голове… Ерошенко, ты наказан, можешь не тянуть руку.
Школа, в которой учился Ерошенко, была закрытой. Даже на время каникул детей домой не отпускали. Многим родителям это было даже удобно — в семье от слепого ребенка пользы никакой, а здесь ему дадут ремесло, прокормит себя. В школе учили грамоте, плетению корзин и другим простым ремеслам. Кормили скудно, зато часто наказывали. И все-таки Ерошенко вспоминал школе без озлобления. Там он впервые почувствовал себя равным другим ребятам: слепые ребятишки создали свой мир, в котором общение друг с другом и книги по брайлевской системе заменили им зрение. Там Ерошенко, у которого оказался хороший голос и слух, научился играть на гитаре. И не только для собственного удовольствия — он играл и пел не хуже иных профессионалов. А когда в 1908 году Ерошенко закончил школу, он устроился в оркестр слепых (был такой оркестр) и играл в нем на гитаре.
Факты биографии Ерошенко сегодня приходится собирать по крупицам. Особенно за те годы, когда он был никому не известным парнем с золотыми волосами. То воспоминание о тех годах мелькнет в рассказе Ерошенко, то окажется, что он через много лет кому-то об этом рассказывал, а тот запомнил, потому что рассказывал уже не гитарист Ерошенко, а Ерошенко — писатель и путешественник. Но вот до самого Ерошенко журналисты добраться не успели. И поэтому о многом приходится только догадываться.
Видимо, года два Ерошенко играл в оркестре, жил скромно, старался откладывать деньги. Ему хотелось путешествовать. Это могло показаться нелепым: даже зрячий гитарист не должен был путешествовать, потому что это не занятие для гитаристов крестьянского происхождения. Но Ерошенко не только хотел путешествовать. Им овладели идеи о братстве людей, и в первую очередь, естественно, о братстве слепых, которое виделось ему не каким-то обособленным союзом отверженных, а объединением равноценных членов человеческой семьи.
Ерошенко всю жизнь внимательно следил за судьбой талантливых слепцов. Тому есть косвенные указания и воспоминаниях людей, знавших его. В разговоре с уже упоминавшимся танкистом, потерявшим зрение на фронте Великой Отечественной войны и в двадцать лет решившим, что он никому на свете не нужен, Ерошенко (сыгравший в его жизни роль, схожую с той, какую сыграл умирающий комиссар в жизни Мересьева) перечислял имена профессоров, журналистов, писателей, преодолевших барьер слепоты и ставших полноценными членами общества.
Однако какие бы мечты ни владели слепым юношей, который и помнил-то всего руки матери да голубей над церковью, он должен был найти реальный путь дли того, чтобы двинуться в свое Большое путешествие.
И этим путем оказался язык эсперанто.
Начало века было периодом расцвета эсперанто. Сегодня он как-то потерял значение, редкие магазины книг эсперанто пустуют и лишь самые упорные его приверженцы еще верят в то, что когда-нибудь эсперанто станет всеобщим языком, призванным объединить человечество. Но тогда многие так думали. Отделения эсперантистов плодились по всему миру, в том числе и в России и в странах Востока, — казалось, светлый миг всеобщего взаимопонимания наступит в самые ближайшие дни.
Слепой гитарист становится горячим сторонником эсперантистов. И надо сказать, что в формировании личности Ерошенко увлечение эсперанто сыграло большую роль. Да и вряд ли можно назвать это просто увлечением: ведь он пронес преданность всемирному языку сквозь всю жизнь.
Пока шло обучение языку, пока Ерошенко завязывал связи с эсперантистами Петербурга и Москвы, он готовился и к первому путешествию. Оно должно было стать пробой сил, должно было показать, насколько он приспособлен к тому, чтобы в одиночку, без помощи зрячих, совершить поездку в незнакомые места. И даст ли эта поездка то, к чему он стремился, даст ли она знание, ощущения иных краев, или для слепого путешествия бессмысленны.
В 1911 году Ерошенко отправился на Кавказ. Неизвестно, где он там побывал, но в любом случае первое путешествие было удачным. Ерошенко увидел Кавказ. Увидел его голоса и ароматы, увидел его ветер и шум горных рек. Увидел мягкость соленой волны и удары прибоя. Увидел цокот цикад и шепот звезд. Говорил с людьми и учился видеть их по тому, как они говорят, произносят слова и дышат. И он понял, что готов к новым путешествиям и что эти путешествия ему нужны, ибо он обладает чудесным даром, не видя глазами, тем не менее видеть больше, чем иной зрячий, пользуясь другими органами чувств и дополняя картину силой незаурядного воображения.
В 1912 году журнал «Вокруг света» поместил заметку о слепом гитаристе, который уезжает на свои скромные сбережения в Лондон. В Лондоне он надеялся на помощь собратьев-эсперантистов. Он хотел не только увидеть Англию, но и узнать, каких успехов добились Англичане в обучении слепых, а также выучить английский язык, который мог пригодиться в дальнейших странствиях.
В Англии он провел полгода и после этого окончательно поверил в свои силы. Теперь у него были связи с эсперантистами в самых разных странах, было знание английского языка, появилось и умение обходиться в любом месте без помощи посторонних.
И вот, вернувшись в Москву и выступая вечерами в оркестре, Ерошенко принимается за японский язык. Он определил себе следующую цель — Японию.
Основной задачей предстоящего путешествия в Японию он по-прежнему считает ознакомление с методами обучения слепых. Он желает впитать максимум информации для того, чтобы, вернувшись на родину, организовать школу, в которой бы использовались все лучшие достижения педагогики. И если взглянуть на всю последующую деятельность Ерошенко именно с этой точки зрения, станет яснее и его собственная эволюция.
В Токио, куда Ерошенко приехал в 1914 году, за несколько месяцев до начала первой мировой войны, он поступает в Токийскую школу слепых и овладевает там искусством массажа — традиционного занятия слепых и Японии. Но массаж — дело второе. Ерошенко не только учится. Общительный, никогда не унывающий, открытый, он умеет привлекать к себе людей. Японский язык он пока знает неважно, хоть и учится ему упорно и уже через год будет владеть им настолько, что сможет писать на нем рассказы. Рядом с ним всегда можно увидеть молодых художников, писателей, радикалов. Причиной тому и его гитара, и его песни, и его рассказы, и его душевная одаренность. Ерошенко вскоре становится настолько известной фигурой в Японии, что, когда в 1915 году туда приезжает Рабиндранат Тагор молодой русский на равных вступает в дискуссию с великим писателем и мыслителем. Он осмеливается оспаривать утверждение Тагора о том, что индийским цивилизация в отличие от западной духовна. Дискуссии эта интересна нам не сама по себе, а тем, как далеко ушел Ерошенко, которому к тому времени исполнилось двадцать шесть лет, от юноши-гитариста, выступавшего с оркестром слепых. За пять лет он превращается в широко образованного, самостоятельного в суждениях и даже, скажем, влиятельного человека.
И не удивительно, что он обращается к литературе. После поездки на Хоккайдо в 1915 году Ерошенко опубликовал два первых рассказа. Рассказы были поэтическими, грустными, и писатель обратил на себя внимание. Интересно, что с тех пор, хоть он еще и не написал ни одного стихотворения, его стали называть поэтом. (Стихи он станет писать потом, но лишь несколько из них сохранится и будет найдено в журналах.) И всякий кто писал о пребывании Ерошенко в Японии и Китае, сопровождал его имя эпитетом «поэт». И Ерошенко с этим не спорил. Он ощущал себя поэтом.
Так прошло два года. И вдруг Ерошенко объявил друзьям, что вновь отправляется в путешествие.
— Я прирожденный бродяга, — говорил он. — Я должен идти и идти. И видеть.
Он любил это слово «видеть». В июле 1916 года Ерошенко сел на пароход, отплывавший в Сиам. План его был таков: пожить в Сиаме, где, по его сведениям, было очень плохо поставлено образование слепых, организовать там школу. Затем, если удастся, переехать с той же целью в Бирму, в Индию, побывать на острове Ява, заодно выучить тайский, бирманский и малайский языки, а потом уже вернуться домой, в Россию, закончив таким образом свое первое путешествие.
Действительность оказалась не совсем такой, как ее представлял Ерошенко.
4
Путешествие, начатое в июле 1916 года, привело Ерошенко в Юго-Восточную Азию. Если его пребывание в Японии можно считать первым этапом не только путешествия, как такового, но и первым этапом складывания характера и творческого лица Ерошенко, то жизнь в Сиаме, Бирме и Индии была вторым этапом пути, не менее важным в его биографии. К сожалению, об этом периоде его жизни очень мало известно. Пребывание Ерошенко в Бирме, интересующее нас в данный момент более всего, освещено и самим путешественником и его биографами, к сожалению, очень скудно. Сохранилось лишь несколько писем, записи народных легенд (большинство из них опубликовано в Японии и на русский язык так и не переведено), а также статья Ерошенко «Слепые Запада и Востока» о жизни слепых в разных странах, включая Бирму и Сиам. И все-таки даже немногие имеющиеся в нашем распоряжении факты представляют большой интерес и открывают новую главу в истории русско-бирманских отношений.
Полгода Ерошенко провел в Бангкоке. Что он делал там? Выучил тайский язык, обивал пороги учреждений и министерств, стараясь выколотить средства на специальную школу для слепых, записывал народные легенды и сказки, — в общем, был очень занят. И все-таки попытка создать школу в Бангкоке провалилась. Другой бы махнул на все рукой и, в лучшем случае объехав, что можно, пока есть деньги, вернулся в привычную Японию или поехал домой. Но Ерошенко за эти шесть месяцев завязывает знакомства среди учителей и миссионеров, бомбардирует письмами эсперантистов в разных странах и, хоть и не достает необходимых средств, получает нужную информацию: есть школа для слепых в Бирме, в портовом городе Моулмейне. Более того, ему предлагают возглавить эту школу. Дальнейшее пребывание в Сиаме становится бессмысленным. Ерошенко нужен другой стране, где его знания могут принести немедленную пользу.
В Бирму Ерошенко приехал в январе 1917 года. Шла первая мировая война. Слухи из России, проникавшие сюда через Индию, были противоречивы и пугающи. И первый русский, оказавшийся в этих краях, был в центре внимания всего Моулмейна — большого по бирманским, но небольшого по нашим масштабам города, где фигура высокого золотоволосого человека в рубахе навыпуск, подпоясанной тонким ремешком, была известна каждому жителю.
Ерошенко с энтузиазмом принялся за работу. Школа для слепых в Моулмейне оказалась первой из нескольких школ, которыми он руководил. Теперь он мог на практике применить все те знания, которые впитал за годы странствий. Правда, прежде чем войти в работу, надо было выучить бирманский язык. При способности Ерошенко это не потребовало много времени. Языком он овладел через несколько недель. И настолько, что когда на каникулах собрался в большую экскурсию со своими учениками, то обходился с ними без переводчика. А путешествие по Бирме, в которое он отправился со слепыми ребятишками, было нелегким и неблизким. Ребята посетили несколько древних столиц Бирмы, расположенных в сотнях миль от Моулмейна, — побывали и Пагане, Аве, Мандалае, на обратном пути попали и Пегу.
За этими краткими обрывками фактов скрываются наверное, и жаркие споры с чиновниками в ведомстве просвещения, которые вряд ли с легкостью давали деньги на столь необычное путешествие, и разговоры родителей — страшно ведь отпустить слепого ребенка в такой далекий путь. Да и потом — что будет за недели, проведенные в пути? Представьте себе странную процессию, бредущую по раскаленной равнине, по пыльным дорожкам между зарослей кактусов, по умершему и великолепному городу Пагану. Вокруг возвышаются храмы, под грудами осыпавшейся штукатурки и среди кирпичей скрываются шустрые ящерицы, воздух гудит от деловитых насекомых, а ребятишки в длинных юбчонках слушают, как их учитель рассказывает о истории древнего чудесного города. Они учатся видеть. Ерошенко ведет ребят по своему пути — по пути видения мира. И наверняка ведь в Моулмейне и сегодня живет хоть кто-нибудь из тех учеников, которые вместе с Ерошенко совершали первые в своей жизни открытия, доступные, казалось бы, лишь зрячим.
Вернувшись из поездки, Ерошенко садится за изучение буддизма и бирманского фольклора. «Сейчас я увлечен воистину прекрасными бирманскими легендами. Это неисчерпаемый материал. Передо мной раскрывается новый, доселе мне неведомый мир. Богатая символика, полная скрытых тайн и загадок. По сравнению с этими легендами предания христианства и ислама выглядят слишком наивными. Если бы я прожил в этой стране всю жизнь, то все равно не смог бы постичь всей глубины их содержания».
Так писал Ерошенко в письме в Японию. Некоторые из легенд он переслал туда, и они были напечатаны. На русский язык переведена лишь одна из них.
«Бирманская легенда» — большой миф, опубликованный Ерошенко, — характерна для сказаний Южной Бирмы. Здесь переплелись и буддийские верования, и остатки анимизма, и живучая вера в натов — духов, населяющих Бирму куда гуще, нежели домовые, водяные и лешие Россию. Но для нас интереснее сейчас не столько сама легенда (хоть, очевидно, Ерошенко был первым, кто познакомил японских читателей с бирманским фольклором), а его к ней вступление, выдержанное в том же стиле, что и сама легенда, и кажущееся ее неразрывной частью. В этом вступлении Ерошенко помимо краткого рассказа о Бирме приводит одну притчу, не имеющую прямого отношения к народной древней легенде, а родившуюся, видимо, в XIX веке, во время покорения Бирмы Англией. В ней рассказывается о бирманском посольстве в Англию и о том, как посол заключил договор с англичанами на разработку бирманских рубиновых копей. Король Бирмы не одобрил договора, и министру заключившему его, надо было выпутываться из неловкого положения, в которое он попал. Тогда он показал приехавшим англичанам два рубина размером с куриное яйцо каждый и спросил, сколько они стоят. Англичане, которые никогда таких рубинов не видели, не смогли это сделать, и договор был расторгнут. Но, «убедившись и том, что Бирма обладает несметными богатствами, Англия ни за что не хотела упускать их из своих рук и втайне вынашивала планы покорить эту страну…»
А затем Ерошенко, свободно плетя из бирманских легенд и сказок новое повествование, вспоминает и еще одно предание. Предание о том, как злая женщина-оборотень превратилась в английскую королеву Викторию и ее войска покорили Бирму. «А когда пройдет сто лет, с тех пор как страной завладели англичане, Бирма вновь станет свободной, как прежде».
Сегодня фольклор Южной Бирмы известен неплохо; существуют сборники легенд и сказок. Но вот предания, записанные Ерошенко, предания, в которых свежи еще отзвуки войн с Англией и звучит надежда на будущее освобождение, нам не встречались. Английские исследователи как-то упустили эту область фольклора. А потом, когда Бирма и в самом деле стала независимом эти легенды умерли, ибо они утешали покоренных, давя ли надежду, объясняли сказочным путем причины национального унижения; когда же в них исчезла нужда, их забыли.
5
Вести о Февральской революции достигли Южной Бирмы месяца через два после приезда туда Ерошен ко. С тех пор, как бы занят он ни был, мысль о возвращении домой приходила к нему все чаще. И тем более стало тянуть на родину после того, как в ноябре, в начале второго учебного года, он узнал об Октябрьской революции. Мечта о создании в свободном государстве новой, невиданной ранее школы, для которой не надо будет выпрашивать денег и учебных пособий и где ученики будут воспитываться в духе братства и любви, эта мечта заставляет Ерошенко спешить со сборами домой, тем более что положение его сразу ухудшилось. Если до этого англичане, очевидно, не вмешивались в работу директора школы, то теперь он стал потенциально опасен: он стал представителем революционного государства и, раз уж он никогда не скрывал своих левых взглядов, теперь его стали рассматривать как агента красных. К Ерошенко был приставлен полицейский, и его недоброжелатели — а они, естественно, были, ибо его методы преподавания никак не вписывались в схему колониального образования, — принялись строчить доносы на «красного» директора.
Почти до самого конца семнадцатого года Ерошенко оставался в Моулмейне: жалко было бросать детей, для которых столько уже было сделано и многое еще надо было сделать. Но в конце концов он решился. И наступивший новый, 1918 год застал Ерошенко в Индии. Он рассчитывал дождаться здесь парохода, который шел бы в Россию.
Но в Индии в это время к русским относились с подозрением. Есть сведения, что некоторых пожелавших вернуться домой арестовали. Кроме того, в России уже началась гражданская война, а вскоре Ерошенко узнал, что юг России — Черное море, через которое он надеялся вернуться домой, отрезан от Советской республики.
Что оставалось делать? Ведь, как ни самостоятелен был Ерошенко в своих путешествиях, положение слепого человека, желающего через полмира вернуться в Россию, было сложнее, чем положение зрячего. Ерошенко еще некоторое время не теряет надежды, преподает в школе для слепых, много читает, записывает легенды, изучает язык хинди. И чувствует себя здесь чужим, нежелательным иностранцем, без связей, без друзей. Наконец, он принимает единственно возможное решение — возвращается в Бирму. Там ведь его школа, его ученики.
Бирма в марте 1918 года встретила Ерошенко совсем не так, как год назад. Не было и речи о том, чтобы снова стать во главе школы: ее уже возглавлял англичанин. Правда, место учителя в той же школе нашлось, и Ерошенко смиряется с этим.
«За мной постоянно следит полиция, — пишет он в письме друзьям в Японию, — без конца наведываются шпики. Но в тюрьму пока не посадили… Жизнь моя, как всегда, интересна!»
Он отрабатывает до конца учебный год (в Бирме он кончается в сентябре) и, скопив денег на дорогу, снова отправляется в Индию — на этот раз для того, чтобы найти в Калькутте корабль, который поплывет в Японию. Однако в Калькутте ему пришлось провести почти год: власти не давали разрешения на выезд, его переписку конфисковывали, за ним не переставая следили. Тем не менее Ерошенко совершает поездку по Индии и еще раз пытается получить разрешение на отъезд в Россию. Ответ резок — нет! Тогда Ерошенко просит разрешить ему выехать в Японию. В ответ молчание.
И только в июне 1919 года разрешение дано. Но в странной форме: Ерошенко высылается из пределов Британской империи как большевистский агент. Это его первая высылка такого рода. Через два года, как мы помним, он с такой же формулировкой будет выслан из Японии.
Пароход, на котором «красного агента» выслали из Индии, взял курс на Восток. Когда шли Андаманским морем, Ерошенко вышел на палубу и долго стоял, повернувшись на север. Там оставалась Бирма, ученики, школа, шершавые стены древних храмов, шелест королевских пальм на аллее у моря, щебет ящериц и мягкая поступь монахов, обходящих ранним утром дома верующих, чтобы собрать милостыню. Прощай, Бирма.
6
Япония закружила Ерошенко. Япония бурлила. Революция в России словно разбудила в ней политическую активность. И во главе возникающих левых организаций и союзов, марксистских кружков и радикальных журналов стояли старые друзья Ерошенко. Он был им нужен. Он вновь стал послом революционной России, и гитара его звучала на собраниях и митингах, а революционные русские песни подхватывали студенты и рабочие.
Из России доходили противоречивые слухи — на Дальнем Востоке, в Сибири бушевала гражданская война Друзья не пускали Ерошенко в опасный путь. «Ты нужен здесь». И он понимал, что нужен. Помимо него в Японии были, правда, и другие русские, но большей частью белые эмигранты, сбежавшие после образования Дальневосточной республики.
Вместе с японскими социалистами Ерошенко сотрудничал в первом в Японии левом журнале «Сеятель», где имя его стояло рядом с именами Анри Барбюса и Анатоля Франса. Он — один из организаторов и основателей Социалистической лиги Японии. Он популярная фигура на политической сцене Японии 1920–1921 годов. К тому же он не перестает писать свои сказки и рассказы, а также обрабатывает и публикует легенды и сказки стран Юго-Восточной Азии и Индии. Сказки Ерошенко проникнуты социальным чувством — они тоже оружие в борьбе за справедливость. Ерошенко все откладывает и откладывает отъезд. И не потому, что забыл о своей цели — возвращении в Россию, а потому, что им владеет столь нужное ему чувство причастности к борьбе, собственной значимости. Какой уж там слепой гитарист, приехавший семь лет назад на Восток, — теперь он политический деятель, писатель, агитатор… Опасный человек.
Он стал опасным человеком для японской полиции. Опаснее многих других. 28 мая 1921 года Социалистическая лига была запрещена, а ее руководители арестованы. Арестован и Ерошенко. В полиции над ним издеваются. Его морят голодом, ему пытаются разорвать веки — полицейские не верят, что он и в самом деле слепой. Он просто хитер — этот большевистский агент. Он хочет вызвать жалость.
Наконец принято решение о высылке Ерошенко из Японии. И он оказывается на борту «Ходзан-мару» в странном обществе белых офицеров, купцов, либералов-студентов и рабочих, мечтающих пробиться в Советскую Россию.
За двое суток пути от Японии до Владивостока Ерошенко сдружился с рабочими. Их объединяло не только родство целей и интересов, объединяла и опасность, поджидавшая во Владивостоке.
Пароход входил в порт.
Молодой рабочий Чижинский стоял рядом с Ерошенко на палубе. Рука его была ледяной.
— Ты замерз?
— Нет. Только… На улицах Владивостока не видно теперь красных флагов.
Ерошенко отвернулся. Рядом стояли остальные рабочие. Молчание было тяжелым.
— Да, — сказал, наконец, Ерошенко. — Во Владивостоке нет красных флагов… Но вы должны водрузить их своими руками.
Пожилая женщина взглянула на Ерошенко.
— Постой-ка, у тебя губы дрожат. Ты плачешь, Вася?
— Он, наверно, все еще грустит о своей проклятии Японии.
Ерошенко ничего не ответил. Чем дальше становилась Япония, тем дороже она ему казалась.
С верхней палубы донесся голос одного из офицеров.
— Смотрите, вместо красных тряпок наш трехцветный флаг!
— Господа, это первый шаг к свободе, к освобождению России!
— Будем же молиться, братья, о победе над большевиками!
К борту подошел таможенный катер.
— Всем пассажирам собраться в салоне первого класса, имея на руках документы.
Чижинский еще раз сжал руку Ерошенко.
— Пусть только они посмеют с тобой что-нибудь сделать! В Советской России узнают об этом. Мы отомстим за тебя.
— Не беспокойтесь, все обойдется, — улыбнулся Ерошенко.
Он повернулся и пошел разыскивать своего сопровождающего. Но полицейский сержант куда-то запропастился.
Проверка документов заняла много времени. Кто-то подвинул Ерошенко стул, и он уселся в стороне от чиновников. Вдруг он услышал знакомые шаги полицейского. Полицейский шел вместе с помощником капитана.
— Да, — повторял помощник, обращаясь к полицейскому. — Я все понял.
Он наклонился к чиновнику и на плохом русском языке сообщил о том, что на пароходе есть опасный большевистский агитатор, высланный из Японии.
— Как фамилия?
— Ерошенко.
— Где его документы? Спасибо. А сам он где?
Ерошенко почувствовал, как люди перед ним расступились и между ним и чиновником пролегла пустота.
— Он же слепой!
— Правильно. Но он все равно опасный агитатор.
— Слепой?
В голосе пограничника было что-то, что позволило Ерошенко разжать пальцы, непроизвольно вцепившиеся и сиденье.
Может быть, пограничник не любил японцев — мало кто их любил в те дни во Владивостоке, может быть, мысль об опасном большевистском агитаторе никак не вязалась с образом мужчины, сидевшего в салоне. Чиновник заговорил сухо, но не враждебно.
— Каковы причины вашей высылки из Японии?
— Об этом следовало бы спросить японскую полицию.
— Надеюсь, не большевик?
— Кажется, вы социалист?
Чиновник давал Ерошенко возможность уловить разницу в этих двух словах и ответить так, как того хотелось пограничнику.
— Большевизм я пока изучаю.
Ответ был совсем не таким, какого ждал чиновник. Ответ был неудобен и нетактичен. Но полицейский, который стоял рядом, не понимал по-русски. Помощник капитана уже ушел. Разошлись по каютам и белые офицеры. Лишь рабочие ждали своей очереди.
Пограничник продолжал сухим, официальным голосом. Но слова его никак не вязались с формальностью тона.
— То, что мне известно о вас, пусть вас не тревожит.
Никто не причинит вам зла. Если пожелаете, можете уехать в Советскую Россию. Мы не воюем с совдепией… Если угодно — оставайтесь во Владивостоке. Нет, пошлины я с вас не возьму. В отличие от наших японских союзников мы не расправляемся со слепыми…
Повезло. Это был просто чиновник. Он и при царе работал в порту, и во времена ДВР, остался здесь и при белых. Что поделаешь — работа. Оживились и рабочие. Они волновались больше всего за Ерошенко, хотя беспокоила и собственная судьба. Теперь вроде бы все обходится.
Они были правы. Чиновник не стал задавать им никаких вопросов.
Остановился Ерошенко в доме председателя общества эсперантистов. Снова помогла причастность к всемирному братству чудаков, поборников единого языка. Там жила девушка по имени Тося, с которой Ерошеко подружился. Тося собиралась отправиться домой, в деревню на берегу Уссури, где проходила граница меж японцами и Дальневосточной республикой. Несколько дней прошло в подготовке к путешествию. Ерошенко запасался продуктами на дорогу. Ерошенко жил как бы лихорадке. Им овладела лишь одна мысль — скорее домой! Его не пугали ни рассказы о начавшихся боях, ни уверения эсперантистов о том, что он обязателен погибнет при переходе линии фронта. И через неделю в сопровождении Тоси Ерошенко сел в поезд, шедший на запад.
Чуть было не случилась беда в поезде. Он был полон белыми офицерами, спешившими на фронт. Ерошенко в предчувствии скорого конца пути потерял осторожность, ввязался в спор, и лишь разногласия между союзниками — каплелевцами и семеновцами — спасли его от расправы.
Владивостокский поезд дошел до села Евгеньевка. Дальше начиналась нейтральная зона. Ее контролировали японцы. Зона кишела бандитами. Пришлось ехать «зайцами», на пустых платформах, спрятавшись за мешками с щебенкой. Поезд остановился, не дойдя до полуразрушенного моста через Уссури. Переговоры между советскими войсками и японцами были прерваны, вот-вот должны были начаться военные действия. И, несмотря на то что Ерошенко провел несколько дней на границе, перейти в Советскую Россию ему так и не удалось. Пришлось отступить.
7
Осень 1921 года застала Ерошенко в Китае. Литературное приложение к пекинской газете «Чэнь бао» от 22 октября 1921 года полностью посвящено творчеству русского писателя Ерошенко. Там же напечатан в переводе Лу Синя рассказ Ерошенко «Грезы весенней ночью».
Ерошенко был известен в Китае и раньше. Сообщение о его высылке из Японии еще летом взволновало прогрессивных китайских писателей. Поэтому, как только Ерошенко, измученный тщетными попытками прорваться домой, усталый и разочарованный, появился в Китае, его сразу взяли под свою опеку новые друзья. Ерошенко едет в Шанхай, начинает участвовать в литературной жизни Китая и, как всегда, быстро обретает друзей и товарищей. Его книга «Рассказы засохшего листа», вышедшая в 1922 году, была очень тепло встречена китайской критикой. Китайский писатель Ху Юйчжи писал тогда, что Ерошенко «является нашим искренним другом, любящим нас, относящимся с большой симпатией к китайскому народу». Ерошенко часто и охотно публикуют в журналах, его приглашают преподавать эсперанто в Пекинском университете. И он переезжает в Пекин, где живет в доме Лу Синя.
Они быстро стали друзьями — великий китайский писатель и замечательный русский просветитель, поэт и путешественник. Один из лучших рассказов Лу Синя посвящен его другу — Василию Ерошенко. Это удивительно трогательный, мягкий, грустный рассказ, рассказ-воспоминание, рассказ, схожий по настроению с лучшими рассказами самого Ерошенко.
В рассказе есть такие строки:
«Однажды ночью, как раз когда кончилась зима и началось лето, у меня случайно оказалось свободное время и я зашел к Ерошенко… в доме было тихо. Ерошенко лежал в постели, нахмурив густые, золотисто-рыжие брови. Он думал о Бирме, где когда-то путешествовал, и вспоминал бирманские летние ночи…
— В такую ночь, — сказал он, — там повсюду музыка: и в домах, и в траве, и на деревьях — везде трещат насекомые. Все эти звуки сливаются в гармонию, таинственную и чудесную…
Он глубоко задумался, как бы стараясь восстановить в памяти образы прошлого.
Я молчал. Такой удивительной музыки мне не приходилось слышать в Пекине. И как я ни любил свою страну, я ничего не мог оказать в ее оправдание. Поэт был слеп, но не был глух».
Лу Синь пишет дальше о том, как любовь Ерошенко к Бирме, любовь, которая останется с ним до конца его дней, нашла выражение в попытке воссоздать трепетание ее воздуха, слилась с его любовью ко всему живому, к лягушкам и утятам. И там же говорится о том, как тосковал Ерошенко в Китае по своей родине — России. И как он все-таки уехал домой, хоть в Китае был окружен друзьями, известен и обеспечен.
Правда, это удалось ему сделать не сразу. В октября 1922 года профессор Пекинского университета Ерошенко отправился на Международный конгресс эсперантистов в Хельсинки. Неизвестно, пытался ли он пробраться Советскую Россию оттуда, или же, как человек крайне обязательный и всегда выполняющий свой долг — будь то долг перед бирманскими школьниками, японскими социалистами или студентами Пекинского университета, — он полагал необходимым вернуться в Пекин, чтобы завершить там свои дела. Во всяком случае из Xeльсинки он вновь приехал в Пекин, зимой того года участвовал в дискуссии о китайском театре, готовил вместе Лу Синем к отдельному изданию свою пьесу «Розовые облака», посетил Шанхай, Ханьчжоу и другие города, много выступал и писал. И лишь в апреле 1923 года в дневнике Лу Синя появилась краткая запись: «Ерошенко уехал на родину».
8
О жизни Ерошенко в Советском Союзе — а он еще почти тридцать лет работал и переводчиком, и преподавателем, и директором школы-интерната, путешествовал по Средней Азии и по Чукотке — можно рассказывать долго. Но это, к сожалению, не входит в тему нашей книги. Были в его жизни и радости и огорчения; далеко не всего, к чему он стремился, ему удалось достичь. Но главное — за эти тридцать лет Ерошенко воспитал много сотен людей, помог им найти дорогу в жизни, обрести уверенность в своих силах.
И даже в свой последний год, когда ему уже перевалило за шестьдесят, он планировал путешествие пешком из Средней Азии на Дальний Восток. Но путешествие не удалось. Неожиданно он заболел и умер в своей деревне, умер так же скромно и гордо, как жил, — он знал, что умирает, и старался даже смертью своей не причинить беспокойства окружающим его людям.
Известность его в Японии и Китае оказалась куда более значительной, чем он мог когда-нибудь предполагать. Книги его продолжали издаваться, критики и журналисты писали о нем статьи, старые друзья — воспоминания. А уже после смерти Ерошенко, в 1959 году, в Японии вышло трехтомное собрание его сочинений.
И до сих пор в самых разных уголках Земли — в Южной Бирме и в Индии, в Таиланде и в Японии, в Китае, на Камчатке, в Средней Азии — живут люди, вспоминающие имя Ерошенко с благодарностью и уважением.
РАССКАЗ ПЯТЫЙ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
Привезенный нами музейный материал состоит из 5575 этнографических предметов быта и культа, 975 фотографий позитивов, 1500 фотографий негативов, около 800 томов книг.
Александр Мерварт, Людмила Мерварт(Из отчета экспедиции)
1
Они могли встретиться на улице. А может быть, и встречались. Надо было спросить об этом Людмилу Александровну, но беседы с ней, интересные и долгие увлекали, и все время забывалось спросить: были ли Мерварты знакомы с Ерошенко.
В конце концов он мог заглянуть во Владивостокский университет. Мог и зайти к Мервартам. Больше того, они могли встретиться и в Индии, где они были в одно и то же время. А могли и не увидеть друг друга, не знать друг о друге: ведь Ерошенко пробыл во Владивостоке лишь неделю — спешил дальше на запад, и Мерварты еще оставались там.
Впрочем, не так уж важно, встретились ли они; важнее то, что их пути неоднократно пересекались и во времени и в пространстве. И уехали из России — царской — они почти одновременно. И вернулись — в другую эпоху, в другую Россию — они почти вместе. И в Бирме они были в одно и то же время.
Есть некоторое сходство в их судьбах. Заключается оно не во внешних биографических совпадениях (кстати, их и нет), а в другом. И Ерошенко и Мерварты, уезжая из России, были молоды, безвестны и неопытны. И когда через восемь лет странствий они возвращались домой, — это были люди с громким именем. Но ни Мервартам, ни Ерошенко и в голову не приходило, что они могли бы остаться там, где вполне устроены, где их знают, где можно прилично зарабатывать. Они рвались в голодную Россию, потому что долг их был разделить с ней и счастье и горе.
Александр Михайлович Мерварт погиб в тридцатых годах. Людмила Александровна Мерварт умерла недавно, в 1965 году, и многие из молодых, да и не очень молодых сегодня востоковедов, особенно специалистов по Индонезии, учились у нее. Она продолжала работать до самого последнего дня.
…B коридоре квартиры стояли стеллажи с книгами. Комната была свободна, пустынна, и лишь письменный стол был завален бумагами. Казалось странным, что в комнате почти нет предметов, напоминающих о путешествиях Мервартов. Глаза ожидали увидеть крисы, циновки, театральные маски на стенах. Ничего этого не было — только книги. Мерварты работали для музеев и все, что привезли, передали туда.
Людмила Александровна была безнадежно больна. Опа знала об этом и относилась к близкой смерти спокойно, но с неприязнью, как относятся к недугам, мешающим жить бурно, творчески, активно. Опа очень плохо видела, и толстые очки скрывали большие темные глаза.
Грузная старая женщина сидела в кресле у письменного стола. Когда же она начинала говорить, казалось, происходило чудо. У нее был молодой, звонкий, четкий голос и редкий дар логической, образной, экономной речи. Людмила Александровна говорила, и прошлое настолько зримо и объемно заполняло комнату, что нетрудно было забыть и о зимнем вечере за окном, и о невероятной удаленности Индии начала нашего века.
Людмила Мерварт рассказывала о путешествиях по Индии и Цейлону, о Бирме и Владивостоке.
К сожалению, о Бирме не так много, как хотелось бы, — пребывание экспедиции там, хоть и затянулось на два месяца, было не из счастливых.
2
Чиновник министерства народного просвещения сочувствовал девушкам. Он был уверен, что министр никогда не подпишет их прошений, но тем не менее бумаги взял и сказал:
— Пусть они останутся у меня. Как-нибудь я подложу их на подпись. А там посмотрим, что выйдет…
Девушек было трое. Окончив Бестужевские курсы они решили держать экзамен за университетский курс для поступления на государственную службу. Женщинам это было строжайше запрещено, ибо по представлениям власть имущих даже само словосочетание «женщина — государственный служащий» было крамольно грозило устоям.
Неожиданно сменился министр. Им стал некий Кассо, человек ничуть не прогрессивнее своего предшественника. Но именно его вступление на должность позволило «заговорщикам» провести тщательно разработанную операцию.
…Чиновники в парадных вицмундирах, с регалиями от скромного Станислава до Владимира на шее — перешептывались, выстроившись в зале, в ожидании знаменательного момента — выхода нового министра.
А министр задержался в кабинете. Не по своей воле. В последний момент его остановил чиновник с папкой в руках.
— Ваше превосходительство, не соблаговолите ли подписать несколько бумаг? Это займет всего три минуты. Четвертый день, как мы не можем разрешить эти мелкие вопросы.
Министр вздохнул и нагнулся над папкой: он не хотел показаться бюрократом.
Сверху лежала просьба истопника министерства отпустить его на три дня в деревню: отец помирает. Министр поморщился и подписал. Вторая бумага оказалась такой же незначительной. Третью он подписал не читая. Сквозь полуоткрытую дверь кабинета доносился сдержанный гул актового зала.
Заявления бестужевок лежали в середине пачки.
На следующее утро в некоторых газетах появились сообщения о том, что министр просвещения разрешил женщинам сдавать государственные экзамены.
И министру ничего не оставалось, как подтвердить свое согласие… и одновременно выразить уверенность, что девушкам не выдержать экзаменов.
…Людмила вошла в комнату. За длинным, покрытым зеленой скатертью столом восседал председатель комиссии. Он был вежлив, почти галантен, и в отеческой улыбке его трудно было разгадать угрозу.
— Итак, в чем же вы намереваетесь совершенствоваться?
— Хочу стать преподавателем германских языков.
— Похвально, похвально. Однако я посоветовал бы вам отказаться от своего необдуманного намерения. Такая милая девушка… не выдержите… раскаетесь… не справитесь… противоречит назначению женщины…
Речь председателя стекала ровным ручейком с его узкой бороды и разливалась по комнате вязкой жижей недоумений, убеждений и скрытых угроз.
— И все-таки я хотела бы узнать, когда и в каком порядке я буду сдавать экзамены.
— Что ж, если вы упорствуете… Итак, государственных экзаменов всего три, и на них дается шесть педель. Вам это, очевидно, известно, но мы, к сожалению, не можем дать вам шести недель. Придется сдавать все экзамены за тринадцать дней. И еще одна деталь… — Отеческая улыбка снова возникла на лице председателя. — Вам придется сдавать не три экзамена, а тринадцать…
— Я согласна.
— Так, так… Вы, оказывается, упорны. Тогда разрешите преподнести вам еще один, несомненно, приятный для вас сюрприз. Вам придется держать еще один экзамен, четырнадцатый. Санскрит… Для вас, наверно, не секрет, что мертвый язык санскрит очень важен для…
Председатель так и не придумал, для чего важен санскрит, и замолчал, направив острие бороды в лицо девушки. Но сквозь полуприкрытые веки он увидел на лице Людмилы улыбку. Улыбка его смутила. Он наклонил голову и присмотрелся внимательнее. В самом деле улыбка.
— Так вы отказываетесь от экзамена? — Но в голосе председателя не было уверенности. Он уже немного побаивался своей противницы. Вряд ли вы сможете выучить этот язык за тринадцать дней.
— Знаете, я тоже считаю, что лингвист должен знать санскрит. Зимой я занималась этим языком с профессором Ольденбургом. Экзамены не представят для меня труда.
И тут председатель не выдержал. Он выдал себя.
— Нам об этом не сообщили!
— А если бы сообщили?
— Тогда… тогда бы мы заставили вас сдавать литовский язык. Его-то вы не знаете, надеюсь?
— Знаю. Я его выучила прошлым летом. Очень интересный язык. И знаете, кое в чем близок к санскриту.
Председатель комиссии не захотел продолжать беседу…
Экзамены выдержали все трое. Министру просвещения пришлось стерпеть эту пощечину.
Людмилу послали преподавать немецкий язык в школу для испорченных юношей… «…Но уже через год меня перевели в обычную гимназию. Здесь я познакомилась с моим будущим мужем — Александром Михайловичем. Он тогда работал в этнографическом музее. Туда перешла и я. А вскоре Академия наук послала нас в Индию и на Цейлон в командировку года на два…
5 мая 1914 года пароход «Екатеринослав» отчалил из Одессы…»
3
Конечно, путешествовать вдвоем приятнее, особенно если вы недавно поженились и любите друг друга. Но еще на пароходе Мерварты решили, что интересы дела превыше всего. Хоть необъятного объять не удастся, надо к этому стремиться. И для этого экспедиция будет разделена на Цейлоне на две группы. На группу, состоящую из Людмилы Мерварт, и группу, состоящую из Александра Мерварта.
Но перед тем как разделиться, Мервартам предстояла предварительная работа — ознакомление с материалами музея в Коломбо, занятия языками, завязывание знакомств на Цейлоне и сбор первых коллекций.
Трудились как проклятые. Только молодость и отличное здоровье спасали от переутомления. Шутка ли сказать: «Екатеринослав» прибыл на Цейлон 25 мая 1914 года, а 27 июля — всего через два месяца — Мерварты отправили на родину в четырех громадных ящиках этнографическую коллекцию, состоящую из более чем тысячи экспонатов.
Покажите эту цифру любому этнографу. Добавьте при этом, что у членов экспедиции очень ограниченны средства, что они при этом не готовы еще к большим поездкам, что они крайне заняты подготовкой к настоящей экспедиции. И вам ответят: для этого нужно или сказочное везение или особо редкий талант собирателей.
Через две недели после отправки коллекций началась мировая война. Пароход остановился в Александрии, выгрузил ящики с коллекциями и оставил их там на хранение. Но Мерварты узнали об этом только через несколько лет и тогда же узнали, что ящики эти пролежали три года в порту, а затем были проданы с аукциона, потому что за хранение их никто не платил. Это была первая крупная потеря экспедиции. Среди тысячи предметов в ящиках находились: полный набор масок для маскарадных представлений, почти все инструменты цейлонских ремесленников, множество предметов домашней утвари и произведений народного искусства.
Война немедленно ударила по экспедиции. Академии наук стало все труднее изыскивать для нее деньги — в министерстве финансов отмахивались: «Какая еще тропическая экспедиция? Не видите разве, господа, что война идет?» — и средства приходили нерегулярно. Нет, точнее оказать, — случайно: неожиданно поступал чек из Петербурга, и никак нельзя было предугадать, когда он поступит и на какую сумму. Экспедиция частично вынуждена была перейти на самообеспечение.
Мерварты огорчились — отныне придется зачастую сказываться от ценнейших вещей. Но что делать. Главное — экспедиция продолжается.
Другая неприятность, связанная с войной, заключаясь в том, что русским путешественникам запретили бывать среди горных племен, в местностях, находящихся вдали от центров управления колонии. «С целью предохранения индийских владений от возможных нежелательных для британского престижа явлений, бдительней надзор за иностранцами, который существует и в мирное время, усилился до весьма стеснительных для нашей работы размеров».
Итак, после того как первая партия экспонатов была упакована, описана и отправлена на Родину, настало время начинать работу как следует. Обязанности были разделены следующим образом: Людмила должна была отправиться в сингальскую семью в деревне Ампития, а Александр покинул гостиницу и переехал в буддийский монастырь под Коломбо, чтобы под руководством настоятеля монастыря изучить досконально буддизм хининна, изучить получше язык пали и структуру буддийской церкви на острове.
…Дорога из Канди в Амлитию напоминала широкую аллею, прорезанную в джунглях. Рикша неторопливо бежал по пыльной, мягкой земле. Людмила была счастлива: наконец-то она едет в сингальскую деревню.
— А-а-аа! — вдруг отчаянно закричал рикша, выронил оглобли коляски и в мгновенье очутился на дереве.
В полной растерянности Людмила оглянулась по сторонам. По-видимому, случилось что-то страшное, но на первый взгляд лес был таким же мирным, как минуту назад.
— Не ходи туда! Кобра!
Змея лежала поперек дороги — хвост в кустах. «Вот повезло, — подумала Людмила, подходя к кобре. Сколько читала о них, сколько слышала, но никогда не представляла, что кобра так велика». Змея подняла голову и угрожающе раздула шею. Она раскачивала головой, готовясь к нападению. Людмила наклонилась над змеей — ей просто не пришло в голову, что кобра может на нее напасть. «Даже и не знаю, — рассказывала потом Людмила Александровна, — то ли змею «смутил» пристальный взгляд моих близоруких глаз, то ли ею овладела жалость к такому несмышленышу, но кобра опустила голову и мирно уползла».
Людмила подобрала чемодан, рикша слез с дерева.
Дорога шла в гору, солнце пекло немыслимо, но рикша несся вперед со сказочной быстротой. «Пожалей себя», — уговаривала его Людмила, но при звуке ее голоса рикша припускал еще сильнее. Вот и деревня. Людмила поздоровалась с хозяевами, прошла в отведенную ей комнату. За окном слышались голоса. Людмила подошла к окну. Рикша мерным голосом не то пел, не то рассказывал что-то. Все жители деревни столпились вокруг него. Только тут до Людмилы дошла вся нелепость ее поведения. Какой же дурой она показала себя перед сингальцами. Теперь хоть на улицу не выходи. Пальцами будут показывать.
Но вошедшие хозяева не показывали на нее пальцами, а молча склонились в поклоне на пороге. Жители деревни весь день с поклонами уступали ей дорогу, на вопросы отвечали почтительно, но односложно, и старались отойти от гостьи как можно скорее.
Оказывается, рикша действительно рассказал о дорожном происшествии, рассказал все как было, не прибавив от себя ни слова, но в его изложении встреча со змеей выглядела так…
Царственная кобра, владычица джунглей, выползла из леса, услышав, что важная особа едет по ее владениям. Гостья вышла из коляски, подошла к ней. Кобра несколько раз низко поклонилась гостье, потом они о чем-то пошептались, и кобра послушно уползла обратно в джунгли. «Если кобра — владычица джунглей, то кто же тогда наша гостья?»
Слушатели все поняли… Правда, они не знали, добрыми или злыми духами повелевает Людмила, но когда через день она вскрыла нарыв на ноге девочки и девочка поправилась, все поняли, что Людмила — владычица именно добрых духов.
«Я прожила в этой деревне несколько месяцев.
С первого же дня меня поразило господствовавшее и доме изысканно-вежливое, прямо рыцарское отношению к женщинам. Правда, они делали свою работу, но если хозяин, его сыновья или мальчики-слуги видели, его им что-нибудь трудно поднять или поставить, то сейчас же кидались на помощь… Кроме того, бросался в глаза вежливый, почтительный тон, употреблявшийся мужчинами по отношению к женщинам».
…Однажды в дом прибежала соседка.
— Меникэ (так звали хозяйку), где Людмила?
— Что случилось?
— Сугандхи умирает.
— Как так?
— Она легла и скоро умрет.
— Заболела?
— Нет, умирает.
Ничего еще не понимая, Людмила покидала в сумку все лекарства, которые у нее были с собой.
Завидев Меникэ и Людмилу, спешащих к дому Сугандхи, из хижины по обе стороны улицы выскакивали женщины и присоединялись к ним. Много ли в деревне новостей? Все знали, что с молодой женщиной случилось что-то неладное.
Перед дверью в хижину женщины остановились, пропустив вперед Людмилу и Меникэ. В углу возле двери в кухню на циновке лежала исхудавшая молодая женщина, почти девочка. Она была закутана в голубое застиранное сари. На шее не было ожерелья, на пальца ни одного кольца. Длинные густые волосы рассыпались по циновке. Сугандхи больше ни в чем не нуждается и этом свете, она отдает все, что у нее есть, своему мужу, сама же хочет умереть.
— Что случилось с тобой, дорогая?
Сугандхи долго молчала. Она не хотела ни с разговаривать.
— Меня ударил муж.
— Этого не может быть.
— Меня ударил муж, и я хочу умереть.
Одна из женщин в дверях услышала слова Сугандхи. И уже через несколько секунд за дверью послышались голоса мужчин. Людмиле показалось, что все мужчины деревни ждали где-то поблизости, однако не заходили, полагая, что все это женские причуды. Но тут… Он ударил жену!
— Она же может подумать, что у нас в деревне бьют женщин! — возмущался кто-то за дверью.
— Вот что, Сугандхи, — сказала наконец Меникэ — Твой муж Веллепола больше тебе не муж.
— Но куда я денусь? Я лучше умру.
— Зачем тебе теперь умирать? Ты свободная женщина. Людмила, побудь с ней, я схожу домой и принесу все, что нужно. Она не возьмет ни одной вещи из дома этого человека. Она будет теперь моей старшей дочерью и твоей сестрой. Хорошо?
…Вечером муж Сугандхи возвращался с поля. Вот он здоровается с проходящими соседями. Но те его не видят. Смотрят мимо. Окликнул мальчика. Тот ничем показал, что услышал его голос. Сказал что-то проходившей женщине. А та запела песенку, глядя перед собой. Веллепола огляделся. Мирная, тихая улица. Но на этой улице нет Веллеполы, нет для него места.
Пять дней, пока Сугандхи поправлялась, деревня бойкотировала Веллеполу. На шестой день дверь в сад Меникэ отворилась, и, не входя во двор, Веллепола бросился на землю. Он молча лежал в пыли. Меникэ не спеша спустилась с веранды и заперла калитку.
Но вечером того же дня не выдержала Сугандхи. Она, ставшая старшей дочерью в семье, разносила гостям угощение.
— Веллепола сердился на меня за то, что я не умела хорошо готовить, но Меникэ выучила меня, и теперь Веллепола не будет на меня сердиться.
— Ты хорошо оказала. Он никогда не будет на тебя сердиться. Мы его проучили. А если что — помни, что ты наша дочь.
Наутро Веллепола снова улегся в пыль. На этот раз калитку не закрыли. Хозяин дома вышел к нему и принялся его ругать за то, что он посмел ударить женщину. Веллепола плакал от радости. Потом он поклонился хозяину, Меникэ, Людмиле, своей жене, односельчанам.
4
Закончив работу на Цейлоне, Людмила и Александр направились в Индию. К этому времени Академия наук почти перестала присылать деньги, и Александр Михайлович, чтобы не бедствовать, работал в Калькуттском музее, писал книги об индийском театре, музыкальных инструментах, составлял каталоги. Отдыхать особенно не приходилось: чуть поднакопятся деньги — и в путь. Лесам, Манипур, леса Декана… На повозках, пешком, верхом.
«Зимой мы приехали в Мадуру, старинный город на крайнем юге Индии. В кварталах бедняков свирепствовала холера. Из одной-единственной больницы, которую опекали миссионеры, обежали все. И санитарки и сестры… На шестьдесят коек было шестьсот больных, обслуживала которых… одна женщина. Никому из обитателей европейского квартала и в голову не приходило помочь ей…»
— Вот что, мисс Паркер, — неожиданно грубо сказала соседка Людмилы, — вы, миссионеры, соорудили здесь эту больницу, чтобы ловить души, и выпутывайтесь теперь как знаете…
Мисс Паркер резко повернулась и сбежала с веранды английского клуба.
Людмила допила кофе. Попрощалась с дамами. Заглянула на теннисный корт и перекинулась парой слов с Александром. Потом вышла на улицу и спросила у первой же встречной женщины, несказанно изумив ее знанием местного диалекта: как пройти к госпиталю миссии…
— Я ничего не понимаю в медицине, — оказала она измученной, растерянной и злой мисс Паркер, — но дать градусник, вынести горшок да напоить больного я смогу…
— Что ж, если вы и в самом деле хотите мне помочь, то есть помочь больным, приходите завтра с утра… кстати, вам о престиже белого человека говорили?
— Говорили.
— И не тронуло?
— Я русская. Так что английский престиж не пострадает.
— Так вы та самая путешественница?
— Наверно, та самая. Слухи передвигаются быстрее людей.
…Утром больница показалась Людмиле еще более удручающей, чем накануне. Не только на полу в палатах, но и в коридорах, на веранде, во дворе больницы лежали люди. В тот день Людмиле пришлось ассистировать при четырех операциях. Закончив операции, мисс Паркер и Людмила обошли больных, оказали им возможную помощь, накормили шестьсот человек.
Так они работали вдвоем четыре дня, вставая в пять и ложась в полной темноте, вскакивая по многу раз за ночь. На пятый день в семь утра прибежал аптекарь.
— У меня была больна тетя в соседней деревне, — смущенно объяснил он. — Теперь по милости богов она поправилась, и я могу вернуться к своим обязанностям.
К обеду вернулась операционная сестра, на следующее утро еще четыре сестры и несколько санитарок.
— Ну что ж, мисс Паркер, — сказала тогда Людмила, — очевидно, я больше не нужна и могу вернуться к своим делам.
— Ради бога, останьтесь, — взмолилась неожиданно Паркер, — приходите хоть на несколько часов. Неужели вы не понимаете, что происходит? Все немедленно убегут в тот же момент, как узнают, что вы ушли.
Мисс Паркер была права. «Мы знали, что русская мемсахиб, — говорили потом санитарки, — ничего не получает за свою работу в больнице. Доктор Паркер — миссионерша, и ей платит ее религия, ее жрецы, ей за что обещан вечный рай. А эта русская ни разу не ходила в церковь, и неизвестно даже, в какого бога верит. И уж если она пришла работать просто так, значит, болезнь не страшна и мы тоже можем вернуться в больницу».
Три месяца Людмила работала в госпитале — пока не кончилась эпидемия.
«Было трудно, изматывалась я как никогда до этого, но была очень довольна. Я же оставалась ученым, и женщины помогали мне собирать разные этнографические предметы для нашей коллекции. Мне очень хотелось достать набор всего кухонного приданого невесты, и я попросила одну браминку из моих больничных друзей пойти со мной на рынок, чтобы купить все приданое будто для своей дочери…»
Мотоцикл, на котором ехали Людмила и Александр, как назло, заглох у самого города. Их обогнала машина фабриканта-англичанина. Автомобиль завернул за угол, и тут же раздался крик…
Мерварты бросили мотоцикл и побежали туда. Оказывается, англичанин врезался в группу рабочих, возвращавшихся с вечерней смены, сбил паренька и, не останавливаясь, уехал дальше.
Мервартов пропустили к раненому. У парня была сломана нога. Александр Михайлович перетянул ему бедро своим ремнем, потом они подкатили с помощью рабочих мотоцикл, положили мальчика в коляску и повезли в больницу.
Разбудили врача, и при свете принесенной кем-то из соседнего дома керосиновой лампы врач и ассистировавшие ему Мерварты вправили кости, наложили шины. В дверях толпились люди; мать мальчика, вдова, плакала на плече у Людмилы: парень был кормильцем в семье.
Уходя, Мерварты собрали все какие были в карманах деньги, отдали их матери мальчика, обещали поговорить с английским комиссаром (что впоследствии и сделали — мальчику все-таки уплатили компенсацию за увечье) и, оставив мотоцикл в больнице, — коляска была вся в крови — пошли пешком домой.
Утром мотоцикл, начисто отмытый, стоял у двери дома. Кто-то из рабочих, привезших его, повесил на ручку гирлянду цветов. Приятельница Людмилы, уже знавшая о ночном происшествии, ждала ее, чтобы идти, как они и условились накануне, на базар…
Они подошли к одному из торговцев, и стали выбирать посуду и кухонные принадлежности. «Покупаю приданое для дочери», — оказала торговцу спутница Людмилы. Объясняя, для чего служит каждая вещь, женщина тут же шепотом предупредила Людмилу, что, все вместе обойдется очень дорого — рупий пятьсот, даже если продавец не догадается, что это покупается дли Мерварт (чужеземцам на индийских базарах все продавалось чуть ли не вчетверо дороже).
Продавец отобрал все, что просили, потом сказал что нужно взять еще похожую на шашки игру, в которую молодожены играют в первый месяц семейной жизни, когда родители деликатно не посещают молодых, чтобы те могли сжиться друг с другом, положил еще медную трубку для раздувания огня в очаге и нескольео мелочей… Подумал, прикинул на счетах и сказал: «Пятьдесят рупий».
Спутница Мерварт осторожно спросила: «Вы не ошиблись?».
В ответ продавец улыбнулся. «А вы разве не знаете, что сегодня ночью случилось?» — «Знаю». — «А я знаю, еще шире улыбнулся продавец, — что ваша дочь два года, как замужем, а внучке вашей рано еще выходить замуж».
5
«До нас дошла весть, что в России революция.
Александра Михайловича пригласили к губернатору и предложили продать за пятьдесят тысяч фунтов стерлингов собранные коллекции — десятки внушительных ящиков лежали в специальном подвале музея. Александр Михайлович отказался, отказался он и от постоянного места в музее, отказался переехать в Англию для того, чтобы продолжать работы над изучением индийской этнографии в британских университетах.
После этого мы сразу стали «красными». Нас перестали приглашать в гости. Александра Михайловича предупредили, что его услуги более не нужны британской короне».
А ведь до этого, когда путешественники, собрав коллекции в Ассаме, вернулись в Калькутту (денег не было, Людмила была измучена тяжелой формой малярии), музей в Калькутте выделил специальные средства, чтобы назначить Александра Мерварта заведующим этнографическим отделом. За шесть летних и осенних месяцев 1917 года Мерварт привел в порядок, описал и выставил коллекции, составил по ним подробный путеводитель. Пока Людмила поправлялась, начальник экспедиции часто выступал с докладами в Бенгальском Обществе изучения Азии. Выздоровев, Людмила устроилась преподавательницей в колледж. Все это дало возможность не только прокормиться, но и купить полный набор марионеток кукольного театра, заказать несколько моделей, демонстрирующих быт бенгальской деревни, и еще несколько сот экспонатов. В общем, экспедиция продолжалась.
Но в ноябре 1917 года деньги, отпущенные музею на должность заведующего этнографическим отделам, неожиданно перестали поступать, и отношение английских властей к Мервартам резко ухудшилось. Что делать дальше? Ведь просто так домой не уедешь: во дворе музея, под временным навесом, стоит более двадцати объемистых ящиков с коллекциями, собранными за последний год. Да и кто сейчас повезет в Россию, где, судя по английским газетам, царит жестокий террор большевиков, разруха, где погибли наука и культура и наступила беспросветная ночь?
— Может быть, останетесь? Тогда найдется и место в музее, найдутся и деньги. Мы вас ценим, господин Мерварт. И высоко ценим вашу супругу…
Мерварты не верили в беспросветную ночь. Решение принято: немедленно уезжать в Россию.
И тут, на счастье, подвернулся пароход «Евгения». Этот пароход ушел в дальний рейс еще в 1916 году и кружил со случайными грузами по Индийскому океану. Пока шла война, фрахт всегда находился, и «Евгения» скиталась по чужим портам, грузила джут и копру, риг и олово. Но, когда в ноябре стало известно, что в России победила революция, команда решила свернуть торговую деятельность, отправиться домой и передать пароход рабочему государству.
Мервартов согласились взять на борт, но коллекции пароход забрать не мог. Во-первых, на борту был груз, который по дороге во Владивосток надо было завезти в Японию, во-вторых, просто не было времени перевезти в порт и должным образом погрузить ящики. И, в-третьих, сами Мерварты, не зная, каким будет путь домой, сочли за лучшее оставить коллекции у друзей: в музее работали индийские ученые, которые поклялись сохранить экспонаты и при первой же возможности отправить их в Россию.
Сообщение об отплытии «Евгении» было отправлено телеграфом по пути следования судна. Пароход уходил из Калькутты официально, документы были в порядке, да и власти не успели принять решение — отпустить его в Россию или задержать. Поэтому, несмотря на волнения последних дней, таможня дала «добро», и «Евгения» вышла в Бенгальский залив.
Пароход был невелик, не нов, шел довольно медленно. Мерварты старались работать, приводили в порядок записи, негативы и фотографии — обширный архив экспедиции. Правда, работалось совсем не так, как в Индии: за четыре года экспедиция устала, оба ее члена перенесли и малярию, и дизентерию, и тропическую лихорадку. Да и на пароходе было шумно, не смолкали споры: среди матросов нашлись и сочувствующие большевикам, и эсеры, и даже анархисты. Странно было, четыре года не слыша ни одного русского слова, оказаться в гуще споров, когда вокруг кипела Россия в миниатюре.
А тем временем телеграф отстукивал переговоры между Калькуттой и Рангуном, куда «Евгения» должна была прийти. И пока она шла через залив, британские власти приняли решение: корабль в Советскую Россию не выпускать.
6
В Рангуне должна была быть недолгая стоянка, дня три-четыре. Мерварты решили, что успеют собрать кое-что для своего музея: ведь им не привыкать работать быстро. Тем более что им удивительно повезло: за день до отъезда неожиданно пришел запоздавший перевод из Петрограда — 400 фунтов стерлингов. Из них заплатили за хранение коллекций и еще остались две с половиной тысячи рублей золотом — сказочные деньги, на которые можно накупить еще с десяток ящиков этнографических ценностей. Так что Рангуна путешественники ждали с нетерпением.
Вода вокруг пожелтела: «Евгения» входила в устье Иравади, выносящей далеко в море собранный в долинах ил. Потом у горизонта показались туманные полоски-низкий берег дельты. Лоцманский катер дежурил у океанского буя. На катере рядом с лоцманами и таможенниками стояли солдаты.
— «Евгения»? Порт приписки Владивосток? Вы арестованы. Просим следовать за нами.
Пароход был задержан английскими властями, а пассажиры и команда (правда, пассажиров формально и не было: Мерварты были внесены в судовой журнал как члены команды) свезены под конвоем на берег.
Кули и матросы с других кораблей, стоявших у причалов рангунского порта, удивленно оборачивались. Усиленный наряд войск встречал этот небольшой пароход. С борта сходили люди, за каждым шли солдаты. По порту разнесся слух, что задержан немецкий шпионский корабль. Люди разговаривали между собой на непонятном языке, и уверенность в том, что они немцы, охватила порт.
У ворот порта ждали тюремные фургоны. Александр Мерварт взглянул на выглядывающий из-за прибрежных зданий золотой конус пагоды Суле и сказал:
— Вот и совершили еще одну экскурсию.
Никто не ответил. Уже откричали, отспорили, отругались с равнодушными солдатами и таможенниками. Команда арестована и что будет дальше — одному богу известно.
— Ничего, Саша, — ответила Людмила уже потом, когда они тряслись на жестких скамейках фургона, — Не будут же нас в тюрьме держать. Разберутся, отпустят.
— Так и отпустили, — мрачно сказал механик. — Хотя вам-то что, напишете друзьям в Индию — отпустят.
— Не напишу, — улыбнулся Мерварт, — Вместе сели, вместе выйдем.
Он так и остался в тюрьме членом команды.
Рангунская тюрьма похожа на крепость. Высокий каменные стены, обнесенные поверху колючей проволокой, тянутся на километр. И вход в нее — ворота в стене — кажется входом в крепость. Внутри — двухэтажные здания, пыльный плац, так что можно подумать, что это не тюрьма, а казармы. По двору под охраной стражников, а то и вовсе без охраны бродят заключенные. Коршуны кружат над плацем, и верхушки пальм кое-где поднимаются над тюрьмой, напоминая, что они стоит в тропиках.
Людмиле повезло — ей выделили отдельную камеру. Остальная команда была помещена в две общие камеры. Правда, вместе с бирманцами не посадили и даже встречаться с ними не разрешали. Когда же до заключенных бирманцев дошел слух, что в тюрьме не немецкие шпионы, как решили вначале, а русские революционеры, которые хотели свергнуть английскую власть в Бирме и освободить ее от англичан (легенды рождаются быстро особенно когда есть в них нужда), то они стали подходить к русским во дворе и, улыбаясь, что-то говорили. Стража отгоняла их. Стражники тоже чувствовали себя неловко: белым вроде бы в этой тюрьме быть не положено, тюрьма — место для туземцев. А тут белые, сразу двадцать человек, и даже одна леди. На всякий случай — выяснится, что ошибка, так может пригодиться — жена начальника тюрьмы приказала отнести Людмиле и камеру матрац и простыни — свои, чистые.
Сначала заключенные думали, что их освободят завтра. Потом — послезавтра. Капитан с Александром требовали, чтобы в тюрьму прислали адвоката, писали жалобы. Начальник тюрьмы безотказно поставлял бумагу и чернила и переправлял жалобы в Секретариат — мрачное красное здание недалеко от порта. В Секретариате жалобы принимали и ничего не отвечали начальнику тюрьмы. Да и что можно было ответить? Чиновники Секретариата сами слали запросы в Индию, но ответа тоже не получали: очевидно, в Калькутте не могли придумать, что делать с русскими дальше.
Прошла неделя, другая. Чтобы товарищи не падали духом, Александр, Людмила и помощник капитана устроили для матросов школу, в которой преподавали английский язык, математику, литературу. В школу ходили почти все. Вечерами пели песни — певицей номер один была Людмила. Она боялась сначала, что забыла за четыре года все на свете. Оказалось — нет. Начальник тюрьмы, называвший Александра господином профессором, приносил ему газеты. В газетах говорилось, что дни большевиков сочтены, что Россия погибла. Верить в это не хотелось.
Чтобы не скучать, неутомимый Мерварт пошел к начальнику тюрьмы, попросил у него картона, спирта, ваты и булавок. Начальник страшно удивился, сообщил, что дать этого не может: не положено заключенным иметь в тюрьме такие предметы.
— Мы не считаем себя заключенными, — с изысканной вежливостью ответил Мерварт. — Мы почитаем себя вашими гостями. А вас — хозяином гостиницы.
Начальник тюрьмы натянуто рассмеялся. Вечером того же дня требуемые предметы были принесены в камеру.
К фонарям у входа в камеры слетались ночью насекомые — массы насекомых самого экзотического, устрашающего вида. Они облаками окутывали фонари, так что казалось, что фонари спрятаны в громадных марлевых чехлах. Мерварт давно собирался заняться энтомологией, но в Индии были более важные дела, а вот сейчас выдались свободные дни. Нашлись добровольцы-помощники. Механик ведал коллекцией ночных бабочек, сам Мерварт занимался жуками. Начальник приходил в камеру, смотрел на ширящиеся коллекции, качал головой и приказывал принести заключенным фруктов. Он пребывал в состоянии постоянной растерянности.
Прошел месяц. Людмила, которая могла очаровать кого угодно, проделала это с женой начальника тюрьмы.
— Дай мне десять фунтов, — оказала она мужу.
— Зачем тебе здесь деньги?
— Этнографией буду заниматься, — улыбнулась Людмила. — Зачем же нас командировала Академия паук?
Мерварт не стал спорить. Отправился в тюремную контору и взял из принадлежащей ему суммы десять фунтов.
Теперь жена начальника тюрьмы также была подключена к бурной деятельности, разгоревшейся в тюрьме. С утра она отправлялась на базар или к пагоде и покупала там для Людмилы кустарные изделия, посуду, марионеток… Правда, иногда Людмила кляла ее на чем свет стоит (про себя, конечно): госпожа начальница никак не могла взять в толк, что Людмиле нужны настоящие народные изделия, а не подделка под английски и ширпотреб. Но все-таки вскоре камера стала напоминать обычную комнату, такую же, как и те, в который Людмиле приходилось останавливаться за четыре года, — этнографические коллекции начали выселят: вытеснять Людмилу.
Когда минул второй месяц, школа распалась. Люди начали терять надежду на освобождение. В тюрьме было жарко, пыльно, грязно, и начальник тюрьмы уже снизил уровень доброжелательности. Калькутта настойчиво отказывалась решить вопрос о пленниках, большевики все никак не отказывались от власти в России, и похоже было, что команда «Евгении» останется здесь надолго.
И вдруг на шестьдесят седьмой день плена начальник прибежал к арестованным.
— Вы свободны, господа, — сказал он торжественно. — Вас приказано отправить домой.
— А «Евгения»?
— «Евгения» конфискована, как вражеское судно ведь Россия вышла из Антанты и заключила мир с Германией. Но не огорчайтесь. Вас отвезут во Владивосток бесплатно.
За два дня, оставшиеся до отхода парохода, державшего путь в Японию, Мерварты не только успели уложить новые коллекции (как хорошо, что не взяли с собой ящики из Калькутты — неизвестно, что стало бы с ними за два с лишним месяца), но и совершили экскурсии по Рангуну, побывали у ремесленников, на базарах, в монастырях, много фотографировали и полностью игнорировали шпиков, которые неотступно сопровождали членов команды «Евгении».
— Сюда мы просто обязаны вернуться, — сказали Людмила, когда они уже стояли на палубе парохода и золотая пагода Сириама начала отплывать назад, скрываясь в жаркой полуденной мгле.
— Может быть, и вернемся. Только не в качестве пленников, — ответил Александр.
7
Но на этом путешествие не кончилось. Мервартам предстояло еще не один год провести вдали от дома.
Во Владивосток им удалось попасть лишь в конце лета 1918 года, после долгих остановок в Сингапуре, Пенанге, Гонконге, Шанхае, пересадок на попутные пароходы, новых задержек, переговоров с местными властями и угроз.
Они попали во Владивосток раньше, чем Ерошенко, но второй половине 1918 года. Дальний Восток уже был отрезан от остальной России фронтом гражданской войны. Прорваться через фронт, имея на руках часть коллекции, было совершенно невозможно. Тогда Мерварты, энергии которых можно только позавидовать, дали телеграмму в Калькутту, прося выслать коллекции. Они решили поработать во Владивостоке, причем поработать с полной отдачей. В городе, спасаясь от гражданской войны, собралось довольно много бывших преподавателей сибирских университетов и институтов, студентов, оторванных от учебы. У Мервартов оставались еще деньги. Несмотря на свою молодость, они смогли организовать инициативную группу, добиться сочувствия и помощи со стороны правительства Дальневосточной республики и создали историко-филологический факультет.
Именно на базе его впоследствии был организован и ныне существующий Государственный дальневосточный университет. Затем к первому факультету прибавился еще один — восточный. В молодом университете Мерварты были доцентами на обоих факультетах, и, если были трудности с деньгами, дровами, пайками для студентов и преподавателей, Мерварт проявлял завидную настойчивость. Тогда он часто повторял фразу:
— Вы что, хотите, чтобы Сибирь и Дальний Восток остались без учителей, без специалистов? За это Советская Россия не скажет вам спасибо.
И Дальневосточная республика давала и деньги, и дрова, и пайки.
В 1919 году пришли 11 ящиков из Калькутты (остальные затерялись в пути и были получены уже в Петрограде в двадцать третьем). После разгрома Колчака можно было бы ехать на запад, но пришлось задержаться до конца учебного года: нельзя было оставить университет. А когда наконец все было готово и собрались с отъездом, случилась та же трагедия, что в свое время чуть не погубила Ерошенко: произошел белогвардейский переворот, власть в крае перешла к японцам и их марионеткам.
Жизнь во Владивостоке стала невыносимой. И Мерварты решают прорваться в Россию почти тем же путем, которым шел в свое время и Ерошенко. Они уезжают в Харбин и оттуда через Читу домой, в Петроград. Это была длительная одиссея: ведь надо было провезти через охваченную разрухой Сибирь, через Маньчжурию много ящиков, а денег уже не было: остатки были вложены в университет. Но так или иначе всему на свете приходит конец. Вот и путешествие Мервартов, начавшееся в царской России и окончившееся в России советской, подошло к концу.
Александр Михайлович Мерварт замешкался в коридоре: обнимался с кем-то из старых друзей. Людмила одна вошла в кабинет академика Ольденбурга. Тот что то писал. Поднял устало глаза…
— Людмила? Мерварт? Глазам не верю, быть не может!
Вошел Александр.
— Милые мои, дети мои! Нет, детьми вас уже не назовешь… Минутку. Садитесь и молчите.
Ольденбург поднял телефонную трубку.
— Девушка, соедините меня с Карпинским.
Потом обнял путешественников.
— Да вы и не представляете, какой это подарок. Ведь мы вас десять раз похоронили. И в Сибири, и в Индии, и в Бирме. То нам сообщают, что вы коллекции за баснословные деньги продали, то, что вас белые в Амуре утопили…
Карпинский вошел не один, а с Луначарским.
— Вот, познакомьтесь, Анатолий Васильевич, те самые Мерварты, о которых я вам рассказывал…
«Говорят, мы были первые русские ученые, вернувшиеся из-за границы в Советскую Россию. А через два месяца пришли остатки наших коллекций, оставленных у друзей в Калькутте и на Цейлоне. И мы начали работать дальше…»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1
Было знаменательным то, что последние русские путешественники, посетившие Бирму, попадали в немилость. Непримиримость английских колониальных властей к любым представителям Советской России объяснялась не только их классовыми позициями или обидой на изменивших делу Антанты союзников. Их страшило другое — возможное влияние русской революции и русских на индийское или бирманское национально-освободительное движение. В те времена, как и позднее, было принято объяснять неожиданный для британских чинов ников подъем национальных сил в колониях вмешательством извне. Например, деятельность бенгальских революционеров попросту объявляли результатом интриг немецких шпионов. Среднему английскому чиновнику казалось немыслимым, что индийцы (а бирманцы также входили формально в их число, раз уж Бирма считалась индийской провинцией), облагодетельствованные цивилизацией, живущие в обстановке порядка и спокойствия, хотят возвращения к старому порядку вещей или создания какого-то нового, еще неизвестного порядка, в котором нет места англичанам. И потому версия о внешнем влиянии на заговорщиков и смутьянов пользовалась широкой популярностью. Потому-то выслали из Индии, а затем лишили директорства в моулмейнской школе Ерошенко, потому арестовали Мервартов и команду «Евгении».
Шли годы. Бирманское национально-освободительное движение развивалось, несмотря на то что «немецких шпионов» не было, а из Советской России в колониальный заповедник никого не допускали. Однако английские чиновники не были так уж полностью не правы в своих опасениях. Сам факт победы революции в нашей стране стал мощным толчком для развития национализма и национально-освободительного движения в Бирме. (' одной стороны, победа социализма в СССР послужила примером для молодых бирманских патриотов, с другой — бирманские революционеры никогда не переставали надеяться на моральную поддержку и помощь Советского Союза в борьбе за освобождение Бирмы. Особенно большие надежды возлагали они на СССР в связи с началом второй мировой войны в Европе. Это ярко прослеживается по документам организации «Добама Асиайон» в конце тридцатых и начале сороковых годов. Горячим сторонником установления контактов и дружбы с Советским Союзом и Китаем был тогда Аун Сан. Но все его попытки установить живые связи с борющимся Китаем провалились. Война приближалась к границам Бирмы, и бирманские революционеры были вынуждены обратиться за помощью к японцам, обещавшим предоставить Бирме независимость.
Этот шаг бирманских революционеров был ошибочен. И это признавали потом сами бирманцы. Даже временный союз с Японией, союз чисто тактический, рассчитанный на выигрыш времени, противоречил духу манифеста «Добама Асиайон» 1940 года, в котором говорилось, что только «Советский Союз является постоянным и последовательным сторонником свободы человечества». Бирманские коммунисты выступали против союза с Японией, но многим бирманским революционерам казалось, что можно временно поступиться принципами ради того, чтобы получить оружие и поддержку в борьбе за национальное освобождение. Они полагали, что война Японии и Англии будет затяжной, позиционной и ослабит обе стороны настолько, что Бирма сможет добиться независимости без больших потерь. Но получилось так, что японские войска в несколько недель полностью разгромили английские армии в Юго-Восточной Азии, захватили Сингапур, Малайю, бывшие французские колонии, Яву, Суматру и затем прокатились, словно ураган, по территории Бирмы, оставляя за собой сожженные деревни и разрушенные города.
Ошибочный союз с Японией дорого обошелся Бирме. Вместо освобождения японцы принесли новое, еще более тяжкое рабство. Впоследствии национальный герои Бирмы генерал Аун Сан говорил, что бирманские лидеры, в том числе и он сам, пойдя на сотрудничество с японскими милитаристами, допустили серьезную ошибку.
В сложной обстановке, создавшейся в Бирме, Советский Союз и его борьба против фашизма стали примером для бирманских патриотов. В созданную в ходе борьбы Антифашистскую лигу народной свободы (АЛИС) вошли и социалисты и коммунисты. В программе Лиги выразились не только антифашистские убеждения прогрессивных сил Бирмы. «Мы выступаем за уничтожение империалистической системы, которая несет рабство нашему народу», — говорил Аун Сан. И далее: «Я ненавижу империализм — будь то английский, японский или бирманский». Большую роль в освобождении страны от японских оккупантов сыграли Национальная армия Бирмы и Антифашистская лига, ставшая политическим центром народно-освободительной борьбы.
Когда война с Японией завершилась победой союзам ков и англичане, вернувшиеся в Бирму, столкнулись с отлично организованной, сплоченной Антифашистской лигой, имеющей собственную армию и политические кадры, когда вопрос о достижении Бирмой независимости несмотря на яростное сопротивление англичан, должен был вот-вот решиться, председатель АЛНС Аун Сан, и речи на первом съезде Лиги в январе 1946 года, как бы подытоживая отношение прогрессивных сил Бирмы к Советскому Союзу, сказал: «Нас всегда глубоко вдохновляли неустрашимое мужество и героический дух социалистического соревнования, с которыми народы Советского Союза боролись за победу социализма, с которыми они сплотились для борьбы с разбойничьими ордами фашистских варваров во время второй мировой войны, даже тогда, когда им приходилось в течение длительного периода вести эту борьбу один на один, без посторонней помощи. Мы глубоко восхищены мощью и доблестью родины социализма и признаем ее великую роль в победе над фашизмом, особенно в Европе. Огромное впечатление производит на нас также то, как эта великая страна социализма отстаивает дело зависимых и колониальных народов…»
В январе 1947 года делегация АЛНС во главе с Аун Саном направилась в Лондон для переговоров с английским правительством. Эти переговоры стали важным этапом в мирном развитии бирманской национально-освободительной революции. Курс Аун Сана одержал очередную победу. Английское правительство было вынуждено пойти на уступки и 27 января подписать соглашение, вошедшее в историю под названием «Соглашение Аун Сан — Эттли». Соглашение предусматривало проведение в апреле 1947 года выборов в Учредительное собрание Бирмы, которое должно было выработать конституцию независимой Бирмы и передать всю полноту власти избранному самими бирманцами национальному правительству.
На лондонских переговорах глава бирманской делегации тридцатидвухлетний Аун Сан проявил себя блестящим дипломатом и дальновидным политиком. Еще до подписания соглашения он обратился в советское посольство в Англии с пожеланием лично встретиться с послом. Посол СССР немедленно дал свое согласие. В последний день января 1947 года состоялась первая встреча бирманского лидера с представителем Страны Советов послом Г. Н. Зарубиным. Беседа прошла в обстановке сердечности, взаимопонимания и подлинного равноправия сторон. Исполнилось искреннее желание Аун Сана — передать через представителя Советского правительства добрые пожелания бирманского народа советскому народу, выразить чувства дружбы и восхищения борющейся Бирмы и свои личные. Аун Сан просил Зарубина довести до сведения Советского правительства искреннее желание Бирмы «установить дипломатические отношения с Советским Союзом в ближайшее время, не дожидаясь созыва Учредительного собрания».
Однако осуществить это желание так скоро было невозможно, хотя советский посол немедленно сообщил о беседе в Москву. Верховная власть в Бирме формально все еще принадлежала английскому губернатору, являвшемуся одновременно и председателем Исполнительного совета Бирмы, а внешними делами Бирмы, даже после выборов в Учредительное собрание, ведало имперское министерство. Тем не менее визит Аун Сана в советское посольство и его заявка на независимую внешнюю политику, желание начать ее с дружественных отношений с Советским Союзом имели большое значение. Этим визитом еще раз подчеркивалось, что будущее независимой Бирмы тесно связано с силами антиколониализма, демократии и социального прогресса.
На апрельских выборах в Учредительное собрание Антифашистская лига одержала блестящую победу Бирма все ближе подходила к независимости, и не считаться с этим было уже невозможно. 1 июня 1947 годи английское правительство было вынуждено через своею посла в Москве заявить Советскому правительству о желании Бирмы обменяться дипломатическими представителями с Союзом Советских Социалистических Республик. Этим английская дипломатия рассчитывала успокоить бирманцев и продемонстрировать либерализм своего правительства. В то же время в Лондоне полагали, что до провозглашения независимости Бирма не сможет обменяться полномочными представителями с другими странами. Иначе расценило дипломатический шаг борющейся Бирмы Советское правительство: 16 декабря 1947 года оно официально заявило о своей готовности установить с Бирмой дипломатические отношения. Тем самым Советский Союз признал независимость Бирмы де-юре еще до ее провозглашения.
Бирма получила независимость 4 января 1948 года. А уже 18 февраля советский и бирманский представители в Лондоне обменялись нотами, которые положили начало официальным дипломатическим отношениям между СССР и Бирманским Союзом.
2
Но кто же был первым советским путешественником первым советским человеком, попавшим в Бирму после Мервартов? Были ли там советские люди до того, как в Рангун приехало советское посольство?
Да. И, что самое интересное, они побывали там еще до достижения Бирмой независимости и встречались с генералом Аун Саном незадолго до его смерти.
Всебирманская лига молодежи, примыкавшая к АЛИС, вскоре после возвращения Аун Сана из Англии пригласила в Бирму делегацию советской молодежи. В составе делегации была известная советская журналистка Ольга Чечеткина, которая и рассказала о первом путешествии в Бирму, осуществленном после тридцати лет, в течение которых никаких личных контактов между Бирмой и нашей страной не было.
Молодежная делегация летела еще не в независимую Бирму, а в английскую колонию. И поэтому военный «Дуглас», поднявшийся с калькуттского аэродрома, был наполнен английскими офицерами, возвращавшимися в колонию после отпусков или из командировок.
Раскаленный самолет пробежал по летному полю и подкатил к баракам рангунского аэродрома. Какая она, Бирма?
К самолету бежали бирманские юноши и девушки с цветами, с гирляндами мелких душистых белых и желтых цветов. Они сразу отыскали делегатов и окружили их. Однако к встречавшим уже спешил английский пограничник.
— Простите, но приехавшие должны пройти досмотр и оформить документы.
Сказано это было вежливо, но при этом давалось понять, кто здесь настоящий хозяин. В стране было двоевластие. Конечно, все уже понимали, что дни англичан в Бирме сочтены, однако формально они все еще оставались у власти.
Секретарь Всебирманской лиги молодежи пытался протестовать:
— Это же наши гости. Они не имеют никакого отношения к английским властям.
— Отлично, старина, — снисходительно успокаивал его офицер. — Но формальности надо соблюдать…
Пребывание делегации в Бирме стало для ее членов, да и для советских читателей, узнавших о поездке из очерков Чечеткиной, новым открытием Бирмы. Пройдет несколько лет, появится много книг и брошюр о Бирме, десятки советских специалистов-врачей, строителей, почвоведов, востоковедов — побывают там. Государственные деятели обеих стран будут обмениваться визитами. Бирма станет настолько знакомой и попятной, что названия очередных очерков и книг типа «В стране золотых пагод» будут банальными и способными лишь вызвать улыбку у искушенного читателя. Но тогда, в 1947 году, первый очерк Чечеткиной, названный именно так, звучал необычно, а такие знакомые сегодня описания, как рассказ о бирманском Новом годе — празднике воды или о пагоде Шведагон, воспринимались свежо и даже с удивлением.
Но помимо тех черт Бирмы, что знакомы нам и повторяются из книги в книгу, члены молодежной делегации увидели и много такого, чего не удалось увидеть и узнать последовавшим за ними советским гостям.
Они видели хижины, построенные на пожарищах: ведь Рангун сильно горел во время войны и был наполовину разрушен и почти оставлен жителями. Они видели школы, занятые английскими войсками, видели шалаши, сооруженные бездомными беженцами на платформе Шведагона.
Делегаты посетили некоторые школы. И там видели — вряд ли такое удавалось увидеть потом — учебники, изданные в Англии, по которым бирманские школьники учили историю и географию. В учебнике «Всемирная география», изданном в Лондоне в 1945 году, сообщалось, что Германия — крупнейшее государство в Европе, занявшее Австрию, Чехословакию и Польшу, а «новая Россия встретилась с необычайными трудностями. Рабочие там менее цивилизованны, чем в других странах Европы». Из учебника можно было также почерпнуть, что «в сибирской тайге основная промышленность — рыболовство». А о войне в книге не было ни слова!
Зато в тот же день члены делегации попали в дом молодежной организации «Красная гвардия», в которой состояли многие бывшие партизаны и молодые рабочие. Там в читальном зале они увидели советский журнал «Новое время» и портреты Зои Космодемьянской и Лизы Чайкиной. Здесь жизнь шла в другом времени, с другой скоростью, в иной реальности, нежели в английском безнадежно устаревшем и лживом учебнике.
Делегатов повезли в Пром, Таунгу и другие города, где они встречались с активистами АЛНС, присутствовали на выборах в Учредительное собрание. Но наибольшая неожиданность встретила советских гостей в деревне неподалеку от Прома, куда их пригласили на митинг. Эта деревня отличилась в борьбе с японскими оккупантами, и, когда туда пришли английские войска, округ был уже очищен от японских войск. В школе деревни висел приказ английского генерала, объявившего благодарность жителям деревни за отвагу в борьбе с общим врагом.
Но приказ с благодарностью делегаты увидели потом. А пока перед въездом в деревню им пришлось остановиться. Деревня была окружена английскими танками. Неподалеку стоял грузовик, полный крестьян.
— Что случилось? — спросил активист Лиги, сопровождавший гостей. — Кто эти люди в грузовике?
Английский сержант был несколько растерян неожиданным появлением иностранцев. Присутствие свидетелей никак не входило в планы военного командования.
— Бандиты, — ответил он.
В грузовике находились не бандиты, а руководители местного отделения крестьянского союза.
Оказывается, утром того дня, в разгар бирманского нового года, в деревне готовился крестьянский митинг. В этот момент деревню окружили английские танки и грузовики с солдатами. Они открыли огонь по деревне; четырнадцатилетний подросток был убит, трое детей ранены.
Но если несколько лет назад подобная акция по отношению к непокорной деревне могла бы оказаться успешной, то теперь времена изменились. Митинг все-таки состоялся, и гости из нашей страны присутствовали на нем. Крестьяне потребовали немедленного ухода англичан из Бирмы и наказания виновных в обстреле деревни.
Перед самым отъездом делегации из Бирмы ее принял генерал Аун Сан. Вот что пишет об этой встрече Ольга Чечеткина:
«Наша делегация встретилась с Аун Саном у него дома, в большом здании на холме одной из многих зеленых улиц Рангуна. Аун Сан, тридцатидвухлетний генерал, уроженец Верхней Бирмы, снискал себе известность в годы войны с Японией. Мы прошли в большую комнату с открытыми дверями на балкон, завешенными желтыми марлевыми занавесками. Аун Сан был одет в простой национальный костюм и выглядел озабоченным. Во время беседы он несколько раз повторил, что народ требует непреклонности в борьбе за национальную независимость Бирмы».
Делегация возвращалась в Советский Союз, увозя добрые пожелания бирманских друзей и надежду на то, что отношения между нашими странами будут развиваться и крепнуть.
3
С тех пор прошло четверть века. Бирма пережили за эти годы многое — и гражданскую войну, и экономические трудности, и политическую борьбу, ставившую порой под угрозу саму целостность многонационального государства. Но все эти годы отношения Бирмы с СССР оставались дружескими и ни разу не были омрачены конфликтами или враждой.
Если за сто лет в Бирме побывало лишь несколько русских людей, то начиная с 1948 года они бывают там часто. И в основном приезжают работать. С помощью наших специалистов в Бирме построены Технологический институт, гостиница, госпиталь, плотина и водохранилище. Советские тракторы работают на полях Бирмы, советские врачи лечат бирманцев и шанов и городе Таунджи, почвоведы составили карты сельскохозяйственных угодий — в общем, всего и не перечислить.
И многие из них писали о Бирме книги, брошюры, статьи, продолжая дело русских путешественников прошлого и начала нынешнего столетия, увеличивая паши знания о Бирме и вследствие этого возможности дли взаимопонимания.
То, что написано и пишется о Бирме сегодня, перекликается с тем, что было сказано о ней и сто и пятьдесят лет назад. И объясняется это одним очевидным и важным фактом. Почти каждый русский путешественник, стремился ли он в Бирму специально или попал туда волей судеб, проявлял бескорыстную заинтересованность в делах и жизни Бирмы. Ее культуру изучал и старался сохранить крупный ученый Иван Минаев. За ее независимость боролся в меру своих сил Петр Пашино. Бирманских детей учил Василий Ерошенко.
И потомки, наследники этих путешественников и друзей Бирмы также неравнодушны к ее судьбам и будущему. Они лечат бирманцев, они выступают перед ними, они строят вместе с ними.
Цепь времен и человеческих дел, начало которых прослежено в этой книге, неразрывно тянется в сегодняшний день и дальше, в будущее
ЛИТЕРАТУРА
Воллан Г., По белу свету. Путевые заметки, ч. 2, СПб., 1895.
Вяземский К. А., Путешествие вокруг Азии верхом, — «Русское обозрение», 1894, кн. 9, 10; 1895, кн. 2, 7, 8, 9, 11.
Дмитриев В. Н., Театральные воспоминания из времен давно прошедших и мест довольно отдаленных. Четыре сообщения из газеты «Ялтинский листок», Ялта, 1904.
Ерошенко В., Сердце орла, Белгород, 1962.
Жирмунский А. М., Вокруг Азии. Путевые очерки, эскизы, заметки. Япония, Бирма, Индия, Египет, М., 1914.
Мерварт А. и Л., Отчет об этнографической экспедиции и Индию в 1914–1918 гг. Л., 1927.
Минаев И. П., Англичане в Бирме, — «Вестник Европы», СПб., 1887, т. 6, № 11.
Минаев И. П., Дневники путешествий в Индию и Бирму. 1880 и 1885–1886, М., 1955.
Пашино П. И., Сообщение о путешествии в Бирманскую империю, — «Известия Русского географического общества», СПб., 1877, т. 13, № 1.
Пашино П. И., Элоиза и Абеляр на Ирравади, — «Гражданин», СПб., 1878, № 20–21, 23.
Пашино П. И., Бирманский император Тибо по письмам из Мандалеи и по личным воспоминаниям, — «Колосья», СПб., 1886, № 2.
Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии (60-е годы XVIII — 60-е годы XIX в.). Документы и материалы, М., 1962.
Политика капиталистических держав и национально-освободительное движение в Юго-Восточной Азии (1871–1917). Документы и материалы, ч. II, М., 1967.
Путешествие Рафаила Данибегашвили, М., 1961.
INFO
Всеволодов И., Никифоров А.
В 84 Настоящая радуга. Рассказы о русских путешественниках в Бирме. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1973.
176 с. («Путешествия по странам Востока»)
В 0281–2055/042(02)-73*140-73
91 (И5)
Игорь Всеволодов и Антон Никифоров
НАСТОЯЩАЯ РАДУГА
РАССКАЗЫ О РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ В БИРМЕ
Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР
Редактор Я. Б. Гейшерик
Младший редактор И. В. Бушуева
Художник К. Сошинская
Художественный редактор И. Р. Бескин
Технический редактор М. В. Погоскина
Корректор Р. Ш. Чемерис
Сдано в набор 25/XII 1972 г. Подписано к печати 4/IV 1973 г. А-06683. Формат 84 x 108 1/32. Бумага № 2. Печ. л. 5,5. Усл. печ. л. 9,24. Уч. изд. л. 9,17. Тираж 15 000. Изд. № 3153. Заказ 1388. Цена 28 коп.
Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2
3-я типография издательства «Наука».
Москва К-45, Б. Кисельный пер., 4
…………………..FB2 — mefysto, 2021